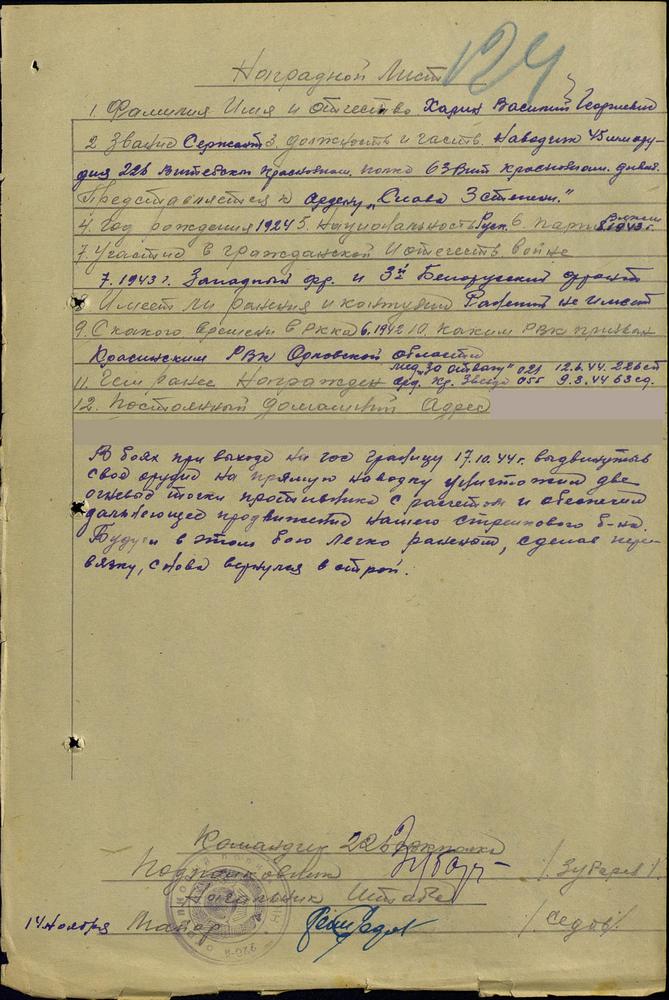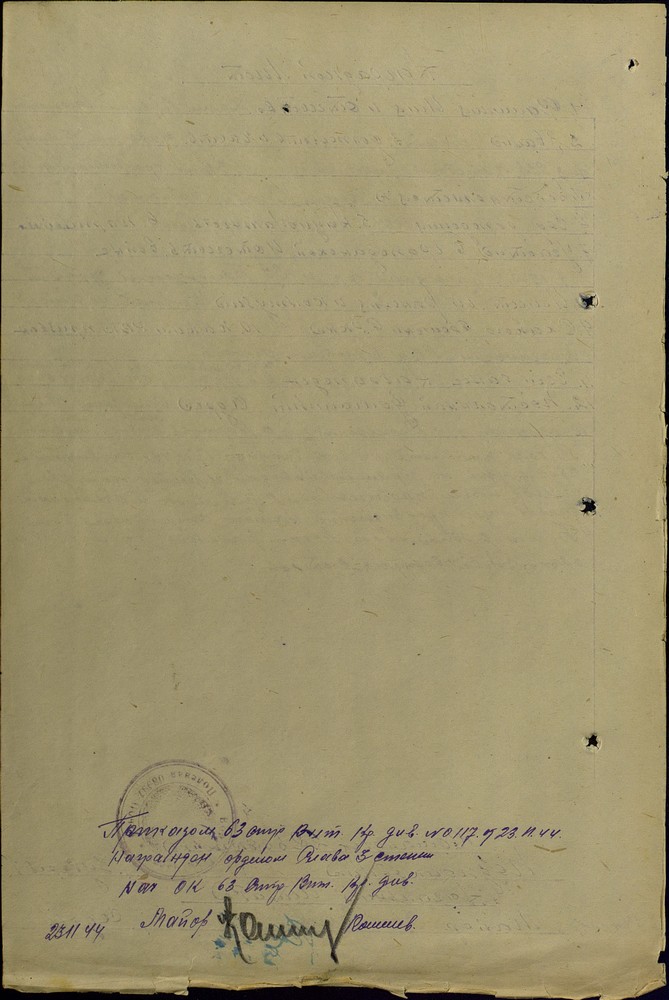Вот я в родной деревне Винюково. Здесь я провел детские и юношеские годы, которые были для меня не очень радостными. Теперь, спустя шестьдесят два года, этого уютного уголка земли, где проживали добрые, гостеприимные и трудолюбивые русские люди, не стало. Он превратился в заросшие бурьяном груды развалин и отдельные фундаменты, просматривающиеся только зимой, когда нет растительности. А тогда в ней было многолюдно. В каждом из двадцати восьми домов было по пять-семь детей.
Наша деревушка располагалась на берегу небольшой речушки Семенек. До начала тридцатых годов на правом берегу речушки у плотины стояла водяная мельница. Всегда на мельнице было много подвод с зерном для помола. Мы – ребятишки удочками с самодельными крючками ловили у плотины рыбу, которой было много. Она клевала повсюду, особенно в деревянных шлюзах, по которым вода попадала на водяные колеса, вращающие жернова мельницы. Это место было излюбленным для деревенских мальчишек и девчонок. Мы старались прийти туда, где производился помол зерна. Взрослые нас гнали с мельницы. Они боялись, что мы можем попасть в жернов или, проскочив под досками пола, попадем в водяные колеса. Летом мы очень любили купаться в запрудном перед плотиной месте, где было не глубоко, а дно было ровное, тщательно заделанное глиной. Вода в этом месте хорошо прогревалась. Мы барахтались в этой воде с утра до вечера. Это было одним из немногих удовольствий в моей детской жизни.
Жили мы сначала над берегом речки в небольшом деревянном крытом соломой домике. Мы любили наблюдать, как весной по реке идет лед. Льдины громоздились друг на друга, стоял шум. Вода бурлила и уносила лед в реку Красивая Меча. Мужики на берегах с «азовками» (сетки из прочных ниток) на длинных шестах ловили рыбу. Когда речка разливалась в дом, во все надворные постройки заходила вешняя вода. Мы были вынуждены в это время на неделю, а то и больше, уходить жить к родственникам туда, куда вода не доходила. Семья наша была большой - дедушка с бабушкой, отец с мамой, да нас в 1932 году было уже пять детей. Так что такое временное переселение создавало много проблем.
В 1934 году, когда мне было десять лет, мой дедушка Иван Васильевич и мой отец построили новый дом на другом конце нашего огорода, на большем удалении от реки. Однако местность у нас была равнинная и в иные годы вешние воды все-таки заходили в новый дом.
В период НЭПа (новая экономическая политика, начало двадцатых годов) земля и в нашей деревне была разделена между крестьянами. Тогда наш дед получил 15 десятин полевой земли. Он был человек хозяйственный, любил лошадей. Лошадей у него было две, да еще жеребята. На лошадях возделывали землю, на которой сеяли рожь и пшеницу, сажали картофель. Кроме лошадей в хозяйстве были две коровы, два десятка овец, 3-4 свиньи, много кур и гусей. Так что до тридцатых годов наша семья не бедствовала и была хорошо обеспечена продуктами питания. Правда при этом одевались мы в холщевые штаны и рубахи, которые редко стирали (только весной) и изнашивали до дыр. Обуви у нас не было. Весной, летом и осенью ходили босиком. Ноги наши всегда были грязными, а подошва была столь груба, что мы очень просто ходили и даже бегали по острым камням,
Осенью на нашем огороде в риге (большой шалаш, покрытый соломой) складывались снопы ржи и пшеницы. В хорошую погоду на току перед ригой эти снопы взрослые молотили цепами. Нам ребятишкам было особым удовольствием смотреть на умелую работу по обмолоту снопов наших деда, отца и всегда приезжавшей к нам в это время из Коломны сестры деда. На развернутые из снопов ржаные или пшеничные колосья со свистом падали цепы, разбрызгивались крупные зерна. Затем солома убиралась и на току оставались зерна. Их сгребали, веяли и ссыпали в мешки. Все участники семейного труда работали самозабвенно, обливаясь потом.
А когда приходило время обедать, за стол садилась вся семья. Взрослые всегда были довольны и радостны. Кормили и нас. Всем было вдоволь хлеба, молока, творога и даже мяса. В это время мы всегда были сыты.
Дед был весельчак. Когда приходили праздники, особенно зимой на масленицу, он любил запрячь своего жеребца и с удалью проехать по деревне – похвастать своей лошадью.
Поля у нас были не очень плодородными, требовалось вносить много органических удобрений. Труд крестьян был тяжелый, но тогда люди знали, что все, что они вырастят на своем поле - это их богатство и залог их благополучия. Потому труд был не в тягость.
Часть урожая сдавалась по твердым ценам государству, а большая его часть использовалась крестьянами по своему усмотрению, в том числе, продавалась на рынке. Все деревенские, кто хорошо работал, жили богато и весело. В праздники устраивались богатые застолья, которые длились по 3-4 дня. Но затем все прекращалось и начинались трудовые будни.
Осенью в городе Лебедянь по воскресным дням устраивались большие базары. Мой дедушка Иван Васильевич и мой отец Егор Иванович везли на базар и продавали там хлеб, свинину, баранину. Кроме них из деревни выезжало по 10-15 подвод. Всем было весело. С шутками и смехом отправлялся обоз в город. На базаре всегда многолюдно, народ бурлит, то тут, то там играет гармонь, идет пляска, слышатся смех и частушки на злободневные темы. Идет бойкая торговля. Здесь же деревенские приобретали необходимые промышленные товары. Это было счастливое время в жизни наших деревенских.
Деревенские мало знали о событиях внутренней жизни страны. Газет и журналов в деревне не выписывали.
В 1932 году в нашей деревне началась коллективизация крестьянских хозяйств и ликвидация кулачества. На сходе граждан нашей деревни был быстро организован колхоз. По предложению отца этот колхоз был назван «Путь Ленина». Наиболее зажиточные мужики в деревне, хотя они использовали не наемный труд и трудились у них исключительно члены своей семьи, были причислены к кулакам и разгромлены. Их лошади и сельхозинвентарь были обобществлены, а остальное имущество разграблено. Сами так называемые кулаки были отправлены в ссылку в Сибирь.
Трудно было деревенским отдавать в колхоз имущество, к которому они привыкли. С болью в душе приводили они на скотный двор лошадей и коров, привозили на подводах плуги и бороны. Впрочем, были в деревне два хозяина, которые не записались в колхоз и оставались единоличниками.
Первым председателем колхоза стал рабочий из Петербурга Уколов Алексей Яковлевич. Дела в колхозе шли не очень хорошо. Настроение у людей было неважным, работали без инициативы. Урожай в первом году колхозного производства получили низкий. Государство определило оплату труда колхозников «трудоднями». Расчет колхозники получали только после того, как колхоз выполнит свою первую заповедь – сдаст зерно государству (за бесценок в виде обязательных поставок). При этом приходилось выполнять не только первоначально намеченный план (который был достаточно высоким), но и дополнительные задания. Вывозились даже семена. На фураж скоту ничего не оставляли. На трудодень в этот и многие другие годы колхозники получали по 200 – 300 грамм зерна, а бывало и того менее. Выживали за счет приусадебного клочка земли и скота в личном хозяйстве. При этом каждый двор, имевший корову, по обязательному окладному закону был обязан сдать государству в год за бесценок 220 литров молока, 40 кг мяса, 75 яиц. Если имели свинью, при забое ее запрещалось палить - кожу обязаны были сдавать государству, иначе большой штраф.
В таких условиях многосемейные колхозники кое-как доживали до середины зимы, а потом начинался голод. Чтобы как-то дожить до весны хлеб готовили пополам со свеклой и лебедой. Весной многие люди бродили по полям, на которых в прошлом году росла картошка. Они искали черный гнилой картофель. Такой картофель клали на сковороду и немного поджаривали. Получался черный комок, этакая земляная лепешка, которая хрустела на зубах и ненадолго утоляла голод.
Чтобы как-то помочь нашей семье дедушка, будучи уже пожилым человеком, гонял лошадей в ночное. В возрасте 65 лет он простудился и скоропостижно умер от воспаления легких. Он отказал мне свои валенные сапоги. Я очень долго скорбел о нем и часто вспоминал его как человека доброго и самого любимого на свете.
Мой отец Егор Иванович в свое время окончил церковно-приходскую школу в городе Коломна, то есть по тогдашним временам имел определенное образование. Это позволило ему в двадцатые годы работать сначала председателем Слободской волости, затем секретарем Сергиевского сельского совета. Сначала он работал вдохновенно, но потом пристрастился к спиртному, которого тогда было предостаточно в каждом селе. Бывало он пил целыми месяцами, пил до одурения, но ему все сходило с рук. В 1936 году он образумился и прекратил длительные запои. Стал работать счетоводом в колхозе «Красный торфяник», где получал за работу много зерна. В это время наша семья не голодовала.
В сентябре 1932 года я пошел учиться в Яковлевскую начальную школу, находившуюся в 1 км от нашей деревни. Я был шаловливый, но учиться любил. Особенно мне нравилась математика. Все примеры и задачи я решал сходу. Занятия велись одновременно в 2-х классах: до обеда учились 1 и 3 классы, после обеда 2 и 4 . Обучаясь во 2-м классе, я старался и почти всегда решал задаваемые примеры и задачи для 4-го класса. За это я частенько получал похвалы от учителя.
Продолжил я обучение в Сергиевской семилетке. С одеждой тогда было плохо. Одет я был легко и зимой часто простужался. Кашлял постоянно. Трепала меня и малярия – следствие укусов комаров, от которых не убережешься, особенно если любишь ловить рыбу так, как я. Я просиживал на речке целыми днями. Ловил и удочкой, и руками в куге. На пару со мной любил рыбачить и мой друг Иван Уколов (сын председателя колхоза). Иногда мы с ним ссорились и даже дрались. Причем в драке я всегда побеждал, а он со слезами бежал домой и жаловался отцу. Тот вступался за сынка. Увидев меня на деревне, он грозился мне, а иной раз и пускался за мной вдогонку. Но я был очень шустрый и догнать меня ему ни разу не удалось.
После окончания Сергиевской семилетки в 1939 году я поступил в Лебедянское педучилище. Учеба шла хорошо, но с пропитанием было плохо. Голодно было. Нам давали утром кулеш, но я, да и все мы постоянно ощущали чувство голода. Кроме того, нас просто заедали вши. В это время было очень много у всех.
В конце недели в субботу я шел за 30 км домой, чтобы запастись хоть какими то продуктами. Из за постоянного недоедания я тогда был слабым. Сначала я бойко проходил расстояние до Сергиевки, но здесь силы мои иссякали. Меня мучил голод. Идти было так тяжело, хоть падай. Я через каждые 200-300 метров останавливался и отдыхал. Последние 3-4 км от Сергиевки до моей деревни Винюково я проходил за 2 с лишним часа.
Дома, однако, тоже не было изобилия продуктов. Немного картошки, кое какие лепешки – вот и все что я брал в воскресенье и отправлялся в 30-тикилометровый обратный поход в Лебедянь на учебу. И такое положение было все три года моей учебы в Лебедянском педучилище.
Когда 22 июня 1941 года Германия вероломно напала на нашу страну, мне было семнадцать лет. Мой брат Алексей 1921 г.р. в это время служил в Красной армии. В г. Калач Воронежской области он проходил обучение на младшего командира. Отец мой был тяжело болен туберкулезом и не мог быть призван в ряды защитников Родины.
Я хорошо запомнил второй день войны – 23 июня 1941 года. Наша деревня провожала мужчин по вызовам военкомата в ряды Красной армии. Горький, душераздирающий плач женщин и детей нагоняли на меня горечь и тоску. Но в душе у меня, как и у всех молодых парней было горячее желание идти вместе со старшими бить врага.
Я продолжал учиться в педучилище (3-й курс). Зима 1941-42 годов стала очень тяжелой для нашей страны. Враг захватил большую территорию и подошел уже близко и к нашей деревне. В частности были захвачены город Елец и село Суходол. Захвачена половина Воронежа.
Трудно было в деревнях. Мужчин не было. Остались женщины, дети и старики. Имущество колхоза в нашей деревне было разобрано по домам. Отец зимой умер от туберкулеза. Я был самый старший из детей - пяти братьев и одной сестры. Младшему брату – Николаю было меньше 4 лет. Приходилось тяжело работать, чтобы обеспечить государственные задания и как то прокормить нашу семью.
Весной 1942 года я закончил учебу в педучилище и приехал домой. Через неделю мне прислали повестку – явиться в Краснинский военкомат. При прохождении медкомиссии врач спросил у меня – «Что болит?». Я показал место, где ощущал боль – в районе сердца (вероятно следствие голодных лет и тяжелой работы). Врач сказал – «Это ерунда, все пройдет. Здоров!»
Провожали меня в Красную армию почти все деревней – на лугу у реки в это время шел сенокос и большинство деревенских были здесь.
24 июня 1942 года мы призывники с сумарьками за плечами сели в «телячьи» вагоны и паровоз потащил наш состав со станции Лутошкино в г. Елец. До этого я нигде кроме Лебедяни еще не был. Приехали мы в Елец, вышли из вагонов. Только мы собирались раскрыть сумарьки, чтобы перекусить, как вдруг послышался сигнал воздушной тревоги. На станцию Елец налетели немецкие самолеты и начали бросать бомбы. Мы разбежались кто куда. Кто-то из наших сказал, что нам надо идти в г. Задонск. Мы группами по 5-6 человек пошли пешком по дороге на Задонск. Мимо проезжали машины полуторки. Я и некоторые мои товарищи побежали за одной из них и на ходу с трудом вскочили в кузов. Доехали мы до самого Задонска. В Задонске мы собрались и пришли в лесок за городом, где нас взяли в Задонский полк. Нас стали учить на автоматчиков. На седьмой день обучения я пережил еще одну бомбежку. Немецкие штурмовики бомбили Задонск фугасками и зажигательными бомбами. Загорелись отдельные здания. Фронт был в г. Воронеж.
Вскоре после этой бомбежки нас пешим ходом направили в г.Ефремов, где мы до зимы продолжили обучение искусству войны. В это время работники госбезопасности активно искали среди солдат доносчиков на своих товарищей. Предложили эту неблаговидную «работу» и мне. Я ответил категорическим отказом. За это позднее в г. Сарапул мне угрожали расстрелом. До сих пор у меня негативное отношение к этим людям.
Всю зиму мы продолжали обучение. По пластунски исползали десятки километров, изучали тактику и оружие.
Наступила весна 1943 года. К этому времени наша армия уже одержала ряд замечательных побед над фашистскими полчищами. Разгром и пленение 22 вражеских дивизий армии Паулюса под Сталинградом потрясло фашистских вояк.
Нас направили в район г. Калуга, где формировалась новая дивизия. Нам присвоили звания младших командиров. Меня определили во второй батальон 226-го полка. Командовал батальоном замечательный волевой офицер старший лейтенант Чудинов. Я оказался в расчете противотанкового 45 миллиметрового орудия, состоящем из 7 человек.
После 2-х недельного формирования наш полк в мае 1943 года колоннами направился на передовую. Передовая фронта находилась всего в 5-7 километрах. Противник постоянно обстреливал из орудий дороги, по которым мы выдвигались. Мы – необстрелянные юнцы побаивались, когда над нами то слева, то справа пролетали снаряды и с оглушительным треском разрывались в воздухе. Но мы упорно двигались вперед. Непосредственно около передовой в небе появилась четверка немецких 4-х моторных бомбардировщиков. Они стали бросать мелкие бомбы. Мы рассосредоточились. Вдруг мы увидели, что один из бомбардировщиков подбит и четыре летчика выбросились на парашютах. Мы побежали в поле к месту их приземления и забрали их в плен. Это были первые враги, которых я увидел в лицо.
В деревне, куда мы прибыли, я был временно назначен ездовым. Нашу пушку возила пара лошадей. К вечеру я отвез нашу пушку на передовую и вернулся с передком в деревню. Поставив передок недалеко от одного из домов и привязав к нему лошадей, я пошел к колодцу за водой. Колодец был в 400-500 метрах. На обочине валялся труп фрица. Стояла жара. Труп фрица раздуло раз в пять. От него невыносимо несло падалью. Я достал из колодца ведро воды. Только я налил одно ведро и стал набирать другое, как начался минометный обстрел. Оставив ведра у колодца, я залег у находящегося рядом мостика. Переждав минометный обстрел, я вернулся с водой к лошадям, напоил их и зашел в дом. Людей в деревне не было. Вдруг начался обстрел деревни из тяжелых орудий. Я впервые попал под такой обстрел, поэтому был потрясен. Сработал инстинкт самосохранения. Я забился в подвал и сидел там некоторое время. Но мысль о моих лошадях не покидала меня. Я выскочил из подвала и увидел, что лошадей на месте нет. Они оторвались от привязи и далеко ушли по дороге. Не обращая внимания на продолжавшийся артиллерийский обстрел, я бросился за ними вдогонку. Лошади были связаны между собой поводьями, поэтому я довольно быстро их догнал и повел обратно к передку. Лошади, учуяв хозяина, шли за мной уверенно и твердо. Укрывая лошадей от обстрела, я завел их в деревянный амбар и остался с ними.
На закате солнца в небе над передовой появилось около 50 немецких штурмовиков, которые полчаса бомбили и обстреливали из пулеметов наш передний край.
Стемнело. В деревню с передовой пришли солдаты пехотинцы. Им привезли ужин. Во взводах у них осталось по 5-7 человек (взвод 28-30 человек). Остальные остались лежать в земле. Многие были ранены. Так что ужин есть у них было почти некому, поэтому покормили и нас, хоть мы были из другой части.
На другой день к обеду мне было приказано снять и увести с передовой нашу пушку. В 12-м часу я галопом подскочил на передовую с передком. Мне быстро прицепили пушку и, усадив расчет на станины, я быстро и благополучно привез их в деревню.
Ночью нашу батарею из 3-х пушек в полном боевом снаряжении направили на позиции по большаку (широкая дорога). Проехали мы немного и тут пушка, идущая впереди меня, попала на противотанковую мину. Лошади наступили на мину задними ногами. Ездовой и одна из лошадей погибли сразу. Вторая лошадь, вырвавшись из сбруи, поскакала по обочине дороги и там тоже подорвалась на мине. Я, сидевший верхом на лошади второй упряжки, быстро развернул пушку и покатил ее обратно. Мы стали ругать командира, за то, что он направил нас на мины, которые ставили солдаты нашей же дивизии. Из за этого инцидента командир нашей батареи был снят с должности. Командиром нашей батареи был назначен бывший инженер лейтенант Строганов М.Ф. – умный, деловой и энергичный человек, хорошо понимающий военную службу, желания и помыслы солдат.
После случая с подрывом нашей батареи на наших же минах мы пробыли 3 дня в тылу. Затем нас вновь направили на передовую, на огневую позицию нашего батальона. Я был назначен наводчиком орудия и эту военную профессию пронес все остальное время моего участия в боях за освобождение от фашистов центра России и Белоруссии.
Прибыли на передовую поздно вечером. Нашу пушку подвезли к траншеям. Дальше нужно было тащить ее на руках. Внезапно начался сильный минометный обстрел. С резким свистом рядом рвались мины. Мы залегли. После прекращения обстрела мы ночью потащили нашу пушку по картофельному полю. Нашли воронку от снаряда, разрыли ее так, чтобы установилась наша пушка и могла вести огонь. Подготовили позицию только к рассвету. Нам объявили, что в 8.00 начнется артподготовка, а через 2 часа пойдет пехота.
Начинался хороший солнечный день. Было тихо. Вдруг из за леса стала бить реактивными снарядами «катюша». Тут же открыли огонь множество других наших орудий и минометов. Стоял такой гул, что было невозможно разобрать слова стоящего рядом кричащего человека. Немецкие окопы были покрыты сплошной стеной разрывов снарядов, их заволокло дымом. Пошла пехота. Мы покатили нашу пушку на руках вперед. Сил хватило метров на 300. Затем пригнали лошадей, прицепили пушку и поехали рысью на врага.
Наступление нашей 63 дивизии под командованием генерал-майора Ласкина продолжалось все лето 1943 года. Прошли более 600 км. Освободили Ельню и Смоленск. При освобождении Ельни наша батарея попала под массированный налет немецкой авиации и потеряла 2 пушки.
Под Оршей продвижение нашей дивизии остановилось. Зима 1943-44 годов прошла в обороне. Лишь изредка проходили бои местного значения, да разведка постоянно ходила в поиски за «языками», но не всегда удачно – немцы несли службу на постах очень бдительно. Зима выдалась суровой. Снежные бураны часто заносили окопы и блиндажи. Их приходилось постоянно откапывать. В блиндажах не было печей. Спали на земляных нарах. Согревались прижавшись друг к другу. Бани нам не устраивались. Вшей у каждого было навалом. Единственное утешение – иногда приносили по 100 граммов разведенной водки. Часто водка до нас просто не доходила - ее выпивали командиры и тыловики. Оплаты за адский труд никто не требовал, так как все знали, в каких тяжелых условиях находится страна. Мы были готовы отдать Отечеству самое дорогое, что есть у человека – здоровье, а может быть и саму жизнь.
Наступила весна 1944 года, обе враждующие стороны готовились к решающим сражениям.
Начались тяжелые бои под Оршей. Немцы прямо перед нами имели 22 тяжелых артиллерийских батареи. И у нас было много техники. Кругом стояли легендарные 16-тизарядные «катюши». В лощине, через которую я проезжал, стояли в ряд реактивные снаряды на станочной установке – так называемые «ванюши».
Почти каждый день начинался 2-3-х часовой артиллерийской дуэлью. В воздушных боях и нападениях с воздуха на позиции противника участвовали по 200-300 самолетов с каждой стороны. Бои шли с переменным успехом. То наши выбьют немцев из 3-4-х траншей, то немцы контратакуют и вернут прежние позиции. После каждого такого боя траншеи забивались трупами солдат с обеих сторон. Мне пока везло.
Спали стоя. Кто не выдерживал – ложился, подкладывая под себя доски от снарядных упаковок. Но весенняя вода подступала то к спине, то к боку и солдат просыпался и пытался отогреться.
Из за весеннего бездорожья кормили нас в боевой зоне редко. Утром или вечером принесут каши, а то и день-два живешь без еды.
В этот раз нам не удалось прорвать оборону врага под Оршей. Нашу дивизию перебросили под город Витебск.
После долгого и изнурительного марша в мае 1944 года мы пришли в район нашей новой боевой позиции. Шла подготовка к наступлению. Из тыла страны, с других участков фронта к Белоруссии двигались пехота, танковые, артиллерийские, авиационные и инженерные соединения, подвозились боеприпасы горючее и другие материальные средства. Всего к участию в операции привлекалось 1,4 млн. человек, 317 тыс. орудий и минометов, 5200 танков, около 5000 самолетов четырех воздушных армий и более 1000 самолетов дальней авиации. Прорыв обороны произошел внезапно, без артподготовки. После обеда наш батальон поднялся и пошел в атаку. Немцы молчали. Когда наша пехота подошла к траншеям фашистов, те дали сигнальную ракету для открытия огня, но было поздно. Пехота была уже внутри обороны неприятеля. Мы тоже двигались вперед. В этот день мы прошли более 10 километров. Враг не успел даже взорвать мост через реку, до того стремительным было наступление нашего полка. Из за этой стремительности на второй день нашего наступления во время начавшейся артподготовки снаряды нашей артиллерии попадали и по нам. Какие проклятья мы посылали своим дальнобойщикам за эти ошибки!
Наш расчет 45-мм орудия состоял в это время из командира орудия Н.П.Фомина, меня – наводчика, заряжающего Дуркина С.Н. с Коми АССР, разводящего Трубицина И.Ф., парня с Трубечинского (ныне Елецкого) района, ездового Ширманна В.С. и подносчиков снарядов Лукьянова и Кадырова с Узбекской ССР.
Мы – «сорокопятчики». Называли нас и ПТО -противотанковое орудие, чаще просто – пушкари, а иногда и «прощай родина». Теперь я соглашаюсь, что в последнем прозвище есть своя правда. «Сорокопятки» почти всегда устанавливались впереди всех других орудий, непосредственно на переднем крае, поэтому их огневые позиции подвергались врагом самому интенсивному обстрелу. Однако тогда это военное прозвище – «прощай родина» - обижало и злило нас. Мы указывали на нашего командира - старшего сержанта Фомина, который воевал в батарее с 1942 года и до сих пор жив и здоров. Как же нам тогда не хотелось признавать справедливость этого прозвища – «прощай родина».
За три года войны значительно изменилась и наша техника, и техника врага. Более мощными стали немецкие танки. У них появились «тигры», «пантеры», «фердинанды». А наша пушечка-«сорокопятка» осталось все та же и нам бороться с немецкими танками было все трудней.
Мы стояли под Витебском. Местность была не распахана, поросла лебедой и пыреем, изрезана серыми гривами окопов и ходов сообщений. Перед нами на нейтралке едва заметные в траве извилины пересохшего ручья. Возле ручья стоял ржавый закопченный с открытым люком танк Т-34. Дальше горбатятся холмы, в которых окопались фашисты. Что там у них делается - нам не видно, зато они свободно просматривают наши позиции, траншеи передовой линии, ходы сообщения, проложенные ночью тропинки. Единственным нашим естественным укрытием была полоска леса сзади нас. Мы стоим на одном из холмов. Впереди на нейтралке другой такой же холмик, который немного скрывает от противника нашу пушченку, возле которой вырыт небольшой в девять шагов окопчик.
И вот мы сидим в этом окопчике довольные тем, что только что выполнили задание командира батальона майора Чудинова – подавили крупнокалиберный пулемет противника. Другие пулеметы противника, заметившие нашу стрельбу, обстреливают нашу позицию, сбивают с нашего бруствера комья земли и песок. Все это сыплется нам на голову. Над нашей огневой висит пыль. Но крупнокалиберный пулемет, который был нами обстрелян, молчит. За выполнение этого задания наш расчет был представлен к наградам. Я был награжден медалью «За отвагу».
В этот момент на вражеской стороне что то утробно и страшно взвизгивает. Я еще не понимаю - что это, но замечаю, как вздрагивает под шинелью Фомин. Со ступеньки окопа вдруг падает дядя Ваня (Трубицин). После этого и до моего сознания доходит смысл этого жуткого звука – где-то там, за вражескими холмами разряжаются «скрипуны» - немецкие шестиствольные минометы. Едва утихает этот их протяжный зловещий скрип, как из поднебесья на нас обрушивается пронзительный визг мин. Кажется, какая то неведомая страшная сила низвергается на дрожащую землю. Я тычусь головой в колени Фомина. Он падает на бок. Сверху в окоп сыплется земля. В уши бьет взрыв, второй, два сразу, три сразу. Мы глохнем, задыхаемся в пыли, в песке и земле. Пальцы судорожно пытаются в поисках опоры ухватиться хоть за что-то. Земля будто стонет, дрожит, отчаянно сопротивляясь страшной силе разрушения. Так мучительно тянется время. Все вокруг рвется, разлетается вдребезги. Стало темно, как будто на землю опять вернулась ночь. Во рту, в глазах и ушах песок и земля. Тело болезненно ноет от неослабного напряжения и каждого близкого взрыва. Все мое существо с ужасом ждет: конец, конец. Вот-вот этот, нет - вот этот! Вверху воет, скулит, рыдает. Земля перемешалась с небом. Все вокруг во власти безвольного оцепенения.
И вдруг сбоку слышу крик – «Харин! К прицелу …твою мать!». Это Фомин вскочил и вылетел в конец окопа. Вот я на орудийной площадке. Возле меня шевелится Дуркин. Кричит и ругается Фомин. Новый взрыв и визг заглушает его, Еще вспышка, удар. На нас снова обрушивается земля. Фомин падает. В облаках пыли как-то друг на друга падают другие артиллеристы. Я в неподпоясанной гимнастерке сижу у орудия и смотрю в прицел. Раздается еще один взрыв на другой стороне окопа. В лицо бьет пороховой смрад и комья земли. Падаю и я на дно окопа. Неизвестно, сколько мы лежали так, заваленные землей и оглушенные.
Но вот немцы переносят огонь дальше, взрывы становятся глуше. Первым с сиплой бранью из земли выкарабкивается Фомин. Вверху по прежнему скулит и воет. Небо над нами почернело от пыли и дыма. Разрывы постепенно отдаляются и комья земли перестают молотить нам спины.
Выжили! Уцелели – вспыхивает слабенькая, готовая вот-вот погаснуть, радость. Отплевываясь и моргая, я выгребаюсь из под земли - потный, страшный, серый от пыли. Слабо шевелится в углу окопа Дуркин, отряхивается рядом Трубицин. Кажется, все целы – нам повезло.
Вдруг, когда я думаю об этом, рядом с диким испугом вскрикивает Ванька Трубицин. «Командир! Танки! Танки! Гляди!» - заикаясь кричит Ванька, то выскакивая из окопа, то снова приседая. Смысл этой тревожной вести будто кинжалом пронзает сознание. Я вскакиваю из за развороченного бруствера. По склону холма вниз в нашу сторону с грохотом быстро катится косяк рыжевато-серых немецких танков.
Рядом со мной, часто моргая запорошенными песком глазами, на мгновение замирает Фомин. Будто не веря, приоткрыв рот, он несколько секунд смотрит на танки и выбегает из окопа. За ним по ступенькам вылетаю я. Сзади бегут остальные.
Пригнувшись, через взрытую минами площадку мы бросаемся к пушке, которая стояла в укрытии. Для стрельбы ее необходимо выкатить на площадку. Я и Фомин упираемся в колеса, Другие берутся за станины и сошники. Пушка движется, но укрытие завалено комьями земли и она движется боком. Фомин ругается: «А ну поворачивай! Станину поворачивай, Ваня! Такую твою…». Мы и сами знаем, что нужно поворачивать, но спешим и все получается невпопад. Кое-как мы вытаскиваем пушку на площадку, заносим станины. Фомин, пригнувшись, кричит, командует, помогает затаскивать пушку на место. Его молодое, еще ни разу не бритое лицо в поту и грязи.
Танки бьют по нашей пехоте. Бьют не останавливаясь. В воздухе гремит и грохочет. Тяжелый железный гул ползет по земле.
Я впиваюсь в прицел и вскоре меня глушит резкий выстрел подкалиберного снаряда. Пушка подскакивает и больно толкает в плечо – ребята не успели упереть станины сошниками в землю. Трах – бьет второй выстрел. Еле заметный красный огонек трассера летит к танку, щелкает о броню и отскакивает высоко в сторону.
Огонь! Огонь! Не медли! Огонь! Чах, Чах. Чах – бьет пушка, подпрыгивая на колесах. Трассеры не все заметны – некоторые снаряды бесследно исчезают вдали. Танки от первой нашей траншеи направляются вдоль дороги, один за другим ползут по нашей обороне. На их бортах мы четко видим черно-белые кресты. Поднимая тучи пыли, танки тяжело переваливают через брустверы окопов. Их длинные пушки угрожающе поворачиваются и грохочут выстрелами.
«Огонь!» - ревет Фомин - «Наводить лучше!». Наводчик – единственный в расчете кому должны быть чужды страх и волнение. Он не должен спешить, не должен дрожать. Он ничего на свете не знает кроме танка.
Чах! Чах! Дергается пушченка. «Не берет! Бей по гусеницам» - кричит Фомин.
Не берет. Я тоже понял это. Чах – подпрыгивает пушченка. Стремительная искорка трассера мелькает вдали, бьет в башню танка и отскакивает в сторону. Не берет. Видимо немцы пустили на нас тяжелые танки. Может это «тигры»?
Пехота наша рассеяна. Вслед за танками идут немцы. Наши отходят. Недалеко от нашей огневой, низко пригибаясь к земле, обессилено бредет сержант с потным красным лицом. Одной рукой он тащит пулемет, другая будто палка свисает до самой земли. За ним то и дело оглядываясь бежит невысокий боец с патронными ящиками в руках. «Стой! Стой!» - кричит Фомин – «Куда удираешь, сволочь! Расстреляю! Стой!». Сержант кричит что то в ответ и присев тычет рукой за наши спины, в сторону дороги. Фомин оглядывается, приседает от неожиданности и ругается в пустоту. «Станины влево!»- командует он. Танки прорвались, обходят и быстро несутся вдоль дороги к деревне в наш тыл. Мы развернули орудие. Я обеими руками подкручиваю маховики наводки. Гремят частые выстрелы. Коротко позванивают под ногами пустые гильзы. Ребята притихли, прижались к земле. Это плохо! Держись, как нибудь держись – заставляю я себя - У тебя нет права бояться.
Ага! Наконец! Злорадно вскрикивает Фомин – «Один есть!». Не выдерживаю, выглядываю из за щита и мгновенная радость охватывает меня. Вот он стоит, опустив ствол. Крышка люка откинута. Рядом останавливается еще один танк. Он чуть медлит, потом поворачивает в нашу сторону. Заметил нас. Теперь достанется – мелькает в сознании и сразу перед огневой сверкает огненная молния. Пыль и смрад накрывают огневую.
Танк за кукурузной кучей. Она мешает нам стрелять. Надо ее немного разбросать. Но тут снова удар. Тугая пробка забивает уши. Легкие наполнены пороховой горечью и пыльным удушьем. Но чувство реальности обострено, внимание предельное, мысли работают быстро и четко. Понимаю, что надо разбросать эту кукурузную кучу, но неподвластная мне тяжесть свинцом наливает ноги. Ненавидя себя, я медленно поднимаюсь из за щита. Танк, крутнувшись на одной гусенице, сворачивает с дороги и направляется на нас, покачивая длинным хоботом. Сейчас он снова выстрелит. Сейчас! Сейчас! Во мне все напрягается – переждать выстрел! Но в это время раздается команда Фомина. Кто-то из расчета, кажется Ванька Трубицин, разгребает кукурузную кучу и тут – трах! Пыль, песок бьют в глаза, в ушах звон, острая короткая боль. Через мгновение я вскакиваю. Сквозь клубы пыли почему то медленно, наклонившись и спотыкаясь, бредет Трубицин. Метрах в десяти от него горячо клубится воронка.
«Огонь!» - басовито ревет сзади Фомин, а во мне все холодеет. Какая-то полуосознанная вина перед Трубициным заставляет меня выскочить на бруствер. Будто издали долетает до меня строгий крик Фомина – «Стой! Назад!». Но я уже в три прыжка подлетел к Трубицину и схватил его за подмышки. Задыхаясь, я волоку к огневой тяжелое тело друга. Навстречу пахнуло в грудь горячей волной. Это Фомин стреляет по танку. В тот же момент где-то совсем рядом огненный блеск и – удар. Я падаю, больно ударившись плечом о землю. Но понял – жив. Вскакиваю, снова хватаю Трубицина. А танк - вот он! Тяжелая его громадина ползет все быстрее. Прогибается, дрожит земля. Бешено мелькают траки. Неумолимо надвигается на нас его широкая стальная грудь.
Разгребая сапогами песок, я переваливаю Трубицина через бруствер и вместе с ним падаю под колеса пушки. Несколько пуль вдогонку хлестко щелкнули в щит и рикошетом отлетели в сторону. В окопе строчит пулемет – это сержант бьет без руки, бьет по немецкой пехоте. Командир с Дуркиным лежат между станин. У прицела один узбек. Но почему смолк Фомин? Почему не командует, не движется? Привалился спиной к станине и молчит. На коленях я бросаюсь к нему. Сзади грохает выстрел. Пушка словно живая вздрагивает. По спине больно бьет гильза. Хватаю командира за плечо. Он сползает со станины наземь. Струя теплой крови откуда то из горла брызжет мне прямо в лицо, фонтаном обдает спину Дуркина. Я припадаю к земле, нащупываю и зажимаю под расстегнутым воротником Фомина небольшую ранку. Но кровь все равно прорывается и брызжет вокруг. Побледневшие веки Фомина непрерывно вздрагивают, взгляд тухнет и зрачки закатываются.
«Командир!» - слышится истошный крик Лукьянова – «Хлопцы! Командира убило». Этот крик потрясает меня. Несколько секунд я лежу на земле, всем телом ощущая ее непрерывную дрожь. Танка я не вижу, но чувствую - он недалеко от нас. Я в оцепенении жду: сейчас все будет кончено. И тогда, оторвавшись от прицела, оборачивается к нам Кадыров – «Заряжай! Собака, заряжай!». Пушка молчит. Дуркин гребет пальцами землю и жмется под бруствер. В бешенстве, от предчувствия неотвратимой гибели толкаю Дуркина сапогом в бок и кричу – «Заряжай, сволочь!». Он боком, как рак, медленно переползает к ящикам. Я, оторвавшись от командира, сам хватаю снаряд и окровавленными руками загоняю его в ствол. Из шеи Фомина снова вырывается тонкая струя крови, но тут же слабнет и, когда я снова подползаю к командиру, пропадает совсем. Остекленели глаза, Кажется все! Конец!
Я бросаюсь к снарядам. Танк в пятидесяти метрах, не более. Одной гусеницей он подминает под себя остатки кукурузной кучи и взмахивает в воздухе своим стволом. Из его днища в землю упруго бьет струя дыма и пыли. Кадыров секунду медлит и вдруг снова вскакивает со станины. Грохочет выстрел. Сквозь пыль я успеваю заметить, как танк однобоко дергается вперед. Будто спотыкнувшись, с разгона клюет стволом в землю и замирает. Впереди острыми зубцами торчит направляющее колесо. Гусеницы на нем нет. Танк стоит к нам бортом.
Подбили! Но его орудие вдруг оживает. Скрипнула, описывая полукруг, башня, и огромный танковый ствол направляется в нас. Кадыров не целясь, крутит маховик наводки и наш коротенький, накаленный стволик с самоотверженной готовностью спешит навстречу. «Быстрей! Быстрей!»- бьется во мне отчаянный крик. Ползком я пробираюсь к ящикам. Головами мы сталкиваемся с Дуркиным. Столкнувшись, разлетаемся в стороны. К моим ногам падает его пилотка. В моих дрожащих руках снаряд. Сразу же лязгает клин затвора. Дульный тормоз танкового орудия, как-то судорожно дергаясь, опускается ниже, ниже. С завидной легкостью через меня в окоп кувыркается Дуркин. Это последнее, что я успеваю заметить и на коленях вниз головой бросаюсь за Дуркиным.
Наш выстрел и взрыв вражеского снаряда гремят одновременно. Огромная глыба со стены нашего окопа обрушивается на мои плечи. Что-то колючее градом обдает затылок. Я на несколько секунд глохну и полузакопанный мертвею. Вдруг все умолкает. Становится неестественно тихо. Громовой грохот прекращается. Куда то пропадают взрывы мин, издали доносится гул танков и по-прежнему мелко дрожит земля.
Пропало все! Навсегда! Безвозвратно!
Я выгребаюсь из земли и вылезаю из обрушенного, разбитого окопа. Первое, что бросается в глаза – глубокая яма на краю нашей площадки. В эту яму одним колесом провалилось перекошенное орудие. Между станин неподвижно лежит засыпанный землей Дуркин. Рядом – тоже весь в земле и пыли – сползает на спине с бруствера, видимо отброшенный туда взрывом Кадыров. Ни каски, ни пилотки на нем нет, грудь чем-то залита. Невидящим безумным взглядом я смотрю в ту сторону, откуда полз на нас танк. Но почему же так тихо и где же танк? Я оглядываюсь и столбенею от страха смешанного с удивлением и радостью. Огромная пятнистая громадина танка, почти вперев в нас огромный ствол, неподвижно застыл на кукурузной куче. Густые языки пламени шипят и чадят над ее приземистой, круглой, свернутой на бок башней.
Кадыров склоняется, стонет, поднимает руку. На ней вместо пальцев месиво кровавой грязи. Кадыров прижимает руку к груди, тихо, сквозь зубы мычит от боли и пробует остановить кровь. Кровь льется на колени, штаны, в сухую, жадную к влаге землю. Я хочу помочь Кадырову, но он уже сам заматывает руку подолом гимнастерки и раздраженно кричит мне – «Харин! Огонь! Огонь!».
Ага! Танки все еще на поле. Вблизи наших траншей тянутся в небо три столба черного дыма. Рядом с нами бешенным пламенем полыхает четвертый. Остальные вдоль узкой полоски подсолнуха направляются обратно в деревню, откуда и пришли. Иногда останавливаются и стреляют по нашим позициям и огневым точкам. Все стонет от частых гулких выстрелов.
Я вгоняю в ствол бронебойный снаряд и хватаюсь за механизм наводки. Пушченка вся ободрана осколками, склонилась набок, но еще послушна моим рукам. Я торопливо подвожу угольник прицела под срез ближайшего танка и нажимаю спуск. Тугой резиновый наглазник бьет в бровь. Я не вижу, куда летит снаряд. Бросаюсь за следующим снарядом. Мельком кидаю взгляд на стоящий рядом танк. Верхний его люк открыт. Из него высовывается рука в черной перчатке. Она слепо шарит по броне, старается уцепиться за крышку люка, срывается и снова шарит. Из окопа раздается короткая очередь – это сержант со своим пулеметом. Что происходит дальше, я не вижу. «Огонь!» требовательно кричит Кадыров. Я заряжаю, подкручиваю дистанционный барабанчик прицела, целюсь, стреляю и снова спешу за снарядом. Кадыров сидит обессиленный, крепко сжав подолом руку. Лицо его черно, глаза запали. Люк танка по-прежнему раскрыт, но в нем уже никого не видно.
Огонь! Харин! Огонь! И я стреляю. В прицеле еще видны танки. Я с трудом успеваю хватать снаряды. Пот ядовитой солью слепит глаза, капает с кончика носа на руки – утереться некогда. Я понимаю, что танки несут смерть и бью в них.
Не знаю, сколько это длится. В моем сознании мелькает прицел, угольник прицела под танками, гримаса напряжения и боли на лице Кадырова, его требовательное - «Огонь!» и снаряды в ящиках. Я мечусь, ползаю, глохну от выстрелов. Но вот дослав очередной снаряд и схватив механизм наводки, я лихорадочно оглядываю поле с танками. Танков нет! Они скрылись в высоких зарослях ивняка за развалинами подворий неизвестной мне белорусской деревушки.
«Все!» - говорю я и опускаю руки – «Все! Ушли не прорвались!». Я сажусь меж станин, привалившись к казеннику. От пушки пышет жаром, но я не отстраняюсь. Я обессилен, оглох, в ушах гудит. Перед глазами расплываются желтые, оранжевые, черные круги. Солнце безжалостно палит с пропыленного, заволоченного дымом неба. В поле пусто. Кое-где видны в траве бугорки, Это трупы.
Мощный внезапный взрыв сотрясает землю. Над стоящим рядом с нами танком, выбросив в стороны клочья дымного пламени, подскакивает башня. Коротко звякает сталь и башня орудийным тормозом врезается в землю. Огонь с остервенением начинает пожирать резину катков, краску и залитую топливом землю. В воздухе кружатся и оседают тлеющие хлопья ветоши.
К вечеру к нам приехал командир батареи Строганов. Мы с почестями похоронили командира орудия Фомина и нашего товарища Дуркина. Пополнили боеприпасы и, прицепив нашу пушку за передок упряжки, двинулись вперед освобождать Белоруссию. Я был временно назначен командиром орудия.
За этот бой все были награждены. Мне командир батареи вручил орден Красной Звезды.
За ночь прошли вперед почти на 10 километров. Стремительность нашего наступления привела к тому, что враг не успел взорвать мост через небольшую, но глубокую речушку, чем мы и воспользовались.
На следующий день с утра по врагу открыла ураганный огонь наша крупнокалиберная артиллерия. Но, не скорректировав огонь, дальнобойщики задевали снарядами и наши позиции, вызывая у нас чувство негодования и обиды. Через 2 часа артподготовки мы снялись с огневых позиций и двинулись вперед.
Движение наших войск по Белорусской земле проходило быстро. Враг не успевал закрепляться. Мы быстро выбивали его и продолжали движение вперед.
Наша дивизия с ходу взяла город Витебск. Недалеко от города была окружена значительная группировка немецких войск. В течение дня продолжалась ликвидация этой группировки.
Тогда я впервые увидел такие большие массы построенных в колонны пленных, которые направлялись в наш тыл. В одной из колонн, оказалось, шли русские. Я задался вопросом – «Почему эти парни, наши парни вступили в германскую армию и воевали против нас? Чего они отстаивали – фашизм?». Один из них, лет 17-ти, ответил – «Вас мобилизовала ваша власть, а нас мобилизовала власть немецкая. Вот мы и воевали. Да и не хотели мы воевать – сдались в плен».
Мы продолжали свой путь на запад. Вместо лошадей нам дали машину-«полуторку». Пушка за нее цеплялась сразу, без передка. Расчет садился в кузов машины. Все это здорово облегчало нашу солдатскую службу.
К этому времени в расчете нашей пушки уже трижды поменялся состав. Пришли новые люди, в основном узбеки. Новым командиром орудия стал сильный и смелый атлет Калашницын.
Отступая, враг старался не оставить целым ни одного дома. Крыши домов в деревнях Белоруссии были сплошь соломенными. Немцы жгли их факелами и зажигательными пулями, стреляя по крышам из пулеметов. Жутко было смотреть, как горит земля Белоруссии, оставляя смрад и пепелища.
Наше наступление развивалось стремительно. Враг не успевал планомерно отходить. Попадая под огонь, немцы стали часто сдаваться в плен.
От Витебска наше дальнейшее движение проходило по дороге на Полоцк и Глубокое (Витебская обл.). Стали попадаться белорусские деревни, которые враг не успел сжечь. Население встречало нас дружелюбно. Многие белорусы боролись с фашистами не на жизнь, а на смерть. В белорусских лесах было много партизанских отрядов, а лесами покрыта была почти вся эта республика.
Правда были среди белорусов и такие, которые неплохо жили при немецкой власти. Они свободно растили скот, без ограничения возделывали землю. Им не запрещались любые занятия, лишь бы они не мешали немецкой армии.
Летом 1944 года в Белоруссии было мало солнечных дней. Постоянно моросил дождь. Под ногами чавкала грязь. Одежда постоянно была мокрой. Но мы упорно шли вперед, подчас не зная, где враг.
При подходе к г. Вильнюс над нами появился немецкий самолет. Заметил нас, развернулся и бросил бомбу. Но мы уже были опытными солдатами и понимали, что попасть в нас бомбой на бреющем полете очень трудно. Мы даже не приостановили своего движения.
Однажды к вечеру мы остановились. Промокшие до нитки, мы вырыли траншеи. Накрыв ровики плащ-палатками, кое-как спрятались от дождя и провели так ночь. Наутро наш ездовой Иван Маричев (мы снова перешли на конную тягу) недалеко от стоянки лошадей обнаружил ровик, в котором сидел немецкий офицер. В стремительности нашего наступления он видимо растерялся и не ожидал нашего появления. Маричев ударил его прикладом. Немец выложил на бруствер автомат, пистолет, планшет и вылез сам. Рослый рыжий парень из Рура. Мы как смогли немного поговорили с ним и отправили его в полк, где собирали всех пленных.
В то же день выглянуло солнце. Стало жарко, душно. Мы сидели гуртом и оживленно беседовали на разные темы. Настроение у нас было отличное. Война подходила к концу. Внезапно в небе появилось три немецких штурмовика. Они спикировали на нас и сбросили несколько фугасных бомб, которые почти не принесли нам вреда. Убило одну лошадь. Ее тут же заменили.
После полудня вдруг на поле впереди нас появилась большая группа вооруженных немецких солдат. Они пытались вырваться из окружения. Внезапность появления этих немцев сначала шокировала нас, но мы воевали уже давно и быстро сориентировались. Мысли работали четко. Я подбежал к орудию, второпях дергаю ручку затвора – не открывается. Сообразил – затвор стоит в походном положении. Вынул шплинт и открыл затвор. К пушке подбежал Калашницын и стал подавать осколочные снаряды. Их было десять штук. Я быстро подвел угольник прицела в группу бегущих немецких солдат и выстрелил. Один за другим прозвучали девять выстрелов. В гуще врагов – девять взрывов. Более 30 гитлеровцев уничтожено. Десятый снаряд дал осечку. Попав под на наш прицельный и такой результативный артогонь, немцы не выдержали, подняли руки и сдались в плен. Таким образом, наш расчет из 7 человек пленил роту солдат неприятеля.
За активные действия в этом бою я был награжден орденом Славы третьей степени.
Мы двигались быстро, не встречая сколь либо серьезного сопротивления неприятеля. Завершив освобождение Белоруссии, мы перешли границу Литовской ССР. Заняли с ходу столицу – Вильнюс и двинулись на г. Каунас. Перед городом оказались укрепленные позиции. Вечером с позиций немцев в контратаку пошла немецкая пехота. Мы стояли на опушке леса. Вдруг из леса выехала 48-мизарядная «катюша» и открыла огонь по контратакующим. Поле, по которому бежали в нашу сторону немцы, покрылось многочисленными взрывами. Немцы не выдержали и, кто остался живой, быстро откатились в свои траншеи.
Наутро в г. Каунас фашистов не было. Взорвав мост через реку Неман, они ушли. Мы вступили на городские улицы.
Река Неман широкая и глубокая, течение быстрое. Но наши войска довольно быстро построили понтонную переправу и мы к вечеру перебрались через реку.
Дальше наш путь лежал в Восточную Пруссию, до которой было уже недалеко. Немцы предприняли все меры, чтобы остановить нас. На границе Восточной Пруссии враг нанес по нашим войскам ряд таких мощных ударов, что наши части не выдержали и стали в панике отступать. Нам было приказано выставить заграждение, то есть при необходимости стрелять по своим. Эта команда разнеслась по нашим частям и стрелять нам не пришлось – наши солдаты вновь заняли свои позиции. Фашистское наступление захлебнулось.
Через месяц началось новое наше наступление. К его началу на каждом километре фронта на прямую наводку было выставлено большое количество орудий – сначала 45 мм, потом 76 мм и 220 мм, много «катюш». Более 2-х часов все эти орудия вели огонь по врагу. Фашистская артиллерия изредка отвечала. Однако когда в атаку пошла наша пехота, немцы открыли ураганный пулеметный огонь. Пехота залегла. Вновь мы - артиллеристы вступили в дело - открыли огонь по фашистским дотам и огневым точкам. После нового нашего обстрела пехота группами по 4-5 человек пошла вперед и враг отступил. Мы вступили на вражескую территорию – в Восточную Пруссию. К 11 часам вечера мы продвинулись на 15-20 километров. Но враг на своей земле стал сопротивляться более упорно и ожесточенно.
К зиме мы значительно вклинились в оборону фашистов и заняли большую территорию. Зима остановила продвижение наших войск. Мы стали готовиться к новому наступлению.
21 декабря 1944 года наш расчет ночью вышел на передовую для подготовки огневой позиции нашей пушки. Зима была бесснежной. Земля сильно промерзла. Мы ломами начали разбивать мерзлый грунт. Поработали немного. Вдруг немцы открыли пулеметный огонь. Меня сильно ударило по правой ноге, выше колена. Я упал. Мои товарищи подумали, что я убит и залегли. Поняв, что я тяжело ранен, меня вынесли с передовой. Затем на повозке меня привезли в полевой госпиталь. Там мне сделали операцию – изъяли из ноги пулю и наложили повязку с шинами. На следующий день самолетом – «кукурузником» я был переправлен в госпиталь г. Каунас. Здесь мне наложили большой гипс на правую ногу и грудную клетку. Затем нас погрузили в санитарный поезд и привезли в г. Горький. Меня поместили в госпиталь 28б7, расположенный в здании бывшего института недалеко от Горьковского автозавода.
В гипсе я пролежал более месяца – две недели в пути и больше двух недель в госпитале на втором этаже в шестой палате. Рядом со мной лежал солдат без ног. Он до того привык к морфию, что не мог без него пролежать и сутки. Звал сестру, чтобы ему дали порцию морфия. Он получал ее и затихал, спокойно засыпал.
После того как с меня сняли гипс, я стал пробовать вставать с постели. В первые дни мне не удавалось занять вертикальное положение - сильно кружилась голова. Я стал ежедневно тренироваться и спустя время, вставая, имел нормальное самочувствие. Более 6 месяцев я пролежал в госпитале. Из-за больших рубцов нога не сгибалась и я был комиссован (признан негодным к военной службе). Мне дали третью группу инвалидности и я поехал на родину.
Хорошо помню свои ощущения, когда я летом 1945 года я шел пешком по Сергиевке. Приближаясь к родной деревне Винюково, почувствовал, как радостно защемило сердце. Жители деревни встретили меня радостно. Был устроен целый прием. Собрались родные, друзья. Мы долго беседовали о войне, послевоенной жизни и дальнейшей работе.
Мне назначили пенсию. Так как до войны я не работал, пенсия эта – 135 рублей была поистине нищенская, прожить на нее было невозможно. Меня приняли на работу в Сергиевскую 7-летку на должность военрука. Тогда это должность хорошо оплачивалась, гораздо выше, чем должность рядового учителя. Но проработал я недолго. При школе был детский дом. Ребята там были басурманы, трудновоспитуемые. С ними я не ладил и потому решил продолжить образование. Я получил расчет и уехал в Москву к троюродному дяде.
Дядя жил на улице Горького, работал поваром в большом ресторане. В его доме всегда было много еды и денег. Дядя всегда приходил с работы пьяным с сумкой полной съестного. В карманах у него было много денег, которые выгребала жена и складывала в мешок. Его жена держала у себя полоумную сестру, которая постоянно лежала в постели, редко вставала, иногда произносила какие то звуки. Часто, особенно по утрам дядя и его жена ругались и даже дрались.
Я поступил на заочное отделение института советской кооперативной торговли и уехал домой в деревню. Там я был избран счетоводом колхоза. До этого счетоводом работал Харин П.Я. Он очень ревностно пережил снятие с этой работы, но скоро обижаться перестал. Проработал я счетоводом до 1950 года.
В 1948 году я познакомился с агрономом-овощеводом Меляковой Верой. От Елецкой сортсемовощной станции она работала в нашем и других сельских Советах. Вера была трудолюбивой, доброй. В наших краях ее все очень уважали. Я долго дружил с Верой, потом сделал ей предложение. Жила Вера тогда у хромой старушки Комковой Татьяны во 2-м Сергиевском, недалеко от с. Яковлево. В сентябре 1950 года я взял в колхозе хорошую лошадь, запряг ее в телегу, приехал и забрал невесту. Зарегистрировались мы с ней в Сергиевском сельском Совете. Молодую жену я привез домой, в деревню Винюково.
К этому времени я уже работал в Краснинском райкоме КПСС. Женившись, я подыскал в селе Красном квартиру и с того времени постоянно проживал с семьей в этом селе.
Помню, как мы с женой погрузили в полуторку ржавую, разбитую кровать, две подушки, кастрюлю, две тарелки, ложки, чашки и поехали в Красное. Мы не обращали внимания на пересуды и имели твердую уверенность, что добьемся хорошей обеспеченной жизни. В Красном мы за 10 рублей купили на лесоскладе две доски, чтобы положить их на кровать. В колхозном омете взяли соломы и набили ею матрас. Так мы приготовили себе спальное место. Жили мы на краю села у старой бабушки. Платили за квартиру 50 рублей в месяц. В нашей комнатке, размером 3Х4 метра, были обшарпанные стены, неровный пол и одно окошко. В углу стоял покосившийся стол. В таких условиях мы жили и работали.
В те времена государство с верховным правителем Сталиным выжимало из колхозного крестьянства все соки. Как сказал один поэт – платили 3 налога на козу. В мае каждого года правительство принимало решение о проведении так называемого займа, Каждый крестьянин, хотя и получал за свой труд не деньги, а трудодни, должен был подписываться не менее чем на 800 рублей. Кроме того, каждая семья облагалась и денежным налогом в не меньшем размере. Не отменялся и упомянутый мной ранее так называемый налог натурой (40 кг мяса, 75 яиц, 5 кг шерсти, а, если в личном хозяйстве имелась корова, то еще и 220 литров молока). В случае неуплаты применялись жесткие административные рычаги. Брали силой, несмотря на то, что порой семья не имела средств существования и постоянно голодовала. В 1948 годы был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о применении строгих мер к расхитителям колхозно-кооперативной собственности. За любую мелочь стали применяться жестокие уголовные наказания. Набрал в колхозном саду полведра яблок - давали 10 лет. Многих людей тогда осудили таким образом.
Работа в районном комитете КПСС увлекла меня целиком, без остатка. Я готовил выступления перед трудящимися, вопросы по пропаганде на бюро райкома, выезжал на партсобрания в колхозы и совхозы, был представителем райкома КПСС в период ответственных компаний: сев, уход за посевами, уборка урожая. Часто приходилось ночевать на столах в правлениях колхозов. Общественных столовых тогда не было и иногда приходилось работать голодным целые сутки. От этого становился злым, с апломбом говорил о злободневном, критиковал недостатки.
Работа в отделе пропаганды и агитации продолжалась до сентября 1953 года, когда я был принят на учебу в Орловскую 3-х годичную партийную школу.
В 1956 году я успешно закончил учебу в партшколе и продолжил работу в аппарате райкома КПСС инструктором орготдела. Затем стал зональным инструктором. Работал под руководством секретаря РК КПСС Лысых А.С.
Юрий Разумовский
Фронтовик
Канцелярскому
слову «участник»
Возражает
и слух и язык
Это
слово звучит словно «частник»
Мне
милей и родней «фронтовик».
Я
вступил в это братство святое
В
самый трудный для Родины год
И
впервые познал, чего стою
И
узнал себя в слове «народ».
Был
я грязный, голодный, небритый,
От
усталости серый и злой,
Сотни
раз артиллерией битый
Сотни
раз погребенный землей.
Ну
какое тут к черту «участье»
Если
более тысячи дней
Каждый
день рисковал я не частью
А
всей жизнью короткой своей
И
ни сна я не знал, ни покоя,
И
как все мы, тянулся из жил.
Это
просто уж счастье такое,
Что
я голову там не сложил.
Не
скажу, что не кланялся смерти
Это
было не всем по плечу…
Я
ищу не участья, поверьте.
Я
«участником» быть не хочу.
Воспоминания прислал Денис Харин