1939-1941 годы были очень тревожным временем. Всюду много толковали о войне. Пресса и радио много места уделяли гитлеровской Германии, ее агрессивной, захватнической политике. Германия поглощала одну европейскую страну за другой. Ходили разные слухи и толки. Но в одном наш народ, одурманенный сталинской пропагандой, был уверен: если война и будет, то она будет на чужой территории. Наша страна войны не хочет, чужая земля ей не нужна, но и своей ни одного вершка не отдадим. Но это была голая пропаганда, пустые, ничего не значащие слова для одурманивания народа. Но как тогда объяснить зимнюю войну 1939-1940 года с Финляндией? В том году стояла невиданно суровая зима, кое-где даже повымерзли сады. А на севере холода были еще более лютые: столбик термометра опускался до отметки -40 градусов. Финны хорошо подготовились к войне. На Карельском перешейке была создана знаменитая линия обороны, линия Маннергейма. Советские войска не были подготовлены к войне ни в материальном, ни в моральном отношении. Они не ожидали, что маленькая Финляндия окажет такое мужественное сопротивление. Ведь в те годы бытовала еще старая большевистская легенда, что рабочие и крестьяне капиталистических стран не будут воевать против армии первой социалистической страны или, как ее называла пропаганда, родины всех трудящихся мира. Но финские рабочие и крестьяне с треском опровергли эту коммунистическую утопию. Они не только не спешили переходить на сторону Красной Армии, но оказали такое сопротивление, что сорвали все первоначальные замыслы Сталина: включить Финляндию в состав Советского Союза. Красная Армия, плохо подготовленная к боевым действиям в суровых природных условиях севера, несла огромные потери. Десятки тысяч советских бойцов погибли в лесах и болотах Карельского перешейка, многие просто замерзли. В финскую войну погибло пять молодых парней из моего родного местечка Зембина. Наше правительство оправдывало войну тем, что завоеванные территории нужны для обеспечения безопасности Ленинграда. Эта ложь продержалась более 50 лет, и только в период перестройки мы узнали правду и о целях войны, и во сколько человеческих жизней обошлась эта неподготовленная авантюра.
Так в тревоге и заботах жили, работали, готовились к худшему. Но убеждены были, верили, что наше мудрое правительство во главе с великим Сталиным сделает все возможное и невозможное, чтобы не дать Гитлеру вовлечь нас в войну. Нужно сказать, что вся довоенная пропаганда, вплоть до конца августа 1939 года, носила боевой антифашистский характер. Исключалась даже мысль, что с Гитлером и фашистами можно о чем-то договориться. Непрерывно вдалбливали, что коммунизм и фашизм - два антипода, между ними не может быть не только союза, но даже какого-либо временного примирения. Потом добавляются новости: из Германии 23-го августа 1939 года в Москву прилетел министр иностранных дел Риббентроп. Все газеты запестрели сообщениями о цели его приезда: подписание Договора о ненападении. От прессы не отставало радио: круглые сутки вещало о предстоящем подписании договора. Мы с моим мужем Федором Игнатьевичем с 1939 года жили в местечке Обчуга, недалеко от Орши. Федор Игнатьевич был в тамошней средней школе завучем и преподавал историю в старших классах, а я работала учительницей начальных классов. Наш хозяин квартиры ,восьмидесятилетний старик, сапожник по специальности, не отходил от радиоприемника. 24 августа почтальон принес нам газеты. Федор Игнатьевич раскрыл “Правду” и на первой странице увидел такую картину: Кремль, за столом сидят Молотов, напротив Риббентроп и, конечно, Сталин. Довольные, они подписывают Договор о ненападении и дружбе. В знак дружбы подняли бокалы. Федор Игнатьевич подозвал хозяина, прочитал ему текст и показал исторические снимки... И хотя прошло уже больше пятидесяти лет, но до сих пор помню, как хозяин, внимательно всмотревшись в снимок, сказал с уверенностью: “Риббентроп обманывает наших руководителей. Он в душе смеется над ними. Всмотритесь по-внимательнее в его лицо. Не верьте написанному”. Мы страшно испугались. За такие слова можно было оказаться в местах не столь отдаленных, как говорится в таких случаях. Но старик не боялся: он знал порядочность Федора Игнатьевича, знал, что тот не донесет на него. Федор Игнатьевич пытался доказать старику, что тот не прав. Но прав оказался неграмотный, умудренный жизненным опытом старец. А вот педагог Скумс, историк с высшим образованием, искренне верил Сталину и другим вождям того времени. И не удивительно. Нам с самого раннего детства вдалбливали, и, как оказалось, не безуспешно, что наша страна, светоч и надежда всего передового человечества, могучая и непобедимая, наше правительство проводит мудрую и дальновидную политику. Никто не сможет обмануть таких людей. С высоты прожитых лет хочется склонить голову перед мудрым стариком. Думаю, что таких людей было много, но они молчали. После подписания договора о ненападении с Германией на какое-то время стало жить спокойнее. Но 17-го сентября того же года советские войска перешли границу Польши и освободили своих единокровных братьев белорусов и украинцев от ига капитализма. Освободителей встречали с цветами. Так пресса освещала те события. А действительную правду узнали много позже. А пока искренне верили, что осчастливили западных белорусов и украинцев, присоединив их к великому Советскому Союзу. Но ничего или почти ничего не сообщалось в советских средствах массовой информации о положении евреев на территориях, контролируемых нацистами. Ничего не говорилось, что евреев загоняют в гетто, заставляют носить желтые звезды, что над ними издеваются. Знали об этом, но молчали. Ведь фашистская Германия стала нашим союзником. Если пресса и радио молчали, то беспроволочный телеграф работал исправно. Некоторые обреченные бежали из соседней Польши в Советский Союз. Эти немногочисленные беженцы рассказывали о жестоком обращении с евреями, мы их выслушивали с сочувствием, помогали, чем могли. Все эти беззакония и преследования творились где-то далеко, за границей. У нас такого не будет. Но как мы ошибались!
 |
Анна Марковна и Федор Игнатьевич Скумсы 1938 г., Земби |
21-го июня 1941 года десятиклассники, выпускники школы, собрались на выпускной бал. Я отправила мужа в школу, а сама не пошла: у меня было какое-то предчувствие надвигавшейся беды. На рассвете муж вернулся домой, но не успел уснуть, как мы услышали какой-то шум на улице. Распахнула окно и увидела толпу людей: все слушали выступление В.М.Молотова о начале войны.
С началом войны местные власти запретили собираться группами, людям говорили: ”Не поднимайте паники, немцам у нас не бывать”. Запретили уезжать. Ежедневно в газетах сообщалось, что взяли столько-то пленных, много военной техники, врага отогнали от наших границ. Но, как вскоре выяснилось, все оказалось ложью. Ходили слухи, что немцы бомбят Минск и его скоро возьмут. Местные власти собрали мужчин-учителей и распределили, кто когда будет дежурить по ночам и ловить немецких диверсантов (поползли слухи, что немцы сбрасывают десантников, которые убивают коммунистов и ответственных советских работников). На дежурство выходили с пустыми руками. Я даже пошутила, сказав мужу: ”Возьми хоть палку”. Конечно, никто никого не задержал. 3-го июля по радио выступил И.В.Сталин. Он объявил, что Родина в опасности, и каждый советский гражданин должен стать ее защитником. На следующий день учителя получили повестки явиться в военкомат, получил повестку и мой муж, хотя он и не был военнообязанным и в армии никогда не служил (учителей сельских школ в армию не брали). Но на пушечное мясо годились все. Всех подмели подчистую и отправили в действующую армию на фронт. Перед тем как уйти Федор Игнатьевич купил много конвертов и бумаги для писем. Он был уверен, как и многие, что война будет недолгой, что врага скоро изгонят с нашей земли и разгромят на его территории. Ведь нам беспрестанно внушала пропаганда, что, если война и будет, то она будет быстротечной и без больших жертв. Без конца повторяли: “Мы войны не хотим, но себя защитим малой кровью, могучим ударом”. И большинство людей, особенно молодых, выросших после революции, верили этим заклинаниям. Уходя, муж говорил, что через несколько дней он будет пить чай в Берлине, а мне оттуда ежедневно писать письма. Настоящей правды, истинного положения не знал никто. Никто не мог и предположить, сколько жертв будет стоить война. За прошедшее пятидесятилетие трижды менялись официальные цифры потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны: вначале говорили о десяти миллионах, затем о двадцати, а ныне - уже о двадцати семи миллионах, сколько на самом деле - одному богу известно. Потери не обошли ни одну семью. Не знал Федор Игнатьевич, что прощается навсегда и что его сын никогда не увидит отца. Долгих четыре года не знала я о судьбе мужа. Все эти кошмарные годы жила надеждой, что он вернется.
 |
А. М. (слева) с подругой. Январь 1941 г., Москва |
А спустя несколько дней ворвались в местечко на мотоциклах “завоеватели”. И тогда открылось истинное лицо каждого. Откуда-то вынырнули два преподавателя нашей школы: физик Микитинский и историк Ковалев. То ли им не вручили повесток, то ли они умышленно не явились в военкомат. Правдоподобнее последнее. Они с радостью встретили немцев и пошли к ним на службу. Появились какие-то темные личности, которые стали помогать немцам устанавливать “новый” порядок. Сразу же взялись за евреев. На каждом заборе были расклеены приказы: “С жидами не разговаривать, не здороваться, не пускать их в свой дом, не пускать в баню, ничего им не продавать. Иначе расстрел”. Немало повылазило подонков, которые захотели обогатиться за счет чужого добра, за счет чужой крови. Здесь проявилась истинная натура человека, всплыли глубинные, часто скрываемые, черты характера, его подлинный облик. Прошли тяжелейшие испытания дружественные и родственные отношения. Нередки были случаи, когда мужья выдавали жен, а жены мужей. Приведу несколько случаев. В Обчуге со мной работала учительницей младших классов Анна Васильевна (не хочу называть ее фамилию). Муж ее был еврей, портной по профессии. У них было двое детей. В начале войны Анна Васильевна со своей семьей уехала в свою родную деревню. Муж прятался в тайнике. Ей надоело с ним возиться и, чтобы обеспечить себе спокойную жизнь, она привела полицаев и указала убежище мужа. Его схватили и на глазах всей деревни повесили. В той же Обчуге жила семья Бакановских. Глава семьи - белорус, по профессии фельдшер. Незадолго до войны он умер. Осталась его жена Ольга Яковлевна, еврейка. Она работала акушеркой, и через ее руки прошли все новорожденные Обчуги. Еще до революции она приняла православие. У нее было трое детей. Старшая дочь Люба преподавала в школе немецкий язык, два сына, Адам и Виталий, школьники. Ничего еврейского у них не было. Но не тут-то было. Близкие родственники мужа настояли, что они евреи и подлежат уничтожению. И их убили, а дом и имущество забрали родственники. Конечно, основная масса людей сочувствовала евреям, хотя и не могла оказать им практической помощи. Ведь даже мимолетное общение с этой “низшей расой” грозило смертью, а на героизм, как известно, способен далеко не каждый. Но случаи смелости в сочетании с истинным благородством все же проявлялись повсеместно. Причем часто это были чужие и даже незнакомые люди. Я приведу пример предательства и жестокости родственников и благородства чужого человека. В Холопеничах Минской области работали учителями Самцевич Петр Иванович и его жена Берта Самуиловна, еврейка по национальности. У них было трое детей. В начале войны Петр Иванович ушел на фронт. Берта Самуиловна отвезла детей в деревню к сестре мужа, а та детей выдала, и их фашисты расстреляли. Саму Берту Самуиловну спас православный священник отец Василий Вержболович. И таких примеров было много.
 |
А.М. среди участников художественной самодеятельности студентов Борисовского педагогического училища (справа сидит), май 1931 г. |
Теперь прерву последовательность моего рассказа и вернусь к моей малой родине Зембину. В 1922 г. в Зембин приехал новый заведующий школы со своей семьей, Харитонович Василий Филиппович. Его семья: жена Доминика Филипповна и малолетний сын. При школе для заведующего имелась квартира. Там они и поселились. Василию Филипповичу было тогда лет 30-35. Он был красив, с густыми волосами каштанового цвета, откинутыми назад с высокого лба, прямой нос, умные темно-серые глаза; высокий, стройный, с военной выправкой, элегантно одетый, носил всегда блестящие, красивые сапоги. Жена его Доминика Филипповна - женщина интеллигентного вида, голова вся седая, поэтому она всегда носила беленький батистовый платок, прикрывая седые волосы. Она была уже не первой молодости. На лице всегда доброжелательная приятная улыбка. Но никто не знал, не мог догадаться, что за этой милой улыбкой скрывается змеиная злоба. Но это потом, через много лет выяснится. А тогда это само воплощение доброты, вежливости, внимания к окружающим людям. Никто не знал, откуда они приехали, да никому это знать не надо было, никто этим не интересовался. Василий Филиппович преподавал математику, его жена - русский язык и литературу. Василий Филиппович оказался прекрасным учителем: объяснял понятно, доступно каждому ученику. К ученикам относился с уважением. Он был требователен, но справедлив. Ученики его полюбили. За глаза его называли отцом. Он для многих был идеалом человека и учителя. С него во всем старались брать пример. Такого уважения и любви заслуживает далеко не всякий учитель. Математика стала для нас любимым предметом. На уроках мы ловили каждое его слово. По математике мы получили прочные знания. Прошло более семидесяти лет, а я помню алгебраические формулы, помню геометрию, помню доказательства многих теорем. В конце 20-х годов семилетняя школа не могла вместить всех желающих учиться, а желающих было много: хлынул поток детей из деревень. И за короткое время на территории семилетней школы построили трехэтажное здание. Вместо семилетки открылась средняя школа. Василий Филиппович стал директором этой школы. Учителя бывшей еврейской школы влились в коллектив средней школы. Директор сумел сколотить дружный, сплоченный коллектив. Он с уважением и вниманием относился к каждому учителю, заботился о каждом. И учителя уважали и любили своего директора, восхищались им. Но кого не любили ни учителя, ни ученики, так это его сына Толика. Он был плохо воспитан, необуздан, драчлив. Он мог оскорбить старшего, обругать учителя. У Харитоновичей всегда была домработница. Домработницы менялись часто из-за Толика. Они рассказывали, что Толик оскорбляет их, а иногда пускает в ход и кулаки. Говорили, что растет бандит. И не ошиблись. Но это потом, а пока ему все прощали, учитывая, что он один ребенок у немолодых уже родителей. Кроме своей основной работы Харитонович имел много общественных нагрузок. Он стал первым активистом в местечке. Он входил в состав местечкового и сельского советов, являлся членом правления местного колхоза. Ни одно собрание, ни одно заседание не обходилось без него. На всех торжествах он делал доклады, выступал с речами. Он обладал ораторскими способностями, умением увлечь, заинтересовать людей. Когда в объявлении было написано, что с докладом или лекцией будет выступать Харитонович, то клуб был переполнен. Приходили даже старики. Харитонович знал в местечке всех жителей поименно, и все его знали и уважали. Но никто не знал, никто не мог догадаться, никто в мыслях не мог допустить, что это маска, а он умело, как заправский актер, играл роль активиста, сторонника и пропагандиста советской власти. Он с нетерпением и надеждой ждал своего часа. И дождался. Но чтобы дождаться времени, когда можно будет скинуть ненавистную маску, пришлось играть роль доброжелательного человека, интернационалиста и гуманиста. Правда, как-то шепотом, по секрету, передавали друг другу, что Василий Филиппович бывший белогвардеец. Ну и что! Белогвардейцы тоже были разные. Немало было среди них порядочных, культурных людей. Так думали одни. Другие вообще не придавали значения такого рода сплетням. Мало кто что говорит, мало ли что кому в голову взбредет. Годы шли. Авторитет Харитоновича растет. Ему уже за пятьдесят. Не раз ему предлагали вступить в Коммунистическую партию, а он все откладывал, я думаю не без причины. Он, вероятно, боялся, чтобы при проверке его прошлого не всплыли какие-то нежелательные факты. Возможно, он вообще носил не свою фамилию. Но вот, наконец, он решился стать членом партии. Недостатка в рекомендациях для самого авторитетного человека в местечке не было. Его без возражений приняли. И авторитет Василия Филипповича поднялся еще на одну ступеньку.
И вот началась война.
В начале июля 1941 года Зембин оказался под властью гитлеровцев. Вот тут-то и наступил звёздный час для всеми уважаемого директора школы Харитоновича Василия Филипповича, для его жены Доминики Филипповны и их сына Анатолия. Харитонович сразу же сбросил маску, стал тем, кем был на самом деле. Двадцать лет он ждал этого момента и дождался. У Доминики Филипповны исчезла с лица интеллигентная добрая улыбка. А о сыне, студенте педагогического института, и говорить нечего. Пришло их время. С первого же дня оккупации семья Харитоновичей стала верой и правдой служить “новому порядку”. Они служили преданно, проявляя жестокость к евреям. Особой жестокостью, граничащей с садизмом, отличался молодой Харитонович. Его руки обагрены кровью невинных людей. За свою “ответственную работу” он получал от хозяев награды: железные кресты и имущество уничтоженных им жертв. Проявившего себя в кровавых расправах Анатолия перевели сначала в Борисов, а потом и в Минск. Гитлеровцы были довольны усердием своего холуя. Родители радовались, глядя на успехи своего отпрыска. Под стать своему директору был и преподаватель немецкого языка русский немец Давид Эгоф. Особой жестокостью прославился и бывший председатель зембинского сельпо Филипп Кабаков. В 1942 году Кабакова настигло заслуженное возмездие: его убили партизаны. Как тараканы, из щелей выползла разная нечисть, желающая служить новым хозяевам. Им нравилось безнаказанно убивать и грабить. Таких подонков немцы охотно брали к себе на службу. В услужение оккупантам пошли полуграмотные, ленивые, тупые, завистливые и жестокие жители Зембина, как Гнот, его сын, Голуб и некоторые другие.
 |
Федор Игнатьевич Скумс (муж А.М.), 1935 г. |
С первых же дней оккупации начались гонения против еврейского населения. Всем евреям было предписано носить на груди и спине желтые звёзды Давида. Общение с остальными зембинцами запрещалось. Улица, прилегающая к еврейскому кладбищу, была превращена в гетто, куда все евреи были насильственно переселены. В этом зловещем лагере евреи голодали, терпели унижения, издевательства. В гетто томились ученики, коллеги Харитоновича. Многие пытались связаться с ним, просить помощи для своих детей. Но, увы! Он никого знать не хотел. Жалости к безвинным жертвам у него не было. Я до сих пор удивляюсь, не могу понять, как можно было более двадцати лет притворяться, суметь завоевать такой авторитет, уважение. Теперь высмеивают, считают массовой шизофренией существующую в предвоенные годы шпиономанию, но если глубже вдуматься, то, по-видимому, всё же не было дыма без огня. Было достаточно и шпионов, разного рода резидентов враждебных разведок. Другое дело, что подозрительность дошла до абсурда, до патологической шпиономании. Возможно, одним из резидентов германской разведки и был Харитонович. Но, скорее всего, он был одним из тех представителей господствующей до революции верхушки, которых советская власть лишила имущества и привилегий, и он затаил на эту власть звериную злобу. Просуществовало зембинское гетто всего один месяц. В середине августа в Загорном, в лесу 18 евреев в течение нескольких дней копали огромную яму, которая якобы потребовалась для свалки оставшейся на полях военной техники. Яму вырыли, однако сделанные земляные ступеньки не могли не вызвать тревожных подозрений. Всё прояснилось в понедельник 18 августа 1941 года, когда полицаи Гнот и Голуб обошли гетто и объявили распоряжение немецкого командования: всем без исключения евреям собраться возле базара для проверки документов. И когда все собрались, стало ясно, что назад возврата не будет. Вооруженные палачи оттеснили толпу поближе к яме и поставили на колени. Потом разрешили людям сесть на землю, но только для того, чтобы “отдохнуть” в ожидании своей очереди. Первыми увели в лесок, где находилась яма, около 20 наиболее сильных на вид мужчин, и вскоре оттуда донеслись приглушенные выстрелы, что привело сидящих на земле людей в умопомрачающее состояние. Но слёзы и душераздирающий крик вызвали у фашистов лишь яростное рукоприкладство. Обреченных группами по 15-20 человек пинками и ударами гнали навстречу смерти. Раненых добивали прикладами, штыками, палками. К трем часам дня всё было кончено. Яму, где лежали в крови более 900 человек, засыпали. Эта жуткая акция была осуществлена под руководством начальника борисовской службы безопасности (СД) гауптштурмфюрера Шенемана, коменданта Борисова Шерера, коменданта Зембина Илека, а также переводчика Люцке. Им активно помогали фашистские прихвостни В.Ф.Харитонович, Д.Эгоф, Ф.Кабаков и другие. В сельской местности Борисовского района могила зембинских евреев является самым массовым захоронением жертв войны. После войны могилу родственники погибших оградили и установили памятную доску.
Как мог после такого преступления Василий Филиппович спокойно жить, есть, спать? Неужели по ночам не раздавались в ушах вопли обреченных? Неужели не мучили его кошмары содеянного? Неужели не преследовали его тени безвинно замученных стариков, женщин, детей? Неужели никогда не пробудилась у него совесть? Нет. Совесть его не мучила, кошмары не преследовали. Он был глух и слеп к людским страданиям. Одно мне непонятно, на что Харитонович рассчитывал. Он же был умным, образованным человеком. Неужели он верил в победу Германии. Наверное, верил. Или, может быть, ненависть к советской власти затемнила его разум. В одном я убеждена, что спокойной жизни у него не было. Он, наверное, дрожал при каждом ночном шорохе: боялся народных мстителей - партизан. Партизаны не давали покоя гитлеровцам и их прислужникам. Партизаны разгромили комендатуру. Немало предателей пало от партизанских пуль. На протяжении десятилетий я мысленно искала в жизни Харитоновича хоть малейшее оправдание его поступков, но не находила. Мог бы уйти к партизанам? Мог, но не ушел. Мог ли кого-либо из своих коллег спасти? Мог, но не спас. 1944 год. Фашистов гонят с территории Белоруссии. Освобожден Зембин. Вместе со своими хозяевами бежал с семьёй Харитонович, Эгоф и другие прислужники гитлеровцев. С тех пор следы Харитоновича исчезли навсегда. Сразу же после освобождения населенных пунктов партизаны и регулярные части Советской Армии без суда расправлялись с наиболее жестокими пособниками гитлеровцев. Их можно понять и оправдать. Они возвратились в родные места, но не нашли ни своих близких, ни своих очагов. Но потом был издан приказ судить полицаев и других изменников по закону. С моей точки зрения их судили не строго. Зембинские полицаи Гнот-старший, Гнот-младший, Голуб, Ярошевич, Килбасевич и другие получили по 10 лет. Их семьи не трогали, награбленное имущество не конфисковывали. Полицаи и в лагерях, и в ссылке неплохо устраивались. Некоторые из них зверствовали и в сталинских лагерях, становились там добровольными охранниками, занимали теплые местечки. Они издевались над безвинными жертвами сталинского произвола. Несколько таких случаев описал А.И.Солженицын в своей книге “Архипелаг Гулаг”. После отбытия срока они неплохо устраивались, забирали к себе свои семьи. Через некоторое время после отбытия своего срока приезжали к своим родственникам в гости, как ни в чем не бывало. Например, бывший полицай Килбасевич, по локти обагренный кровью невинных жертв, приезжал в Борисов к родственникам, полицаи Гнот отец и сын обосновались в Борисове. Они получили хорошие квартиры, работу и жили совсем неплохо. И когда я однажды лицо в лицо столкнулась в Борисове с Гнотом-старшим, мне стало страшно. Сколько на его совести невинной крови! Он посмотрел на меня с такой ненавистью, как будто готов был со мной расправиться.
Некоторые полицаи вовсе избежали всякого наказания. Они просто удрали с тех мест, где жестоко расправлялись с мирным населением и часто жили по чужим документам. Например, начальник Кащинской полиции Бутько. Он прославился своей жестокостью. Когда почувствовал, что близится час расплаты, он со всей семьёй исчез ночью. Когда за ним пришли партизаны, хата была пуста. Многие из них дожили или доживают свой век, не понеся никакого наказания за совершенные злодеяния. Если к предателям правительство отнеслось гуманно, то к сельским труженикам относились жестоко, несправедливо. Первые послевоенные годы были тяжёлыми, голодными. За малейшую провинность сурово и несправедливо наказывали. Приведу такой факт: в деревне Колочинцы Холопеничского района жила семья Худоешко. Кормилец погиб на фронте. Осталась вдова с малолетними детьми. Они голодали. Однажды старший сын этой несчастной женщины ночью на колхозном поле срезал немного колосьев ржи. Его поймали. Судили. Парнишку присудили к 10 годам лагерей. Отсидел от звонка до звонка. Вот какие были контрасты.
После войны прошло много лет. Всё это время меня преследовала мысль о том, чтобы поехать в Зембин и посетить место трагической гибели моих друзей, коллег, родственников, соседей, да и просто знакомых. Ведь я одна из немногих зембинских старожилов-евреев, которым суждено пережить войну. Но заботы трудных послевоенных лет, когда приходилось буквально бороться за существование, за выживание себя и своего несовершеннолетнего сына, захлестнули мою жизнь. И как только в конце 50-х годов немного устроилась моя жизнь, я поехала в Зембин. Пассажирский автобус остановился на бывшей базарной площади. Несмотря на то, что уже прошло почти полтора десятилетия после войны, всюду были видны следы разрушений. Но я не стала рассматривать Зембин. А пошла по пути, по которому гитлеровцы и полицаи гнали свои жертвы в последний путь в никуда. Прошла в Загорное, в лес. Это окраина Зембина. Я сразу увидела то страшное место. В сосновом лесу было длинное широкое углубление, на месте страшной ямы, последнего пристанища большинства зембинцев. Яма была обнесена низкой каменной оградой. Яма за прошедшие годы заросла травой. На земле, пропитанной кровью, выросли молоденькие сосенки. Стоял знойный июльский день. Небо было чистое-чистое, на нём ни облачка. Не было ни ветерка. Стройные высокие сосны обступили яму, как бы охраняя покой жертв нацистского преступления. В природе всё ликовало. Воздух чист. Лес жил своей жизнью. Раздавалось птичье щебетание, стрекотание кузнечиков, жужжание пчёл. Жизнь в лесу была прекрасна, если немного отвлечься от той трагедии, что произошла здесь в 1941 году. Но я вновь вернулась к реальности - к страшной яме. Села на пенёк и мысленно вернулась к далёкому 1941-му. Перед моим мысленным взором встали образы погибших. Я полностью отключилась от окружающей обстановки и как бы мысленно беседовала с ними. Я должна поименно назвать своих друзей, знакомых, запомнившихся и сохранившихся в моей памяти. Многие мои друзья жили в разных городах необъятного Советского Союза. В Зембине жили их старые родители. Но они не забывали свою маленькую родину и каждое лето во время отпусков приезжали в Зембин. Не был исключением и 1941 год. Не знали они, что едут навстречу своей смерти. Вот некоторые имена. Славина Бася со своим маленьким сыном приехала из Борисова. Райнес Мера с тремя детьми - из Москвы. Горшман Маня со своей дочерью приехала из Ленинграда к своей одинокой старой матери. Полякова Мера приехала тоже из Ленинграда, она болела туберкулёзом и каждое лето приезжала в Зембин поправлять здоровье. Элькинд Зина со своим маленьким сыном приехала из Борисова. Перед моим взором встала голубоглазая красавица-блондинка Аксель Соня, которая только в апреле вышла замуж. Жила вместе со своими родителями, работала учительницей младших классов зембинской средней школы. Белкина Маня приехала к родителям из Плещениц. Поднос Лиза со своим маленьким сыном жила у родителей, а муж был в армии. Тайц Юдифь - моя близкая, дорогая подруга. У нас были параллельные классы, мы вместе писали планы, готовились к урокам и всегда вместе придумывали что-либо интересное для учеников. Дорогая Юдифь! Какая она была талантливая! Обладала прекрасным голосом, плясала, была участницей всех спектаклей самодеятельного театра. Жила она со старой больной матерью, муж был в армии. Хейфец Соня - муж её тоже был в армии. У неё было двое маленьких детей. В последний путь Соня шла, держа одного ребёнка за руку, а другого несла на руках. Её старые родители шли, поддерживая друг друга. Не могу не вспомнить и такую жуткую картину: на Гатской улице жили старики Элькинды. Старуха была полупарализована и совершенно слепа. Их дети и внуки жили в Москве. Когда полицаи стали выгонять их из дома, старик стал просить, чтобы его и жену пристрелили дома, потому что жена ходить не может. Но этот довод не помог. И несчастный старик взвалил на спину жену и понёс её, подгоняемый штыками и прикладами. А путь на Голгофу был не близкий. Он падал, жена сползала на землю, но жалости не было никакой. Фашисты превратили эту жуткую картину в развлечение. Они гоготали, когда старик падал, а вместе с ним, как мешок, падала его жена, потерявшая рассудок. Другая картина - не менее страшная. На Борисовской улице жила восьмидесятилетняя больная старуха Фридман Фая. Её дочки жили в Борисове. У Фаи были больные ноги, и она самостоятельно двигаться не могла. Её почти волоком тянул родственник, молодой парень. Он вышел из окружения, вернулся домой. Родных он не застал: они все успели эвакуироваться. Он же разделил участь своей тёти Фаи. Почему никто из местных жителей не запечатлел на бумаге эти страшные картины? Почему никто не сфотографировал кровавые деяния этих людоедов? Все безучастно смотрели, как двуногие звери уничтожают безвинных людей. Никому до несчастных не было дела. Почему весь мир молчал, когда начались преследования евреев? Почему ни одна страна не выразила протеста против геноцида целого народа? А что в нашей стране? Как в советской прессе освещалась гибель евреев? Да никак. Об этом как-то не принято было писать. И не удивительно, что те счастливцы, которые были в эвакуации или в армии, ничего или почти ничего не знали о судьбе своих близких. А если что и узнавали, то из слухов и других неофициальных источников.
В подпольной партизанской газете “Народные мстители”, которая выходила в Холопеничском районе, никогда ничего не писали о поголовном истреблении евреев. Я пишу это не с чьих-то слов. Я сама читала эту газету. В этой газете освещалась героическая борьба партизан с фашистскими оккупантами. Рассказывалось в ней о зверствах фашистов, о расправах над мирным населением, об издевательствах над военнопленными. Это всё правильно. Но забыть об уничтожении целого народа - это кощунство. Меня учили, да и всех нас учили, а потом и я учила своих учащихся о том, что наша необъятная страна сцементирована дружбой народов: “А дружба народов нам силу дала”, - говорилось в популярной песне. Цемент - материал крепкий. Но, как выяснилось, дружба народов была скреплена песком. А песок, когда высыхает, рассыпается.
После войны в городах на поставленных жертвам войны памятниках не писали слово “еврей”, а писали о погибших советских гражданах. А это понятие растяжимое.
Долго я сидела у страшной ямы. Мысленно разговаривала со своими друзьями, близкими. Дала себе клятву, что напишу о них в моих незатейливых записках в меру возможности. Дорогие мои! Я уже стара. А вы остались в моей памяти такими, какими были более полстолетия тому назад. Мне мама с детства внушала: “Бог справедлив, всемогущ, он всё видит, всё слышит”. Почему же он так равнодушно созерцал, как двуногие звери расправляются с невиданной жестокостью с невинными людьми, почему он это допустил? За какие грехи он их наказал? И какие грехи могут быть у безвинных младенцев? Ответа нет, и никогда не будет.
Никто даже приблизительно не может сказать, сколько жертв покоится в этой яме. Никто не может назвать их пофамильно. Никаких архивов фашисты не оставили, да и, скорее всего, у них не было точного списка жертв. Сразу же после освобождения местные власти могли, конечно, по свежим ещё следам составить список погибших. Ещё были живы свидетели трагедии. Но никого это не волновало. Не принято было об этом говорить, вспоминать. Об этом заговорили открыто только в конце восьмидесятых годов. Время упущено, и в памяти очевидцев остались лишь немногие имена.
Очнулась я от оцепенения, когда услышала звук приближающихся шагов. Это была моя зембинская знакомая Соня Гордон, приехавшая из Луганска. Поговорили, вспомнили былое, общих знакомых. День близился к вечеру. Я еле встала. Усталая, обессиленная от воспоминаний, обрушившихся на меня, я поплелась от этого страшного места. Решила пойти на старое еврейское кладбище и поклониться могиле отца. Пришла. Но что это? Не могу найти кладбища. Куда же оно исчезло? Может, я забыла, где оно? Нет, не забыла. Кладбище находилось на окраине Гатской улицы и занимало огромную площадь. Даже днем, в солнечную погоду, на кладбище было сумрачно. Кроны столетних деревьев закрывали доступ солнечным лучам. Много здесь росло кустарника. Но ничего этого не осталось. Сколько надо трудиться, чтобы вырубить все деревья, кустарники, выкорчевать все пни. Памятники все вывезены. Всё распахали, сравняли, засеяли травой. Вся эта огромная площадь заросла зелёной сочной травой. Даже мёртвых не оставили в покое. Старались искоренить всякую память о прошлом Зембина. Но что это? Посреди поля стоял, как страж, как напоминание, чей-то огромный чёрный гранитный памятник. На нём даже сохранилась написанная золотыми буквами эпитафия. Почему этот памятник остался? Может быть, не смогли выдернуть и увезти. То ли его специально оставили, чтобы показать, во что превратили кладбище. Пусть всё останется на совести тех, кто это сделал.
Рассказав о судьбе моих земляков, я не могу не остановиться на одном эпизоде, имевшем место в эти трагические дни. В Зембине жила одна замечательная белорусская семья - Ходасевичей. Одна из их дочерей - Надя Ходасеивч-Леже стала известной французской художницей. Ее два брата были женаты на еврейских девушках. Одна из невесток Хася жила со свекровью в Зембине после того как ее мужа в 1938 г. репрессировали. Когда евреев погнали на расстрел, в эту страшную мясорубку попала и Хася со своими детьми. На глазах детей была убита их мать. Когда дети уже были в яме, прибежала их тетка Евгения Петровна и в последнюю минуту выхватила детей и привела их домой. Гриша, пятилетний мальчик, от страха потерял рассудок и вскоре умер. С большим трудом удалось спасти дочь Рему. В период перестройки она уехала в Израиль.
С бывшего еврейского кладбища я отправилась на православное, чтобы поклониться праху моих дорогих друзей Юстыны и её дочери Анти Гиро. Могилки я отыскала быстро. Они находились рядом. На каждой был крест, и химическим карандашом было написано: “Здесь спят вечным сном мать и дочь”. По бокам могилок росли стройные берёзки. Они как стражи оберегали их вечный покой. Постояла, мысленно поговорила с ними и навеки простилась. Спите спокойно. До конца своих дней буду помнить вас.
Покинув это место, пошла на Заречную улицу. Всюду царило запустение, везде было уныло, ничто не напоминало былого Зембина. Мельницы не было, исчезла река. На том месте, где протекала когда-то река, осталось длинное углубление, заросшее крапивой, бурьяном. Пошла к моей бывшей школе. Школы не было. Разрушена. Всюду валялись осколки стекла и куски кирпича. Сад и парк, прилегающие к школе, уничтожены. Все деревья и кустарники вырублены. Торчали только пни, почерневшие от времени. Я прошла все заветные, памятные уголки, где прошли мои детство и юность. Но к прошлому нет возврата. Ничто больше не напоминает шумное местечко, где так бурлила и клокотала жизнь. Это уже не местечко - захолустная, грязная, запущенная деревня. Ни один еврей там уже не живёт. Старожилов в Зембине почти не осталось. Там за эти годы сменилось уже два поколения. Ещё раз подошла к месту, где когда-то стоял дом моего детства. Мысленно распрощалась с Зембином навсегда. Дала себе клятву написать обо всём, что сохранила моя память. Опять работа, опять захлестнули меня житейские заботы, повседневная текучка. Никак не могла собраться и написать задуманное. А жизнь прошла, пробежала, вытекла, как вода между пальцами. И только теперь, на исходе, смогла я выполнить своё обещание. Конечно, многое стёрлось из моей памяти. Слишком поздно принялась за работу. Как получилось - судить не мне, как могла, так и написала.
Я оказалась одна среди чужих людей, ждала ребенка. Через несколько дней после установления “новой власти” в Обчуге к дому, где я жила на квартире, подъехала машина, и в комнату ворвались немцы в сопровождении полицаев и забрали у меня большинство вещей, нажитых нелегким и честным трудом. Жила я на квартире у стариков-евреев. Немец тыкал штыком в мой живот и громко гоготал, а полицаи говорили: “Все, ваше царство кончилось”. Мои хозяева-старики забились в угол и дрожали от страха. Немцы тягали старика за волосы и кричали: ”Юде, капут!” Когда они, наконец, ушли, я подошла к окну и замерла от ужаса: прямо напротив дома, лицом к стене соседнего дома, стояли три старика-еврея, а в них целились немцы. Раздался залп, и безвинные жертвы упали замертво. Для меня начались тяжелые дни одиночества и голода, ведь у местных жителей были какие-нибудь запасы, а у меня - ничего. Единственный продовольственный магазин в местечке был разграблен: мешками выносили оттуда муку, сахар, соль и другие продукты. Евреев к нему и близко не подпускали. Что делать? Под сердцем у меня теплилась новая жизнь, а знакомые боялись общения с еврейкой. Я приняла решение - идти в Борисов, где жили мои близкие: мама, сестры и брат со своими семьями. Это было в августе 1941 года. Вместе с дочерью моего хозяина и ее десятилетним сыном, жителями Борисова, тронулись в путь. Дочь моих хозяев бежала с сыном из города во время бомбежки в местечко к родителям в надежде, что немцев отгонят и все вернутся к своим очагам. Но, убедившись, что и здесь нет спасения, возвращалась домой в Борисов. Стоял жаркий солнечный день. Целый день мы шли измученные жарой и жаждой. А что творилось на дороге! Бесконечным потоком шли в разные стороны люди: с детьми, без детей, мужчины, женщины, старые и молодые. Если бы у них спросили, куда идут, никто не смог бы толком ответить. На шоссейной дороге гремело, шумело, свистело, стучало. Это спешили, мчались на восток здоровенные немецкие солдаты и офицеры на мотоциклах, танках, новеньких грузовиках. Казалось, конца этому не будет! По обочинам дороги измученные люди под палящими лучами солнца копали траншеи. Их подгоняли немцы. Пешеходов не трогали. Но время от времени вызвавших подозрение останавливали, а некоторых для развлечения расстреливали. На подходе к Борисову нас остановили немцы. Посмотрели на нас, схватили мою спутницу, крикнули: “Юде, капут!” - и тут же застрелили ее и ее маленького сына. Я затряслась от страха. Знаю, что следующая пуля моя. Стою спиной к немцу, чтобы не видеть ничего. Вдруг слышу: “Рус, рус!” Я стою как вкопанная. Не двигаюсь с места, ничего не понимая. А немец настойчиво зовет меня, машет рукой. Я подошла, а он показывает на убитую женщину и говорит: “Юде капут, рус гут”. Я молчала, язык во рту не ворочался, губы потрескались от жажды. Немец достал флягу с водой, налил в кружку, дал мне выпить. Я залпом выпила воду, а потом он дал мне краюху хлеба, указал дорогу. Потрясенная всем пережитым, я ушла. Повезло - не убили. К вечеру пришла в Борисов. Все сестры с мужьями и детьми были в мамином домике. Их дома сгорели во время бомбежки. Дети плакали и просили есть, но еды в доме не было. Евреи уже носили желтые латы, их готовили к отправке в гетто. Все понимали, что их ждет. С риском для жизни выходили, брали вещи и меняли у соседей на хлеб и картошку. В тот день, когда я пришла, одна из сестер с ребенком на руках, договорившись с соседкой, что принесет ей обручальное кольцо, а та даст ей буханку хлеба и немного картошки, вышла из дома, забыв нацепить желтую лату. До калитки оставалось несколько шагов, когда прогремел выстрел. Полицай застрелил сестру и ребенка, она упала, картошка рассыпалась, а хлеб остался в руках ребенка. До конца своих дней не забуду эту жуткую картину. Поздно ночью, крадучись, мы перенесли трупы в дом. Обмыли, переодели и закопали на огороде. После войны хотела перезахоронить сестру на кладбище. Перекопала весь огород, но ничего не нашла. Кому-то, видно, мешали останки. У мамы уже и слез не хватало, чтобы выплакать свое горе. Немного придя в себя, она обратилась ко мне: ”Зачем ты пришла?” Я ответила: “Хочу погибнуть со всеми своими”. Мама стала умолять, чтобы я ушла. Она говорила: “Здесь ты погибнешь, если уйдешь - можешь спастись, ты должна остаться жить”. Сразу я не поняла, почему она так настойчиво требует моего ухода. А потом догадалась. У нее теплилась надежда, что меня спасут родители мужа. Вслух об этом не сказала. Но я то знала, что это невозможно. Как я ошибалась! Как была права мама! Материнское сердце ее не обмануло. Уступив настойчивым просьбам мамы, я согласилась уйти. Распрощалась со всеми навсегда и ушла. Вышла из города, остановилась в нерешительности и думаю, куда идти. Решила вернуться в Обчугу, откуда уходила два дня назад, как мне казалось, навсегда. Значит, судьба. Так надо. Вернувшись, пришла в дом, где снимали с мужем квартиру. Старики-хозяева сидели, убитые горем. Они мне рассказали, что сын, который был в армии, вышел из окружения и ночью пришел домой. Кто-то выследил его и донес. Пришли, забрали и расстреляли. О том, что случилось с дочерью и внуком, я не рассказала, не смогла. Уже и в местечке приказано было нашить на одежду желтые латы. Из лоскута, который мне дала хозяйка, я сшила себе эти позорные знаки. Стали всех евреев выгонять на работу, не считаясь ни с возрастом, ни с состоянием здоровья. Работала со всеми и я. Копали какие-то окопы, рыли канавы. Работали до полного изнеможения. Слабых, неповоротливых подгоняли ударами нагаек, били по чем попало. В моем положении этот труд был непосилен. Согнусь, а разогнуться не могу. Мне помогали вставать, выполнять работу. Приходила домой голодная, измученная. Однажды, когда мы работали, полицай крикнул: “Эй, пошевеливайтесь, идет начальник!” Еще быстрей замелькали лопаты в руках измученных людей. Я взглянула на начальника и обомлела, опустив голову. Этим начальником оказался мой бывший коллега Ковалев. И он меня узнал, отвел взгляд. Вероятно, в душе у него что-то дрогнуло. Нас всех отпустили домой раньше обычного. Дома сразу же легла, хозяевам ничего не сказала. Ночью, когда все затихло, ко мне постучали. Открыла дверь и охнула: пришла жена Ковалева - Волковец, по поручению мужа. Принесла немного хлеба, кусок сливочного масла. Безусловно, это был смелый поступок. Она попросила у меня книги (их у нас было много). Я дала ей столько, сколько она могла унести, ведь мне, казалось, они уже были не нужны. На работу меня больше не выгоняли. Еще раз приходила ко мне Волковец с продуктами. Видно, совесть мучила Ковалева (уже после войны я узнала, что он ушел в партизаны и в одном бою с немцами погиб). Иначе сложилась судьба Микитинского. Он верой и правдой служил фашистам, поднимался по служебной лестнице выше и выше, получал в награду железные кресты. Потом забрали его в Минск, и он с семьей уехал. Следы его затерялись.
 |
Cвекровь Софья (Зося) Кузминична |
Конец лета 1941-го года. Жизнь ужасная. Есть нечего, надежды никакой. У меня наступила какая-то депрессия, безразличие ко всему. Единственное желание - умереть. Но крохотная жизнь, которая теплилась у меня под сердцем, приводила меня в чувство реальности. Лежала, не поднимаясь, в каком-то забытьи. И вот в эти полные безысходности и отчаяния дни ко мне приехала на подводе мать моего мужа Зося Кузьминична. Пока она доехала до моей квартиры, ей рассказали, что ее сына, моего мужа, забрали в армию, а меня ограбили немцы. Взволнованная, она вошла в дом. Увидев меня, заплакала. Привезла кое-что из продуктов. Расспросила меня обо всем и предложила ехать с ней в деревню. Я категорически отказалась. Во-первых, я ее почти не знала, никогда в ее деревне не была, а она только раз приезжала нас навестить на один день. Во-вторых, я была очень наивна и всех неевреев мерила одной меркой. Мне казалось, что они все желают гибели евреев. Я не поехала. Продуктов хватило на две недели, а потом опять голод. Положение евреев ужасное: на каждом шагу унижения и издевательства. Узел смерти затягивался все туже и туже. Что же Зося? Она не находила себе покоя. Жила одной мыслью, как бы спасти меня. Она снова выпрашивает коня и решает ехать за мной. Приезжает, привозит продукты и настойчиво требует, чтобы я с ней ехала в деревню. Я отказалась, а ей ответила, что хочу погибнуть со всеми евреями в местечке. Не хотела, чтобы из-за меня погибли старики и пострадала деревня. Большую часть того, что у меня еще оставалось, я погрузила на повозку, отдала даже кровать. Мне уже ничего не надо было. Со слезами на глазах Зося простилась со мной. Казалось, уехала навсегда. Всю дорогу, как рассказывала мне потом, плакала. Как она терзалась, что не смогла вырвать меня из когтей смерти! Тем временем пошли слухи, что евреев будут вывозить куда-то на новое место жительства. Мы прекрасно понимали, что вывозить будут на расстрел. Снова нас переписали, усилили наблюдение. В небольших селениях с евреями не церемонились, отовсюду шли слухи об акциях по уничтожению. В больших городах их держали в гетто подольше. Изо дня в день мы ждали конца. Однажды утром хозяин нашел записку у дверей дома. Там было написано: ”Вас всех на днях уничтожат, спасайтесь”. Но где и как мы могли спастись? Мы были измучены, голодны, обессилены страхом. Все дороги для нас были закрыты. К этому времени уже была установлена местная оккупационная власть с суровыми порядками военного режима. Никто никуда не имел права передвигаться без пропуска.
Что же Зося, моя дорогая Зося Кузьминична? Она узнала, что во многих ближайших местечках уже уничтожены евреи. Она не знает, что делается в Обчуге, что со мной, жива ли я. Она обращается в волость (сельсоветы переименовали в волости), чтобы ей дали пропуск для поездки в Обчугу. Отказали на том основании, что Обчуга находится в Крупском районе, а Липовец - в Холопеническом районе. Тогда она принимает смелое решение: пойдет пешком без пропуска. Ее муж Павел не отпускал ее идти в такую даль на верную гибель. Она ответила: “Приведу Аню, а если не приведу, жизнь для меня не имеет смысла”. Никакие уговоры не помогли. Собралась и отправилась в далекий путь. А ведь она была больная, немолодая женщина. Как она добралась, один бог знает. Уже совсем стемнело, когда тихонько постучала в дверь. Я открыла и ахнула. С нее градом лился от усталости пот, говорить она не могла. Как я обрадовалась ее приходу! Почувствовала какое-то облегчение. Мы говорили шепотом, чтобы не привлечь внимания круглосуточно дежуривших бобиков (так окрестили местных полицаев). Зося рассказала мне, что в Холопеничах и в Краснолуках евреев уже уничтожили, поэтому мы должны незаметно уйти. Собрали кое-что из оставшегося. Сложили узлы. Надо уйти, пока на улице никого нет. Подождали, пока на улице все стихло. Нигде не видно ни души. Большой узел она завязала себе на плечи, а меньший отдала мне. Тихонько открыли двери и незаметно вышли. Затаив дыхание, мы, как преступники, крались вдоль заборов. Главное - незаметно выйти из местечка. Шли и оглядывались назад, не выследил ли кто. О радость, местечко осталось позади. Все спали крепким сном (это было в начале октября). Наступило утро. Небо покрыто тяжелыми свинцовыми тучами. Хлестал холодный осенний дождь. Кругом тихо, пустынно. Сено скошено, хлеба свезены, картошка выкопана. Кое-где на лугах видны стога сена. Не слышно пения птиц. Все живое спряталось от непогоды. На дороге не видно ни прохожих, ни проезжих. Это сама природа защищала нас от встречи со злыми людьми. Шли по обочинам, по тропам. Было тяжело: грязь, ноги разъезжались, мы падали, вставали и, держась за руки, шли, шли, шли. Молчим, говорить от усталости не можем. А в голове роились тревожные мысли. Каждая из нас думала о своем. День клонился к вечеру, идти дальше не было сил. Зашли в лес, сели под березку. Во сне увидела: сидит моя Зося возле меня, а из глаз ее на меня падают горючие слезы. Очнулась, около меня сидит Зося, прислонившись к березке, с закрытыми глазами. А березка осыпает нас холодными каплями дождя. Стемнело. Свекровь говорит: ”Надо дойти до какой-нибудь деревни и попроситься переночевать. Хотя бы к злым людям не попасть”. Прошли немного и увидели вдали огонек. Шли на него, дошли до деревни. В крайней избе попросились переночевать. Нас очень ласково и приветливо встретила еще молодая и красивая женщина, хозяйка дома. С жалостью посмотрела на нас и велела снять мокрую одежду. Растопила печь, повесила сушить одежду, сварила большой чугун картошки. Поставила на стол молоко и пригласила поужинать. За сутки мы первый раз поели. Вскоре пришел хозяин с взрослым сыном. Они как-то подозрительно посмотрели на нас, особенно пристально на наши узлы. Может, подумали, что там есть что-то ценное. Кто его знает.
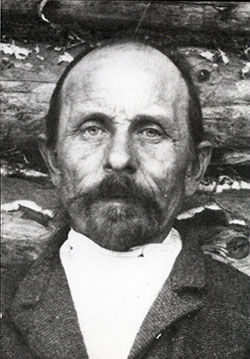 |
Cвекор Павел Нестерович Булай |
Потом хозяин начал расспрашивать, кто мы такие, откуда и куда идем. Жена прикрикнула на него, чтобы оставил нас в покое. Он смолк и больше ни с какими вопросами к нам не обращался. Хозяйка постелила нам кровать и велела отдыхать. Легли, но свекровь дрожала от страха. Ей хозяин показался подозрительным. Когда все, казалось, уснули, хозяин с сыном встали, взяли пустые мешки и куда-то уходили, возвращались и что-то приносили в мешках. На протяжении ночи это повторилось несколько раз. Мы со свекровью не спали и все это видели. Они где-то грабили. И когда, наконец, мужчины улеглись и уснули, мы тихонько встали, оделись и незаметно ушли. Дождя уже не было. Но холодный осенний ветер пронизывал до костей. Шли тропами, по бездорожью, никого не встретили в пути. Двое суток шли пешком. Откуда же брались силы у больной пожилой женщины и женщины на девятом месяце беременности? Уму непостижимо. Когда второй день уже близился к вечеру и начало темнеть, запахло дымом. Свекровь показала в направлении, откуда доносился запах дыма, и радостно воскликнула: ”Вот, наконец-то, и пришли. Ведь это наша деревня Липовец”. Домов не видно, куда ни посмотришь, кругом лес. И я задала глупый вопрос: ”А дальше что дорог нет?” Спустя несколько минут вошли в деревню. Ни в одном доме ни огонька. Объяснялось это просто: и до войны здесь не было электричества, дома освещались керосиновыми лампами. А теперь из-за отсутствия керосина для освещения использовали лучину. Подошли к дому, где мне пришлось прожить тяжелые военные годы. Дом второй от края, никто не видел, как мы пришли, один только Павел стоял возле дома и ждал, хотя и не надеялся уже, что вернется Зося, да еще со мной. Как обрадовался, увидев нас! Вот уже четыре долгих дня не было Зоси дома. И как не думать, что ее уже, может быть, нет в живых. Ведь на дорогах грабили и убивали. Хорошо, что все обошлось. Павел приготовил поесть. Это был высокий, худой старик, с изможденным, но добрым, приветливым лицом.
* * *
Назавтра я вышла из дома - посмотреть на деревню. Деревушка оказалась маленькой - одна небольшая улица, посреди нее колодец. Всего около 20 семей проживало в ней. Хатки (их домами и назвать нельзя) маленькие, с небольшими оконцами. Крыши соломенные. Поля вокруг сплошь усыпаны камнями. На всех огородах кучи камней. У нас на огороде огромный, в рост человека, камень-валун. Мне подумалось, что это следы доисторического периода, ледникового периода. Почва песчаная, неплодородная. Жили бедно. На трудодни из колхоза почти ничего не получали. Правда, мастеровые: портные и кузнецы - жили сносно. Там, где нищета и недоедание, там и болезни. Особенно свирепствовал туберкулез. В каждой семье кто-нибудь да и умирал от этой страшной, в те времена слабо поддающейся лечению, болезни, а одна семья почти полностью вымерла. Осталась от большой семьи лишь старуха-хозяйка. За всеми она ухаживала, всю свою родню похоронила. Все звали ее Захариха (никто не звал по имени). Никакие бури-завирухи, обрушившиеся на голову этой женщины, не сломили ее. До конца своих дней помогала она людям, служила им, как могла. Была в деревне главным лекарем. Неграмотная старуха знала названия всех растений и трав. С ранней весны и до поздней осени собирала лечебные травы, сушила их, готовила разные настойки, никому не отказывала в помощи, лечила взрослых и детей то травами, то заговорами, то молитвами. Всегда ли помогало - не знаю. Но одно ее присутствие, ласковый голос и добрые руки облегчали страдания.
Через несколько дней пришли соседи познакомиться с невесткой Зоси и Павла. Все они произвели на меня хорошее впечатление: голубоглазые, светловолосые, с добродушными, бесхитростными лицами. Мужчины в лаптях, вся одежда из самотканой материи, среди женщин кто похуже одет, кто получше. Словом, типичные белорусы из затерявшейся среди лесов и болот деревеньки. Знали ли они, что я еврейка? Да, знали. И не их вина, что об этом узнали в соседних деревнях, а оттуда слух дошел до волости и немецкой комендатуры. И все три года за мной охотились, как за диким зверем.
В ноябре 1941 года приближалось время родов. 10 ноября был небольшой мороз. С утра почувствовала себя плохо, на душе тоска и печаль. Зося сразу поняла, что это роды. Врача или акушерки и до войны не было. Рожать возили в райцентр, в Холопеничи. Но там оккупанты и полицаи, а время не ждет. Зося побежала за Захарихой и бабушкой Аленой. Мне все хуже и хуже. Поминутно теряю сознание. Когда приходила в себя и открывала глаза, видела, как добрые женщины стояли, склонившись надо мной, и плакали. Захариха вливала мне в рот какую-то настойку из трав. Весь день прошел в родовых муках, и только под вечер раздался пронзительный крик новорожденного. Все вздохнули с облегчением. Этот крик утверждал, что убить жизнь нельзя, что она, вопреки всему, продолжается. Я услышала: ”Мальчик”- и потеряла сознание. Как ухаживали за мной и ребенком, как берегли нас Зося и Павел! Как заботливая мать к ребенку относилась ко мне свекровь. Сколько бессонных ночей провела она около меня, а Павел день и ночь нянчил внука. Почти два месяца после родов я пролежала, не могла подняться. Когда приходили немцы, меня укрывали с головой, а свекровь говорила: ”Панночки, дочка заболела тифом”. И они мгновенно уходили. Зося меня выходила, я выздоровела. Через несколько дней после рождения сына свекровь обратилась ко мне с вопросом, как назовем новорожденного. Я предложила ей самой, по своему усмотрению, подобрать имя. С ее выбором буду согласна. Она назвала несколько имен. Среди них было и имя Валентин. На нем и остановились. Так мой сын стал Валентином. Вскоре перед нами встал еще один вопрос, не менее важный. Это - крестить ребенка. Дело в том, что в тридцатые годы большинство священников выслали, как говорится, в края не столь отдаленные, где Макар телят не гонял, как социально вредных элементов, распространяющих “опиум” для народа. Как говорил один из героев романа А.Н Толстого “Хождение по мукам” поп-растрига: “Священник - это человек, имеющий образование лженаучное, а по профессии - паразит”. С ними и обращались в соответствии с этим определением. Большинство церквей было закрыто, и использовались они для других нужд. А жизнь шла своим чередом. Дети рождались и росли некрещеными. Старики умирали и их хоронили без церковных обрядов.
Как только фашисты оккупировали Белоруссию, они в больших селах и местечках разместили свои гарнизоны. И там сразу же появились священники. Не знаю, то ли по указанию оккупантов, то ли по инициативе созданных ими местных властей, появился приказ за подписью бургомистра о том, чтобы всех детей, подростков, да и взрослых некрещеных крестили. Иначе они не будут считаться православными со всеми отсюда вытекающими последствиями. Ближайший от Липовца священник находился в Краснолуках. Туда возили новорожденных, подростки и некрещеные взрослые валили туда валом из всех ближайших деревень. Их крестили, они официально становились православными и получали право жить и работать на новых хозяев. Что нам делать с новорожденным? Крестить - это шанс, хотя и маленький, выжить. Моя свекровь очень дипломатично, осторожно спросила, согласна ли я крестить ребенка. Она знала, что я и Федя - атеисты, не верим ни в черта, ни в бога. Но это необходимо. И я согласилась. Я готова была в любую минуту пожертвовать собой, лишь бы мой сын выжил. Решение принято. Встал вопрос, кого взять крестным. Зося прекрасно понимала, что выбрать надо умных, смелых, авторитетных людей. Выбор пал на Вольку Дирко и Прокопа Булая. Это были люди среднего возраста, имеющие своих детей, пользующиеся в деревне большим авторитетом. Это было очень важно. И в дальнейшем жизнь показала, что Зося в выборе крестных не ошиблась. Просьбу Зоси они приняли. С их стороны это был смелый шаг. Ведь они знали, что являюсь отверженной и живу вне закона. Это их не испугало. Прокоп сходил в Краснолуки договорился с священником, когда можно привезти ребенка. Декабрь 1941 года. Моему ребенку нет и двух месяцев. В 1941 году зима была суровая. В назначенный день Прокоп и Волька на санях подъехали к нашему дому. В тот день погода была ужасная. Все небо было покрыто тяжелыми свинцовыми тучами. Валил снег. Завывал ветер. Метель. Дорога заметена снегом. Кругом глубокие сугробы. Дороги не видно. Ветер сбивал с ног, а до Краснолук - 8 километров. В таких случаях в деревне говорили: “Черти женятся”. Но все же решили ехать, откладывать нельзя. Ребенка закутали, Волька прижала его к своей груди. С собой дали бутылку молока, а в рот вместо соски - тряпочку, в которую была завернута корочка хлеба. Прокоп взял вожжи в руки погнал лошадь. Мы смотрели вслед, как тронулась лошадь, и через минуту сани растворились во мгле. Они едва добрались до Краснолук, лошадь проваливалась в сугробах. Несколько раз сбивались с дороги, которой не было видно. Но все обошлось. Волька и Прокоп приехали в Краснолуки усталые, замерзшие. Немного обогрелись и пошли к священнику. Ребенка крестили. Свой долг они исполнили честно. К вечеру еле-еле добрались до Липовца. Мы трое весь день с тревогой ожидали их возвращения. Ведь всякое могло случиться. Но к счастью все обошлось. Мой двухмесячный сын стал православным. Крестные оказались людьми добрыми и благородными. Вспоминается такой случай. В нашей волости особой жестокостью и коварством отличался начальник Кащинской полиции Бутько. Много крови невинных людей на совести этого пособника оккупантов. После появления партизан в наших лесах оккупанты и их пособники-полицаи охотились за народными мстителями. Они знали, что партизаны по ночам приходят в деревни за продовольствием, и часто устраивали засады. Однажды, в конце декабря 1941 года, группа полицаев во главе с Бутько устроили засаду в Липовце. Они расположились в доме Вольки: ее дом стоял на окраине деревни, близко от леса, и туда обычно заходили партизаны. В эту ночь партизаны не пришли: их предупредили. Бутько был недоволен. Операция сорвалась, нечем было отчитаться перед своими хозяевами. Он решил все же вернуться с “трофеями”. Он с хитростью начал тогда выпрашивать у Вольки, правда ли, что где-то в этих лесных деревушках скрывается еврейка (он даже не сказал, как обычно, жидовка). Он сказал, чтобы усыпить бдительность Вольки, что ничего не имеет против евреев. Но правда ли это и где она живет? Но Волька разгадала несложную западню фашистского холуя. Она ответила, что о таком случае она ничего не слышала. Уловка и хитрость бандита не сработали.
Всю колхозную землю разделили между бывшими колхозниками. Получали на каждого члена семьи. Мои старики получили наделы даже на меня и на новорожденного внука (нормы не помню). Кроме пахотной земли получили несколько соток луга для сенокоса. С каким энтузиазмом принялись обрабатывать свою, собственную землю! Обрабатывали каждый клочок земли. Работали все: и стар, и млад, потому что земля-кормилица была своя, собственная. Несмотря на то, что земля - каменистая, неплодородная, урожай снимали приличный. Хлеба хватало до нового урожая себе, отдавали оброк фашистам, содержали партизан. Труд был очень тяжелый, работали вручную. Сельхозтехники не было никакой. Основные сельскохозяйственные орудия: плуг, борона, серп, коса, вилы, лопата, мотыга. Впрочем, и в бывшем колхозе была та же техника. Тракторов, сеялок, косилок не было. Очень трудно приходилось нашей семье: не было рабочей силы. Во всей деревне было всего три лошади. И их распределяли по очереди. С посевной как-то справлялись. Сеяли картошку, рожь, овес, ячмень, пшеницу, лен и, конечно, овощи. Всего понемногу. Уже в начале июня начиналась сенокосная пора. Накануне готовили косы. Вставали рано, до восхода солнца, брали косы на плечи, и косари шли на работу, как в бой. Косили, в основном, мужчины. Но если в семье не было мужчин, то косили и женщины. Косьба - трудная работа, требующая навыка и мастерства. Целый день взмахивали косами. Время от времени косари останавливались, точили косы. Кругом раздавалось дзинь-дзинь-дзинь. Трава ложилась ровными рядами. Так работали все, так работал и Павел. Когда трава на солнце подсыхала, женщины граблями переворачивали ее на другую сторону. Это было уже сено. Потом сено сгребали в копны. Работали даже по воскресеньям, используя каждый погожий день. На этом тяжелый труд не кончался. Сено надо скорее перевезти и сложить в сарае. Первый укос - самый лучший. К осени трава еще раз вырастет, ее скосят, но сено не такого качества (отава).
Лошадь получить не так просто. Они все время в деле. Но вот, наконец, Павел получил лошадь на пару часов. Надо побыстрее управиться. Вилами укладываем сено на воз. Для того чтобы уложить сено на воз, требуется умение и сноровка, иначе сено будет сыпаться с воза. Павел укладывает сено, а мы с Зосей вилами подаем его. Подъехали к сараю. Сено вилами снимается с воза и аккуратно укладывается в сарае. Пока все сделаешь, обольешься десятым потом. Все идет хорошо, когда стоит теплая, солнечная погода. Но когда идут дожди, а такое часто бывает во время сенокоса, работа еще больше усложняется. Но вот с сенокосом покончено. К этому времени поспевают зерновые. Начинается жатва. Вручную, серпом, надо сжать рожь, пшеницу, ячмень, овес. Казалось, жать серпом работа простая. Но это только так кажется. И здесь нужны умение и сноровка. Зося меня долго учила, как работать серпом, как связывать снопы. У нее работа шла быстро, споро, а я едва поспевала за нею, а временами и отставала. Время движется к вечеру. Повеяло свежим ветерком. Работа окончена. Снопы раскиданы по всему полю. Их надо теперь собрать. По пять снопов ставят в бабки. К заходу солнца все поле уставлено бабками. Наконец можно разогнуться. Целый день работали согнувшись. Чувствуешь себя разбитой: руки болят, спина ноет. За ночь отдохнешь, а на следующий день повторяется то же самое. За несколько дней в хорошую погоду снопы высыхают, а если погода не позволяет, то снопы сушат под навесом. Чтобы зерно не высыпалось, надо снопы своевременно смолотить. Молотили на току ручным способом. В Липовце имелся единственный общественный ток. Он представлял собой отдельную постройку. Молотьба - труд коллективный, в коллективе от двух до пяти человек. Снопы развязывают, стелют на полу (пол цементный). Вокруг расстеленных снопов становились мужчины с цепами в руках и колотили по снопам. Все должны быстро и одновременно опускать цепы. При работе сработавшегося коллектива только слышны ритмичные удары. От ударов зерно отделяется от соломы. Когда молотьба заканчивается, собирают солому, вытряхивают и кладут отдельно. А потом веником сметают зерно и очищают от всякой примеси, просеивают, чтобы не остался песок. Очищенное зерно ссыпают в мешки и доставляют домой. Но это еще не хлеб. Чтобы вкусить хлеб нового урожая, еще впереди много тяжелого труда. Зерно надо смолоть. А где? И до войны близко от Липовца не было мельницы, а теперь и подавно. И до войны, и во время войны, и в послевоенное время у каждого липовчанина была своя “мельница”. Когда я впервые увидела эту, так называемую, мельницу, мне показалось, что я попала в первобытную эпоху, в каменный век. Такие приспособления я видела в учебниках истории и музеях быта прошлых веков. Постараюсь кратко описать эту “мельницу”. Подробности устройства этой домашней мельницы я уже забыла, но общее представление осталось. В специально отведенном месте стоял крепкий деревянный стол. На нем расположен большущий, круглый, тяжелый, отполированный камень. В центре камня - широкое отверстие. Сверху другой, такой же формы и величины камень с таким же круглым отверстием в центре. Верхний камень не прикасается к нижнему, хотя он висит почти над ним. К верхнему камню прикреплена длинная деревянная ручка. Верхний камень крепится ремнями к потолку. В отверстие верхнего камня насыпают зерно и ручкой крутят верхний камень. От трения зерно превращается в муку. Работа эта примитивная и нелегкая. Сразу много зерна не смелешь. Но вот зерно смололи. Мука собрана. Теперь из муки можно испечь хлеб. Кратко опишу процесс выпечки хлеба в те времена, говоря научным языком, его технологию. У каждой хозяйки для выпечки хлеба имелась специальная бочка, внутри которой хранился кусок кислого теста. В бочку всыпали необходимое количество муки. Муку размешивали в теплой воде (но не в горячей). Раствор закрывали крышкой и ставили на ночь в теплое место. За ночь в тепле рощина должна укиснуть. Утром следующего дня бочку вскрывали, туда всыпали соль, муку, добавляли немного холодной воды и начинали месить тесто обеими руками. Руки время от времени опускали в холодную воду. Месят до тех пор, пока тесто начинает отставать от рук и делается рыхлым. Месят тесто довольно долго. Затем бочку, по местному дешку, закрывают крышкой и ставят в теплое место, хорошо сверху укрывают. Тесто должно подняться, подойти. К тому времени готовят печь. Печь протапливают березовыми дровами. Когда дрова сгорят и печь накалится, угли сгребают в одну сторону, выметают золу. Затем помелом намачивается и очищается под печи. Печь готова принять в свое лоно каравай хлеба. К этому времени тесто выпирает из-под крышки дешки. Еще раз несколько минут руками месят тесто. Для доставки каравая в печь имеется длинная деревянная лопата. На лопату кладут 1-2 листа хрена или дубовые листья, а иногда вместо листьев посыпают поверхность лопаты мукой. А теперь самое ответственное: мокрыми руками берут кусок теста и придают ему круглую форму. Каравай кладут на лопату и переносят на горячий под. Таким способом помещают в печь необходимое количество караваев. Печь закрывается заслонкой. Когда хлеб почти готов, каждую буханку вынимают из печи, смачивают ее поверхность холодной водой и оглаживают руками. И опять лопатой ставят в печь. От воды поверхность буханки блестит, а корочка становится румяной, блестящей. Еще некоторое время хлеб допекается. Тем временем готовится место, куда положить готовый хлеб. Для этого подушка застилается скатертью. Хлеб достается лопатой, и каждую буханку кладут на подушку низом вверх. Во всей хате распространяется запах ароматного вкусного хлеба нового урожая. Запах слышится и на улице. Так в поте лица получали в годы войны хлеб. Но не только хлебом одним жив человек. Нужны и другие продукты. Круп, макарон никаких не было. Но и их получали в домашних условиях. Для получения круп использовали зерно ячменя, пшеницы, овса. Ячмень немного подсушивали и ссыпали в деревянную ступу. Ступа нам всем известна с детства. Ведь в ней разъезжает баба-яга. Ячмень толкли в ступе толстым и тяжелым деревянным толкачом. Подливали немного воды, перемешивали и снова толкли до изнеможения. Постепенно шелуха отставала от зерна, и оставалось что-то, похожее на перловку. Содержимое ступы вынимали, очищали, промывали, и крупа готова. Можно приготовить перловый суп, кутью к празднику. Пшеничной муки было мало. Из нее варили кулеш, затирку, а в праздничные дни готовили мочанку.
С сентября начиналась уборка картофеля. Всю работу делали вручную. Выкопанную картошку просушивали, сортировали: отдельно на семена, для еды, а мелкую - скоту. Всю картошку, овощи хранили в истопке. Истопка - небольшое хозяйственное строение. Она поделена на отсеки. В одном отсеке хранилась картошка, в другом - свекла и т.д. Часть истопки служила и баней. В углу из камней сложена печка. Посредине, ближе к стене, из досок сделан полок, где можно было попариться березовым веником. В другом углу стояли две деревянные бочки с водой. Печку затапливали и в нее клали камни. Когда камни накалялись докрасна, их бросали в одну из бочек с водой. Таким способом нагревалась вода. Пол в бане был земляной. Когда мылись, то вода лилась на землю и образовывалась густая, теплая грязь. Чем не грязелечебница? Ноги получали грязевые ванны. Из бани выходили в “черной обуви”. Чтобы зайти в дом, надо было во дворе вымыть ноги. Я описала нашу баню. У некоторых липовчан бани были получше, с деревянным полом.
В годы войны одежда в основном шилась из самотканой материи. Для этой цели каждая семья сеяла лен. И наша семья не была исключением. Технология получения материи изо льна сложна и многостадийна. Подробно описать я уже не могу, многое забыла. Лен сортировали: первый сорт лен-долгунец, второй - похуже. Изо льна первого сорта получается тонкая ровная нить, со второго сорта - нить более толстая, неровная. В дом вносится ткацкий станок и начинается работа. Из тонких нитей получается тонкое полотно, так называемый кужель, а из толстых ниток полотно грубое, изребье. Потом полотно надо отбелить. В солнечный день выносилось полотно на луг, расстилалось и заливалось водой. За день вода испарялась, и полотно высыхало. Так повторялось несколько раз, пока полотно не становилось белым. Вот теперь можно шить одежду. Из кужеля шили нижнее белье, постельные принадлежности, верхние мужские рубахи. Из изребья шили штаны, армяки и т.д. Верхнюю одежду окрашивали в разные цвета. Кроме того, ткали полотенца, скатерти, покрывала. Для этой цели предварительно красили нитки в разные цвета. А затем надо было подобрать узор. Выткать красивое покрывало, скатерть - это настоящее искусство. Зося была искусной мастерицей. Подобной ей не было ни в Липовце, ни в других окрестных деревнях. К ней приходили учиться, консультироваться. Обувью служили лапти. Материала для лаптей в окрестных лесах было сколько угодно: использовали лыко липы. Искусным мастером по плетению лаптей был Павел, который снабжал всю семью легкой и удобной обувью.
В первые месяцы после оккупации у сельчан, и у нас в том числе, был еще какой-то минимальный запас соли, спичек, сахара. Но вскоре ничего этого не стало: запасы истощились. Купить их было негде. Без сахара и спичек жить трудно, но можно. А без соли жить невозможно. Это кошмар. Пища без соли не лезла в горло. Кто хоть раз испытал мучение есть без соли, тот поймет меня. В больших селах были до войны магазины, и когда началась война, жители этих селений растащили имеющиеся в них продукты. А в Липовце и в других небольших деревеньках магазинов не было, и поэтому никто не смог создать необходимых запасов. Идти искать в других деревнях, где можно было бы выменять хоть немного соли, было делом опасным. Можно было поплатиться жизнью. Вот и мучились без соли. В городах, в крупных местечках остались продовольственные склады, советские войска, отступая поспешно, не успели их ни вывезти, ни уничтожить. Немцы - народ деловой. Захватив эти склады, сразу поняли, как их лучше использовать. В каждом гарнизоне открыли ларьки, где торговали фашистские ставленники и прихлебатели. Ближайшие от Липовца гарнизоны размещались в Краснолуках и Кащино. Как можно было купить у них соль? Денег не было. Советские деньги не принимались, а оккупационных марок у жителей Липовца не было. А деньги и не нужны были. Шел простой натуральный обмен. Соль меняли на яйца, масло, сало, ягоды, грибы, как на свежие, так и на сушеные. Ягод и грибов в наших лесах было множество. Сельчане приносили их целыми корзинами. За это паны давали один-два фунта соли. И тому были рады. Вагонами отправляли фашисты в свой “фатерлянд” ягоды и грибы для своих фрау и киндер. Особенно охотно принимали они лекарственные ягоды. За околицей нашей деревни рос небольшой кустарник. В Липовце его называли ягленец. Ягоды тоже называли ягленец. Может, в ботанике их называют по-другому, не знаю, но у нас их называли так. Ранней весной кусты начинали цвести, затем появлялись ягодки на ветках. Ветки очень хрупкие и ломкие. Поэтому сама природа позаботилась о сохранении этих редких кустарников. Ветки были усеяны ягодами и колючками. К ягодам было трудно подступиться: колючки кололи больнее иголок. Поздней осенью спелые ягоды осыпались на землю вместе со своими стражами- колючками. С земли собирать неудобно. И вот я подставила под ветками корзину и палкой слегка ударила по веткам. Ягоды вместе с колючками мигом посыпались в корзину. Ни одна веточка не была повреждена. Принесла домой, перебрала, почистила и высыпала в деревянное корыто. Корыто с ягодами стояло на видном месте. Павел не успел снести ягоды в ларек. Вдруг в деревню ворвались немцы. Они часто делали такие налеты. Как только они увидели ягоды, сразу бросились их есть. Эти ягоды очень похожи на чернику по цвету, но по размеру они меньше и тверже черники. Павел бросился к немцам и на белорусско-польско-немецком пытался объяснить, что ягоды несъедобные и можно отравиться. Немцы отпрянули. Один из них подошел к Павлу и на русском языке сказал: “Дедушка, пускай жрут, может, сдохнут скорее”. Вот такие бывали случаи. Поди, узнай, кто есть кто.
Без спичек как-то обходились. Зимой было проще. Печку топили два раза в день: утром и вечером. Если печь топили березовыми или дубовыми дровами, то угли, покрытые золой, тлели до следующей топки. Доставали тлеющий уголек и к нему подносили сухую бересту. Вспыхивал огонек. Огонь получен. Иногда за угольком ходили к соседям. А вот летом труднее обходиться без спичек. Но и тогда нашли выход. Как в древние времена, огонь получали при помощи трения или высекали искру при соударении двух камней. Вот так и выходили из, казалось, безнадежного положения. А вот сахар заменить было нечем. Редко когда удавалось достать несколько маленьких кусочков сахарина. Вкус сахара и конфет дети не знали. Не знаю почему, но в Липовце не было садов. У одного только Николая Дирко во дворе росли два вишневых дерева. Постепенно фашисты уничтожили всю живность деревни. В первую очередь жертвой оккупантов пали собаки. Да, собаки. Не возлюбили оккупанты почему-то собак. Может, потому что недружелюбно встретили липовецкие собаки оккупантов. Их всех немцы перестреляли. К концу первого года войны в Липовце не осталось ни одной собаки. Следующей жертвой фашистских оккупантов стали куры. Не возможно представить хозяйство без кур. В каждом подворье было по несколько десятков кур. В нашем хозяйстве их было более десяти. Как оказалось, немцы очень любили яйца и курятину. А достать эти продукты не доставляло большого труда. Оккупированную Белоруссию со всем ее богатством немцы считали своей собственностью. А свое иди и бери. А то, что белорусский народ все это нажил своим трудом и что ему тоже надо есть, пить, кормить своих детей, это их не касалось. Зимой 1941 года фашисты были разгромлены под Москвой. Раненые и обмороженные завоеватели после госпиталей направлялись для восстановления здоровья в тыловые гарнизоны. У трудолюбивого белорусского народа в конце 1941-го, в начале 1942 г. еще водилась живность и были продукты. И вот из ближайших гарнизонов начали шастать завоеватели по деревням. Частыми гостями они были и в Липовце. Чувствовали они себя еще в относительной безопасности, потому что партизанское движение только набирало силу. Когда фашисты заходили в дом, то первым их приветствием было: “Юде капут, юде нихт” и ребром ладони правой руки проводили по горлу, наводя страх на людей. А потом: “Матка, яйка, млека, шпик”. Им давали продукты. Но этого казалось им мало, и они лазили по чердакам, по курятникам и забирали все яйца. Но и этого им было мало. Подкрепиться, так подкрепиться. Впереди еще много боев. Здоровье нужно крепкое. Началось истребление кур. Одним весенним днем фашисты пришли в Липовец. Они разбрелись по деревне группами. Около нашего дома остановилось несколько гитлеровцев. Они посыпали в качестве приманки пшено и стали созывать кур. Куры приблизились и, увидев пшено, стали его жадно клевать. Вот тут-то и началось. Вояки бросились на землю и по-пластунски стали подползать к птицам и ловить опешивших кур. Крик, хлопанье крыльев, кудахтанье. Оккупанты тут же при всем честном народе скручивали курам головы и бросали их в мешок. С богатыми трофеями вернулись фашисты в свой гарнизон в Краснолуках. После двух-трех таких визитов в Липовце почти не осталось кур. К концу 1942 года фашисты забрали и свиней. Остались одни коровы, но и их стали забирать по одной, по две. А в 1943 году угнали все стадо. Немцы сдержали свое обещание. Они обещали свободу, и они ее дали. Освободили от всего, забрали все. Теперь и земля была уже ни к чему. А лошадей угнали партизаны. Остались у сельчан только хатки и жизнь. Но всему свой час. У фашистов все с немецкой пунктуальностью спланировано.
В конце 1941 года оккупанты создали органы власти на местах. Думали, что обоснуются на захваченных территориях навсегда. Сельсоветы переименовали в волости, приказали в каждой деревне выбрать старосту. Старосты должны были доводить до населения распоряжения оккупационных властей, собирать для них оброк: хлеб, молочные продукты, скот, теплую одежду и все, что прикажут новые господа. Староста должен был доносить на неблагонадежных соседей: кто недоволен “новым порядком”, кто связан или помогает партизанам (к этому времени в окрестных лесах уже действовали партизанские отряды) и т.д. Были старосты, которые верой и правдой служили фашистам. Они чаще всего становились жертвами партизан. А те старосты, которые старались помочь населению или партизанам, жестоко уничтожались немцами и их прислужниками. Во всех окрестных деревнях уже были старосты, и только в Липовце никто не хотел им стать. А из волости шлют приказ за приказом: немедленно избрать старосту. И вот очередное собрание сельчан. Думали-гадали, что делать. И приняли “соломоново” решение: все мужчины по очереди по неделе будут старостами. Так и выполняли они свои обязанности вплоть до освобождения в 1944 году. И никто из старост не пострадал.
Как в Липовце встретили оккупантов? Однозначно ответить нельзя. Разные люди думают и действуют по-разному. Пропаганда немцев, направленная на разжигание примитивных инстинктов человека, возымела какое-то действие. Немцы разбрасывали листовки, в которых обращались к бойцам Красной Армии и населению. Читала эти листовки и я. В них говорилось: “Красноармейцы! Бросайте оружие! Вернитесь домой к своим семьям! Там вас ждут свобода, работа, земля!” Крестьянам обещали землю, освобождение от засилья жидов. Землю, действительно, крестьяне получили, а волю... Как в песне поется: “А волю на небе найдете”. Тогда я своими глазами увидела и поняла, как много значит для крестьянина земля. Земля для него все. Вспоминается, как однажды зашел к нам односельчанин Дирко и говорит: “Зоська, как теперь хорошо! Землю получили, колхоз разогнали, жидов нет. Жиды нам жить мешали. Везде они занимали лучшие места, а нам из-за них не было хода”. Это он пересказал содержание немецкой листовки. А Зося в ответ: “Миколка, Миколка, что ты говоришь? Зачем нам земля, если погибнут наши сыновья (его сын был в армии)? А евреи нам не мешали, наших мест не занимали. Мой сын кончил институт и стал учителем (в те годы учителя были в почете). А твои дети не хотели учиться и поэтому остались полуграмотными”. Он умолк. Я ему ничего не сказала, а сама подумала: “Придет время - сам все поймет”. Вскоре пошли слухи, что в Лепель пригнали советских военнопленных. И кто опознает своих близких - может их выкупить у немцев. Кто упустит такой случай? Ведь почти у каждой семьи кто-то был в армии: у кого сын, у кого брат, муж.
Многие собрались выручать своих близких. Взяли с собой, что кто мог. Пошла моя свекровь, пошел Микола. Пошли пешком (40 км). В годы войны, да и в первые послевоенные годы, только пешком и ходили. Собственные ноги были основным, да можно сказать, и единственным видом транспорта. Липовец - забытая богом деревня. Кругом вековой лес. До ближайшей железнодорожной станции 50 километров. А весной и осенью из-за непролазной грязи невозможно даже на подводе выехать. А где и лошадь не пройдет - пройдет на своих двоих человек.
В Лепель пошла большая группа сельчан из всех окрестных деревень. Пришли и то, что они увидели, запомнили на всю жизнь. Дело было зимой. Лагерь находился под открытым небом. Пленные не были похожи на людей. Это были тени, живые скелеты, оборванные, босые, голодные, полуобмороженные. Своих никто не нашел. Когда попросили охрану разрешить отдать этим несчастным продукты, им грубо отказали. Тогда они побросали их через колючую проволоку. Пленные, топча друг друга, набросились на еду. А охранники вырывали еду у несчастных, растаптывали ее сапогами, натравливали на пленных собак. Вернулись в деревню разбитые, сломленные, не смотрели друг другу в глаза. Это была наглядная агитация. И все колеблющиеся поняли, что принесли фашисты, как они могут поступить и с их близкими. И этот самый Микола полностью изменил свои взгляды. С тех пор каждый знал, как он должен поступить, на какой стороне баррикад стоять. По моему мнению, своим жестоким, бесчеловечным отношением к военнопленным немцы оттолкнули от себя основную массу белорусского населения, способствовали распространению партизанского движения.
Но находились подонки, которые пошли служить фашистам. Они стали полицаями. Сделали они это не из каких-то идейных соображений, как стараются изобразить их некоторые современные борзописцы. Никаких убеждений у этих людей не было и не могло быть. Им просто нравилось безнаказанно грабить и убивать. Да и оккупантам они были нужны только для черной, грязной работы. Не сомневаюсь, что в случае победы Гитлера хозяева, в конце концов, избавились бы от своих холуев, расправившись с ними как с бешеными собаками, ставшими больше не нужными. И вновь, как и в годы гражданской войны, случалось, что брат воевал против брата, сын против отца. В Краснолуках жила семья Макаренко. Младший брат находился в Красной Армии, воевал с немцами, а старший брат стал полицаем, муж сестры - бургомистром. После войны младший брат вернулся награжденный орденами и медалями, а его старший брат и зять были расстреляны по приговору суда как изменники Родины. Таких случаев было много. Я восхищаюсь и по сей день не могу забыть жителей маленькой деревушки Липовец. Ни один мужчина не стал полицаем, многие ушли в партизаны. С первых же дней появления партизан в окрестных лесах сельчане им помогали. Пекли для них хлеб, Скумс Владимир шил для них полушубки, шапки. Многие стали партизанскими связными. Дирко Настасия и Женя ходили во вражеские гарнизоны и приносили партизанам донесения от партизанских агентов, внедренных в оккупационные учреждения. Деревня находилась на особом счету у врага.
В 1941-1942 годах полицаи и партизаны часто приходили в Липовец ночью. Надо было быть очень осторожным и внимательным, чтобы отличить, кто есть кто. Их отличали по одежде. У партизан на шапках - красные звездочки, на правом рукаве - красная повязка. У полицаев повязка была белая. По этим внешним признакам первое время и отличали партизан от полицаев. Но чтобы узнать настроение жителей, полицаи часто заменяли повязки и вводили сельчан в заблуждение. Мне запомнились два таких трагикомических случая, которые произошли с моим свекром Павлом. Однажды ночью к нам зашли двое. У них были красные повязки, значит - партизаны. Павел пригласил их к столу поесть, рассказал, как пройти, чтобы не встретиться с немцами и полицаями. Он к ним обратился со словом “товарищи”. Как только они услышали обращение “товарищ”, их как будто кипятком ошпарило. Они стали кричать, ругать Павла: “Ах, ты такой-сякой. Так ты коммунистов ждешь. Не нравится тебе “новый порядок””. Уходя, они надавали ему тумаков, но, к счастью, не арестовали, по-видимому, куда-то торопились. Таким же образом иногда поступали и партизаны. Однажды к нам зашли партизаны под видом полицаев. Павел дрожащим, заискивающим голосом сказал: “Панночки, отдохните, угощайтесь”. Как услышали они слово “панночки”, то бросились на деда с кулаками. Кричали: “Ты немцев ждал, фашист!” Павел испугался и совсем сник. А Зося с иронией посмеивалась над мужем: “Как ты людей не понимаешь! Разведчиком не смог бы быть”. А Павел в любом удобном случае любил похвастаться, что был николаевским солдатом и ходил в разведку. Про свои промахи он никому не рассказывал, молчал. Но как говорится в народной пословице: “Смеется тот, кто смеется последний”. Так получилось и с Зосей. Эта умная, осторожная женщина, умеющая узнавать людей, однажды сама попала в нехитрую западню. Февраль 1943 года. Зося по каким-то неотложным делам пошла в соседнюю деревню Занечье, что в трех километрах от Липовца. Пришла в деревню и остолбенела: деревня была заполнена немцами и полицаями. Полная тревоги, она незаметно ушла назад. Пришла домой крайне обеспокоенная и взволнованная. Весь день мы в тревоге ожидали нежеланных “гостей”. Но короткий зимний день прошел быстро. Наступила длинная тревожная зимняя ночь. Вслед за нашим домом, третьим с краю, стоял дом крестного моего сына Прокопа Булая. Долгими зимними вечерами, чтобы скоротать как-то время, все жители деревни собирались у Прокопа на посиделки. Прокоп был, как говорят теперь, неформальным лидером деревни: общительным, гостеприимным, веселым. Такими же общительными и жизнерадостными, дружелюбными были и его многочисленные дети. Дом Прокопа превратился в своего рода “штаб”, куда за день стекались все новости. В доме стоял полумрак. При свете лучины все присутствующие размещались, где попало.
Кто сидел на длинных деревянных лавках, кто на полу, кто на печке. Присутствующие по очереди излагали то, что они узнали накануне. Рассказывали о положении на фронтах, какие и где разгромлены вражеские гарнизоны, сколько спущено под откос немецких эшелонов с живой силой и техникой и многое другое. Надо сказать, что сведения, как правило, были правильными. Откуда все узнавалось, никто толком сказать не мог. Одним словом - беспроволочный телеграф. Павел тоже регулярно посещал этот “информационный центр”. Зося туда ходила редко: она боялась оставлять меня одну. Эти зимние вечера мы с ней коротали дома. Но не беда: Павел, приходя домой, все пересказывал нам. И таким образом мы были в курсе всех событий, о которых говорили у Прокопа. В тот злополучный вечер Павел, как обычно, ушел к Прокопу. Мы остались одни. В хате полумрак. Ребенок спит. Абсолютную тишину нарушает только сверчок, который затаился где-то за печкой. Тревожно и тоскливо на душе. Ведь всего в нескольких километрах находятся каратели. Чего-то напряженно ожидаем. И вдруг слышим под окнами скрип снега под тяжелыми сапогами. Глянули в окно и увидели двух приближающихся мужчин. Они постучали в окно, свекровь открыла дверь и впустила их в дом. Они представились партизанами, сказали, что идут на задание. И спросили, нет ли поблизости немцев и полицаев и как им пройти незаметно в деревню Загатье, чтобы не попасть в лапы фашистов. И тут моя сверхбдительная Зося клюнула на не хитрую приманку и попалась, как мышь в мышеловку. Она предупредила мнимых партизан, что в Занечье полно карателей и указала дорогу, чтобы обойти фашистов. Она их накормила, а на дорогу дала кусок сала и полбуханки хлеба. Они поблагодарили за все и ушли. Зашли в дом Прокопа, где сидели и судачили почти все сельчане. Вот тут-то и выяснилось, кто они такие. Они сняли маскхалаты, а под ними оказались полицейские мундиры. Они начали угрожать стереть Липовец с лица земли, а жителей уничтожить. К счастью, полицаи оказались знакомыми, жителями соседней деревни. Их стали просить не доносить начальству о случившемся, пожалеть деревню. Нажимали на то, что и с их родными может случиться такой казус. Сначала они заартачились и слушать ничего не хотели. Но упоминание об их родных, по-видимому, подействовало, да и время было уже другое: разгром немцев под Сталинградом и объявленный немцами траур несколько укротили рвение многих фашистских пособников, особенно тех, кто не слишком скомпрометировал себя преступлениями. После Сталинграда начинается перебежка многих полицаев и бургомистров на сторону партизан. Они почувствовали приближение неминуемого краха “нового порядка”. И эти полицаи, в конце концов, согласились не давать хода делу. Им дали с собой несколько бутылок самогона, сала, а хлеб, полученный от Зоси, они оставили. Полицаи ушли. Все страшно волновались, ждали неминуемой беды. Разве можно верить обещаниям полицаев? Всю ночь мужчины по очереди дежурили на дороге, ведущей с Занечья. Прошла в тревоге ночь. Наступил пасмурный день. Павел пришел домой и все рассказал. И только на третьи сутки узнали, что каратели ушли. Пронесло. Полицаи сдержали слово. Вот так и жили все эти три долгих года, балансируя на грани жизни и смерти.
Партизаны появились в наших лесах с первых дней немецкой оккупации. Вначале это были небольшие группы. Правда, следует сказать, что было немало и мнимых партизан. Они принесли немало горя жителям лесных деревень. Грабили, убивали. Но не они определяли характер партизанского движения. И вскоре они исчезли. А партизанское движение, сопротивление оккупантам и их пособникам росло и крепло. За три долгих года войны через Липовец прошло много партизанских отрядов, больших и малых. Останавливались здесь и заслоновцы, и партизаны 1-й и 2-й белорусских бригад и другие. Имена многих когда-то знаменитых партизанских командиров стерлись из памяти, не оставили в ней заметного следа. Но до сих пор хранит память воспоминания о первом из крупных партизанских отрядов. И не только потому, что он был первым в наших краях. Этот отряд выделялся своей организованностью, дисциплиной. Это отряд Героя Советского Союза Линькова (Бати). Мы тогда не знали его настоящей фамилии. Она стала известна после войны, когда мы прочли его книгу “Война в тылу врага”. Группа Линькова была заброшена на оккупированную территорию из Москвы с самолетов в конце лета 1941 года. Ядро отряда составляли москвичи, а затем отряд пополнился за счет местных жителей, окруженцев. В Липовце о Бате и его отряде стало известно с осени 1941 года. На первых порах партизаны отряда Бати сильно бедствовали. Укрываться приходилось в лесу, спать на снегу, голодать. Это уже потом построили землянки, установили связь с Большой землей (так называли неоккупированную часть страны). Оккупанты знали о существовании отряда Бати, непрерывно его преследовали, не давали возможности отдохнуть, закрепиться. Голодные, усталые, промерзшие партизаны по ночам приходили в деревню, обогревались, отдыхали. Для них собирали продукты, теплую одежду. Особенно запомнился мне один боец из этого отряда: москвич Саша Волков. Это был молодой, красивый, жизнерадостный парень. Саша был очень общительным, доброжелательным человеком. Он превосходно играл на гитаре, которую постоянно носил с собой, пел приятным невысоким баритоном. И вскоре стал всеобщим любимцем, как в среде партизан, так и местного населения. Стоило узнать, что пришел с товарищами Саша, как стар и мал тянулись в хату, в которой остановились партизаны. Они приносили полученные с Большой земли газеты, читали сами, рассказывали последние новости о военных действиях, о событиях в стране и за рубежом. Обычно газеты они оставляли, а я уже потом, подробно читала их односельчанам вслух. Помню, как в декабре 1941 года партизаны сообщили радостную новость: “Фашисты разбиты под Москвой!”. Сколько было радости! Нам казалось, что скоро конец войне. Не знали мы, не могли и представить, что придется еще вынести, как долго продлится война. Но тогда мы были счастливы. Много раз приходилось бывать Саше Волкову в Липовце.
И всякий раз, отдохнув, он доставал из чехла гитару, кто-то брал в руки гармонь, и над занесенной снегом промерзшей деревней разносились мелодичные звуки музыки, то веселые и радостные, то грустные и меланхолические, напоминая невольно о прежней, казавшейся теперь такой счастливой, мирной жизни, о дорогих отцах, мужьях, детях. А затем Саша пел под аккомпанемент гитары. Он знал множество народных и популярных эстрадных довоенных и военных песен. Но особенным успехом пользовались патриотические песни, зовущие на борьбу с ненавистными захватчиками. От Саши мы впервые услышали такие привезенные с Большой Земли песни, как “Бьется в тесной печурке огонь”, “Москва моя”, “Синий платочек”, “Вставай, страна огромная” и многие другие. Невзыскательные, легко запоминающиеся, лирические по содержанию, эти песни пронизаны такой грустью, таким искренним, неподдельным чувством, что невольно вызывали слезы. Неизменным успехом пользовалась незабвенная “Катюша”. Такие импровизированные концерты были как бы светлым окном в нашей полной опасности и тревог жизни, заряжали оптимизмом, верой в то, что это страшное время кончится, и вновь к нам возвратятся наши дорогие люди. Кроме песен, которые доходили до нас с Большой земли, появилась масса самодеятельных, народных песен и частушек, сочиненных талантливыми безымянными авторами. Частушки часто рождались по поводу любого услышанного или увиденного события. Они очень метко и с сочным народным юмором высмеивали оккупантов и их пособников. Много было частушек, прославляющих героев, отважных народных мстителей, зовущих на борьбу с ненавистным врагом. Особенно доставалось в частушках Гитлеру и его своре. Я знала множество частушек, но, к сожалению, они стерлись из моей памяти. Прожитые годы сделали свое дело. Приведу две частушки: “Все шинели просидели (здесь использовалось более сильное слово), но Москвы не поглядели”, “Сидит Гитлер на заборе, плетет лапти языком, чтобы вшивая команда не ходила босяком”.
Дожить до победы Саше Волкову не довелось. Рассказывали, что погиб он как-то нелепо, попав в засаду, устроенную полицаями. Перестало биться горячее сердце патриота, навсегда умолкли струны его гитары. Здесь я невольно перехожу на патетический, высокопарный тон. Но, увы, обыденная жизнь более прозаическая вещь, а война не благородный рыцарский турнир, а более похожа на бойню, она полна грязи и крови. Враги надругались и над мертвым бойцом. Они раздели труп наголо и запретили его хоронить. И только через несколько дней, когда фашисты ушли, сельчане предали тело Саши земле. Смерть Саши Волкова горестно переживали все, кто его знал. И теперь, более чем через пятьдесят лет, наблюдая, как ожесточились, очерствели люди, как изменился нравственный климат в обществе в послевоенные годы, я невольно связываю это с тем, что лучшие люди, идеалисты в самом хорошем смысле этого слова, погибли, не вернулись с войны.
Отряд Линькова заложил основу будущего партизанского движения в нашей местности, установил прочные связи с населением. В связи с отрядом Бати вспоминается подвиг уроженца Липовца Тимофея Ермаковича, проживающего в деревне Московская Горка. Это был невысокий, неприметный человек. Ермакович был связан с партизанами. Оккупационные власти пронюхали о партизанских агентах и связных. В Московскую Горку приехали начальник полиции Краснолукского гарнизона Журавкин и еще один полицай, чтобы арестовать бургомистров Ковалева и Василенко, связанных с партизанами. Ермакович был знаком с Журавкиным, и он пригласил представителей “власти” к себе домой. Напоил их самогоном и, узнав о цели приезда, он вместе с соседом убил полицаев. Трупы ночью вывезли в лес и спрятали под снег. Через несколько дней на поиски пропавших приехали еще двое полицаев. Полицаи, узнав, что Журавкина и его напарника завел в свой дом Ермакович, откуда они больше не появлялись, решили его арестовать, но и они были тоже уничтожены. Ермаковичу стало опасно оставаться в деревне, и он вместе с семьей ушел в партизаны в отряд Бати, где успешно сражался с оккупантами до освобождения Белоруссии.
С конца 1942 года, особенно после победы Красной Армии под Сталинградом, партизанское движение приобрело огромный размах. В 10 километрах от Липовца вблизи Лукомльского озера был построен партизанский аэродром, и была организована регулярная связь с Большой землей. Всеми местными партизанскими отрядами руководил Холопеничский райком партии. Холопеничский райком издавал даже свою газету “Народный мститель”. Теперь уже оккупанты и их прихвостни боялись удаляться от мест, где стояли их гарнизоны. Если и осмеливались показываться в партизанской зоне, то, как правило, в большом количестве и днем. А ночью, даже вблизи гарнизонов, хозяевами положения были партизаны. Партизаны, наряду со своими базами в лесу, теперь размещались и в населенных пунктах партизанской зоны, особенно зимой. Одно время в нашей хате был штаб партизанской бригады Шкредова. Но, как правило, партизаны подолгу не задерживались в одном месте: они приходили и уходили. После их ухода в деревню врывались немцы и полицаи. Причем более опасными были полицаи, знающие местность и людей.
Осенью 1943 года из наших мест на запад ушел отряд Линькова. Правда, в последний перед уходом период отряд Бати действовал несколько северо-восточнее нашего района, в окрестностях Лепеля и Чашников, где размещались крупные немецкие гарнизоны и где проходила железная дорога.
Липовец был оплотом партизан, их базой. Немцы через свою агентуру были осведомлены о положении дел в партизанской зоне. И они зимой 1943 года начали систематически бомбить окрестные леса. Ежедневно, с немецкой пунктуальностью, в одно и то же время по утрам прилетали самолеты. Они опускались низко-низко, едва не задевая верхушки деревьев, и хладнокровно сбрасывали свой смертоносный груз. Но нет такого яда, против которого бы не было противоядия. Сельчане быстро нашли выход. За окрестностями деревни построили землянки, чтобы можно было укрыться от бомбежки.
Павел также вырыл для нашей семьи землянку. Рано утром в мороз и холод я брала ребенка и на саночках увозила его в укрытие. Так делали почти все женщины с детьми. И хотя на холоде находились целый день, никогда не болели никакими простудными заболеваниями. Вечером приходил Павел и забирал нас домой. А пожилые люди прятались от бомб и осколков в щелях и убежищах, вырытых рядом с домом. От бомбежек никто не пострадал, было повреждено лишь несколько построек. Через месяц налеты прекратились. Не удалось фашистам уничтожить лесную деревушку с ее непокоренными жителями. Об отношении к оккупантам свидетельствует и такой факт. Из волости получили приказ отправить пять парней на службу в полицию. В основном на службу туда шли добровольцы и служили оккупантам верой и правдой. Но были и подобные случаи. Все пятеро ни за что не хотели становиться полицаями, они долго прятались, а потом ушли в партизаны. Из этой пятерки в живых остался только Владимир Булай. Все остальные погибли. После войны Владимир Булай в течение нескольких десятилетий работал в Борисове милиционером и совсем недавно ушел из жизни.
Разные люди, разные судьбы. В годы военного лихолетья это проявилось с особой силой. Расскажу о тех, кто пришел в Липовец зимой 1941 года. Многие советские бойцы и командиры группами или в одиночку выходили из окружения. Переодевшись в штатское, разбредались по деревням и селам. К нам в Липовец пришли четверо, все они были из России. Оккупационные власти обязали их приписаться и раз в две недели являться в Холопеничи на перерегистрацию в сопровождении старосты (их называли приписниками). А в деревне каждый устраивался по-своему. Самым молодым был Алферов. Он поселился у колхозника Владимира Скумса. Выполнял любую работу: косил, пахал, сеял, пилил дрова, нянчил детей. Видно было, что он уроженец сельской местности и не чурается никакой работы. Он никуда не ходил, ни с кем не общался, всегда был углублен в свои мысли, смотрел на все и на всех печальными глазами. Его полюбили за честность и трудолюбие. В Липовце он прожил около года. После очередной перерегистрации в деревню не вернулся. Судьба его не известна. У нас жил Саша из Орла. Ему было лет 30-35, по выправке видно было, что кадровик. Высокий, стройный, угрюмый, чем-то вечно недовольный, всегда смотрел исподлобья. Зосе он не понравился с первой встречи. И она не ошиблась. Как узнавала она людей, их скрытую внутреннюю суть! Саше поставили кровать, дали постельные принадлежности. Кормили тем, что ели сами. Тогда еще были корова, куры, свиньи. Однако он был недоволен питанием, никогда не помогал старикам в работе. С усмешкой наблюдал, как обливался потом на сенокосе мой свекор. Связался с девушкой Тоней, которая, вероятно, по секрету рассказала ему обо мне. Он посматривал на меня как-то подозрительно. Свекровь часто говорила мне: “Не нравится мне этот Саша. Наделает он беды”. У нас он жил и питался, а ночевать уходил к Тоне. Потом ночевки и у Тони прекратились. Вероятно, мать запретила (Тоня жила с матерью и младшей сестрой). Но любовь есть любовь, и они продолжали встречаться в разное время и в разных местах. Потом мы заметили, что Саша куда-то исчезает, как только начинало темнеть, рано утром появляется, что-то приносит, прячет под подушку, поест, днем отсыпается, потом берет принесенное и идет на свидание. Эти ночные вылазки продолжались довольно долго. Мы только могли предполагать, куда он уходит по ночам, но вынуждены были молчать, потому что его очень боялись. Со стариками он был груб, угрожал и, не стесняясь, говорил, что наша жизнь зависит от него. Однажды (это было летом) Саша на рассвете вернулся из очередного ночного похода и притащил на плечах чем-то заполненный тяжелый мешок и поставил его рядом со своей кроватью. Он быстро позавтракал и побежал к Тоне. Зося решила выяснить, что в мешке. Развязав его, она позвала меня с Павлом. Сама она, смертельно бледная, вся дрожала. И что мы увидели? В мешке была детская одежда, башмачки, женские платья и белье, на мужском пиджаке запеклись пятна крови. Мы догадывались, что он занимается темными делами, но такого никак не могли и допустить. По-видимому, он организовал банду, которая по ночам грабила и убивала. Не думая о последствиях, Зося схватила мешок и выбросила его во двор. Когда Саша вернулся, она дрожащим голосом сказала, что не потерпит, чтобы в ее дом приносили награбленное, и велела искать другую квартиру. Он посмотрел на нас испепеляющим взглядом и прошипел сквозь зубы: “Вы еще меня вспомните”. Стало страшно. Зося, мой ангел-хранитель, не оставляла меня ни на минуту. Ей казалось, что стоит мне остаться одной, как я погибну. Вместе ходили полоть, жать, выдергивать лен. К этому времени я научилась всем премудростям сельскохозяйственных работ. Саша от нас никуда не ушел, но в дом уже ничего не приносил, все отдавал Тоне. В яркий летний день (дело было в июле 1943 года) я сидела в своей комнатушке (отгороженной Павлом досками части столовой), наклонившись над кроваткой сына. Мой сын болел. Павел плел лапти, Зося пошла в сарай кормить поросенка. Саша спал после “трудовой” ночи. Павел посмотрел в окно и вдруг закричал: “Немцы!” Они шли прямо к нашему дому. Все, выхода нет, я еще ниже склоняюсь к сыночку, мысленно прощаюсь с ним. Но немцы подняли Сашу с кровати. Он остолбенел от страха. Обыскали его, нашли несколько паспортов, принадлежавших разным людям. Ему приказали выходить, но он вырвался и бросился ко мне в комнату и хотел то ли что-то сказать, то ли что-то кому-то передать. Не знаю. Вслед за ним ворвались немцы. Увидев меня, они вытолкнули меня из дому и вместе с Сашей повели на огород. Поставили рядом. Что-то сказали, подняли автоматы и стали целиться. Павел, выскочивший вслед за нами из дома, закричал: “Зося, иди скорее, Аньку убивают!” Откуда у немолодой, больной женщины хватило сил и энергии бегом добежать до нас? Оттолкнула меня с такой силой, что я пластом упала на землю. Она стала на мое место рядом с Сашей и крикнула: “Стреляйте в меня, в чем провинилась моя дочь?” Палачи и те растерялись. Прибежал на крик староста. Он подтвердил, что я дочь Зоси. Немцы думали, что я жена Саши. Нас отпустили, а Сашу расстреляли у нас на глазах. Он, как подпиленный дуб, упал на землю. Немцы запретили его хоронить и, сделав свое черное дело, ушли. Нас с Зосей увели домой соседи. Мы были настолько потрясены, что говорить не могли, несколько дней приходили в себя. Ведь опоздай Зося на одну минуту, и мой сыночек мог остаться сиротой. Вечером собрались мужчины, из досок сколотили гроб, Тоня его обмыла, одела в чистую рубашку, и похоронили Сашу на местном кладбище. С чей-то безымянной могилы забрала Тоня крест и поставила на могиле своего возлюбленного.
Третий окруженец - ленинградец Анатолий, Толик (как его звали в деревне). Это был высокий, красивый мужчина лет 35-ти. Его судьба сложилась счастливее судьбы его товарищей. Он один из них вышел целым и невредимым из этой мясорубки. Он попал в семью, в которой была единственная восемнадцатилетняя красавица-дочь. Толик понимал, что здесь он сможет прожить до конца войны в неплохих условиях, а там видно будет. Он полюбил Надю, а Надя полюбила его. Он предложил Наде руку и сердце и просил родителей благословить их брак. Вначале родители были против: во-первых, большая разница в возрасте, во-вторых, война, в-третьих, ходили слухи, что у него в Ленинграде жена и дети. Но какое это имеет значение для влюбленных? И родители дали согласие на брак. А спустя год у них родилась дочь. Бабушка и дедушка души не чаяли в своей внучке. Зятя любили и всячески оберегали. Когда Анатолию надо было являться в комендатуру, отец Нади, не доверяя старосте, сам отвозил и привозил его домой. Война в разгаре. Время тревожное. Немцы требуют, чтобы Анатолий стал полицаем, партизаны хотят забрать его к себе. От тех и других откупаются. Но так долго продолжаться не может, жить пассивным наблюдателем событий нельзя. Советская Армия наступает на всех фронтах, одерживает победу за победой. И Анатолий принимает верное решение: идет в партизаны, где пробыл до лета 1944 года, до освобождения Белоруссии. Как партизан, получил возможность хорошо устроиться на работу, в торговле в Лепеле, забрал туда Надю и дочь. Но разыскал свою довоенную семью, стал тайно переписываться, часто уезжал в командировки, а однажды исчез из Лепеля навсегда. Надя разыскала его в Ленинграде, но он не вернулся к ней. По-моему, он поступил бессовестно, коварно, ведь можно было проститься и расстаться по-человечески. Родители Нади еще до конца войны умерли от туберкулеза, а Надя с тех пор в Липовец не приезжала.
Последний из четырех окруженцев разделил судьбу Саши, с той лишь разницей, что получил он пулю в лоб от своих, от партизан. После расстрела Саши он ушел в партизаны. На имя командира отряда стали поступать жалобы, что он занимается грабежом. В лесу над ним учинили суд, от имени народа присудили к высшей мере наказания - к расстрелу, тут же приговор привели в исполнение, в лесу его и похоронили. У них у всех была одна цель - выжить. Каким путем - неважно. Неужели не понимали они, что в эти суровые годы кровопролитной войны быть пассивным наблюдателем, думать только о собственной судьбе, невозможно. Большинство окруженцев уходили в партизанские отряды, становились подпольщиками, вставали в ряды борцов с общим врагом - фашистскими захватчиками. И если их настигали пули врага, то они гибли за правое дело, за свободу Родины, семьям, по возможности, сообщали об их судьбе.
1943 год. После побед Советской Армии под Сталинградом и на Курской дуге оккупанты стали еще больше зверствовать в расправах над мирным населением. В каждом человеке они видели партизана, по их понятиям бандита, а бандитов следовало уничтожать. Настало очень тревожное время. До сведения населения доведено распоряжение оккупационных властей: каждый должен иметь паспорт (аусвайс). При отсутствии при проверке аусвайса - расстрел. Для получения паспорта, в который вписывались и приметы его владельца: цвет волос, глаз, рост и т.д. - нужно было лично явиться в волостную управу. Нам, жителям Липовца, выдавали аусвайсы в деревне Кащино. Как могла я туда явиться? Обо мне знали, но полицаям не удавалось меня задержать. Что делать? Где выход из этой ловушки? Об этом бессонными ночами думает мой ангел- хранитель, моя бесстрашная Зося, и, наконец, принимает решение. Посоветовавшись с мужем, она собралась в путь. Встала утром, сложила в торбу бутылку самогона, большой кусок сала, кусок масла, помолилась, попрощалась с мужем, со мной, с внуком и пошла пешком в Кащино (8 километров туда и обратно). Пришла в волостное управление. За столом сидит бургомистр Конопелько, из местных жителей, оставленный для работы командованием одного из партизанских отрядов. Напротив его - немец с переводчиком. Посетителей много. Немец пристально осматривал каждого получателя аусвайса, следил за тем, чтобы все приметы были вписаны в документ. Зося дождалась, пока все посетители ушли, а потом подошла к немцу и отдала ему все, что принесла. Немец обрадовался. Конопелько через переводчика пожелал ему приятного аппетита во время обеда, и немец с переводчиком ушел. Конопелько был знаком с Зосей, он понял, что надо делать, ведь в волости знали о моем существовании. Под диктовку Зоси он быстро выписал паспорт. Дрожащим от страха и волнения голосом диктовала Зося мои приметы и в спешке забыла, что глаза мои не серые, а карие. За свой смелый поступок бургомистр мог поплатиться жизнью. Зося неслась домой, как на крыльях. Шутка ли, получила для Аньки немецкий паспорт, может, эта бумажка спасет ее от гибели. Мы с Павлом не могли дождаться Зоси. Наконец, усталая, но счастливая, Зося вошла в хату, размахивая моим паспортом. Я прочитала все записи и сильно побледнела. “Что случилось?” - спросила Зося. “Глаза” - волнуясь, прошептала я. И свекровь поняла свою оплошность. Но дело сделано, ничего уже не исправишь. Много раз проверяли паспорта, бывая в деревне, немцы и полицаи. При проверке я опускала глаза, завязывала так платок, чтобы их и не видно было. Обошлось. Главное, у меня теперь был паспорт, заполненный на мое имя на немецком и белорусском языках. А вот судьба моего спасителя-бургомистра сложилась трагически. В 1944 году, когда партизаны освободили Кащино, кто-то донес, что Конопелько служил немцам. Ему не удалось доказать, что работал по заданию партизан. Расстреляли его вместе с женой. Осталось четверо маленьких детей. Без суда и следствия, только по доносу, разве это не жестоко? Сколько без вины виноватых людей погибло!
Было много смельчаков, служивших у оккупантов по заданию партизан. В нашей местности самый большой вражеский гарнизон, состоящий из эсэсовцев, наводивших на всех страх, находился в Лепеле. С партизанами сотрудничали начальник полиции Лепеля и его заместитель. Через связных из Липовца (а их было несколько) передавали они партизанам важные сведения. Нашелся предатель, выдавший их. После ареста их страшно пытали. Один из них под пытками умер, ничего не сказав, другой был слабее духом и дал показания, что главные связные живут в Липовце, и он может опознать их. Зимнее утро. Мороз. В Липовце все спали, когда раздались пулеметные очереди. Глянули в окно и ахнули. Деревня окружена эсэсовцами, их можно было отличить по обмундированию: черные шинели, черные кителя, на рукаве эмблема - человеческий череп и скрещенные кости. Недаром они наводили ужас на всех. Фашисты привезли с собой измученного, истерзанного пытками арестованного, усадили в хате у открытого окна, а сами стали выгонять испуганных жителей на улицу, в том числе стариков, женщин, больных и детей. Немец, зашедший в наш дом, выгнал стариков, проверил у меня паспорт, внимательно посмотрел на меня и ребенка и на чистом русском языке заговорил со мной. Он много говорил, о чем-то спрашивал, но я была как невменяемая, от страха у меня отнялась речь, язык не ворочался во рту. Кто-то зашел на кухню, эсэсовец выскочил и сказал по-немецки, что здесь никого нет. Они ушли. Тем временем всех сельчан построили и по одному подводили к окошку, в которое смотрел арестованный. Он опознал молодого мужчину, Егора Скумса. И на глазах у жены, у родителей его схватили, связали и бросили в сарай. Еще нужно было опознать женщину. Всех их построили и несколько раз проводили мимо окна. В третий раз он указал на первую попавшуюся и ткнул, как говорится, пальцем в небо. Арестовали Ульяну Суровьеву, никакого отношения к партизанам не имевшую. Короткий зимний день подошел к концу. Всех отпустили по домам, а немцы остались ночевать в крестьянских хатах. Мои дорогие старики вернулись и говорить не могли от пережитого страха, ведь со мной один на один в хате остался эсэсовец. Но я и мой сын остались живы. Ночевать к нам пришел тот же эсэсовец. Свекровь приготовила ужин, накрыла на стол, за ужином немец говорил по-русски, расспрашивал, как нам живется при новой власти. Зося дрожащим от страха голосом ответила: “Панночек, хорошо живется, получили земельку, волю”. Он рассмеялся в ответ: “Вижу, как вам живется”. Он много рассказывал о себе, о своих родителях - антифашистах, об отце, который сидел в тюрьме в Германии. Молчали старики, ни одному слову его не верили, думали, что он хочет втянуть нас в разговор, чтобы что-то выведать. Переночевал, утром попрощался со стариками, зашел ко мне в комнату, взял на руки ребенка, поиграл с ним, дал пару кусочков сахара, а на прощание сказал: “Счастье, что к вам я попал”. И по сей день остается тайной, кто же был этот добрый человек, облаченный в страшное обмундирование. Эсэсовцы увезли Егора в Лепель, там его и казнили, а Ульяну Суровьеву отправили в тюрьму в Холопеничи. Мы не находили себе места при мысли, что, если Ульяну будут пытать, она меня выдаст. Но все обошлось. Два месяца продержали ее в тюрьме, но никого не выдала Ульяна, и, убедившись, что она не имеет никакого отношения к лепельскому делу, ее отпустили. До конца своих дней не забуду простых, совестливых и добрых жителей этой заброшенной деревни. Но и в соседних таких было немало. Расскажу об одном случае. В пяти километрах от Липовца расположена деревня Федоровка. В ней издавна жили староверы. Они отличались от населения окрестных деревень своей русской речью, несколько старомодной, религией, бытом, всем укладом жизни. Девушка из Липовца вышла замуж за старовера Поперецкого и жила в Федоровке вместе со своей матерью Татьяной. Ближайший от Федоровки вражеский гарнизон находился в Краснолуках. В июле 1943 года немцы и полицаи пришли в Федоровку, остановились в доме Поперецких. “Дорогих” гостей посадили за стол, поставили большую бутыль самогона, закуску. От захмелевших полицаев Татьяна услышала, что они направляются в Липовец, где должны уничтожить жидовку. Татьяна наказала дочери напоить их посильнее и задержать, а сама побежала в Липовец. Прибежала к нам испуганная, взволнованная, усталая, ведь она, обливаясь потом, бежала, не чуя под собой ног. Позвала Зосю и Павла в сени, о чем-то пошепталась с ними и тут же ушла. Ей надо было вернуться домой, пока полицаи распивали самогон в ее доме. Вошла Зося, взволнованная, бледная, и говорит мне: “Анька, возьми серп, и пойдем жать рожь”. “Жать еще рано, мама, - отвечаю, - рожь ведь еще зеленая, не созрела, да и поздно уже. Что-нибудь случилось? Зачем приходила Татьяна?” “Нет, ничего не случилось, все в порядке, собирайся скорей” - торопит меня свекровь. Уже день клонился к вечеру, когда мы пришли на ржаное поле, вдали от деревни. Рожь выросла густая, в рост человека. Вошли в рожь и сели. Не жали, конечно. Вскоре пришел Павел и принес сына, а сам ушел в деревню. Сидели мы посреди поля, пока не стемнело. А ночью за нами пришел Павел и забрал домой. А в наше отсутствие в деревню ворвались пьяные полицаи, обыскали дома, постреляли в воздух и ушли. Возможно, отчитались перед начальством, что операция выполнена, враг уничтожен.
И так каждый раз, когда казалось, что смерть вот-вот настигнет меня, что выхода нет, как-будто чья-то невидимая рука отводила опасность от меня, спасала от неминуемой гибели.
В один из летних солнечных дней 1943 года я вышла с ребенком на руках улицу. Там я встретила беженку Закию Таирову. Она сидела на скамейке со своим сыном Рафуком, ровесником моего сына. Лето 1943 года выдалось дождливое, не очень теплое. А этот день был на удивление хорошим, первым по-настоящему теплым днем. Все благоухало. Легкий ветерок доносил с лугов ароматный запах скошенного сена. Близкий лес стоял в легкой дымке. В мирном небе носились быстрые ласточки. В придорожной траве копошились, занятые своим делом, многочисленные насекомые.
Трудолюбивые муравьи куда-то несли останки насекомых, длинные былинки. В воздухе жужжали мухи, пролетали со своей добычей пчелы, вероятно, из пасеки Владимира Скумса, единственного жителя Липовца, занимающегося пчеловодством. Все живое было занято своим повседневным делом, возможно, не зная даже, что вершина творения природы - Номо сапиенс, человек разумный, как он себя гордо называет, занимается самоистреблением. В этот прекрасный летний день даже мысль о войне казалась кощунственной, неким сатанинским порождением. А между тем уже два долгих года на нашей земле шла истребительная, жестокая война, и в этот прекрасный летний день люди с ожесточением и с ненавистью убивали друг друга.
В этот солнечный день все жители Липовца были заняты своим привычным крестьянским трудом: ворошили сено, пропалывали огороды, кто-то пошел в лес за ягодами. Неутомимая баба Захариха собирала лечебные травы. Казалось, ничто не предвещало беды. Никто не знал, что в окрестностях деревни, в кустах, полицаи устроили засаду. Они ждали прихода партизан. Вскоре из леса показалась группа партизан, направляющаяся в сторону деревни. Подпустив партизан на близкое расстояние, полицаи открыли прицельный огонь. Несколько партизан упало. Но или фашистские пособники поторопились, или боялись близко подпускать партизан, им удалось убить не всех народных мстителей. Партизаны, спрятавшись в лощине, ответили огнем на огонь. У них оказался ручной пулемет. И, несмотря на свое численное превосходство, полицаи ничего не могли с ними поделать. Началась перестрелка. Над хатами засвистели пули. Все, кто мог, попрятались в вырытых в огородах укрытиях, в погребах. Мне с Закией дорога к дому была закрыта. С детьми на руках мы побежали в лес. Но и партизаны, отстреливаясь, отходили в сторону леса. Полицаи, преследуя партизан, также устремились в лес. Перестрелка продолжалась и в лесу. Что нам делать? Как спастись? С детьми далеко не убежишь. В минуты предельной опасности инстинкт жизни часто сильнее материнского чувства. И я с Закией выбрали надежное место под столетним дубом, положили туда детей, а сами побежали. Инстинкт самосохранения гнал нас все дальше и дальше от смерти. И когда перестрелка прекратилась, мы оказались далеко от деревни в незнакомом месте. В лесу вновь установилась глубокая тишина, только о чем-то шептались кроны вековых дубов и щебетали беззаботно птицы. Мы остановились. Выстрелов больше не слышно, бой окончен. Мы пошли за детьми. Но что это? Детей нигде нет, не можем их найти. Что делать? Нас охватило отчаяние. Лес велик, а мы не запомнили места, где оставили детей. От отчаяния и бессилия полились слезы. Мы метались по лесу, не зная, что предпринять. Ведь день уже клонился к вечеру, скоро станет темнеть, и тогда детей и вовсе трудно будет отыскать. А за ночь всякое может случиться с беспомощными и беззащитными существами. Идти в деревню за помощью нельзя - только потеряешь драгоценное светлое время. Нужно искать, не пропустить ни одного кустика. В отчаянии мы кричали, тщетно надеясь, что крики услышат дети. Иногда мы останавливались, застывали на месте, чутко прислушивались, не слышно ли где детского плача. Но все напрасно. И когда , казалось, надежда совсем исчезла, мы вдруг увидели женщину, которая звала нас, махала нам платком. Подбежали к ней. Это была жительница Липовца Марья Булай. Она собирала ягоды и набрела на детей. Она стояла около детей и ждала, когда появится кто-нибудь из взрослых, оставивших детей. Как мы обрадовались, когда увидели своих детей целыми и невредимыми. Они проснулись и своими ясными, невинными глазами смотрели на окружающий мир, не понимая, что вокруг. Я мысленно поклялась никогда больше не оставлять своего ребенка. Но, увы! Жизнь часто заставляет нас поступать вопреки нашим желаниям и намерениям.
1944 год. Позади три страшных года войны, освобождение близится, так хочется выжить... И вот подпольный Холопеничский райком КПБ принимает решение отправить меня с сыном на Большую землю, в тыл страны. В лесу, недалеко от деревни Огурец, расчистили площадку для посадки самолетов. Из Большой земли прилетали легкие самолеты, кукурузники, как их тогда называли. Они привозили для партизан почту, оружие, медикаменты, питание, а увозили в тыл раненых, женщин, детей. 5-го марта я с сыном должна была прибыть на партизанский аэродром. За мной прислали партизана с подводой. Как плакал Павел, прощаясь с внуком, как трогательно расставался со мной. А провожать до аэродрома поехала моя дорогая Зося. Путь неблизкий, километров десять лесными тропами, а на пути затянутая льдом речка. Лед уже весенний, тонкий. Неудивительно, что он проломился, и мы очутились в ледяной воде. Нас вытащили с трудом, вся одежда промокла. Но ничего, и на сей раз всё обошлось, а на душе и грустно, и радостно. Грустно и печально потому, что оставляем больных, таких дорогих и близких нам людей. Радостно оттого, что впереди надежда на жизнь без облав, преследований, страха за свою жизнь и жизнь малыша. Приехали. Большая, ровная поляна, по краям которой горят яркие костры. С минуты на минуту ждем самолета. Партизаны готовы принять груз, отправить документы. Кроме меня с сыном, пассажиров не было. Вдруг услышали гул мотора приближающегося самолета. Сердце замерло от радости: наконец-то буду на свободе. Но мечте не суждено было тогда осуществиться. Произошло непредвиденное: самолет был немецкий. Кто-то предал, сообщил врагу время и место прилета самолета. Посыпались бомбы. Партизаны рассеялись по кустам. Кругом лес, спрятаться есть где. А мы, ошеломленные, сидели на санях. Лошадь от испуга понеслась во всю мочь, нас выбросило из саней в разные стороны, сани перевернулись. К счастью, все остались живы и целы, потому что упали на мягкий, пушистый снег. Сбросив свой смертоносный груз, самолет улетел. Уже догорели костры, когда вернулись партизаны. Привезли нас в деревню Огурец, где располагался партизанский штаб. Переночевали, а утром нас отвезли в Липовец. Как рад был встрече с нами Павел! А сын бросился к дедушке обнимать его и целовать. Больше мы уже не пытались улететь на Большую землю.
Я до сих пор храню командировочное направление райкома партии. Оно да еще справка, выданная после войны сельсоветом, являются документами, свидетельствующими о моем пребывании на оккупированной территории. Время неумолимо летит вперед. С каждым днем все ближе и ближе освобождение. По сводкам знаем, что оккупантов гонят, уже освобождены многие населенные пункты родной Белоруссии. Но чем ближе свобода, тем опаснее жить. Смерть кружит вокруг нас. Весь скот угнан в Германию, в деревне непривычная тишина: ни одной собаки, ни одной коровы и свиньи не осталось. Люди рассказывают, что, отступая, фашисты уничтожают все, оставляют за собой выжженную пустыню. Вскоре и мы убедились в этом. В конце мая партизаны предупредили нас, что скоро начнутся карательные акции: будут жечь деревни, молодежь угонят в Германию, женщин, детей, стариков, больных уничтожат, прочешут лес (такого еще не было), для этого немцы сняли воинские части с фронта. Нам назвали приблизительное время начала карательной экспедиции, посоветовали спасаться, как кто может. Предупредили и ушли. Партизанские отряды отходили в болотистую, трудно проходимую местность в районе озера Палик. Как спасаться? Куда идти? Люди совершенно беззащитны. Даже лес на этот раз не сможет нас уберечь. Все, кто помоложе и посильнее, решили все же уйти в лес. Что мне делать? Всегда такая уравновешенная и рассудительная Зося решает: ты уйдешь с молодыми. Но как оставить стариков, ребенка? Какая их участь ждет? Я упорствовала, сопротивлялась, не хотела уходить. Но свекровь вытолкнула меня из хаты со словами: “Ты должна выжить”. И я вспомнила, как в далёком уже 1941 выпроводила меня с почти такими же словами моя мама. С болью в сердце простилась со всеми дорогими мне людьми и ушла догонять остальных. Пришли в лес. Все цветет и благоухает в эту пору года в лесу. Быстро промчался день. Наступила ночь. Небо чистое: ни облачка, всё в мерцающих звёздах. Тревожно в лесу. Со всех сторон слышны какие-то неясные звуки, шорохи. Ровными рядами выстроились белоствольные берёзки, словно свечи, освещая дорогу, их ветки, склоняясь, друг к другу, о чем-то шепчутся. О, если бы знать, что шепчут они, о чем рассказывают друг другу. Но это тайна природы, человеку не дано её познать. Коротка летняя ночь. Никто из нас не заснул, проговорили всю ночь напролёт, а думали об одном: “Что готовит нам наступающий день? Не будет ли он последним днем жизни?” В лесу мы были не одни, ведь и жители других, соседних деревень коротали ночь в лесу, хотя мы друг друга не видели. А утром к нам присоединились два партизана: Ивановский и Коваленко. Оба вооружены. Как они к нам пристали? Отстали от своего отряда или умышленно остались в лесу? Под их руководством мы двинулись вперед. Около восьми утра немцы начали бомбить лес, и все бросились врассыпную. В это время исчез Ивановский. Позже мы узнали, что он нашел хорошее укрытие в дупле дерева, где и спрятался. Остался жив. А Коваленко, обезумев от страха, подняв заряженный револьвер, гнал перед собой толпу растерявшихся, напуганных людей, угрожая застрелить каждого, кто свернет в сторону. Посмотрев на него, я ужаснулась Лицо какое-то страшное, побледневшее, глаза пустые, ничего не понимающие. Он полностью растерялся, потерял над собой контроль, не знал, что делать, что предпринять в данной сложной ситуации. А тем временем немцы начали прочёсывать лес, и кольцо окружения неотвратимо сжималось вокруг нас. Я поняла, что ещё немного, и мы очутимся в ловушке, да и силы были на исходе, бежать больше не могла. Рядом со мной бежали Люба и Настя, мои ровесницы. Я им шепнула: “Давайте отстанем”. Они колебались. Шёпотом уговариваю: “Нас окружают немцы. Поймают с партизаном, всех расстреляют. Если поймают одних, может, спасёмся”. Этот довод показался им убедительным, и мы незаметно отстали от основной группы. К несчастью, мой прогноз подтвердился. Уже через несколько минут толпа была окружена плотным кольцом карателей. Коваленко живым не сдался: успел застрелиться, а молодежь немцы погнали для отправки в Германию, и многие из них живыми домой не возвратились. А мы, передохнув, шли и шли, сами не зная куда. Цепи карателей двигались вперед, прочёсывая лес. К счастью, шли они без собак-ищеек. Мы видели их из-за стволов деревьев, слышали их голоса. Нам пришлось лечь на землю, прижаться к родимой матушке-земле, стараясь слиться с окружающим ландшафтом. Заметить нас в густой высокой траве среди пышных кустов и высоких раскидистых дубов было очень трудно, разве что наступив на нас. Кусты и трава надёжно укрывали, прятали нас. Лежим, затаив дыхание. А кругом рвутся снаряды, со всех сторон над головами свистят, прочерчивая яркие траектории в воздухе, трассирующие пули. Особенно впечатляюще они смотрятся в ночных сумерках. Пули и осколки застревают в стволах деревьев. Деревья, как люди, стонут от прямых попаданий. Все обитатели леса спрятались в своих гнездах и норах. Остались только беззащитные люди на съедение двуногим зверям. Слышим голоса немцев. Идут прямо на нас. Но вдруг раздается команда “Рехт!” (направо), и они поворачивают направо, обходя нас стороной. Переводим дыхание... В это время к нам ползком приближается мужчина. Это был житель соседней деревни Добромысля. Шёпотом сказал нам, что потерял своих, и велел следить, куда он будет ползти, показывая направление взмахом руки. Он лавировал, полз то вправо, то влево, то вперед, то отползал назад. Как только мы вставали, начинал строчить пулемет. Значит, нас замечали. Снова бросались на землю, прятались в кустах, в траве. Так прошел весь день. Если бы не этот человек, не выбраться нам живыми из леса. Оказалось, что от своей деревни отошли на 15-20 километров. Совсем стемнело. Стрельба прекратилась, не слышно голосов, немецких команд. В лесу тихо-тихо. Наш проводник сказал нам: “Спасены. Немцы ушли далеко вперёд”. Он вывел нас в поле, показал дорогу в Липовец, а сам ушел в другую сторону, в свою деревню. А ночь теплая-теплая, ясная, небо усыпано яркими звёздами, воздух, настоянный на аромате полевых цветов, чист и свеж. А на сердце тревожно. В деревню идти ночью боимся, а вдруг там немцы. Вторые сутки ничего не ели, не пили, но голода не чувствуем, а жажда мучает.
И вдруг я вспомнила, что недалеко от деревни на поле построил мой свекор Павел убежище и замаскировал так искусно, что и днем найти нелегко. Я быстро нашла его по известным мне приметам, открыла вход и предложила моим спутницам залезать, но они боялись. Делать нечего, лезу первой, а за мной Люба и Настя. Дно выстлано соломой, можно лечь. Все предусмотрел этот добрый человек. Здесь провели ночь, а на рассвете отправились в путь в родную деревню. Идем молча, не смотрим друг на друга, ведь ничего не знаем о судьбе деревни и её жителей. Но вот и деревня. Вошли. О, ужас! Деревни нет. Одни кирпичные комины торчат, показывая места, где стояли дома. Кругом мёртвая тишина. Не видно ни души. На месте нашего дома торчит комин, дымится пепелище, тлеют головешки. Где же мои дорогие старики, где мой сыночек? Взяла палку и стала разгребать пепелище, думала найти хоть обуглившиеся косточки моих близких, самых близких, самых любимых и дорогих. Не нашла. Побрела дальше по улице. Что это? Не мираж ли? В самом конце улицы стоит хата. Целёхонькая. Там, кажется, есть люди. Чуть живая, захожу туда. А в хате все жители деревни, и с ними Зося, Павел, сынок мой. Как уцелели, рассказывают мне после объятий, поцелуев, слёз радости. Рано утром каратели ворвались в деревню. Разбрелись по хатам. Обыскали везде, но ничего ценного не нашли: у жителей уже ничего стоящего, заслуживающего внимания, не осталось. Начали жечь дома с немецкой пунктуальностью, с крайнего дома. А второй с краю - наш, Зося стояла во дворе, держала на руках внука. Подошёл факельщик, приказал посадить ребёнка на землю, а самой выносить из дома вещи. Зося отказалась, боялась, что ребёнка застрелят, как только она отойдет. Дом подожгли, а когда вся улица полыхала огнем, жителей загнали в последний оставшийся целым дом, заколотили, зашили досками окна и двери, чтобы никто не мог убежать. Стоны, крики, плач, мольба о пощаде.…Всё напрасно. И вот уже плеснули керосином. Оставалось чиркнуть спичкой и... конец. Но случилось чудо. Бывают на свете чудеса: за мгновение до трагедии примчался конник, что-то сказал поджигателям, и они куда-то умчались. Хозяин дома Иван Дирко всё это видел с чердака. Все уцелели, но остались без крова, без всего, что было нажито трудом нескольких поколений. Больше мы не видели оккупантов. Время от времени приводили из лесу отставших от своих частей немцев. Страшно и жалко было смотреть, во что превратились “завоеватели”.
Помню, как одного фрица приволокли дети из леса. Он настолько ослаб от голода, что не мог стоять на ногах. И, несмотря на то, что натворили фашисты в наших местах за годы оккупации, женщины пожалели его и вынесли миску похлебки. А другого и у самих ничего не было.
Но если по отношению к поверженным и униженным немцам народ проявлял великодушие и милосердие, то предательство и измена не находили оправдания, и иуды, за тридцать серебренников служившие чужеземным завоевателям, не могли рассчитывать на прощение. Мне запомнился один поучительный случай. В краснолукском гарнизоне прославился своей жестокостью и коварством старший полицейский Булай (имя за давностью лет запамятовала). В течение трех лет он верой и правдой служил оккупантам. Несколько раз партизаны хотели его убить, но он обладал каким-то звериным чувством опасности, и всякий раз ему удавалось в последний момент выскользнуть из неизбежной западни и избежать справедливого возмездия. После каждого такого случая он ещё больше наглел, демонстрируя свою неуязвимость. Много крови на руках этого палача. Но вот наступило долгожданное освобождение. Не знаю по какой причине, он не удрал со своими хозяевами. Некоторое время он где-то скрывался, а затем в один из летних дней 1944 года явился в Липовец, где у него были родственники. Куда девалась его спесь и высокомерие, покровительственный начальственный тон? Он превратился в плюгавого, заискивающего, словно побитая собака, субъекта, вызывающего не жалость, таких типов нельзя жалеть, а омерзение и гадливость. Пустив слезу (так и хочется написать крокодилову) и стоя на коленях, он умолял его спрятать, спасти его “драгоценную” жизнь. Но люди помнили его в другом качестве, в другом обличье. Слишком много преступлений тянулось за этим человеком, чтобы можно было это так легко забыть и простить. Ни у одного жителя Липовца не нашлось ни единого доброго слова в его адрес, ни одного слова сочувствия. Его просто прогнали из деревни.
***
Все жители деревни поселились в единственном уцелевшем доме. У каждой семьи был свой уголок на полу. Там спали, ели (если было что). Скота нет. Огороды не засеяны, озимые вытоптаны. Начался голод, а с ним и болезни. Особенно тяжело болели старики и дети. Перекопали все прошлогодние картофельные поля, собирали чудом найденную картошку, варили съедобные травы. Началась эпидемия дизентерии. Мой сын стал от голода пухнуть, не мог ходить, перестал говорить. Свекровь, заболевшую дизентерией, перенесли в сарай. Что делать? Где искать помощь? Власти распорядились от имени правительства отпустить семена на проведение посевной. На свою ответственность председатель колхоза часть семян распределил между голодающими. Мололи зерно на муку. Свекровь немного поправилась, а ребёнок мой таял на глазах. Врачей нет, лекарств нет, питания нет. Узнали, что в соседней деревне Занёчье остановилась то ли на отдых после боёв, то ли по пути на фронт какая-то воинская часть. Ведь война ещё продолжалась, почти целый год оставался до долгожданной победы. Пошла в эту деревню, спросила у бойцов, есть ли в части врач. Разыскали молодого врача, недоучившегося студента медицинского института, который никогда не лечил детей, но он пошёл со мной в Липовец, осмотрел всех детей, выслушал сына, дал таблеток аспирина и ещё каких-то лекарств, но сказал, что вылечить может только хорошее питание, а у нас и плохого не было. Диагноз у всех один - голод.
Не все дети выжили в это трудное время. Чтобы спасти ребёнка, отправилась по деревням покупать козу. За деньги никто ничего не продавал, всё меняли на вещи. Но никаких вещей у нас не осталось. Единственное богатство - это ручная швейная машинка, закопанная в землю и потому уцелевшая. В жаркий летний день отправилась на поиски козы. На пути одна за другой сожженные деревни, разруха и голод. Кто- то посоветовал идти в Крупский район, где есть села, не пострадавшие от оккупантов, потому что в них стояли немецкие гарнизоны и многие жители сотрудничали с врагом. Отступая, фашисты там не угоняли скот, не жгли дома. К концу дня добрела до большого села Игрушка. Увидела добротные дома, в каждом дворе коровы, свиньи, куры, собаки. Село большое, несколько улиц. Уже темнело, когда зашла в крайнюю хату. Прошусь переночевать. Хозяйка спросила, кто я и откуда иду. Я рассказала, что иду из деревни Липовец Холопеничского района. Хозяйку дома как жаром обдало, она закричала: “В вашей деревне одни бандиты живут (так называли оккупанты партизан), слышали мы о вас”. Ночевать не пустила, перед самым носом дверь захлопнула. Совсем стемнело, когда постучала в дом на другой улице села. Хозяйка задала мне те же вопросы. Пришлось схитрить. Назвала другую деревню, сказала, что муж был полицаем и после прихода Советской Армии его арестовали и увезли в Борисов, в тюрьму, а я иду его проведать. Как она меня приняла! Напоила, накормила, оставила ночевать, дала утром с собой три бутылки молока, полбуханки хлеба, мешочек коржиков для мужа, посоветовала, у кого можно купить козу. Я поблагодарила и ушла, но всю дорогу плакала от обиды. Дома накормила ребенка и стариков, рассказала Зосе обо всем. Плакали вместе. Решили собрать все, что у нас осталось, и идти покупать козу. Взяли швейную машинку, отрез на платье довоенного времени и отправились в путь. Идти далеко, свекровь чуть дотянулась. Через сутки пришли к моей старой знакомой. С каким уважением отнеслась она к матери полицая, с каким сочувствием! Накормила, сводила в баню, оставила ночевать, а утром уговорила свою сватью продать козу людям, пострадавшим от Советской власти. Как протестовала душа моей порядочной, честной Зоси против несправедливости судьбы, вынудившей нас пойти на обман! Купили козу. Счастливые, ведем её на верёвочке и ног под собой не чуем. Прошли километра два и слышим: кто-то нас догоняет. Оглянулись, а это бывшая хозяйка козы бежит следом и кричит: “Стойте! Отдайте козу! Все говорят, что дешево отдала”. Что делать? У нас больше ничего нет. Сняла моя свекровь с себя старую кофту, платок с головы и отдала ей. На этом разошлись, но всю дорогу оглядывались, боялись, что снова передумает она. К вечеру добрались домой. Все жители Липовца высыпали на улицу. Коза - первое животное, вновь появившееся в сожженной деревне. Мой сын соскользнул с рук деда, подполз к козе, обнял её своими ручонками и поцеловал. Это была трогательная до слез сцена: ребёнок чувствовал, что в козе его спасение. И действительно, он начал поправляться, появилась надежда, что выздоровеет и выживет.
Все сроки посевной прошли, а колхозные поля не засеяны: нет лошадей. Но потом прислали откуда-то пару лошадей, кое-как обработали колхозные поля. Как быть с личными огородами? Запряглись в плуг сами, мы с Зосей таскали плуг вместо лошади, а Павел управлял им. Так засеяли огород, а потом начали строиться. Друг другу помогали, строились дружно, талакой. Что мог бы сделать один Павел, старый больной человек? Не оставили нас люди в беде. Где-то в другой деревне нашли заброшенную истопочку. Всей деревней помогали перевезти и поставить халупку на нашем старом подворье. Сложили из кирпича старой печки печь, вставили два маленьких оконца, пол земляной. Какой убогий вид имела эта хатка! Стены и потолок черны от сажи. Из стен торчал мох. Но были рады и этому жилью. Спасибо всем добрым людям, оказавшим нам помощь. За год, помогая друг другу, деревню восстановили. Все построились, кто лучше, кто хуже. Хочется сказать, что несправедливо относились власти к колхозникам. В городах ввели карточную систему, по карточкам хоть что-то получали. А в деревне карточек не было, ниоткуда никакой помощи не поступало. Даже скромная помощь из Америки в первые послевоенные годы и та оседала в райкоме и райисполкоме. А осенью приезжали заготовители и выгребали последнюю картошку. Сколько умерших от недостаточного питания и возникающих на этой почве болезней похоронили в нашей деревне в эти годы…
Ещё одна напасть обрушилась на нашу нищую, опустошенную местность. В спешке, отступая, фашисты побросали своих овчарок. Они стали бродячими, одичали и разбрелись по всему району. Жили они в лесах и питались падалью. Но скоро они стали нападать на домашних животных и даже на людей. Они перегрызали жертве горло, выедали мягкие места. Овчарки настолько обнаглели, что стали подходить к деревням, а то и заходить на двор и хватать там свои жертвы. Стало страшно выходить за пределы своего двора. А ходить всё равно надо было. Транспорта ведь никакого не было. Я везде ходила пешком: в сельсовет, в школу, в районный центр. И каждый раз, уходя из дома, я прощалась и думала, что не возвращусь. Но судьба была ко мне благосклонна. И овчарок я не встретила ни разу. А в нашем районе от них погибло много людей. Забили тревогу. Из области прислали бригаду егерей для борьбы с этими четвероногими убийцами. За несколько месяцев их выследили и уничтожили. Все свободно вздохнули. Страх прошел.
1-го сентября 1944 года в деревне Колтки открылась начальная школа. Я начала там работать. Каждый месяц учителя получали паёк - ржаную муку. За ней надо было идти в Кащино, в магазин. По полтора пуда носила на спине, но мы уже не голодали. Раз в два месяца получали на семью кусок хозяйственного мыла. После первой получки отправились со свекровью в Лепель и купили поросенка. Позже купили корову. Одежда вся была самотканая, обувью служили лапти. Готовилась к урокам, писала планы и проверяла тетради при свете лучины. Все переносили терпеливо, ведь ждали конца войны.
Школа в Колтках представляла собой невзрачное деревянное здание довоенной постройки. В этой школе учились дети пяти окрестных деревень: Колтков, Липовца, Колочинцев, Занёчья, Фёдоровки. Все учителя были местными жителями. Некоторые не имели никакого педагогического образования. Но выбирать было не с кого. Ведь еще шла война. Я вела один из классов и одновременно была завучем школы. Ученики были одеты очень плохо. Но не лучше были одеты и учителя. Учебников, тетрадей, ручек, карандашей, перьев для ручек, чернил не было. Писали на чем попало: на картоне, на обрывках оберточной бумаги, на гладких деревянных досках. У некоторых сохранились старые, довоенные учебники. Всё, что находили, приносили в школу. Мы все сообща пользовались этими учебниками. У меня не было тетради, чтобы писать планы к урокам. Кто-то из детей принес мне несколько листов немецкой бумаги. Она была беленькая, блестящая, толстая. Она обладала очень важным свойством: написанное можно было смыть, а бумага нисколько не портилась. Она мне напоминала старинные грифельные доски.
Идти в Колтки можно было двумя путями. Из Липовца в Колтки вела широкая проезжая дорога. Это обычная сельская проселочная дорога, поросшая летом травой. Но самой короткой была узкая тропинка, по которой предпочитали ходить жители Липовца, дорожа своим временем. Тропинка начиналась в конце деревни, возле сельского кладбища. За кладбищем протекал широкий, полноводный ручей. Весной и осенью он разливался, затапливая окрестные луга. Перейти ручей можно было по узкой, скользкой кладке. Зимой ручей замерзал и становился естественным, природным катком, где с утра до позднего вечера развлекалась деревенская детвора. Ни в то время, ни позднее, в первые послевоенные годы, ни у кого из детей не было настоящих, заводских коньков или лыж. Коньки делали местные умельцы из дерева, их подвязывали веревками к лаптям, и тогдашние дети получали от этих немудреных приспособлений массу удовольствия. Почему-то предпочитали кататься на одном коньке, второй ногой отталкиваясь ото льда.
За ручьем начинался лес. Тропинку, ведущую в Колтки, справа обступал густой лес, слева - высокий кустарник. По этой тропинке ходили только пешеходы. В Липовце детей-школьников было немного. Они все по утрам собирались у нашего дома, и мы вместе направлялись в школу. Назад возвращались врозь. Ни наручных, ни стенных часов в деревне ни у кого не было. Главным ориентиром времени по утрам были петухи. С петухами вставали, но иногда и петухи путали время. Днем, в солнечную погоду, ориентировались по солнцу. Да и у каждого человека есть свои биологические часы, позволяющие ему ориентироваться во времени. Вставали очень рано. Ведь надо было затопить печь, нагреть воду, приготовить немудреный завтрак. Кроме того, и дорога, особенно зимой, когда тропа занесена снегом, отнимала много времени. Февраль 1945 года. Зима в полном разгаре. В этот злополучный день встала, как всегда, рано. Собралась в школу. Жду детей. Их нет. Хотела посмотреть в окно: ничего не видно. Окна закованы толстым ледяным панцирем. Хотела открыть дверь, но не тут-то было - не открывается, за ночь столько намело снега, что закупорило вход. Павел лопатой отбросил от дверей снег, расчистил дорожку. На улице творилось невообразимое: ветер, снег валил хлопьями, все заметено, кругом глубокие сугробы. Домов не видно. В таких случаях в народе говорят, что в такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выпустит. Детей в школу не пустили. А мне идти надо. Пусть дети из отдаленных деревень и не придут, но местные школьники придут. Зося и Павел советовали в школу не идти. Но долг есть долг, и я решила все же идти. Вышла. На душе как-то тревожно. Иду, проваливаясь в сугробы, выбираюсь и вновь проваливаюсь. Не видно ни зги. Колючий ветер дует в лицо. Ветер настолько сильный, что делаю несколько шагов и останавливаюсь, перевожу дыхание и снова иду. Дошла до кладбища. Мне стало как-то жутко. Всё вокруг покрыто белым саваном. Деревья сгибаются и трещат под тяжестью снега. Кресты покрыты снегом, как солдаты маскировочными халатами. Мне чудится, что раздаются звуки то похожие на детский плач, то на завывание волков. Постояла в сомнении несколько мгновений, размышляя: идти или вернуться. Внутренний голос мне говорил: “Вернуться, немедленно вернуться, пока ещё не поздно”. Но я не поддалась минутной слабости и медленно тронулась с места. Вот уже и пройден ручей. Остановилась, чтобы перевести дыхание и отряхнуть с головы снег. Но что это? Со стороны леса выскочила большая серая собака. Я не успела испугаться. Подумала, что вслед за собакой скоро покажется охотник с ружьем. Но в этот момент собака, увидев меня, остановилась и уселась на задние лапы. Через минуту на тропинку выскочили из леса еще четыре собаки, размером поменьше. Они также уселись на тропинке, перегораживая мне дорогу. “Волки”, - внезапно поняла я. Волки были на расстоянии 100-150 метров от меня. Я похолодела от ужаса и почувствовала, как волосы на голове встают дыбом, а затем я вся покрылась холодным потом. Но в такие критические моменты организм работает в полную нагрузку. Несмотря на охвативший меня ужас, голова оставалась холодной, мозг работал безотказно, анализируя сложившуюся обстановку. Главное, не впасть в панику. Я полностью и отчетливо представляла всю ситуацию. Я вспомнила, что нельзя ни в коем случае поворачиваться к волкам спиной, а главное, нельзя ни при каких обстоятельствах убегать от них. Убежать от них ведь все равно не удастся, а вид убегающего пробуждает у них охотничий инстинкт и желание настичь жертву. Я не растерялась. Как только я делаю шаг вперед, волки немного отступают. Останавливаюсь, и они останавливаются. Незаметно стараюсь сделать шаг назад, затем останавливаюсь. Стараюсь ни в коем случае не повернуться к волкам спиной, а тем более, не дай бог, упасть. Тогда - неизбежная гибель. Так незаметно и крайне осторожно, шаг за шагом, отступаю к ручью. Главное перейти ручей, а дальше деревня. Вряд ли волки осмелятся приблизиться к деревне. Трудно сказать, сколько времени длился этот поединок со смертью. Я думаю, что не менее часа. Вот я сделала последний шаг и ручей позади. Теперь я смогла перевести дух. Я поняла: я спасена. В этот день я в школу не пошла. Если бы я вышла из дома на минуту раньше, то путь к отступлению был бы закрыт: волки оказались бы со стороны деревни. И я бы стала их неминуемой жертвой. Значит, судьба. И я осталась жива. Как после этого не верить в судьбу, в предназначение?
Похожий случай был у меня ранней весной этого же года. Рано утром пошла в школу одна. Ручей засыпан снегом. Но под ним лед был уже тонкий-тонкий. Как только ступила на снег, лед провалился, и я оказалась в ледяной воде. Ноги отяжелели, смесь снега и льда мешала выбраться на берег. Я хваталась за кромку льда, а она крошилась, не было за что ухватиться, найти точку опоры. Я беспомощно барахталась в этом крошеве снега, льда и воды и не могла вырваться из ледяного плена. Вот тут-то и промелькнула мысль: “Конец!” Спастись без чей-то помощи я не могла. И хотя говорят, что нет передачи мысли на расстояние, что-то все-таки существует. Павел с Зосей почувствовали что-то неладное. Павел опрометью бросился к ручью. Предчувствия его не обманули. Он вытащил меня из ледяного “плена”. Привел еле живую домой. После этой “бани” я долго болела.
И вот наступило 9 мая 1945 года, день Победы. Ликовали и плакали люди. Радостно и больно, печально и горько было мне в этот день. Я уже знала, что в Борисове погибли мама, сестры и их семьи, семья брата - все мои родные и близкие, всего13 человек, не считая других родственников, друзей, знакомых. Уцелел только брат, находившийся в армии. Ждем весточки о муже. И вот пришло извещение, что наш дорогой и любимый Федор Игнатьевич Скумс пропал без вести. Все рухнуло. Я потеряла любимого мужа, а мой ребёнок - отца, Зося - единственного сына. Какое огромное, непоправимое горе! До сих пор удивляюсь выдержке и силе духа моей свекрови. Эта мужественная, стойкая женщина старалась успокоить и утешить меня в нашем общем горе. Никогда не плакала при мне. Лишь в мое отсутствие давала волю слезам. До сих пор я не знаю точно, где и когда погиб Федор Игнатьевич. У меня уже более пятидесяти лет хранятся три письма Малюгина П.Н. от 26.09.1944 г., 15.01.1945 г., 2.10.1945 г., учителя Обчугской средней школы. Он 3-го июля 1941 года ушел на фронт вместе с Федей, моим мужем, и другими учителями, и который единственный из них остался в живых. Из его писем судьба Федора Игнатьевича прослеживается до середины сентября 1941 года. Из Толочинского райвоенкомата все обчугские учителя попали в одну часть: во 2-ую роту батальона обслуживания станции снабжения 20-й армии, т.е. в рабочий батальон. Но, как пишет Малюгин, вместо работы приходилось отбиваться от наседавшего врага. Трижды пришлось вырываться из кольца окружения. Это - Красное, Катынь и страшная Соловьёвская переправа через Днепр. Все эти этапы Федя прошёл невредимым. Расстался Малюгин с Фёдором Игнатьевичем в районе города Дорогобужа. А 2 октября 1941 года войска 20-й армии попали в гигантский котел окружения в районе Вязьмы. И больше никаких сведений о судьбе Федора Игнатьевича нет. Обращения в архив Министерства обороны СССР тоже не дали никаких результатов.
После освобождения были снова восстановлены колхозы. Восстановлен был колхоз и в Липовце. В этот колхоз входили три деревни: Липовец, Колочинцы, Занёчье. В каждой деревне была создана отдельная бригада. Руководил колхозом Иван Дирко. Как я уже писала, земля в Липовце неплодородная, каменистая, требующая заботливого, хозяйского ухода. Чтобы получить подходящий урожай, какую-то отдачу от земли, нужно вносить удобрения. В те годы минеральные удобрения не употребляли. И колхозные поля, и приусадебные участки колхозников удобряли навозом. Но чтобы был навоз, нужен скот: коровы, лошади и другая живность. После войны никакого скота не осталось. Не было на ком и обрабатывать землю: все под чистую забрали оккупанты. Правда, из Германии пригнали трофейных коров, и районное начальство распределило их по сельсоветам, а сельсоветы - по колхозам. В наш колхоз попало шесть коров: по две на каждую бригаду. Но что это были за коровы! Они были худые, измученные, голодные, больные. Эти безвинные существа тоже были своеобразными жертвами войны. Их согнали из родных мест и пригнали на чужбину. Этих коров-чужеземок в колхозе стали использовать в качестве тягловой силы. Их запрягали в плуг и пахали поля. К такому труду они не привыкли. Эти немецкие животные не прижились и вскоре все передохли. Не удивительно, что урожаи снимали мизерные. На трудодни в колхозе почти ничего не получали. Всё, что снималось с колхозных полей, шло в “закрома” Родины. В первую очередь нужно было сдать госпоставки, потом засыпать семена для будущего урожая. А колхозникам ничего не оставалось. Колхозники жили за счет того, что снималось с приусадебного участка. Урожаи были настолько низкие, что иногда снимали урожай не на много больше засеянного. Но самое страшное было то, что каждый, кто имел земельный участок, обкладывался налогами. Каждый владелец приусадебного участка должен был сдать государству определенное количество картофеля, яиц, молока, масла, мяса. В расчет не принимались ни урожай, ни наличие коровы, кур и другой живности. Никого это не интересовало. Положено. Сдай, а нет - доставай, где хочешь, но чтобы в срок рассчитался. За невыполнение этого драконовского закона строго наказывали. Где было взять молоко или масло тем колхозникам, которые не имели коровы? Продавали, что только могли и на вырученные деньги покупали в других районах мясо, масло, яйца и сдавали государству. В первые послевоенные годы таким местом, где можно было купить или выменять на промтовары сельскохозяйственные продукты и по относительно низкой цене, была Западная Белоруссия, где еще не было колхозов и где земля находилась в частных руках. За своевременной сдачей продналога следила целая армия так называемых заготовителей. Как правило, на этой работе были жестокие и бессердечные люди, неуклонно выполняющие задание партии. Впрочем, и о себе они тоже не забывали.
В этой связи вспоминается такой случай: в Липовце жила Наталья Кныш. Её муж погиб на фронте, у неё было четверо детей. Жили они страшно бедно даже по тем понятиям. В 1946 году лето выдалось холодное, дождливое. На низких местах картошка сгнила. Наталья собрала со своего приусадебного участка крайне низкий урожай, картошка мелкая, как орешки, в хорошие урожайные годы такая картошка шла только на корм скоту. А теперь и такой были рады, но её слишком мало. А тут еще государству надо сдавать в счет налога. Наталье несколько раз присылали из сельсовета напоминания, что надо сдать картошку, но сдавать-то нечего. Она собрала в сарае весь выкопанный картофель. Когда приехал заготовитель, Наталья закрылась в сарае и сказала, что не впустит его. Он взломал дверь, вошёл в сарай, оттолкнул отчаявшуюся женщину, сгреб всю картошку в мешки и, как ни в чем не бывало, с чувством исполненного долга, уехал, оставив семью на голодную смерть. Через два дня Натальи Кныш не стало: от отчаяния и безысходности она повесилась. Из райцентра приехала подвода, погрузили детей, как ненужный хлам, и увезли в детский дом. Заготовителя никто не наказал: ведь он действовал в пределах закона, защищая интересы государства. Ведь картофель нужен строителям коммунизма. А то, что погиб человек, а дети стали сиротами, никого особенно не волновало, ведь “когда лес рубят - щепки летят”.
 |
Обложка книги Скумс Анны Марковны "Былое" |
В послевоенные годы сельским жителям приходилось много и тяжело работать. Рабочий день продолжался от темна до темна. Но это вовсе не значит, что в жизни не было светлых моментов, маленьких радостей свободного времени. Как же мы проводили свой досуг? За все четыре послевоенных года, которые я прожила в Липовце, в деревню ни разу не приезжала кинопередвижка. Дети, да и многие взрослые, никогда не видели кино, и это в середине 20-го века, времени расцвета кинематографа. Мой сын впервые увидел кино только в 1950 году. Ни один житель Липовца не имел радиоприёмника. Газеты поступали только в школу и в сельсовет. Появление заезжего фотографа в 1946 году было целым событием, которое долго вспоминали. Длинными осенними и зимними вечерами сельчане собирались на посиделки. Время от времени эти посиделки посещала и я. Я с собой приносила взятые в школе газеты и читала их вслух. Вскоре чтение вслух газет стало привычным делом, и сельчане с нетерпением ждали моего прихода. После чтения обсуждали те или иные статьи, особенно касающиеся международного положения. Люди в те времена слепо верили печатному слову: и мудрости и гениальности великого Сталина, и проискам англо-американских поджигателей войны (я специально привожу терминологию тогдашней периодики). Верили в тяжёлое положение рабочих и крестьян капиталистических стран, в их жестокую эксплуатацию и не замечали бедность и убожество своей жизни, верили в скорое наступление счастливой, зажиточной жизни при коммунизме. У себя дома по вечерам мы после ужина усаживались вокруг стола, к нам заходили соседи, и при тусклом свете лучины я читала вслух книги. В эти зимние вечера были прочитаны только что вышедший роман А.Фадеева “Молодая гвардия”, “Повесть о настоящем человеке” Б. Полевого, повесть В.Катаева “Сын полка” и другие художественные произведения. События недавно окончившейся войны были еще свежи в памяти, продолжали волновать воображение. Слушатели с неподдельным интересом и вниманием следили за ходом сюжета. В самых драматических местах повествования слушатели не могли сдерживать свои эмоции. Они восторгались делами героев-молодогвардейцев, искренне ненавидели фашистских палачей. Дело доходило до слёз, когда я читала страницы, описывающие допросы и казнь молодых патриотов, слушатели вскакивали со сжатыми кулаками, глаза их горели ненавистью, они проклинали фашистов и их пособников. Большое впечатление на слушателей произвёл и подвиг Алексея Мересьева. Посыпались вопросы о жизни и судьбе этого мужественного человека. Пришлось покопаться в газетах, расспросить своих коллег, чтобы более подробно рассказать о жизни летчика-героя. Не меньше разволновала всех судьба мальчика-пастушка Вани Солнцева, ставшего сыном полка, героя повести В.Катаева. Любили мои близкие слушать и звонкие, ритмичные стихи белорусского поэта Аркадия Кулешова, посвященные войне. Большой успех имели такие стихотворения, как “Комсомольский билет”, “Посылка”. Из русских советских поэтов вне конкуренции был Константин Симонов, его военная лирика. Следует сказать, что для тех, кто пережил войну, был её участником, тема войны никогда не теряет своей актуальности, и до конца жизни события тех далёких огненных лет будут неизменно вставать перед их мысленным взором, будут волновать в бессонные ночи. Такое никогда не забывается. Знаю это по себе.
Воспоминания прислал Скумс Валентин Федорович






