ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Конечно, мне надо было своевременно делать хотя бы самые краткие заметки с именами и датами, так как прошло уже 57 лет с 1915 года, когда меня призвали в армию. Я только закончил 4-ый курс Московского медицинского факультета, и поэтому мне было дано звание зауряд-врача 2-го разряда. На фронте врачей не хватало.
На обмундирование мне выдали 100 рублей, что было маловато, так как цены быстро росли. Мне надо было приобрести сапоги, шинель, штаны, гимнастерку, ремень, фуражку и шашку (саблю), так как её ношение обязательно требовалось, такая была форма. На фронте все сдали свои шашки в обоз второго разряда, и никто их не носил. Особенно трудно было обзавестись хорошими сапогами.

|

|
|
М. Яковенко, 1905 г. |
М. Яковенко, 1908 г. |

|
|
Мстислав Яковенко, зауряд-врач второго ранга, |
Выдали литеру для получения билета на юго-западный фронт, куда меня назначили.
По дороге я заехал к своим родным на станцию Яреськи (Киево-Полтавской железной дороги). Больше я билетов не брал, так как человек в офицерской форме мог садиться на любой поезд, и у него билета не спрашивали. Когда я в Москве одел форму, то сразу почувствовал изменение отношение ко мне, все стали очень любезны. Вначале вновь испеченные врачи делали некоторые ошибки, например, отдавали честь полицейским офицерам, так как у них были такие же погоны, только уже военные. Но вскоре всё наладилось.
Командированные зауряд-врачи имели путевки до города Люблин, где их собиралось уже довольно много. В городском ресторане заказали прощальный обед, и уже тут война дала «о себе знать»: продукты подорожали, некоторых совсем не было. Обслуживали ресторан поляки, и мы сразу заметили с их стороны некоторое отрицательное отношение к нам. Так было и дальше на запад, зато гуцулы (западные украинцы) относились к нам очень хорошо, а поляков не любили. Неплохо относились они и к евреям.
В конечном результате я и мой однокурсник Барков, очень энергичный и толковый человек, попали в город Львов. Здесь тоже не знали, куда бы нас приткнуть и, наконец, направили в автотранспортный отряд, специально перевозивший тяжело раненых. С каждой боковой стороны машины были устроены по две полки, так что машина могла перевозить только 4 человека лежачих. Мы с Барковым уже успели бегло познакомиться с городом, и одну ночь перед явкой в автотранспортный отряд нам пришлось переночевать в гостинице. В отличие от наших гостиниц нам вместо одеял дали перины.
Первая же поездка за ранеными была довольно тяжела. Бои шли у городских озер, ясно были слышны выстрелы и разрывы снарядов немецких пушек. У наших очень плохо обстояло дело с боеприпасами, берегли каждый патрон, а раненых было много. Они все подтягивались к городу, кто на телегах, кто на носилках, а легкораненые сами шли. Мы принимали раненых с носилок и, отвозя в город, сейчас не возвращались обратно за новыми.
В небе на небольшой высоте летали редкие немецкие самолеты, они бросали небольшие бомбочки и следили за отходом наших войск. На улицах Львова было очень тесно от массы транспорта. Машина, на которой я ехал, чуть не попала под тяжелый грузовик, наш шофер здорово устал и хорошо, что мне удалось вовремя схватить руль и повернуть машину на тротуар.
Наш автотранспорт обосновался в большом здании Львовского политехникума. Начальник был очень рад нам, устроил отличный ужин и притащил несколько ящиков с вином. После трудового дня мы с Барковым навалились на это угощение и крепко заснули. Вдруг меня будит денщик начальника: «Ваше благородие, вставайте скорее, немцы входят в город, нам надо попасть на последнюю машину, а то все уже уехали». К счастью, удалось вскочить на последнюю (действительно последнюю) машину, и на полной скорости уехать из Львова в направлении города Буск.
Но не успели мы проехать и 10 километров, как у нашей машины лопнула шина, а запасной не было. Мы уже собрались идти пешком, как вдруг вдали показалась легковая машина, идущая из Львова. Я стал среди дороги и поднял руку. Машина остановилась. В ней сидели генерал с адъютантом. Я изложил наши обстоятельства и попросил передать первой же санитарной машине, которую они догонят, чтобы она взяла запасное колесо и ехала к нам Действительно, через некоторое время к нам вернулась одна из наших машин с запасным колесом.
В Буске мы попали в военно-полевой госпиталь № 3... (точно не помню) и, наконец, через несколько дней – в военно-полевой госпиталь № 448, куда нас прикрепили. Ни в одном из этих госпиталей работы не было, раненые не поступали. Госпитали не стояли на месте, они постоянно передвигались в восточном направлении. Со стороны Австрии близко к русской границе, был городок Подкамень. Здесь на некоторое время задержался наш 448 госпиталь.

|
|
Подкаменье, 1915 г. |
Своё название городок получил от большого камня – скалы, расположенного около большого доминиканского монастыря. Монахи утверждали, что этот камень нёс в лапах дьявол, чтобы задавить монастырь, но почему-то выпустил его, не долетевши до монастыря. Я решил исследовать этот камень, и мне удалось, пользуясь небольшими углублениями взобраться наверх, где была небольшая площадка.
Уже вечерело, и надо было спускаться обратно. Это мне сделать не удалось. Опускаясь, я не видел тех выемок, которыми пользовался, влезая. Вначале решили перекинуть мне пару одеял, чтобы я переночевал на камне, а утром что-нибудь приготовить для спуска. Но кому-то пришла более оригинальная мысль: мои товарищи растянулись в цепь, передний полез по моим следам, пользуясь углублениями, я спускал ноги, а он направлял их в эти углубления. Более нижний в цепочке проделывал ту же операцию находящемуся ниже него. И вот таким образом меня сняли со скалы.
В самом монастыре мы думали достать хорошего вина, но монахи, как один, говорили, что никакого вина у них нет. Они предложили нам осмотреть монастырь, в особенности его подземелья, проложенные в известняке. Около 300 лет назад в этом местности была эпидемия холеры, и трупы умерших клали в эти подземелья, где они отлично сохранились, только сильно высохли.
В непосредственной близости от городка было владение графа Цейтнера. Сравнительно небольшой двухэтажный красивый дом, в котором расположился другой русский полевой госпиталь. Перед домом большой розовый сад и парк. Этот сад, как я потом узнал, был вырублен нашими властями для лучшего обстрела, и основной дом сожжен.
Граф Цейтнер собирал коллекции трубок и мундштуков, а также сигар, чему мы были очень рады. Кроме того, у него был завод лошадей англо-арабов (скаковых) и его управляющий охотно продавал их, так как боялся, что военные части заберут их бесплатно. Несколько молодых лошадей купили врачи того госпиталя, который располагался в доме-замке. Они платили за лошадь по 160 рублей. Я хочу сказать несколько слов о штатах нашего госпиталя. Начальником, главным врачом, был военный врач. Мы с Барковым очень сомневались в его врачебных знаниях. Рецепта, даже самого простого он выписать не мог. Жил он безо всякого стеснения со старшей сестрой. Завхоза я не помню. Для отпевания покойников был в штате иеромонах Августин, малограмотный, бывший кавалерист, большой лентяй. Подписывался он "Иеромонах Августин".
Из врачей - неплохой хирург (фамилию не помню), два врача молодых с полным медицинским образованием. Один из них – Саххара – большой любитель музыки, он мог играть на рояле целые дни, и было так, что нам попадались квартиры с роялем. Кроме того, 3 или 4 сестры милосердия.
Из Подкамня нас перевели на северо-восток в местечко Радзехов. Здесь на многих дверях и окнах были записки с надписью «Cholera». Думаю, что большинство этих записок было вывешено затем, чтобы избежать военного постоя.
Форма холеры, с которой мне пришлось впоследствии столкнуться, была лёгкой, и я не видел ни одного смертельного случая.
В госпитале лежали 2—3 больных и один раненый в зад, в мягкие части. Он, по существу, войны не видел, его часть передвигалась на позиции, а он взял котелок и побежал к реке набрать холодной воды. Тут его и ранило какой-то шальной пулей.
Наши врачи разъехались по соседним частям, у них там оказались знакомые. Вдруг меня вызывает к себе главный врач, очень взволнованный. Вот что он сказал: «Завтра осматривать наш госпиталь приезжает великий князь Борис (кажется что Борис) - это племянник царя. (С этим именем мог быть только Борис Владимирович Куликовский. Мне дедушка в устных рассказах говорил, что это был Константин [примеч. внучки, О. И. Яковенко]). А в госпитале сейчас нет врачей, я им всем разрешил навестить своих знакомых в рядом расположенных частях. Нужно найти хотя бы одного, а то будет скандал. Поезжайте, отыщите и привозите в госпиталь!».
Я потребовал ординарца, и с ним вдвоём поехали искать, не имея адресов. Всю ночь мы проканителились, никого не нашли. Главврач был в ужасе, и рапортовать, а также водить по госпиталю приказал мне, хотя это мог сделать и он сам – потом мы узнали, что он очень боялся.
Я хорошо вымылся холодной водой и поехал встречать этого Бориса, который в точно назначенный им срок приехал к нам. Это был очень высокого роста молодой человек, напоминавший дядьку Николая II – Николая Николаевича, которые был в начале войны во главе всей армии. Этот Николай Николаевич нам, молодым, нравился тем, что был очень бесцеремонен и, говорят, часто бил генералов палкой за их провинности, а этих провинностей и безобразий было много. Но Николая Николаевича за такое поведение быстро сняли с поста главнокомандующего.
Итак, я четко отрапортовал Борису о числе больных и раненых и повел его в госпиталь. На больных он смотреть не пожелал, а прямо направился к тому солдату, который получил пулю в мягкие части без боя. Я ему кратко рассказал об обстоятельствах ранения, и он вынул из кармана георгиевский солдатский крест и налепил его на грудь раненого. Я был очень поражен таким оборотом дела, но потом мы узнали, что у Бориса был полный; карман крестов, и он подряд их раздавал. После вручения креста, меня заменил главврач, у него страх прошел.

|

|

|
|
Открытки, 1916 г. |
Ночью, во время розыска врачей, мне пришлось проехать через ряд лесов, около Радзехова. Все они содержались в очень большом порядке и чистоте. В одном месте дорогу перебежало небольшое стадо газелей. Это было очень красиво.
Несмотря на то, что была эпидемия холеры, солдаты многих проходящих через Радзехов частей пили прямо из колей и луж на дороге. Офицеры их за это били. Цель этого питья была заболеть и избегнуть фронта и окопов.
Но вот наш госпиталь получил приказ переехать на другое место. Мне оставили только около 200 человек больных холерой, из которых только один был в плохом состоянии, и я распорядился сделать для него гроб. Но утром, когда гроб был уже закончен, больной почувствовал себя хорошо и уже курил «собачью ножку». Эвакуировал я всех больных без замедления.
Уже в Радзехове вместо иеромонаха у нас был нормальный молодой священник. Иеромонаха уволили за лень: отпевал не всех покойников.
Из Радзехова мы попали в Кременец. Городок старинный, весь высечен в камне. На его окраине гора «королевы Бонны», на вершине которой остатки старинных крепостных стен и огромной глубины колодец.
В самом городе во время дождей и сразу после них бывает идеальная чистота: вся грязь, которая выплескивается и выбрасывается прямо на улицы или дворы, смывается водой.
Госпиталь занял самое большое здание – бывшую духовную семинарию. Следует упомянуть, что обозная команда была превосходной, вся из татар. Все сборы в дорогу производились очень быстро и четко.
А фронт подкатывался все ближе, уже у нас говорили о выезде. Заведующий хозяйством семинарии обратился ко мне со следующим предложением: если при уходе госпиталь не сможет захватить все свое имущество, то я его могу спрятать так, что немцы не найдут. Оказывается, в этом старом помещении существует подземный ход большого сечения и ведущий куда-то очень далеко. Когда семинария функционировала, семинаристы уходили по этому ходу. Решили ход закрыть, и чтобы никто не подумал его открыть, на месте входа установили огромный железный бак, который при желании все же можно было сдвинуть при наличии большого количества людей. Госпиталь этим предложением не воспользовался.
(Мне дедушка рассказывал несколько иначе: их госпиталь эвакуировался последним из этого городка. Он отвечал за его эвакуацию, поэтому он не мог уйти со всеми. Тогда монахи в монастыре открыли им подземный ход, который начинался под купелью – старым медным баком. Купель отодвигалась, а под ней уходили вниз ступеньки. И вот уже в самом подземном ходе была свалена гора сухих худых трупов, фактически, мумий, в старинных одеждах. Монах сказал им, что 300 лет назад здесь была холера, умерших бросали в колодец, вот они с тех пор и лежат.
Сейчас, прочитав эти воспоминания, я думаю, что дедушка из двух фактов – холерных трупов и подземного хода под баком придумал приключенческую историю, которая выглядела, как описано выше в примечании. Вряд ли я могла ошибиться в том, что запомнила, очень уж романтичная история была, а рассказано это было тогда, когда я увлекалась всякими мушкетерами [прим. ОИЯ])
Через день-два после этого разговора в госпиталь начали поступать раненые в очень большом количестве, всего около 3000 человек. И одновременно требовалась их дальнейшая эвакуация, так как немцы могли не сегодня, так завтра захватить Кременец. Делались только самые необходимые операции, и началась погрузка в товарные вагоны.
Мне поручили сопровождать этот поезд. Поездка была кошмарная, обслуживающего персонала почти не было, из вагона в вагон переходить было нельзя, поезд на станциях не останавливался. Раненые требовали ухода.
Когда мы проезжали Шепетовку, то эвакпункт не хотел принимать наших раненых из-за перегруженности. С большим трудом я сдал поезд, и, найдя подводу, сейчас же поехал обратно в госпиталь. Навстречу мне попалось много одиночек, потерявших свои части, были и пьяные, которые спали по обочинам дороги, несмотря на плохую погоду. Шел мелкий дождь. Наличие пьяных объяснялось тем, что в Кременце были какие-то склады спирта, или, может быть, водочный завод, и при приближении немцев было приказано все это добро спустить во рвы и канавы. Говорили, что в каком-то подземном туннеле группа наших солдат напилась до бесчувствия, и потом кто-то из них закурил, при этом пары спирта в воздухе воспламенились, и произошел взрыв, которым несколько человек было убито. Госпиталь наш опять стали передвигать, и, в конце концов, мы оказались в Ровно. Здесь диверсанты подожгли баки с бензином, был сильный пожар.
Больных и раненых опять было мало, войны мы так и не видели. Барков и я написали заявление, чтобы нас перевели в полки.
Первого перевели Баркова в Керчь-Никольский полк, а второго меня – в 15-ый стрелковый полк «железной» дивизии. Такое название дивизия получила во время войны с турками за оборону позиций на горе Шипка, где все турецкие атаки значительно превосходящими силами были отбиты.
Название «стрелковый» имели далеко не все части. В стрелковых частях дивизия делилась на 3 полка, полк на 3 батальона, батальон не 3 роты и т.д. Кроме того, эти части снабжалась хорошо боеприпасами. А в обычных пехотных частях дивизия делилась на 4 полка, полк – на 4 батальона и т.д.
Командовал нашей дивизией (был начальником дивизии, как тогда говорили) небезызвестный в истории, тогда еще генерал-майор Деникин. Командиром полка был любимец Николая II флигель-адъютант полковник Сухих Владимир Иванович. Был он любим Николаем II за то, что был хорошим для него компаньоном по выпивке, был малокультурен и очень ленив, в военном деле был несведущ, зато батальонные командиры в полку были очень хорошие, особенно штабс-капитан Удовиченко Михаил Дмитриевич, уже имевший офицерский георгиевский крест.
В полку имелся один зауряд-врач I разряда, т.е. закончивший 5 курсов, но еще не сдавший государственного экзамена, по фамилии Плущевский. Он сразу поднял вопрос, как мы с ним разделим работу, которая по существу делилась на две части: обслуживание передовых перевязочных пунктов и приём в околотке, т.е. проверка больных, их лечение и отправка в тыловые медицинские учреждения. Я поставил вопрос так, чтобы мне обслуживать передовые пункты, а Плущевскому работать в околотке, чему он очень обрадовался.
Мы ночевали в деревне, расположенной километрах в 8 от передовых окопов. Там же располагался и штаб полка. Утром я решил осмотреть передовой перевязочный пункт. Мне дали очень ленивого серого жеребца, и я поехал. По пути ко мне присоединились два офицера моего полка. Мы уже проехали километра три, как вдруг над нами разорвалось два шрапнельных стакана. Офицеры немедленно во весь опор разъехались в разные стороны, я же продолжал ехать, считая, что по мне одному не будут стрелять. Так оно и было, только у моей лошади слегка была поцарапана грудь шрапнельной пулей. Начались кустарники, и офицеры опять присоединились ко мне. Деревушку, скорее небольшую группу хат, где расположился перевязочный пункт, я нашел без затруднения. Там было около хаты два фельдшера и человека три санитаров. Около хаты, рядом с колодцем стояла телега с двумя лошадьми, которые с удовольствием ели овёс из подвешенных им на шеи мешков. На другой стороне большой лесной поляны стояла наша, батарея трехдюймовых орудий. Раненых на пункте не было. Очень близко на запад от нас была готовая линия вторичных окопов.
Мы услыхали далёкий пушечный выстрел, а затем разрыв снаряда в направлении той деревни, где ночевали. Это повторилось раза три, а затем мы услышали типичный свист приближающегося снаряда. Этот снаряд разорвался вблизи наших орудий, и как стало потом известно, разрыв произошел при попадании в дубовый пень. В результате несколько человек убито и ранено.
Затем снаряды через равные промежутки времени разрывались полукругом, калибр снарядов был очень крупным. Наконец, по моим расчетам снаряд должен был угодить в нашу избушку, и я скомандовал укрыться в окопе. Но не успел я спуститься в окоп, как меня подхватило воздухом и прижало к стенке окопа. Я быстро выскочил и увидел такую картину: снаряд разорвался между колодцем и лошадьми, которые с прежним удовольствием едят овес. В окне хаты бьётся человек – один из фельдшеров, который со страху кинулся в окно и там застрял, благодаря своей полноте.
Возвращался я в деревню, когда уже крепко стемнело. Но, странная вещь, я не мог найти своей хаты. Наконец я встретил санитара, который рассказал мне, что снаряд попал прямо в эту хату и вместо неё там теперь яма. А врач Плущевский? Он в это время куда-то выходил и был жив.
Моя металлическая складная кровать была несколько погнута, но без труда удалось её исправить.
Такого количества разнообразных приключений, как в этот день, у меня не было за всё последующее пребывание в полку.
Наша дивизия не стояла на месте, её все время перемещали на новое место. Полки двигались только ночью, по возможности без шума и света. Недалеко в тылу за дивизией следовал хирургический отряд имени Родзянко, ставшего в то время председателем Государственной Думы. Другой хирургический отряд имени Родзянки- младшего обслуживал какую-то гвардейскую часть. Родзянки были очень богаты, но я не знаю, целиком ли они содержали эти отряды на свои средства, или частично. В нашем отряде работали братьями милосердия два хорошо мне знакомых москвича – Юрий Дилерский и Анатолий Савич.
Однажды мы с Плущевским заночевали в сарае при доме лесника в очень густом лесу. Мне сразу приснилось, что кипит огромный бак, и я сразу проснулся. Оказывается, идет усиленная перестрелка, передний край был близок, и всю эту музыку было отлично слышно. Я перебрался в дом, но там было такое количество клопов, что я сейчас же вернулся назад.
Через несколько дней нас, врачей, предупредили, что на рассвете будет наступление и чтобы мы были готовы. Когда уже достаточно смерклось, наши части стали занимать окопы, где раньше стояла кавалерийская часть, в боевом отношении очень слабая. Немцев и нас разделяла река Стырь, несколько южнее старого городка Чарторийска, в котором были немцы, так как он располагался на западном берегу реки. У нас к берегу реки подтянули резиновые плоты и другие плавучие средства, и как только начало развидняться, начали работать все наличные пулемёты. Немцы никак не ожидали атаки со стороны ранее стоявшей здесь кавалерийской части и поэтому были застигнуты врасплох, а стоявшие здесь их части были очень сильными: 1-ая гренадёрская дивизия имени кронпринца.
Наши ворвались в деревню, рядовые немцы сдавались массами, офицеры полуодетые выбегали с пистолетами из изб и попадали на штыки наших стрелков. Одним словом разгром был полный, очень много пленных. Дорога на запад была открыта, У нас потерь было мало.
По плану наша дивизия должна была идти прямо, а соседние части вступить в контакт с нашей дивизией на флангах и также пробиваться на запад. Но никто с флангов к нам не подходил, слышалась только редкая ружейная стрельба. Всё же части нашей дивизии шли на запад и, пройдя 11 километров, дошли до деревни Градье. Вдруг мы увидели, что к нам едет какая-то странная карета. Её не трогали, и она подъехала к штабу полка. Оказалось, что это почтовая карета, и некоторые пленные немцы получили письма. В немецком тылу не были информированы о нашем прорыве, и их почта ехала без опасения.
Но вскоре немцы собрали все близ расположенные части и вздумали нас окружить. Со всех сторон кругом полка начали посвистывать пули: пришлось и мне взять трофейный маузер.
Полк рывком разорвал слабую цепочку окружения, взял некоторое количество пленных и вернулся ближе к реке.
Оказывается, соседние части и не думали поддержать нас. Офицеры дивизии говорили, что начальники других дивизий не любили и завидовали Деникину за его удачливость в военных делах, и это в те годы было вполне возможно.
Наш полк не ушел опять на восточный берег Стыри и расположился в лесах западного берега. Выло трудно с помещением. Штаб полка расположился в доме лесника, там же ночевали мы с Плущевским. Ночью было слышно, как пули стучали о бревна дома, но они были слабые, на излёте.
Однажды я с тремя вооруженными винтовками санитарами шел по лесу к нашему передовому перевязочному пункту. Вдруг перед нами появился отряд человек в 200 в австрийской форме. Офицер дал команду отряду остановиться, сам подошел ко мне, отдал честь и спросил по-чешски, где дорога к нашему штабу. Это была сдающаяся часть, которая перебиралась в нашу сторону через болото. Я ответил ему по-украински и указал дорогу.
Пришел приказ в отношении командира полка, лентяя Сухих, его повышали в чине – теперь он был генерал-майором – и переводили в другую часть командовать дивизией.
Было решено его торжественно проводить, и полку дали полный отдых. Мы с Плущевским решили использовать это обстоятельство и хорошо поесть, так как с пайком почему-то не ладилось, и мы были наполовину голодны. Наше чистое белье, хорошие гимнастёрки и штаны хранились в сундуках в обозе II разряда, мы туда и направились. Переехав на восточный берег реки, мы наблюдали красивую картину: стреляли З-х дюймовые пушки, что в вечерних сумерках было очень эффектно, и одновременно играла полковая музыка.
Начальник обоза встретил нас очень хорошо и накормил отличным обедом, а через день приехал Сухих с офицерами и два дня провел в обозе. И мы с Плущевским ухитрялись обедать каждый день по два раза: один раз у начальника обоза, а другой – с Сухих и его провожающими. Так продолжалось два дня, и я думаю, что на третий день мы не смогли бы это проделать. Кто-то из начальства спросил, правда ли это, но мы отрицали. Отъелись мы здорово.
Но пора было уже возвращаться в полк. Я попросил начальника обоза дать мне верховую лошадь. Но он задумался и сказал, что сейчас у него ничего подходящего нет, вот только разве немолодой конь, которого обозники подобрали, раненого в грудь, на поле после кавалерийской атаки наших частей, но конь очень неспокойный, и едва ли я с ним справлюсь. Я тогда хорошо ездил верхом и попросил дать мне этого коня. Коня оседлали, я вскочил в седло и поскакал хорошей рысью. Конь был отлично выезжен, никаких признаков буйства у него не было, и, в конце концов, я заплатил за него 50 рублей и был очень доволен, так как этот конь неоднократно выручал меня в трудных случаях: например, при отыскании дороги или, сидя на нем, можно было спокойно спать, что особенно было ценно при ночных переходах и т.д.
Таким образам, с этого момента у меня было два коня, что особенно мне понадобилось впоследствии.
Я не буду писать об отдельных операциях полка, особенно серьезного ничего не было. Временно командовал полком самый старший из батальонных командиров, самый неспособный. Фамилию я его забыл. Про него рассказывали, что он провел часть своего батальона по болотам в тыл австрийцам, откуда наши стрелки с криком «Ура!» кинулись на неприятеля. Австрийцам оставался один выход – бежать, и именно на русскую часть, стоявшую перед ними. Они в панике бежали, бежала и внезапно атакованная русская часть, и все они были окружены остатками батальона Стрелкова. Австрийцев взяли в плен, но вообще вышла довольно скандальная история, и Стрелкову дали выговор. Было ли так точно, я не знаю.
Наконец к нам прислали нового командира полка, Сафонова. Это был заядлый черносотенец, до последнего времени работавший в ставке главнокомандующего, в бою ещё не бывший. Свою неопытность он проявил сразу. Желая показаться полку и произнести патриотическую речь, он собрал в довольно широких окопах довольно много солдат и офицеров и начал речь. В это время вверху начал сверлить неприятельский снаряд, и он лег на землю, чего никто не сделал, так как по звуку было слышно, что снаряд идет далеко. Сафонов был очень смущен, все на него смотрели, сдерживая улыбки.
Плущевский заболел сыпным тифом, и его отправили в госпиталь. Одно время в полку я был один, и было довольно трудно: ночь – перевязки и отправка раненых (ночью их было значительно больше, так как шла разведка, делали новые земляные работы), днём – принимать больных в околотке; отдыхать мне времени не было. Наконец в полк прислали двух врачей. Одного, которым был давно, ещё в Одессе, приписан к полку. Его фамилия была Штегеман, он плохо говорил по-русски. У него был денщик из намцев-колонистов – Шумахер. Его в полку не любили и считали, что когда он рассказывает о каких-нибудь военных делах и говорит «наши», то под этим словом он подразумевает немцев. С денщиком он всегда говорил по-немецки и очень часто звал его. Штегемана уже направляли в полевой госпиталь, но там он не сжился, как и в полку. О его знаниях как врача я ничего сказать не могу, просто он их не проявлял, всё шло без его помощи.
Второй врач был еврей, фамилии я не помню, знающие терапевт, чем сразу воспользовался командир полка Сафонов, у которого начиналась сахарная болезнь. С приездом врачей мне удалось получить командировку в Киев для фиктивной закупки гидропультов. Это было в январе 1916 года, и я во время этой командировки успел жениться, за что на меня сильно рассердился Сафонов по возвращении меня в полк. Оказывается, я не имел права жениться без его разрешения, это была для меня новость. Моя жена, Евгения Ивановна, сумела перевестись в хирургический отряд Родзянко, и я мог часто навещать её, так как отряд всё время следовал за дивизией, и до него было не более 10 километров, что легко было проехать на хорошей рыси верхом. Вот тут-то мне очень понадобилась купленная мною лошадь.
(Евгения Ивановна, урожденная Крыжановская, с 1914 года ушла добровольцем на фронт и была сестрой милосердия. За свою храбрость при вытаскивании раненых с поля боя она получила георгиевскую медаль. Затем она была хирургической сестрой в госпиталях, стоявших прямо на передовой. Мой дедушка говорил, что он в жизни не видел более смелой и готовой на самопожертвование женщины [прим. ОИЯ])

|
|
Женя Крыжановская - сестра милосердия, 1915 г. |

|
|
Женя и Мстислав Яковенко. После бракосочетания, 1916 г. |

|
|
Женя Яковенко в палате с ранеными. Госпиталь Родзянко, 1916 г. (Евгения Ивановна перенесла сыпной тиф, была стрижена наголо, поэтому носила чепец) |
К маю 1916 года начали говорить о предполагаемом наступлении, но об этом нельзя было болтать. Однажды, возвращаясь в полк из отряда Родзянки, я был задержан патрулем чужого полка и меня допрашивали, почему я езжу без разрешения. Пришлось на время прервать мои поездки.
15.V.1916 года мне был указан большой блиндаж, где я должен был развернуть перевязочный пункт. Ни один из приехавших врачей не желал работать на этом пункте, а Штегеман сказал мне, что все телеги, а это было единственное перевозочное средство, он забирает в тыл. Я с ним поругался и сказал, что он будет разговаривать с командиром полка, чего он испугался, и телеги в основном забрал я. У меня был великолепный помощник, фельдшер Карнаухов, который много лучше меня накладывал перевязки.
(Видимо, об этом фельдшере мне рассказывал дедушка. Он говорил, что у него был очень опытный фельдшер, который прошел не одну войну, и который научил, в частности, его лечить рожу облучением, поскольку тогда это было одно из самых распространенных заболеваний, и лекарств от нее практически не имелось [прим. ОИЯ])
Блиндаж был расположен в отличном месте, за небольшими высотками, и немецкие снаряды или сбивали верхушки сосен, или взрывались на равнине, довольно восточнее блиндажа. Некоторые снаряды прыгали по земле и не взрывались. Как потом выяснилось, в них вместо взрывчатки был песок.
С 16.V.1916 г. наши батареи открыли сильный огонь по немецким позициям, стреляли преимущественно 6-ти дюймовые пушки. Огонь вели беспрерывно почти двое суток, затем началось очень удачное наступление
Я хотел хотя бы на час вздремнуть после двух бессонных ночей, но в землянке (на двух человек) не было покоя, земля тряслась. Наконец мы получили известие, что немцы побежали, раненых больше не подносили, надо было осмотреть неприятельские окопы и подобрать раненых. Но там были не только раненые, но и спрятавшиеся, которых мы тоже забрали.
Вообще неприятельские окопы имели ужасный вид. Все они были перепаханы артиллерией, в воронках от снарядов лежали трупы. Я попросил Тяпкина, нашего заведующего оружием, заснять эту картину – только у него был фотоаппарат, но он категорически отказался снимать трупы. Несколько снимков он сделал там, где трупов не было.

|
|
Окопы после артобстрела (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|
|
Артиллерийские позиции (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|
|
Наши могилы (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|

|
|
Мстислав Яковенко в окопах (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |
|
Этот Тяпкин делал много для полка в отношении вооружения. Во время боев нам доставались вражеские пулемёты, но под наш патрон они не годились, а трофейных попадало немного. Тяпкин приспособил к этим пулемётам наши винтовочные стволы, и пулемёты заработали, хотя стволы быстро приходили в негодность, но Тяпкин их сейчас же заменял. Это было очень ценно, так как по существующим правилам в пехотные части выдавалось мало пулемётов, еще наши дубовые руководители не доучли возможностей пулемётов.
В этом великолепном наступлений, организованном Брусиловым, несмотря на огромные трофеи и множество пленных, наши части не полностью использовали наш успех. Наша дивизия, как и в наступлении на Стыре, выдвинулась клином вперед, и через некоторое время нам пришлось отступать на некоторое пространство для выравнивания фронта.
Бот тут-то произошла ужасная для нас комбинация, совершенно не нужная для русских. Наша дивизия занимала высоты, на, которых располагалась деревня Шельвово, великолепное место для обороны. Деникин получил приказ от командующего армией (фамилию его я не могу вспомнить, но она была не русской). Батальонные командиры и штаб дивизии говорили, что оставление Шельвова будет величайшей глупостью, и вначале Деникин несколько раз отказывался выполнить этот приказ, но, в конце концов, вынужден был это сделать. Через два дня пришел новый приказ взять Шельвово обратно, но дивизия сделать этого не могла. Тогда начали подводить гвардию с огромным количеством артиллерии, с самоходными орудиями крупных калибров.
В то время мой перевязочный пункт располагался в домине-шалаше немецкого производства [рядом] с молодыми белыми березками. Этот участок земли был отбит у немцев во время большого наступления, и они не успели разорить свои временные сооружения, Стены из кустарника были очень жидкими, через них свободно проходил ветер, но крыша обычного дождя, не пропускала. Немного глубже в лес был второй такой же домик, где расположился Сафонов со штабом полка. Кругом довольно густой молодой лес, на его краю, ближе к полю, на высоком дереве обосновался артиллерийский наблюдательный пункт. Домики стояли в лощинке. Рядом с перевязочным пунктом проходила дорога.
Ещё до нашего предполагаемого наступления ко мне, когда уже было темно, явился крупный полный мужчина, весь забрызганный грязью и мокрый. Это был один из членов Государственной Думы с довольно известной тогда фамилией (я сейчас не могу вспомнить), кадет (т. е. член буржуазной конституционно-демократической партии). Он приехал из Петербурга специально посмотреть на боевые действия на фронте и, подъезжая к нашей дивизии, попал вместе с повозкой в глубокую яму от снаряда, где было много воды. Я дал распоряжение дать ему сухое бельё, но все размеры оказались для него узкими. С трудом он переоделся и попросил меня на следующий день поехать с ним в отряд Родзянки и информировать его о существующем положении. Утром он пошел к Сафонову, но тот не принял его, сказав, что все кадеты – революционеры, и их нужно арестовывать.
Из хирургического отряда прислали коляску с двумя лошадьми, и мы поехали. Во время пути туда и обратно я информировал гостя, ничего не скрывая. Постановка дела в хирургическом отряде ему понравилась. Относительно Шельвовских дел я тоже его информировал, о той глупости, которую мы совершили но приказу высшего командования. По приезде обратно он сразу пошел к артиллеристам на наблюдательный пункт.

|
|
В хирургическом отряде (Фотография Тяпкина, 1916 г.) |

|
|
Наступление (Открытка, 1916 г.) |

|
|
Наступление. Окопы (Открытка, 1916 г.) |
В это время ко мне зашел Деникин, поздоровался за руку по штатскому и спросил о нашем госте, кивнув головой в сторону штаба нашего полка; – «Он туда ходил?»– «Да». – «И его этот (он не назвал Сафонова ни по фамилии, ни по имени-отчеству) принял? – «Нет». Деникин рассмеялся: – «Я так и думал. А сейчас, где приезжий?" Я ему сказал, и он тоже направился на наблюдательный пункт. Деникин сочувственно относился к кадетам, возможно, что он и сам был в партии. На следующим день началась артподготовка, немцы слабо отвечали. План был таков: слева, наступают гвардейцы, а справа наша дивизия. Гвардейские солдаты были на подбор, все высокого роста, молодые, отлично одетые. Сразу видно было – где гвардеец, а где наш стрелок.
После артиллерийской подготовки началось наступление. Командование гвардией пустило несколько полков в психическую атаку, части шли густыми колоннами во весь рост, шагом. Вот тут-то [немцы] и развили такую силу огня, что даже половина наступающих не могла дойти до средней линии между окопами. Косили наших гвардейцев бесчисленным количеством пулеметов, да и многочисленная артиллерия поливала шрапнелью. Раненых почти не было, все падали мертвыми. Ни одной линии окопов гвардейцы не взяли.
Наши стрелки наступали перебежками и довольно быстро взяли две линии окопов, потерь было не так много. Но удержать взятые линии было трудно, так как ни справа, ни слева поддержки не было, а немцев было много.
Сколько раз повторялась психическая атака, я не могу сказать, но все поле между окопами было усеяно трупами гвардейцев.
Шельвова так и не взяли.
Дня через два немцы предложили прервать боевые действия для уборки начавших разлагаться трупов. Их отвозили полными грузовиками и закапывали в братские могилы.
Потери в людях были ужасающие. Ни одной строчки в наших газетах не было напечатано об этом деле.
Всю эту картину видел и член Думы. Армию, в которой временно была наша дивизия, расформировали, её командующего сменили, Деникину дали корпус, и далее (при поддержке кадетов Временного Правительства), он начал делать быструю и удачную карьеру.
Удовиченко получил второй офицерский георгиевский крест, и в 1916 г. был уже произведен в генерал-майоры.
К нам вместо Деникина назначили Станкевича, очень культурного и неглупого человека. Штегельмана опять куда-то перевели, и вместо него зачислили Гуринова Бориса Панкратьевича.
Через некоторое время Станкевич сделал инспекторский смотр. Смотр заключался в том, что инспектирующий осматривает часть сам, а затем часть выстраивается, инспектирующий проходит перед фронтом и спрашивает, у кого есть какие-нибудь претензии. Если кто-либо жалуется, то это является большой неприятностью для командира части.
Когда Станкевич дошел до меня, то выступил из рядов и заявил, что претензия у меня имеется. Сафонова так и подкинуло: – «Какая же у вас претензия?» – «Вот уже прошло много времени, а мне не дают хотя бы двухнедельный отпуск». (Я имел право его получить, но Сафонов не давал). Тогда Станкевич приказал Сафонову разрешить мне этот отпуск.
То, что я пишу – отрывочно, многое забылось. Относительно описанного промежутка времени в полку могу добавить, что мне в санчасть были присланы две дрессированные санитарные собаки с сопровождающим. Использовать их нам не удалось, но однажды после одного из удачных наших наступлений, я проходил около опушки леса, и вдруг обе собаки начали рваться с поводков в направлении широкого углубления в земле, заваленного ветвями и сучками. Оказывается, там прятались немцы в ожидании ночи, их было около 15-20 человек, без оружия. Мы их забрали.
Возвращаясь после отпуска, я узнал, что дивизия переведена в Румынию, на восточный склон Трансильванских Альп (граница с Венгрией).
Поезд до Ясс был сильно перегружен. В купе для двух нас ехало шесть человек. У меня нашлось два попутчика – офицера, возвращавшихся в ту же дивизию. В Яссах комендант отвел нам ночевку в еврейском семействе. К евреям здесь относились нехорошо. Когда наши хозяева узнали, что мы русские они просто не знали, как нам угодить. Дошло до того, что постельное бельё и одеяла они нам дали, несмотря на наш протест, из приданого дочери. Угощали, чем только могли.
На следующий день или через день, я не помню, мы поехали по осо6ому маршруту. Небольшой паровоз тащил всего два вагона. Причем эта дорога, чем дальше, тем более принимала дикий вид – по узким карнизам скал, через многочисленные туннели. Мелькали красивые горные виды.
Нас в офицерском вагоне ехало мало, из местных один румынский полковник, который угостил нас замечательный коньяком из винограда собственного сада. Эта любезность произвела на нас хорошее впечатление, так как это был 1916 год, и Румыния собиралась перейти на сторону немцев. К русским вообще начали относиться плохо, военной помощи нам Румыния почти не оказывала. Армия её была очень слаба и нестойка.
Наконец мы приехали в какой-то маленький городок (название вроде Терга-Окне), а оттуда на лошадях поехали в дивизию.
Штаб моего 15-го полка был расположен довольно далеко от фронта, тянущегося по склонам довольно высоких гор (высотою в километр и более). По гребню гор н далее были венгерские земли, и там стояли немцы. До перевязочного пункта можно было доехать по узкоколейке, по которой перевозили срубленный лес с гор. Эта узкоколейка тянулась на 21 километр. Станций не было, просто надо было поднять руку, паровоз притормаживал, и пассажир садился.
Перед тем, как ехать, я достал карты, и по ним тщательно изучил местность и названия гор в районе дивизии.
И вот я стою на узкоколейке и поднимаю руку. Подходит паровозик с несколькими пустыми платформами для леса. Паровоз толкает сзади, на передней платформе будочка, а перед ней – скамейка. На скамейке два генерала. Один – Станкевич, другой, полный и дряблый, только что назначенный в помощь Станкевичу (я думаю, для слежки за ним) бригадный генерал Иванов. Станкевич указывает мне место садиться рядом с собою и спрашивает Иванова: – «Ваше превосходительство, скажите, как называется гора, в направлении которой мы едем?». Иванов не знает. Тогда Станкевич спрашивает меня, я называю. И так мне приходится перечислять названия всех гор, на склонах которых расположена наша дивизия. Иванов не знает ни одного названия. – «Почему доктор знает, а Вы, бригадный генерал, не знаете местности, где расположены наши войска?» И начал честить Иванова, Через несколько дней Иванов был отчислен.
Мы приехали на конечный пункт. Здесь стоял довольно объемистый деревянный дом, где было уже несколько наших офицеров. А затем ночью их явилось так много, что спать было невозможно. Я перебрался в скалы, а затем в перевязочный пункт, расположенный выше на склоне горы.
Работы было немного, и я много гулял. Местность была покрыта сосновым лесом, среди которого были небольшие озера. На дне одного из них мы нашли алюминиевую лодку, в которой можно было покататься. Я практиковался в стрельбе из нагана. Наступление дивизии прошло удачно, были захвачены вершины гор.
С каждым днем я чувствовал своя всё хуже, быстро начала развиваться симметрическая алопеция, и меня эвакуировали как больного. (Облысение. Симптоматическая форма облысения (алопеции) может развиться в результате различных патологических процессов как общих, так и местных. Выпадение или поредение волос наступает часто после острых инфекционных заболеваний, после родов, операций, а также при эндокринных расстройствах (тиреоидиты, тиреотоксикоз, пролактинома), при недостаточном содержания в крови микроэлементов (железо, цинк и др.), при длительной анемии, туберкулезе, сифилисе, голодании. По данным фирмы LOreal более половины всех пациентов страдают выпадением волос различной степени) Меня хотели лечить в лесах, но там было очень много больных, и никаких условий для моего лечения. С трудом я попал в Киев, где условия для моего лечения была превосходные. Это был декабрь 1916 года.
Мой папа перевел меня на работу в Российский Красный Крест, но там я, по существу, не работал. В первом случае из госпиталя ушел хирург (Штарк), а я ведь был только студентом 4 курса, и операций делать не имел права. Во втором случае меня командировали на санитарный поезд, которого я дожидался 5 дней на станции Дубно и вернулся обратно в Киев. Это была первая половина 1917 года, и я получал извещение, что от военной службы освобождаюсь и направляюсь в Университет для прохождения 5-го курса медицинского факультета.
(4 февраля по ст. стилю (17 февраля по новому) родилась дочь Мстислава Владимировича и Евгении Ивановны, Мира. Имя ей дала Евгения Ивановна, т. к. находясь в войсках на Балканах, ей там понравилось это южнославянское имя [прим. ОИЯ])
СУДЬБА НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ
После моего отъезда из полка на мое место был назначен Косоуров, с которым с 1926 года я работал в Москве. Он мне рассказывал, что Сафонов был расстрелян в 1917 году, когда организовывались солдатские комитеты в войсках.
Врач Гуринов работал в институте Эрисмана, к нему заходил бывший наш фельдшер Карнаухов. Он закончил медицинский факультет и работал врачом-хирургом в Одессе.
В хирургическом отряде Родзянко одно время во второй половине 1915 года работал врач-хирург Нунберг, который, по его словам, закончил в Италии. Смертность при его работе была, как говорили, 120%, то есть он иногда делал операции тем, кто в этом не нуждался, и после его ножа оперируемые умирали. Персонал отряда подал соответствующее заявление, Нунберга сняли и прислали хорошего хирурга Волкова, при котором смертность резко сократилась. Но Нунберг продолжал заниматься частной практикой, я сам видел его объявление на Владимирской [улице] в Киеве, около Золотых ворот.
Барков быстро выдвинулся как человек очень энергичный и живой. Он женился (это была не первая его жена) на женщине, которая одно время жила с Ягодой и имела от него дочку. Барков был в генеральском чине и ведал санитарной частью всей нашей погранохраны. После ареста Ягоды Барков и его брат были арестованы, и судьба их дальнейшая не была известна, надо только предполагать, что он в тот период, когда уничтожали самых преданных коммунистов и героев гражданской войны (Блюхера, Тухачевского и др.) был также арестован. Даже его заместитель Ежов, которого я хорошо узнал в 1944 году, ничего не мог мне о нем сказать, кроме того, что Барков был прекрасным работником. (Однофамилец Николая Ивановича Ежова – наркома НКВД в 1936-1938 гг. (прим. дочери, Миры Мстиславовны Яковенко))
Плущевского я видел в Шишаках, он там короткое время был врачом в районной больнице. В отношении меня он был кем-то отрицательно настроен, и я с ним не мог поговорить по душе о наших общих знакомых по полку.
Фотографии Жени Крыжановской

|
|
Женя Крыжановская в центре слева (Война 1914-1916 гг.) |
 |
Женя Крыжановская с подругой Катей (Война 1914-1916 гг.) |
 |
Женя Крыжановская с персоналом госпиталя (Война 1914-1916 гг.) |
 |
Женя Крыжановская с персоналом госпиталя (Война 1914-1916 гг.) |
 |
 |
Женя Крыжановская между подруг (Война 1914-1916 гг.) |
 |  |
ВОСПОМИНАНИЯ ВРЕМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Я пишу эти воспоминания по настоянию дочери (Миры Мстиславовны Яковенко), поэтому самое начало войны, первые бомбежки Москвы и прочее, известное ей, я не описываю.
В двадцатых числах июля я был мобилизован и попал в Медико-санитарный батальон (МСБ) Ростокинской ополченческой 13-ой Стрелковой дивизии. Батальон формировался в здании школы на Ростокинском шоссе. Я был назначен командиром санвзвода, который состоял из лаборатории и отделения химзащиты. Одновременно с этим формированием в Москве было формирование того же батальона в Осташкове (около Волоколамска). При этом получалось так, что в каждом из формирований были свой командир и комиссар.
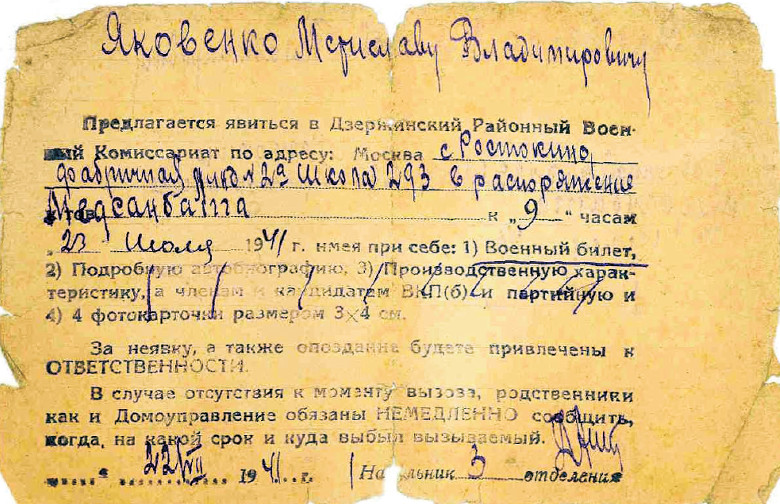 |
Мобилизационная повестка Мстислава Владимировича Яковенко |
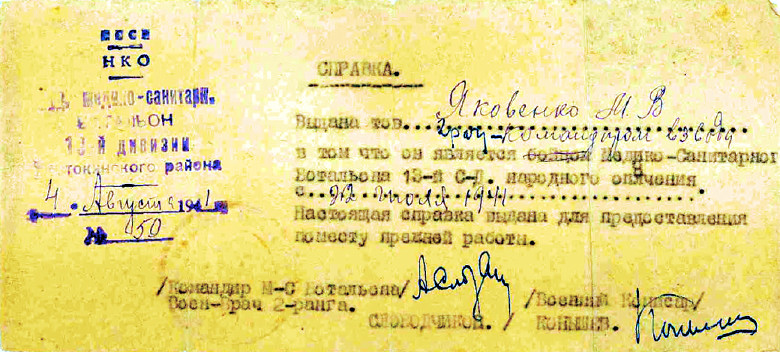 |
Справка о назначении командиром медицинского взвода |
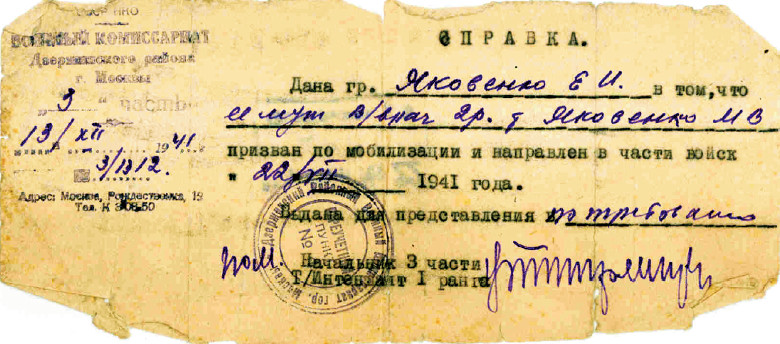 |
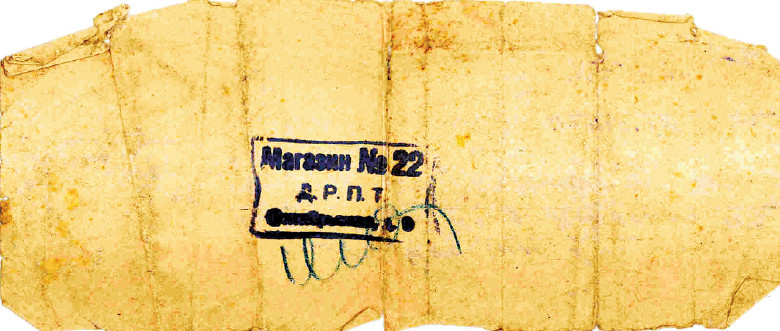 |
Справка (две стороны), выданная Евгении Ивановне Яковенко о том, что ее муж, Мстислав Владимирович |
Во время бомбежки нашему московскому командиру, врачу Васильеву, осколки оконного стекла поранили лицо. Московский комиссар остался в Москве заканчивать работу по формировке, а весь штат батальона из Москвы направился в Осташков. Здесь нас встретил другой командир? Александр Иванович Слободчиков? и комиссар Конышев. Возле Осташкова располагались полки формируемой дивизии, командовал которой полковник Морозов.
Бойцы дивизии были весьма своеобразны и не подходили к обычному типу красноармейцев. В основном это были вчерашние счетные работники, музыканты, хозяйственники, инженеры и техники – одним словом, служащие московских предприятий, все народ пожилой и сугубо мирный, в большинстве никогда не имевший дала с огнестрельным оружием, слабый и больной тысячью хронических болезней. Во время моих частых объездов по полкам дивизии я никогда не видел учебных занятий обычного типа. Как правило, занятием этих бойцов было рытье земляных укреплений, и целые дни они рылись как кроты в промокших от пота гимнастерках, которые им запрещалось снимать во время работы.
Бойцы вооружены трофейными польскими винтовками, типа старых немецких «маузеров», но обращаться с ними и стрелять из них не умеют, их этому не учат. Полковник Морозов интересуется больше своими личными делами, чем боевой подготовкой вверенной ему дивизии. Он питает нежные чувства к женщине-врачу Литвиненко, которая вначале была в одном из полков дивизии, а затем ее перевели к нам в медсанбат. Литвиненко часто ездит в Москву и проводит там большую часть своего времени (командировки). Морозов жалуется на болезненные ощущения в области желудка и также ездит в Москву. Однажды вышел разнобой – он уехал в Москву, а Литвиненко осталась. Тогда он телеграфировал, чтобы Литвиненко немедленно выехала в Москву для сопровождения его из Москвы в подмосковный дом отдыха (кажется, в Архангельское).
Отношение к нам, врачам МСБ, со стороны начальства какое-то странное. Например, выходить за пределы маленькой усадьбы Осташкинской школы не разрешается. Купаться в р. Вязьме, протекающей рядом, разрешается только под «охраной» бойца – старого полуслепого бухгалтера, ни разу за всю свою жизнь не стрелявшего из ружья.
Со мной в МСБ находится несколько человек врачей: 1) Молчанов Владимир Иванович (в моем взводе) – начальник лаборатории; 2) ….. также в моем взводе – начальник отдела химзащиты, терапевт, готовится стать матерью; 3) Васильев – хирург, полагаю, что эту фамилию он носит недавно, так как по национальности он – еврей; 4) Коровников – терапевт; 5) Кланг Глафира Антоновна, имеет склонность к хирургии; 6) Дидык – молодая, недавно закончившая институт; 7) и 8) два молодых врача – мужчины, фамилии их не могу вспомнить; 9) еще одна жещина-врач, фамилию ее я забыл. Некоторые из вышеперечисленных врачей попали в наш медсанбат несколько позже. Дивизионным врачом был Филонов.
Оригинальный случай был с врачом-хирургом Васильевым. Командир батальона Слободчиков собрал как-то нас, врачей, и упомянул о своих планах на будущее. Причем сказал, что он намерен пригласить, как старшего, другого хирурга. Васильев очень обиделся на это, несколько резко поговорил со Слободчиковым и после этого сказал мне, что он не останется в батальоне. В первую же ночь он непрерывно стонал, жалуясь на боль в желудке, весь следующий день лежал и ночью опять стонал. Его, действительно, отправили назад в Москву, и его видели впоследствии работающим на своей старой работе (гражданской).
Я езжу на грузовике по подразделениям дивизии, наблюдая за санитарным состоянием стоянок, пищеблоками, обмывкой бойцов. Понемногу занимаюсь личным составом дивизии.
В середине августа начался пеший переход частей дивизии к Вязьме. Переход давался туго, многие отставали и, подпираясь палками, медленно двигались небольшими группами и в одиночку по проселочным дорогам. Безнадежно отставших подвозили на автомашинах и телегами.
МСБ направился к Вязьме в товарных вагонах и выгрузился, не доезжая до города. Было очень жарко.
После некоторых колебаний выбрались дневную стоянку на лесистом склоне к реке, недалеко от деревни. Вблизи был железнодорожный мост через речку. За речкой в леске установили кухню. Многие выкупались, простирнули белье и развесили его сохнуть тут же на берегу.
Во второй половине дня я и несколько человек, в том числе девушки-дружинницы, возвращаясь после обеда около кухни, подходили к переправе через речку. В это время появилось несколько немецких бомбардировщиков, и один из них сбросил пять бомб, по всей вероятности желая попасть в железнодорожный мост. Вторая бомба попала как раз в место переправы через узенькую речку, третья в метрах сорока от меня, на лужайке. Эти бомбы не принесли вреда, но психически повлияли здорово, в особенности на дружинниц и на начальство батальона.
После захода солнца мы все направились к Вязьме и, не заходя в город, обошли его и продолжали свой путь ночью.
Была темная безлунная ночь, в просветы между облаками виднелись яркие звезды. По временам слышался гул пролетающих на большой высоте самолетов, совершенно не видных за облаками, да и вообще в такую темную ночь. Наше начальство (особенно старалась политчасть – комиссар и два политрука) при каждом шуме мотора отдавалj тихим голосом приказ, чтобы все ложились на землю и вставали только тогда, когда шум затихал вдали. Я начал горячо протестовать против такой бессмыслицы и после ожесточенного спора все же настоял на своем – приказ о маскировке был отменен, и мы пошли быстрее.
К утру добрались до небольшой, но густой сосновой рощи на холме, где расположились на отдых. В дальнейшем пути мы наблюдали, как два истребителя сбили какой-то самолет, говорили, что это наши сбили немца.
Конец перехода я проехал на грузовике и таким образом попал в будущее место расположения нашего МСБ на сутки раньше остальных. Здесь уже были комбат Слободчиков и комиссар московского формирования (фамилию забыл), очень толковый и культурный человек, умный и энергичный, хороший товарищ.
Место, выбранное для стоянки МСБ, находилось в небольшом нетронутом лесу километрах в тридцати на запад от Вязьмы, недалеко от трассы на Минск. Около леса, на востоке, располагалась одиноко стоящая так называемая Лопатинская больница. Самый лесок на карте был обозначен как «урочище Пролетарское». Рядом протекала река Вязьма, на С-З стояло несколько жилых домов и с.х. строений в виде больших каменных сараев. Здесь располагался танковый батальон нашей дивизии и почта, а далее, на возвышенности, покрытой леском, врылся в землю штаб нашей дивизии. Полки дивизии были расположены главным образом на Ю и Ю-З от медсанбата.
По прибытии всего состава МСБ были разбиты большие палатки для комсостава, больных и аптеки. Команда сделала себе шалаши.
Скоро начала работать медицинская комиссия, и потянулся бесконечный поток ополченцев на освидетельствование. Люди – безнадежный брак, старые, с потерей зрения, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, с несросшимися переломами, например, бедренной кости, и т.д. многие из них на непривычной работе разбили очки, у некоторых испортились зубные протезы. Каких только чудаков здесь не было!
Когда они были в Москве на своей привычной работе, они были героями и особенно не чувствовали своих лет и недостатков. Кушали они у себя дома досыта, на службу и обратно ездили на авто, или на каком-нибудь виде городского транспорта, испорченные случайно очки или зубные протезы сейчас же заменяли новыми, жизнь текла размеренно в определенных берегах, и они не утомлялись, выполняя свою специальную работу. Здесь же при полном изменении режима, как в отношении питания, так и быта, при напряженной физической работе по рытью земляных укреплений их физическое состояние сделалось весьма тяжелым. Разбитые очки и сломанные протезы не заменялись, больные органы резко реагировали на непривычные условия быта и работы.
Солдат из «бойцов» дивизии не вырабатывали. Сколько я не посещал полки на месте их стоянок, я нигде не видел стрельбищного поля и не наблюдал боевой подготовки – велись исключительно земляные работы. Бойцы при опросе их мною, подтверждали это. Под моим началом было более 20 человек: два врача, фельдшер, санинструктора, санитары. На весь взвод было выдано четыре винтовки (трофейных), пятую имел я, так как мне постоянно приходилось ездить по расположению дивизии, а личного оружия еще никому не было выдано. Я хотел на случай тяжелой обстановки обучить санитаров и санинструкторов элементарным правилам обращения с винтовкой и стрельбы из нее. С этой целью я их научил сборке-разборке винтовки, прицелу и спуску вхолостую, без патронов. Затем я неоднократно обращался к комбату и комиссару Конышеву с просьбой организовать учебную стрельбу, дать каждому бойцу выстрелить хотя бы по пяти патронов. После долгих просьб была выделена группа человек в тридцать из всего батальона, в том числе и часть комсостава, и было разрешено выпустить по 3 патрона по цели в 100 метров. Из моей команды, включая и меня, участвовало 5 человек. Этим и закончилась боевая подготовка бойцов, несмотря на желание других бойцов в свою очередь узнать, как можно стрелять из винтовки.
С комсоставом начали по утрам проводить строевые учения. Вел их адъютант Стрелков, маленький полный человечек. Он говорил, что в гражданскую войну командовал полком. Старые команды он подзабыл, новые не усвоил, очень часто путал, в общем, все учение свелось к маршировке и сдвоению рядов.
Один раз какой-то чужой инструктор показал нам, как следует обращаться с ручной гранатой, но бросить ее даже без капсулы, никому не разрешили. Показывали также один раз, как зажигать танки, зажигая предварительно засунутую около бутылки с бензином длинную спичку. Одной женщине даже разрешили бросить такую бутылку в чугунное колесо, что она и проделала трижды без успеха, пока сам инструктор не подошел вплотную к этому колесу и не проделал это более успешно. Конечно, если бы перед нами был настоящий немецкий танк, танкисты спали бы крепким сном? и танк не двигался бы, то может быть и удалось бы его воспламенить после нескольких попыток.
Из начальства никто серьезно не помышлял о возможности действительного столкновения с немцами, в пока «богоспасаемой» ополченческой дивизии существовал подходящий к ней медсанбат. Мне, участнику Первой империалистической войны, бывшему врачу 15-ого полка 4-ой «железной» стрелковой дивизии, делавшей много проломов немецкого фронта, видеть все это было тяжело и больно.
Второй комиссар МСБ, москвич, был отправлен в Москву еще в двадцатых числах августа. С ним, я полагаю, можно было бы сойтись во мнениях по всем вопросам организации МСБ-ата.
Питание комсостава МСБ было организовано с большим трудом, не без сильного нажима с моей стороны. Вначале комбат, политработники и хозчасть питались отдельно и неплохо, не включая никого в свою компанию. Медперсонал питался наравне с остальной командой, где на врачей смотрели, как на чужих, и мы просто систематически недоедали. Потом выяснилось, что должно отпускаться продуктов достаточно и возможно организовать неплохую столовую. Но все же и в этой столовой вышеперечисленные сотрудники были на привилегированном положении и питались лучше остальных. После организации у нас комсоставской столовой команду стали кормить также значительно лучше.
В конце августа командование дивизии предложило МСБ-ту отыскать другое, более удобное для полков дивизии месторасположение. После нескольких поездок комбата со мною было выбрано место значительно ближе к Вязьме, несколько западнее дер. Степаньково в хорошем, преимущественно хвойном нетронутом лесу, по южную сторону трассы. Лаборатория расположилась в деревне.
Ранее, говоря об учебной стрельбе, я забыл упомянуть, что, подходя к нашим мишеням, мы наблюдали учебные занятия танкистов нашей дивизии. Три танкетки устарелого типа стояли в лощине, и бойцы старались привести их в движение. Моторы были открыты, к клапанам привязаны веревочки, за которые дергали помощники водителей. Танкетки не двигались. Наконец, с большим трудом две танкетки были выведены, удалось ли пустить в ход третью, я не знаю, так как не дождался. Бойцы говорили, что в их батальоне, кроме танкеток имеется даже один танк, правда устаревшего образца с баком для бензина спереди. Командиром такового батальона был капитан, румын средних лет, довольно приятной наружности.
Итак, продолжаю о жизни МСБ на новом месте. Мною был выработан план расположения частей МСБ, который и начал осуществляться. Думали стоять здесь долго, возможно, всю зиму. Начали строить землянки, что было очень своевременно, так как по ночам начались заморозки, и в одинарных палатках стало холодно. Навесили вторые теплые полотнища, поставили печи.
Первыми сделали землянку бойцы моего взвода, и по их приглашению я пришел к ним ночевать. Было очень жарко и душно.
Строили землянки для всех. Операционную также предполагали устроить под землей. В свободное время я копал землянку для нас, врачей, мужчин и втягивал в эту работу двух молодых врачей. Копать было очень трудно, слежавшуюся плотную глину приходилось просто вырубать заступом.
В лесу было много белых грибов, которые я с удовольствием собирал в свободное время.
Часто ночью и днем немецкие бомбардировщики бомбили Вязьму и ее окрестности. Около МСБ бомб не сбрасывали.
Орудийной стрельбы не было слышно. Фронт стоял сравнительно далеко – за Днепром. На юге фронт подходил ближе, и во время моих поездок в расположение штаба армии хорошо был слышен гул тяжелых орудий.
Многие из дивизии ездили в Москву в служебные командировки или под видом таковых и попутно виделись со своими семьями. Я несколько раз обращался к комбату с просьбой разрешить мне съездить в Москву, но он отказывал мне под разными предлогами.
В этой глуши мне не на что было тратить свою зарплату, и она почти целиком оставалась у меня на руках. Я решил выслать аттестат в Москву на получение денег непосредственно в Москве и выслал одновременно с аттестатом 1000 рублей. Через сравнительно короткое время я получил аттестат обратно и грозное письмо от Евгении Ивановны, в котором она писала, что она выслала деньги мне обратно, и, несомненно, я сам не желаю выехать в Москву, когда все ездят и проч. и проч. После этого письма я здорово накалился, показал комбату возвращенный обратно аттестат и просто начал требовать, чтобы он меня пустил на несколько дней, так как дома у меня неблагополучно.
Демонстрация возвращенного аттестата произвела некоторое воздействие, и комбат послал меня испрашивать согласия у дивврача, который внял моим доводам и согласился. Я брался привезти хинин из собственного запаса (в МСБ его не было) и необходимое лабораторное стекло, которое тоже нельзя было достать обычным путем. Кроме того, мне поручили помочь в некоторых закупках хозяйственникам.
В Москву направлялось несколько автомашин для их ремонта или замены их на отремонтированные. С этими машинами ехало несколько хозяйственников, и всю эту экспедицию возглавлял т. Каминский – начальник аптеки. У него было много дел, так как он снабжал медимуществом всю дивизию, а медикаментов требовалось особенно много в виду не особенно крепкого здоровья бойцов.
И вот 27 сентября 1941 года в 10 часов утра я выехал на автомашине в Москву. Проезжая мимо вяземского элеватора, я видел много бомбовых воронок. Ехали мы быстро, дорога была прекрасная. По дороге сделали одну остановку в придорожной избе для обеда.
В 4 часа дня я был уже дома. Два месяца моего отсутствия казались мне большим промежутком. Я никогда не разлучался с семьей на такой долгий срок. Дни пребывания в Москве пролетели быстро…
К 5 октября я должен был сдать отчет о месячной работе по дивизии. Второго днем за мной приехала машина с Каминским. Она была здорово нагружена, и Каминский рассказал мне, что обмен машин на отремонтированные произвести не удалось, привезенные машины будут ремонтироваться довольно долго. Он предлагал мне остаться в Москве и через несколько дней прислать за мной машину из Медсанбата.
Предложение было очень заманчивое, но объективных причин для задержки в Москве у меня не было. Кроме того, я был обязан сдать свой отчет вовремя. Если бы Каминский тоже не поехал, тогда другое дело. Кстати, у него не все дела были закончены. Я предложил ему задержаться числа до 8-го, но в то же время сделал предложение, что числа 6-7 по всей вероятности немцы перейдут в сильное наступление, которое они подготавливают своими налетами на наши тылы.
Однако все уговоры Каминского были безрезультатны, на машину погрузили приобретенное мною лабораторное стекло и мои личные вещи, которых я набрал довольно много, не желая терпеть нужду от холода и прочее, как в первую германскую войну.
При отъезде у меня было какое-то очень тяжелое чувство, и служебный долг вел борьбу с желанием остаться хотя бы на несколько дней. Пока мы все еще не выехали из Москвы у меня было желание выйти из машины и вернуться домой на трамвае, но я сидел в кузове, набитом вещами и накрытом сверху брезентом, и дать знать шоферу не мог, а машина шла безостановочно.
Относительно Вязьмы были какие-то странные признаки: железнодорожные билеты не выдавались, и по дороге туда меня поразило какое-то странное безлюдье. Было такое впечатление, что мы едем в том направлении в единственном числе.
Перед самой Вязьмой мы услыхали разрывы авиабомб, стрельбу зениток и, наконец, гудение самолетов, и к нам стала приближаться эскадрилья немецких бомбардировщиков, идущих сравнительно низко. Мы остановили машину и отошли от нее, но такая мелкая цель не соблазнила самолеты, не так как это бывало раньше, когда немецкие самолеты гонялись не только за отдельными машинами, но даже за отдельными людьми.
Безлюдье продолжалось. Я здесь не говорю о безлюдье в отношении населения – ближе к фронту оно в большинстве покинуло свои дома, если последние находились вблизи трассы. Было безлюдно на самой трассе Москва-Минск.
Наконец мы приехали на место стоянки МСБ. Здесь тоже было безлюдно – МСБ ушел по направлению к фронту, осталось, ожидая нас, две машины, политрук Евменов, врач Кланг и еще несколько человек.
Евменов был хороший парень, не вредный, но малокультурный и бестолковый. Однажды я пришел послушать его на политчас. Он пытался говорить о внешней политике Советского Союза, о международном положении, целях войны и положении на театре военных действий. Слушая его, мне сперва казалось, что я очень невнимателен и не могу уловить его мысли, затем для меня стало понятно, что, действительно, никакой мысли в его изложении не было, был ряд плохо штампованных фраз, которые он повторял безо всякой системы. Смысла в его изложении не было. Произношение многих слов было неправильным, речь малокультурна. На лицах слушателей при особенно странных оборотах его речи появлялись улыбки. Слушатели были все-таки культурнее его – бывшие служащие предприятий и др. учреждений гор. Москвы. После мне говорили, что другой политрук – Макаренко – выступает значительно реже, но еще значительно хуже, чем Евменов. Я подумал, как можно выпускать таких людей в качестве политруков? Кто проверяет их знания и подготовленность к этой ответственной работе агитатора и проводника идей коммунистической партии? Почему так несерьезно относятся к этой важной работе? И почему с политруками не занимается комиссар Конышев? Было уже поздно, и мы переночевали в землянке. Утром позавтракали, собрали все еще не взятые вещи МСБ и покинули пустую стоянку, на создание которой было затрачено так много работы! Землянки не разрушались в расчете, что они могут понадобиться еще какой-нибудь части, а, может быть, и нам, впоследствии.
МСБ отошел в общей сложности километров на 40, сперва по трассе на запад, а затем направо, в сторону, вдоль реки Вязьмы до деревни Барково.
Мы ехали мимо деревни Черново, которой МСБ, как и некоторым другим деревням, помог своими людьми и машинами свезти с поля хлеб. В этой работе я принимал горячее участие. Теперь поля были пусты, движение по трассе слабое и исключительно в сторону Вязьмы. Было 3 октября. Настроение у меня было скверное, быть может, на меня действовала разлука с моей семьей.
МСБ расположился на краю большого леса в полуторакилометре от деревни. В деревне устроили операционную и перевязочную, аптеку, вещевой склад, канцелярию, лабораторию, пищевой склад. Обоз, машины, кухни, аптечный склад, палатки, основная масса людей были в лесу.
Вечером я наблюдал первый раз в жизни осеннюю тягу вальдшнепов. Птицы летели, не обращая внимания на людей, и в таком количестве, которого я никогда раньше не наблюдал на весенних тягах под Москвой.
4 октября комбат поручил мне сделать разведку местности. Я взял с собой одного санитара с винтовкой, сам взял винтовку и с утра начал делать обход местности. Лес был большой, обойти его весь я не смог. Местами он был сильно запущен с буреломами и завалами. Среди леса, менее километра от МСБ, была большая поляна с несколькими сараями сельскохозяйственного назначения, почти нетронутыми. Вблизи сараев в лесу была недавно артиллерийская стоянка, были устроены в земле помещения для хранения снарядов.
Артиллерийской стрельбы не было слышно, все казалось спокойным, не внушающим тревоги. Сараи не были заняты, и их можно было использовать как материал для будущих помещений – землянок и т.д. МСБ-ата. В лесу и на поляне около сараев не было ни души.
К вечеру на С-З стали слышны отдельные артиллерийские выстрелы и иногда целые низки разрывов, объяснить которые никто не мог. Вместе с этим начали появляться немецкие самолеты-бомбардировщики, были слышны разрывы авиабомб.
Когда я вернулся на место стоянки МСБ, то в нашей палатке для начальства увидел трех незнакомых людей. Один из них носил знаки различия врача, другой фельдшера, а третий выглядел рядовым красноармейцем в каске. Врач рассказывал, что ему и его спутникам удалось бежать из-под Канютино (ж. д. станция километрах в 35-40 от нашей стоянки на запад). По его словам было спешное отступление, медсанбат, в котором он работал, несколько замешкался, так как в нем шли срочные хирургические операции, и этот медсанбат не успел отойти на 3-4 километра, как его настигли немцы. Судьбы оставшихся он не знает, полагает, что они были убиты или взяты в плен. Им же троим удалось под выстрелами спрятаться в каком-то лесистом овраге и оттуда пробраться через леса и глухие места вдали от больших дорог, к нам. К его рассказу комбат отнесся с недоверием и послал его к дивизионному врачу.
Я сообщил о своей находке сараев, и начальник ХОЗО (хозяйственного отдела) попросил показать ему эти сараи.
Как только мы с ним вышли к сараям, как из леса, начинающегося от задней части поляны, выехало 4 автомашины, в нерешительности остановились и потом быстро подъехали к нам. Они [люди, сидевшие в машинах] взволнованно начали расспрашивать нас, были ли здесь немцы и как они далеко, как можно прямее проехать к Вязьме и т.д. по их словам им с трудом удалось выскользнуть из охватывающего кольца немецких войск, и они боятся, что немцы скоро будут здесь. Они тоже были вблизи ст. Канютина.
Нам было странно слышать такие вести, и в душу начала вкрадываться тревога. Мы сели на две машины и направились к нашему штабу. В штабе решили использовать их, и уложили на них раненых для эвакуации в тыл.
На следующий день 5.Х.41 деятельность немецких самолетов и гул артиллерии значительно усилились. Более четко стали слышны группы разрывов, говорили, что это немецкие самолеты взрывают уложенные нашими войсками минные поля. Но это было не так. Я через несколько дней убедился, что это – очереди взрывов ракетных мин русской «Катюши».
Изредка издалека доносилась пулеметная стрельба. Немецкие самолеты летали большими партиями и сбрасывали бомбы.
Мне было поручено отыскать около деревни Барково удобную площадку для посадки санитарных самолетов. Я очень быстро нашел таковую, и сообщил об этом по начальству, после чего пошел оглядеть расположение нашего батальона в деревне. Зайдя в штаб, я увидел несколько подклеенных карт местности у адъютанта Стрелкова и попросил дать мне одну, так как выданная мне карта относилась к более южному участку. Мне карта была существенно нужнее, так как без нее я не мог ориентироваться при своих разъездах по частям дивизии. Просил я новую карту уже не первый раз, и Стрелков под разными предлогами отказал мне и на этот раз. Это было для меня совершенно непонятно.
У меня начались сильные желудочные боли в подложечной области, что ранее у меня бывало неоднократно. Старясь не обращать на них внимания, я зашел в аптеку. Здесь боль достигла такой силы, что я принужден был лечь и принять порошок белладонны. Но это мне мало помогло. Через некоторое время боль несколько стихла, и я зашел к парикмахеру побриться. Во время бритья я почувствовал, что теряю сознание, и опять лег. Пролежав полчаса, я добрился и с трудом добрался к стоянке МСБ в лесу. По дороге встретились два танкиста из танкового батальона нашей дивизии. Их рассказ был весьма неутешителен: наш танковый батальон (о нем я писал раньше) был послан в бой, чтобы выбить немцев из одной деревни. Немцы встретили их сильным орудийным огнем, танк командира сразу охватило огнем, и он погиб, танкетки были подбиты в несколько минут, и рассказывающие это бойцы ползком по какой-то придорожной канаве сумели добраться к своим. Костюмы на них были здорово изорваны.
По приходе на стоянку мне рассказали, что командир 39 полка Иванов убит, полк сильно пострадал, убит также врач полка д-р Мальцев, а второй врач – Райко (точно фамилии не помню) – ранена.
Вечером направилась автомашина в Вязьму, мне предлагали с ней проехаться и выполнить кое-какие поручения, отчасти связанные с эвакуацией раненых, но я так плохо физически чувствовал себя, что отказался от этой поездки.
Всю ночь был слышен грохот идущих по направлению к Вязьме по трассе танков. Командир батальона сообщил мне, что немцы обошли наши армии и пытаются путем воздушных десантов замкнуть кольцо окружения вокруг Вязьмы. Он говорил, что это окружение подобно паутинке, и что наши танки разорвут его без труда. Я ему возразил, что эта немецкая паутинка может стать железным кольцом, и надо быть готовым к самому худшему, но он только улыбнулся мне в ответ.
На следующий день 6.Х.41 по распоряжению комбата были посланы почти все автомашины батальона с эвакуированными ранеными в тыл. Батальон остался без средств передвижения. Машина, посланная в Вязьму, не возвращалась. Настроение становилось все тревожнее. Изредка доносилась с севера и С-З пулеметная стрельба. Деятельность немецких самолетов продолжалась. Особенно часто слышались бомбовые удары на Ю и Ю-В. Стало всем ясно, что МСБ должен уходить, но вывезти громоздкое имущество было нечем. Всем желающим было предложено получить оружие на нашем вещевом складе, расположенном в Баркове. Это оружие в виде винтовок, автоматов и наганов поступило от раненых.
Я сел на двуконную повозку, едущую в Барково. При выезде из леса внезапно появилась эскадрилья немецких бомбовозов. Повозку остановили, и все стали быстро выпрыгивать из нее. Я сидел сзади и не успел спустить ноги за край повозки, как лошади рванули, и я упал спиной на землю, однако, совершенно безболезненно. Эти самолеты не заинтересовались нами, и мы опять сели в повозку.
На складе я взял старый грязный наган и сменил свою трофейную винтовку на русский карабин. Автомата и десятизарядного полуавтомата я не взял, так как не знал обращения с ними. Немного попробовал полуавтомат, но патроны так заедало, что я решил взять русский карабин, который знаю хорошо.
Ночь прошла в лесу беспокойно. К нам была прислана конная сотня для охраны, так как сообщили, что фронт против нас имеет сильные разрывы. Ночью вернулась часть автомашин, и началась быстрая погрузка имущества.
На рассвете я с группой работников МСБ вышел по указанному нам маршруту по дороге на юг к трассе. Хотя уже было светло, но все было тихо, самолетов нигде не было видно. Только войдя во вторую деревню, мы заметили следы немецкой бомбежки – дымились развалины нескольких домов, и около них лежали остатки трех грузовых машин. За деревней в небольшом лесу, через который шла дорога, были видны большие бомбовые ямы и около них трупы убитых лошадей и разбитые повозки. Особенно много лошадиных трупов было по выходе из леса, в кустарнике. Здесь же лежало несколько трупов людей.
Далее была деревня и мост через р. Вязьму. Не доходя ее, дорога круто спускалась вниз, справа к реке выходил глубокий овраг. Вдоль дороги расположилось несколько небольших воинских частей, жгли костры, варили пищу.
Я с несколькими людьми пошел прямо через овраг, и здесь увидел жуткие картины – бомбовые ямы и трупы красноармейцев. При виде этой картины я подумал о беспечности живых, которые продолжают открыто варить на кострах пищу в непосредственной близости с мертвыми, уже пострадавшими от недостаточной маскировки.
Не успели мы пройти и двухсот шагов, как услышали гул немецкого самолета. Мы залегли среди мелких кустов. Низко над кустарником пролетел самолет с фашистскими крестами, выискивая новых жертв, и вскоре застучал пулемет.
Вдали виднелся лес, конечный пункт нашего маршрута. Дорога к нему шла среди открытого поля. Я решил провести группу своих спутников не по дороге, а несколько восточнее, где местами был редкий кустарник. Расчет оказался правильным, появился второй самолет-разведчик, гоняющийся за отдельными людьми и даже прочесывающий отдельными очередями опушки леса. Мы от него спрятались в группе березок, он пролетел над самыми нашими головами, но не заметил нас.
Наконец почти весь полностью МСБ собрался в хорошем густом сосновом лесу с крупными деревьями. Были разбиты две больших палатки для раненых и больных, заработали кухонные котлы.
Насколько я мог понять, связь с дивизией была налажена плохо. Комбат и комиссар сидели вдвоем в легковой машине и непрерывно о чем-то совещались.
Слышались бомбовые взрывы по направлению к дороге, изредка самолеты строчили из пулеметов по окраинам леса. Настроение было подавленное. Мучительно трудно было сидеть в бездействии и не иметь сведений о том, что происходит, а происходили, безусловно, какие-то весьма печальные для нас события.
Быстро наступила темная осенняя ночь, все мы залегли спать на кучах хвороста, прикрытые брезентом неразвернутых палаток.
Следующий день 8.Х.41 МСБ продолжал оставаться на прежнем месте. Поступило небольшое количество больных и раненых. В операционной палатке шли операции.
Комбат и комиссар по-прежнему сидели в автомашине, кушали, пили чай и совещались.
Никаких приказов о дальнейшем движении они не получали, и положение продолжало оставаться неопределенным и неприятным. Продолжали слышаться звуки бомбежки.
К ночи начался дождь, и, кто мог, забрался в переполненные палатки. Я лег в углу операционной палатки и поздно заснул.
На следующее утро было приказано свертываться и спешно уходить. Палатки оставили в лесу. Оставлено было еще кое-какое имущество для облегчения обоза. Автомашины пошли отдельно, конный обоз отдельно. Одна пешая группа, в том числе несколько санитаров из моего взвода, пошли на юго-восток, предполагая пересечь трассу Москва-Минск и добраться до Брянских лесов. Я с другой нашей группой пошел по маршруту, указанному командованием батальона – на север и затем несколько на восток. Связной, посланный верхом в штаб дивизии, не возвращался.
Я повел группу по ложбине к переправе через реку Вязьму, и несколько не доходя [до нее] повстречался посланный верховой, который не нашел штаба дивизии и не мог дальше поехать на север из-за пулеметного и винтовочного обстрела.
Перейдя реку Вязьму по мосту, мы все же пошли на север по указанному маршруту. За рекой довольно близко была слышна пулеметная стрельба. Навстречу нам все чаще и чаще начали попадаться небольшие группы уходящих красноармейцев и местных жителей. По их словам наше дальнейшее следование по указанному маршруту было невозможно – часть указанных в маршруте деревень уже была занята немцами. После этого я решил идти на запад через лес на дер. Митино. При подходе к лесу мы встретились с нашим обозом, при котором был политрук Евменов. Несмотря на мое утверждение, что проход по маршруту на север закрыт, Евменов настаивал, чтобы обоз шел именно туда, согласно полученному маршруту. С большим трудом я уговорил его не препятствовать движению на Митино.
Собрались вместе все лица начсостава, которые шли вместе с обозом, и на летучем совещании в лесу решили, что поскольку с нами нет командира батальона и комиссара, то считать меня за командира, а Евменова за комиссара.
Дорога через лес была тяжелая – рытвины, заполненные водой, корни, грязь. Лошади с большим трудом тянули перегруженные повозки, часто останавливались, чтобы отдышаться. По моему приказу, несмотря на протесты хозяйственников, сбросили тяжелые котлы и некоторые другие, громоздкие и тяжелые вещи. Лошади пошли быстрее. Когда мы довольно глубоко прошли в лес, с опушки леса, только что покинутой нами, наши батареи открыли беглый огонь по наступающим немцам.
Солнце уже спустилось довольно низко, когда мы вышли на заболоченную долину перед деревней Митино. Несмотря на сравнительно короткий путь, пройденный в этот день, мы все чувствовали усталость, и хотелось есть. Решили сделать привал перед деревней и согреть пищу. Двух людей я направил на разведку в деревню, через которую по большой дороге проходили какие-то обозы.
Вскоре один из них вернулся и сказал, что через деревню проходит какая-то часть нашего МСБ, ведет скот и везут на телегах и автомашинах раненых и что комбат и комиссар там же. Я распорядился выдать на руки по коробке консервов и дать хлеба и, быстро закусивши, мы тронулись на соединение со второй частью МСБ.
Широкая равнина за деревней была покрыта массой повозок и автомашин, дорога не вмещала всех. По дороге мы увидели легковую машину комбата, которая буксовала в грязи, но никто не пошел ее выручать, наоборот, я отметил у людей МСБ чувство какого- то злорадства – пусть посидит в грязи.
К темноте обоз дошел до леса, перед которым сосредоточилось огромное количество других обозов, так как лес не позволял ехать помимо дороги. Вперемежку с обозами шли артчасти – орудия, зарядные ящики.
Ночь наступила холодная, в шинели я мерз и с сожалением вспоминал о своем теплом полушубке, оставленном на одной из повозок обоза вместе с вещами других врачей. Отыскать эту подводу сейчас было очень трудно.
Хотя я устал, но нервная напряженность не давала мне спать. Перед рассветом мы двинулись дальше по дороге через лес. Эта дорога была сильно избита и шла несколько на подъем. По мере подъема она улучшалась, и по выходе из леса она сделалась хорошей и просторной. Обоз шел временами рысью. Ночь была светлой, и идти было хорошо, хотелось пить и есть.
Я шел с фельдшером Прозоровым и врачом Коровниковым. Нас нагнали двое красноармейцев с мешками на спине. Один из них обратился ко мне: - «Не хотите ли белых сухарей?» Я, конечно, сказал, что хочу, и он передал мне свой мешок, а сам ушел вперед. Я поел сам, угостил своих спутников, и все же сухарей было очень много. Я решил половину их отдать и предложил взять двум проходившим красноармейцам. Они с большой жадностью накинулись на мешок, за ними другие, и вскоре, несмотря на мой протест, ни одного сухаря не осталось.
Вскоре обоз был остановлен патрулем, который заявил, что дорога дальше перерезана немцами. Часть других обозов повернула обратно, но я решил вести свой обоз далее, а сам вместе с некоторыми товарищами быстро пошел вперед на разведку. Мы дошли до какой-то деревни, среди которой горело несколько костров. Добиться какого- нибудь толка мы ни у кого не могли, но было ясно, что в непосредственной близости немцев нет, и мы двинулись дальше на восток.
По дороге был глубокий яр с маленькой речкой, за которой была деревня. Единственный небольшой мостик был надолго занят переправляющейся артиллерией, и потому я решил переправить свой обоз помимо моста, что и удалось с большим трудом. В деревне, где было много кочующих красноармейцев, я расспросил одного старика, который сказал мне, что на северо-востоке есть село Богородское, не занятое еще немцами, через которое можно пройти. Мы решили двигаться туда.
Уже светало, а утром несомненная бомбежка и обстрел немецкими самолетами. За деревней был редкий лес, около него - большой овин, к которому мы и двинулись. Но там было полно – стоял другой обоз. Мы решили возможно быстрее двигаться далее, и вскоре на встретившейся нам большой дороге (мы шли проселком) наш обоз влился в огромную массу движущихся на восток войск и обозов. Было жутко подумать, что будет, если эскадрилья вражеских бомбардировщиков налетит на этот огромный людской поток. Наконец, дорога вклинилась в лес, и в это время наверху появился двухфюзеляжный вражеский разведчик, по которому многие, в том числе и я, открыли стрельбу из винтовок. Но он, не меняя своей сравнительно небольшой высоты, ушел безнаказанным на запад. Вскоре надо было ожидать появления бомбардировщиков.
Наконец дорога привела нас к огромной поляне среди леса, в середине которой виднелись две хатки – остатки разрушенной деревушки. Почему-то та воинская часть, которая занимала опушку леса, в момент нашего подхода ждала орудийного выстрела со стороны немцев, и нас предупредили, что мы находимся в линии огня. Однако все было спокойно, и мы решили пересечь эту поляну и идти далее на восток. Так мы и сделали, и, оставив обоз на опушке леса за поляной, я с врачом Коровниковым отправился на разведку вглубь леса, где мы наткнулись на штаб 137 (?) или что-то в этом роде кавалерийской дивизии. Мы решили просить командование дивизии принять нас в состав дивизии, хотя бы даже простыми бойцами. Командира мы не нашли, адъютант просил нас подождать, пока он не свяжется с командиром. Через несколько времени он вернулся и предложил нам пройти в МСБ, который находился в 1½ километрах в лесу, в здании какого-то больничного учреждения для психических больных. При этом он рассказал, что эта кавалерийская дивизия уже заняла у немцев шесть деревень и думает прорваться из кольца, а командует ею известный генерал Белов (нам он тогда не был известен).
Было жарко, мы крепко устали, хотелось пить, есть и спать и, главное, отдохнуть. Все-таки мы решили разыскать указанный медсанбат и пошли по направлению оставленных товарищей, чтобы сообщить им о нашем решении. Но каково было наше изумление, когда мы на опушке леса нашли почти полностью весь наш конный обоз и комиссара. Комиссар отнесся отрицательно к нашему проекту присоединиться к кавалерийской дивизии и уверенно заявил, что здесь соберется весь наш медсанбат, и мы организовано уйдем из кольца, что есть связь с боевыми частями, и нам не о чем думать. Все это было очень успокоительно, однако я не очень доверял этому сообщению. Закусивши консервами с хлебом, я попытался заснуть на возу, но нервная приподнятость не давала покоя, и я спал всего час – полтора.
К вечеру все обозы двинулись по поляне около опушки леса по направлению к слышавшейся неподалеку пулеметной стрельбе и разрывам «Катюш». Не успели мы пройти и полкилометра, как послышался зловещий звук пикирующих бомбардировщиков и разрывов бомб. Все кинулись в лес, в том числе и я, но глубоко в лес я не пошел. Только что я стал под сосной, как на опушке сверкнул желтый огонь и послышался грохот разрывов. Когда я вышел опять на опушку, то в непосредственной близости увидел разбитую повозку, яму от бомбы, двух убитых лошадей и человека-возницу, который поленился увести лошадей в лес.
Все обозы опять начали двигаться вдоль опушки. Мне встретились какие-то военные врачи, стоявшие на опушке леса. Они со мной по-дружески поздоровались, как будто бы знали меня давно и, называя на «ты», начали расспрашивать, куда я иду и с какой частью. Лица их были как будто знакомы, но кто они были, я не могу сказать и сейчас.
Пройдя немного, мы получили приказ от комиссара оставить обоз и ждать дальнейших распоряжений. Сам комиссар пошел к комбату, который, как говорили люди из МСБ, находился тут же.
Время от времени появлялись немецкие бомбардировщики и бросали куда-то бомбы. Наш обоз был хорошо скрыт в лесу, и никто не пострадал.
Время шло, надвигалась ночь, а ни командира, ни комиссара не было. Говорили, что они направились куда-то другой дорогой, а о нас забыли.
Многие пехотные части под покровом темноты построились в колонну, за которой построились обозы. Я также свой обоз поставил сзади этой колонны. Говорили, что возможно пройти несколько севернее Вязьмы, и вся эта колонна направилась туда.
Наступила осенняя темная ночь, самолеты прекратили свою деятельность, и вся колонна довольно быстро начала двигаться к югу и юго-востоку. Шли без дороги и, наконец, вошли в небольшую деревню. Мост через маленькую речку в овраге был разрушен, и здесь произошла задержка с обозами. Пользуясь этим, некоторые возчики начали поить лошадей. Я прошел вперед и увидел, что все обозы без шума скрылись в темноте, уходя по мягкой проселочной дороге, а наш обоз все стоит на месте. В этом была вина передних возчиков, которые не осознавали важности всего происходящего и относились беспечно к поддержанию связи с колонной. Я очень разволновался и быстро двинул обоз вперед, но хвоста колонны мы в темноте найти не могли. Наконец, в мягкой почве нашли следы и рысью начали догонять. Начала всходить луна, что нам помогло ориентироваться. Вскоре мы догнали колонну. Она стояла на большой дороге, ведущей на юго-восток. Где-то севернее слышался сильный шум от передвижения тягачей, везущих артиллерию.
Время шло, пехота ушла куда-то, а обозы стояли, не двигаясь, в несколько рядов. Я опять начал волноваться – ночь проходит, а днем мы не сможем двигаться. От холода и от волнения я начал ходить вдоль обоза, думая узнать хоть что-нибудь о нашем будущем движении, но никто ничего не знал.
Высокая открытая местность, на которой стояли обозы, резким спуском переходила в сыроватую низину с разбросанными кое-где кустами. Поднявшаяся луна ярко освещала всю местность. В своих скитаниях я потерял свой обоз, и все мои попытки найти его, были безрезультатны. Я был один.
Тогда я пошел вперед и за артиллерийскими частями, в заросшем до краев овраге с крутыми берегами нашел часть 38 полка нашей дивизии. Командовал полком полковник Пискунов, очень приятный и смелый старик, ветеран гражданской войны, сам из донских казаков.
Когда наступил день, я его разыскал и предложил свои услуги в качестве врача, которого у него не было. Он меня направил к своей жене, которая числилась с медчастью, хотя была по профессии артистка. Кроме того, он мне сообщил, что если пройти немного по оврагу на запад, то в расстоянии около километра справа стоит штаб нашей дивизии. Я решил этот штаб разыскать, но все мои старания были безрезультатны, штаб куда-то ушел.
Мне очень хотелось есть, но попросить было не удобно.
Где-то западнее и южнее нас летали немецкие самолеты и бросали бомбы. Части 38 полка беспечно развели массу дымящих костров. Я указал на это Пискунову и комиссару полка, но прекратить совсем горение костров нам не удалось.
Во вторую половину дня полк походной колонной начал продвигаться по оврагу, перешел какую-то деревню и вступил в лес. Я устал от бессонной ночи, волнения и голода и не разбирался в направлении его движения.
Во время моих скитаний ночью и утром я встретил двух средних командиров штабного типа, которые вели себя несколько странно. Все время уединялись, шептались, на мое предложение объединиться и небольшой группой сделать попытку ночью пройти через немецкое кольцо, они посмотрели на меня с большим изумлением. Они были очень необщительны, и я их покинул. Теперь я думаю, что они сговаривались, как бы им лучше, без риска для жизни, перейти к немцам.
Итак, колонна двигалась вперед, и часа через два я опять увидел знакомую поляну, на опушке которой нас вчера бомбили немцы. Затем мы двинулись обратно по той дороге, по которой когда-то попали на эту поляну, и вышли на другую поляну, где расположились отдохнуть среди небольших кустов. Но отдых наш был очень краток, начался артиллерийский обстрел, снаряды рвались совсем близко, среди поляны. Загудел двухфюзеляжный самолет-разведчик, и вся масса быстро двинулась на север. Эта новая дорога была мне незнакома.
По дороге меня окликнули. Обернулся и увидел часть нашего обоза. Обозчики были очень рады мне и сообщили, что комиссар где-то тут же, пошел вперед в деревню. Я тоже пошел в деревню, где меня окликнул знакомый фельдшер-москвич из Сталинской ополченческой дивизии. Он предложил мне присоединиться к его санчасти и познакомил меня с врачами и другим персоналом. Они шли отдельно, потеряв связь с частями своей дивизии.
Солнце закатывалось, впереди слышался шум артиллерийской стрельбы, иногда выделялась трель пулемета, и вскипала густая ружейная стрельба. Обозы остановились у начала большого леса. Мои новые знакомые согрели чай, и я немного закусил.
Пришел один врач и сказал, что на дороге стоит обоз моего медсанбата, где меня хотят видеть, так как никого из начальства нет. Сталинцы просили, чтобы я помог поставить их обоз за моим, и мы пошли это осуществлять.
Говорили, что мы идем в прорыв на село Богородское, стрелковые части и артиллерия пробивают дорогу вперед.
Я взобрался на одну из повозок моего обоза, здесь же был фельдшер Прозоров, который мне сообщил, что весь МСБ, включая и автоколонну, идет по этой дороге. Я сильно устал, с удовольствием сидел на возу и не мог заставить себя опять двигаться. Опять наступила темная осенняя ночь. Двигались мы урывками. В темноте рассыпалась от толчков какого-то соседа телега Львова, моего соседа по квартире в Москве, и мой чемодан с его подводы переложили на другую.
Двигалась колонна обозов урывками. Кто-то перегонял, кто-то отставал.
Артиллерийские обозы шли вперед.
Связь со сталинцами я потерял. Возможно, что они обогнали меня. Через Прозорова они просили меня срочно зайти к ним, но Прозоров почему-то передал мне об этом гораздо позже. Больше я их не видел. Ушли ли они из окружения или нет – я не знаю.
На мою телегу подсели две фуражницы нашего МСБ – Антонова и Макарова. Дорога шла среди леса. От нее были свороты влево. Мне показалось, что несколько повозок пошли влево. Возница нашей повозки был какой-то бестолковый, и мы вскоре заметили, что впереди нас обоза нет, а только какие-то пешие части в боевых касках, медленно и осторожно двигающиеся гуськом.
Наконец мы вышли из леса, и дорога вскоре пошла сильным уклоном вниз. Внизу по направлению нашего движения виднелась горящая, вернее догорающая, деревня. Мост через небольшую речонку – ручей – был разрушен. Обозы подходили к этому мосту и слева от нас и справа.
Вдруг раздался типичный свист летящей мины, затем разрыв среди обоза, подходившего слева и хорошо освещенного пожаром деревни.
Справа от нас в глубине долины выдавался крутой продолговатый холм, на котором стояла большая церковь. Мы временно завели подводы на этот холм, и я пошел на разведку. Кроме разрушенного моста, был еще другой, малый, недалеко от нас. Мы вывели подводу на этот мостик, переехали через него и влились в хвост артиллерийского парка, идущего по долине. От болота, лежащего направо, поднимался туман. Дорога была перекопана, мосты разрушены. Все же сильная лошадь вывезла нас. Наконец, мы начали подниматься из долины в гору, влево, где начинались домики деревушки. Ночь была на исходе, и хотелось затемно добраться до леса. Но когда мы начали двигаться по дороге из деревни, то нас начали обстреливать из автоматов с небольшого расстояния. Проезд был закрыт, и мы повернули обратно под прикрытие склона.
Вдали на востоке мерцали, медленно спускаясь, осветительные ракеты – там был фронт. Как хотелось перешагнуть через эту линию…
Рядом установили два орудия и открыли огонь вперед, по направлению немецких автоматов.
Я повязал на руку повязку с красным крестом, и минут через пять к повозке принесли раненого пулей в область сердца. После перевязки я положил его в нашу повозку.
Затем начали поступать раненые все чаще, и после перевязки мы их клали на другие первые попавшиеся подводы и машины, несмотря на протесты подводчиков и шоферов. Становилось светло. Утро 13 октября. Оставаться на месте было безумием – чересчур хорошая цель для артиллерии и самолетов. Учитывая все это, вся масса направилась вверх, через деревню, густою волною, в которой все было перемешано. Выбравшись из деревни, мы оказались в поле с широким кругозором. Влево и спереди были видны кусты, вправо – огромный овраг. Установили орудия для стрельбы, впереди шла сильная ружейная перестрелка. Я, как и многие другие, решил укрыть повозку в начале оврага, так как все-таки нас обстреливали издалека, и непрерывно слышался свист пуль. Здесь, в начале оврага, была видна разбитая повозка, полуобгорелые трупы двух лошадей и человека.
Перестрелка все разгоралась, в дело включилась наша артиллерия, впереди было слышно недружное «Ура!». На прорыв шли какие-то разрозненные части со случайными командирами-добровольцами.
В поле падали раненые один за другим, нас четверо - едва успевали оказывать помощь ближайшим. В овраге оставаться не имело смысла, и мы отправились к кустам. Вся масса обозов и людей начала рассыпаться мелкими группами, кто куда. Временами доносилось недружное, ослабевающее «Ура!», уходившие оттуда люди говорили, что никто не хочет идти в атаку. «Ура!» кричали, лежа на земле и не двигаясь. Орудия выбрасывали последние снаряды. Одно орудие было взорвано метко пущенной миной. Рой пуль становился все гуще.
У нас была одна маленькая лопатка, но все наши усилия окопаться были неудачны – земля была твердая, времени не было. Обозы и люди кругом исчезали. Немцы подходили все ближе и ближе. Надо было уходить.
К нам подполз молодой боец с перевязанной левой рукой. Он предложил мне две ручные гранаты, но их нельзя было использовать – не входили как следует запалы и не закрывались.
Мы знали, что если еще хоть немного задержимся на этом месте, то мы все будем перестреляны, не видя даже неприятеля. Согнувшись, мы быстро спустились кустарником несколько ниже в овраг и пошли вдоль него, уходя от роя пуль. И действительно, мы вышли из зоны интенсивного обстрела, не выходя из кустарника. Точно я не могу воспроизвести весь проделанный путь, помню только, что на пути встречалось много трупов убитых лошадей, людских трупов было сравнительно мало. Убитые лошади не были выпряжены из повозок, в одном месте около повозок было разбросано много бумажных денег, и мы прошли мимо них совершенно безразлично.
Наконец, кустарник кончился, вдаваясь узким языком в открытое поле. За полем виднелся невысокий молодой лес.
В моем распоряжении был наган и русский карабин. Раненый боец выпросил у меня наган.
Когда мы зашли в язычок кустарника, то очень близко от нас, справа, послышалась стрельба из автомата, и пули начали оббивать листья около нас. Автоматчик нас слышал и на звук простреливал кустарник.
Мы были не одни – ряд небольших групп также вышли в этот язычок кустарника, проходили через него, затем перебегали через открытое поле и скрывались в молодом лесу, причем вслед им немцы посылали 1-2 снаряда из легкого орудия – снаряды рвались в лесу.
Видя эту картину, одна из дружинниц, Антонова, задержалась в кустарнике, не рискуя переходить поле. Другая, Макарова, не хотела бросить свою подругу. Я и фельдшер Прозоров подошли к краю поля, готовясь перебежать. В это время сзади раздался жалобный крик, зовущий нас обратно. Я быстро вернулся и увидел бледную, лежащую на земле Антонову, около нее была кровь. Автоматчик попал ей в мягкие части верхней трети правого бедра, густой струей сочилась кровь.
Я наложил ей давящую повязку, кровь остановилась, и я уговорил ее собрать все свои силы и перебежать, так как оставаться было бессмысленно.
Итак, мы перешли, согнувшись, бегом поле, вошли в лес, и за нами разорвалось очередных два снаряда. Перед этим пробегом к нам подошли двое бойцов, один с ручным пулеметом. Они пытались снять автоматчика, но неудачно – его было очень трудно обнаружить.
Когда мы перебежали поле, то в лесу, вдали, увидали грузовую автомашину, уходящую от нас. На наш окрик она не остановилась. Нас связывала раненая Антонова, ее неплохо было бы уложить на машину. Пройдя с полкилометра, мы увидели другую машину, которая тоже собиралась уезжать. Мы ее окликнули, она остановилась, и шоферы (их было двое) охотно согласились с моим планом: прорваться до настоящего леса, там бросить машину, в которой было очень мало бензина, и всяческими путями, по преимуществу ночью, уходить к своим на восток.
Мы спустились в большой овраг и ехали по временной дороге вдоль его склона. По дороге нам встретилась группа человек в 25-30, среди которой было несколько человек комсостава, в том числе один полковник. В конце оврага начался густой, с преобладанием хвои, лес. Над нами кружились немецкие самолеты, укрыться от них было трудно, так как вблизи был только чахлый кустарник и края оврага.
Я подошел к полковнику и предложил ему объединиться и всей группой пробиться в лес, а далее уходить к своим. Но полковник ответил мне, что здесь он не распоряжается, и мой план передаст командиру группы, которого сейчас нет вблизи. Я ему заметил, что по нашим пятам идут немцы, и они не дадут ему долго обдумывать планы, и надо действовать немедленно, что я и намерен сделать.
Мы опять сели на машину, взяли от этой группы некоторое количество перевязочного материала и поехали по направлению к лесу. На опушке горела молодая елка от зажигательного снаряда, вблизи стояла наклонившаяся грузовая машина без людей. Это было подозрительно. Мы решили въехать в лес несколько дальше этого места. Поперек проселочной дороги лежал труп только что застреленного старика- крестьянина – еще расползалась лужа крови.
Нас встретил выстрел, мы опять свернули к лесу. Но что-то мне не понравилась опушка, и я приказал шоферу ехать прямо по полю от леса. Не успел он повернуть, как раздалась частая стрельба из автоматов из леса по нашей машине. Мотор перестал работать, от кабины, в которой сидел я с шофером, полетела щепа… Все, находившиеся в машине, быстро выскочили и залегли за колесами машины. Второй шофер сделал попытку отбежать несколько дальше, но был тяжело ранен, со стоном упал и просил помощи, но подойти к нему по открытой местности было невозможно. Немцы были прекрасно укрыты, мы их не могли видеть, но зато они нас видели очень хорошо. Нас спасало от их огня маленькое углубление за автомашиной, иначе мы были бы немедленно убиты.
Обстрел нас продолжался. Санитар-возчик попросил у меня белую повязку с красным крестом и поднял ее на палочке. Огонь автоматов немедленно прекратился, и мы услышали: «Товарищи выходите к нам» с сильным иностранным акцентом. Возможности борьбы не было: враг был хорошо укрыт и прекрасно вооружен, превышая нас своей численностью. У нас не было оружия, за исключением единственного карабина, оставшегося в кузове машины, укрыться нам было некуда, перебежать невозможно.
Мы поднялись и направились по направлению голоса. Метрах в 70-ти от нашей подбитой машины, в кустах, на опушке леса стояло несколько немцев. Стрелки, обстреливавшие нас, находились в прекрасно замаскированном блиндаже, укрытом дерном и вели обстрел через незаметную даже на близком расстоянии щель. Один из немцев сразу же подошел ко мне: «Комиссар?» - спросил он отрывисто. Я собрал в своей памяти знакомые мне немецкие слова и постарался объяснить, что я не комиссар, а врач. Немец спросил: «Арцт?». Этого я не понял. Тогда немец вынул из кобуры парабеллум, щелкнул затвором для введения первого патрона из обоймы и начал заходить ко мне сзади. Тактика его была понятна: выстрел в затылок, и со мною все счеты покончены. Тогда я ввел новый термин «доктор медицины», что ему стало понятно, и он отказался от своего намерения.
Я всячески старался объяснить немцам, что около машины остались раненые – шофер и сестра Антонова – и просил их меня пустить туда для оказания помощи, но они наотрез отказали.
Через некоторое время, хромая, подошла Антонова. Тяжело раненого больше не было слышно.
Немцы пристально разглядывали нас, я старался скрыть от них ручные часы, надеясь их спасти. Нам не было видно, но, очевидно, кто-то опять появился в поле зрения немцев, и они снова начали стрелять. В ответ на их стрельбу в воздухе засвистел русский артиллерийский снаряд. Все немцы, бывшие вне блиндажа, прижались к земле, и снаряд разорвался довольно далеко за блиндажом, в лесу.
Наконец, старший немец что-то скомандовал, около половины немцев вышло из блиндажа, и нескольким из них было поручено вести нас. Все они были молодые, чисто одеты, и очень быстро и четко выполняли команду. Я взял под руку Антонову, и с большим трудом объяснил конвоирам, что она ранена и не может быстро идти. Однако, конвоиры продолжали кричать, требуя от нас большей быстроты. По дороге они отобрали у меня походную сумку с биноклем, чашкой и ложкой, но до часов еще не добрались.
Недалеко от леса была деревня, занятая немецкими частями. Меня и Прозорова показывали командиру части, который смотрел на нас с большим сомнением и вопросительно повторял: «Комиссар?», в чем я старался его разубедить. У нас с Прозоровым был не совсем военный вид. Меня знобило, и я надел теплую, невоенного образца, ушанку, а у Прозорова вообще никогда не было вида военного, несмотря на обмундирование. Кроме того, немцев, очевидно, смущал наш пожилой возраст. Когда нас привели в деревню, то несколько раз засняли меня, ведущего под руку Антонову.
Наконец, нас присоединили к колонне наших военнопленных человек в 200. Антонова могла идти медленно и только с большим трудом. Видя это, немецкий ефрейтор, которому было поручено следить за колонной, жестами приказал нескольким военнопленным взять ее на скрещенные руки и нести. Но Антонова была крупная, тяжелая, пленные ругались последними матерными словами, и как только ефрейтор отошел, они ее опустили на землю, и я опять повел ее дорожкой напрямик, сокращая дорогу к колонне.
У меня было такое ощущение, что этот день для меня – последний, чересчур косо немцы смотрели на меня, считая меня комиссаром. Мне очень не хотелось оставлять что- либо ценное моим убийцам. На руке у меня были хорошие небольшие мозеровские часы, которые немцы еще не заметили. Я незаметно снял их с руки, кинул на землю и раздавил каблуком.
Немцы обращались ко мне, называя меня комиссаром, и хотели, чтобы я вел колонну, от чего я наотрез отказался и указал на шедшего в ней среднего командира- артиллериста, еще молодого человека, умевшего немного объясняться с немцами – ему было поручено давать команду колонне по указанию немцев. И немцы приказали идти колонне по середине довольно большой дороги, не выходя на тропинки около дороги, причем сами сопровождавшие колонну немцы следили за колонной издали.
Антонову взялся нести какой-то лейтенант, и они сразу же отстали от колонны.
Я быстро разгадал тактику немцев – они посредством живого груза пленных проверяли, заминирована ли дорога или нет. Если и взорвутся русские, то не жалко. Через часа полтора конвоиры все же окружили колонну. Часов через пять ходу, мы вошли в деревню, занятую немецкими частями, и немцы разрешили сесть и отдохнуть. Многие из пленных уже успели накопать немного картофеля, и начали варить его в котелках. Мне очень хотелось есть, но у меня ничего не было. Подходили немцы и срывали с пилоток красные звезды. У фельдшера Прозорова сняли пояс.
Наконец, взяли меня, Прозорова и лейтенанта-артиллериста и повели в какой-то штаб, размещенный в небольшом домике. В комнатах пахло супом, жареным мясом, горячим хлебом. Нам пришлось ждать, пока немцы наедятся. К нам вышел упитанный переводчик и три немецких офицера, на столе разложили карты и через переводчика начали расспрашивать из каких мы частей, какие были еще с нами части, дивизии, подразделения, как они двигались и т.д. От меня и Прозорова они ничего не могли добиться, мы называли какие-то фантастические номера наших частей, а в остальном совершенно отказались отвечать, говоря, что в картах не разбираемся и совершенно не интересовались встречающимися нам подразделениями. Мы так упорно отказывались от дачи каких-либо показаний, что немцы, в конце концов, от нас отстали и исключительно занялись артиллеристом, который крайне охотно рассказывал все, что знал. В конце допроса его стали подробно расспрашивать о структуре артчастей, и нас увели, а его оставили.
Через час его привели обратно, опять построили колонну и повели дальше. Среди колонны было двое отстающих: один раненный в голень, другой с большой потертостью. Их заставляли по очереди нести на палках.
В колонне шли разговоры с употреблением такой матерщины, какой я еще ни разу в жизни не слышал. (Да, никогда в жизни не слышала, чтобы дедушка матерился. Более того, в моей семье этого не делал никто, ограничиваясь, даже при сильной злости, иными выражениями [прим. ОИЯ]) Немцы некоторым задавали вопросы, правда ли, что в русской армии нет хлеба и сахара, что красноармейцев держат впроголодь. И к моему великому изумлению ответы были совершенно несоответствующие истине – многие с большой угодливостью подтверждали, что их почти совсем не кормили в Красной Армии, хотя их упитанный вид явно противоречил их заявлениям. Немцы были очень довольны такими сообщениями.
Я нашел в глубине кармана шинели пару больших кусков колотого сахара и поделился ими с Прозоровым и Макаровой.
Около какого-то госпиталя, расположенного в палатках, нас остановили и повели в госпиталь Макарову. Оттуда она пришла очень взволнованной и рассказала мне, что ей произвели физический осмотр, и она боится, что ее направят для обслуживания публичного дома для немецких солдат. Она по виду была очень моложава, и я ей посоветовал несколько уменьшить свои года, говоря, что ей всего 16 лет.
С наступлением темноты нас привели в село с большой церковью и уложили спать у стены этой церкви. Очень хотелось есть, но еще больше пить. Я обратился к немцам с просьбой нас напоить, что было сделать очень легко, но немцы отказали.
Через некоторое время нас подняли и загнали в скотный сарай с большим количеством навоза. Так хотелось спать, что легли в темноте, не глядя, на что ложимся. На меня навалилось много народу, было тепло, но заснуть я не мог. Как уйти? Все выходы охранялись…
Рано утром мне удалось поговорить с хозяйкой дома – я попросил ее переодеть в крестьянское платье Макарову и перепрятать ее. Но хозяйка и подошедший хозяин сильно перепугались и наотрез отказались помочь хоть чем-нибудь. Хорошо еще, что они дали напиться воды.
Выходя утром из села, мы заметили на дороге несколько испорченных выброшенных кочанов капусты и сейчас же с жадностью набросились на них и на ходу съели.
Нас вели по дороге на северо-запад. Навстречу нам попадались конные обозы и автомашины. Большинство повозок были наши, трофейные. Возчики на них были тоже русские, трофейные, вид у них был довольно веселый, на их лицах не видно было следов истощения. На наш вопрос, что они делают, они с улыбкой отвечали, что подвозят имущество и продукты немецким частям, ушедшим далеко вперед, на восток. Эти мерзавцы были 100%-ми шкурниками. От автомашин шел неприятный незнакомый запах. Сперва я подумал, что это – запах какого-то незнакомого мне химического вещества, которым дезинфицируются машины. Но я ошибался – это так пахли выхлопные газы от синтетического бензина, которого было у немцев очень много.
Мы вышли на большую дорогу, на которой были видны следы недавних боев – ямы от авиабомб и артснарядов, поврежденные блиндажи, подбитые танки, трупы наших русских красноармейцев. Труп одного сидел за станковым пулеметом с недостреленной лентой. Местами виднелось неубранные оружие, орудия и много неиспользованных артснарядов.
Около 5-ти часов вечера мы подошли к концлагерю в Холме-Жирковском, бывшем районном центре. Здесь, по существу, не было организованного лагеря. Был довольно большой деревянный, с одной стороны двухэтажный дом, кажется, бывшая школа. Здесь помещались пленные командиры, санчасть, раненые и больные. Конечно, для всех раненых и больных мест не хватало. Для прочих же военнопленных был огорожен проволокой довольно большой кусок совершенно голой земли за этим домом. Никакого укрытия от ветра, дождя и снега не было. Водой и пищей эта часть пленных не снабжалась. Остальным тоже пищи не полагалось, а достать ее было негде, выйти за пределы лагеря возможно было только самым привилегированным, как, например, русским полицейским и шоферам, машины которых находились вблизи этого центрального дома.
Без пищи можно было обойтись несколько дней, но без воды – нестерпимо. В огороженном лагере земля быстро превратилась в месиво из грязи, а сейчас же за колючей проволокой блестели лужи. Но лишь только просовывалась рука пленного через проволоку, чтобы набрать в жестянку или кружку воды, сейчас же раздавался выстрел часового, и пленный падал, убитый или раненный. Во втором случае его достреливали.
Иногда немцы стреляли прямо в дом. Пули легко пробивали бревенчатую стену и обязательно на своем пути встречали тело человека, так как помещения были наполнены до отказу.
Когда мы прибыли, то меня и фельдшера Прозорова направили в санчасть, которую возглавлял врач Левыкин. Его правой рукой, а скорее, главным вершителем судеб санчасти, был некий Молочников, основная профессия которого до настоящего времени мне неясна. Вернее всего, он был экономистом.
Левыкин встретил нас более, чем холодно. Мне предложил устраиваться, как сумею, Прозорова же, ввиду его небольшого звания, вообще отказался принять. Однако Прозоров все-таки остался в комнате санчасти.
Санчасть была расположена на втором этаже, рядом с помещением для командиров. Она состояла из трех комнат: 1) комната, в которой обитали вдвоем Левыкин и Молочников, не пуская к себе больше никого. У них свои дела и заботы. Молочников через начальника полиции доставал себе и Левыкину пищу, для приема которой они запирались. В обращении с другими обитателями санчасти Молочников был невероятно груб и бесцеремонен. 2) комната для всех остальных обитателей санчасти – санитаров, санинструкторов и фельдшеров. Врачей-мужчин, кроме Левыкина, не было, они прибыли позже. 3) комната с русской печью, где повар санчасти Бабич варил все, что можно было раздобыть – главным образом картофель и изредка конину.
Комнатки эти были очень малы. Их обитатели смотрели на меня и на Прозорова как на конкурентов-врагов, могущих причинить им какой-либо ущерб, как в отношении площади, так и при дележе пищи.
Быстро смеркалось, хотелось есть и отдохнуть – вытянуться хотя бы на голом полу, но ни поесть, ни растянуться не удалось: Левыкин к себе в комнату не пускал, а его подручные – санитары и прочие – так завладели всей площадью пола, что я не мог найти для себя места, и кое-как скорчившись, задремал на краю какого-то ящика и на табуретке. Прозоров тоже пристроился в этом роде.
Утром не хотелось открывать глаз – действительность казалась предельным кошмаром… Почему командование нас бросило без руководства и отдало немцам так легко? Почему командование было передано таким мерзавцам?
Кому мы должны представить счет за наш позор и беспомощную гибель товарищей?
Если такое несчастье произошло с шестью армиями – 16-ой, 19-ой, 20-ой, 24-ой, 30-ой и 32-ой, но не может ли это случиться и с другими армиями, сдерживающими натиск врага?
Внизу, под помещением санчасти были размещены взятая в плен женщина-врач, сестра и дружинница. У них было значительно просторнее в двух относительно больших комнатах. Здесь уже устроилась Макарова, и я увидел несколько знакомых лиц: серьезно раненную в ногу врача Райко (боюсь, что фамилию вспоминаю неправильно), медсестру Грузинскую и еще человек двух, фамилий которых не помню. Они мне рассказали о смерти врача …, который был убит во время работы, а Райко, работавшая вместе с ним, одновременно ранена. Все рассказы были печальные, везде одно и то же – растерянность, отсутствие руководства, а в отношении полков моей 13-ой дивизии к тому же еще неумение сражаться и отсутствие современного оружия – ведь сражаться не учили, вместо современного оружия выдавали ненужное для кадровых частей, устаревшее по своим системам и пришедшее в ветхость, вроде бракованных старых танкеток. Я также узнал, что полковник Пискунов и его жена убиты во время прорыва.
Дом бы полон раненых, и все время поступали новые. В первую очередь нужен был перевязочный материал. Его мы доставали, отбирая у всех военнопленных перевязочные пакеты. Но, конечно, этого было мало. Были огромные по своей поверхности раны, требующие много перевязочного материала. В переполненных до отказа комнатах и коридоре чувствовался запах гноя, в ряде случаев требовалось оперативное вмешательство.
Половину комнат обслуживал я с двумя санитарками, из которых одна работала превосходно, и я просто изумлялся, когда же она отдыхает. Другую половину комнат взяли на себя фельдшера – там были отделены более легкие больные.
Среди легких лежал мой однофамилец, ветеринарный врач лет 38, очень бодрый и жизнерадостный человек. Ранение у него было скверное – повреждены кости стопы. Скверное ранение было потому, что ходить он не мог.
Вода раненым давалась. За первый день моего пребывания где-то у крестьян достали картофель, сварили ее и раздали по две картофелины на человека. (Дедушка всегда называл картофель в женском роде, а чаще, просто картошка. Я была поражена в школе, когда узнала, что это слово – мужского рода [прим. ОИЯ]) Другой пищи не было. Часть раненых удалось перевести в небольшой домик поблизости. Но в отношении разгрузки помещения это было совершенно недостаточно. Пришлось легкораненых отправлять за проволоку к здоровым, а на их место принимать более тяжелых. С каждым днем все больше появлялось температурящих больных.
Немецкие врачи никакой помощи нашим больным и раненым [не оказывали], а также в устройстве лагеря [участия] не принимали.
С каждым днем прибывали все новые врачи, в том числе и хирурги, как например, т.т. Высоцкий и Емшанецкий, а затем т. Левин. Немцы, имея огромное количество трофейного медимущества, дали нам, в конце концов, необходимый инструментарий и др. медимущество для оказания срочной хирургической помощи, главным образом, для ампутаций. Женщин переселили в одну комнату, а в освободившемся помещении устроили операционную. Я перешел туда на работу, давая наркоз и помогая чем только мог хирургам.
Вначале зашли немецкие врачи и, увидев, что работают опытные хирурги, ушли. Для стерилизации инструментов и учета медимущества к операционной были прикреплены два немецких санитара.
Левыкин, хотя сам был хирургом, в качестве врача не работал.
Асептику в операционной старались заменять антисептикой. Вместо халатов были резиновые фартуки. Руки, ввиду недостатка воды, мылись в антисептических растворах. Операции шли непрерывно на двух столах. Больные были грязные, завшивленные, с обильным нагноением. Операции производились на клеенчатой подстилке, которая после каждой операции быстро и грубо очищалась.
(Асептика - предупреждение заражения раны обеззараживанием физическими и химическими методами всех предметов, соприкасающихся с ней.
Антисептика – способ биологического и химического обеззараживания ран и предметов, соприкасавшихся с ними, и т.д., и воздействия на инфекцию в организме больного посредством применения убивающих микробы химических веществ (сульфиниламидов, антибиотиков – тогда еще не было, – фитонцидов))
Количество смертей от ранений и болезней с каждым днем быстро увеличивалось. В огороженном лагере начали делать силами военнопленных очень примитивные землянки, в виду отсутствия стекла и для теплоты – без света. Теснота в них была невообразимая.
Отсюда и все санитарные условия. Кошмар продолжался и нарастал, так как люди без питания обессиливали, а надвигающаяся зима давала себя чувствовать ночными заморозками. Дни становились все холоднее, выпадали дожди, иногда снежная крупа.
Отношение к пленным красноармейцам было самое жестокое, их били не только случайными орудиями, но и специальными палками, в том числе и резиновыми. За противоречия просто стреляли.
Я чувствовал себя обессиленным. Сказывалось и нервное перенапряжение и недостаток пищи. Те несколько картофелин и иногда несколько маленьких кусочков вареной конины, которые изредка доставал Бабич, не могли поддержать, а тем более восстановить моего здоровья. Мысль о побеге все время не покидала меня, но как бежать в таком состоянии слабости и непрерывного ощущения холода? Да и как выбраться из-за этих рядов проволоки с постоянной охраной?
Но все же, несмотря на охрану, четыре командира убежали, и хватились их не сразу. Перед побегом им, не знаю каким чудом, удалось достать две буханки хлеба. Они сняли с себя все знаки различия, могущие свидетельствовать об их командирском звании, затесались в колонну рабочих военнопленных, идущих на заготовку дров, перед концом работы их завалили мелким хворостом. Колонна ушла, они остались в лесу. Дальнейшей судьбы их не знаю. Я, к сожалению, не мог последовать их примеру, так как русские иуды – полицейские, – сопровождавшие колонну, знали меня в лицо как постоянно работающего врача.
Перед побегом они (беглецы) советовались со мной насчет маршрута. Я им посоветовал идти на северо-восток. Больше побегов не было.
Немцы выдали обслуживающему лагерь персоналу, в том числе и медработникам, по сто граммов хлеба в сутки. Эти сто грамм показались вкуснее всякого шоколада, после них я начал чувствовать себя значительно бодрее. Хлеб был какой-то странной выпечки, очень плотный местами, в трещинах была зелень. Говорили, что этот хлеб законсервирован каким-то особенным способом и может сохраняться по несколько лет. Я этому не верил, и думаю, что нам дали обыкновенный хлеб, предназначавшийся для армии.
Началась третья декада октября 1941 года. Немцы-санитары, помогавшие стерилизовать инструменты в операционной, были очень веселы. Они рассказывали, что «Москва бум бум, и скоро капут», что немецкие войска только потому не входят в Москву, что ее окраины сильно заминированы. По их рассказам выходило, что русская армия бежит, не оказывая никакого сопротивления. Москва и Ленинград вот-вот будут заняты, и война закончится полной победой Германии, которая будет творить на обширнейшей территории Советского Союза все, что она пожелает, и, в первую очередь, ублаготворять своих солдат за счет побежденных. К этому они добавляли, что Япония заняла Дальневосточную область вместе с Владивостоком.
После этих разговоров не хотелось жить… Я думал о бомбежке Москвы, о сплошных пожарах, например, таких районов как почти вся деревянная Марьина Роща, думал о печальной судьбе своих близких…
С этим временем совпал приход трех молодых врачей, два из которых были молчаливы, а третий, очень живой блондин по фамилии Белянин, непрерывно болтал и чувствовал себя превосходно. Он был рад, что попал в плен к немцам, ему смертельно надоело все советское, в том числе и его собственная жена, кончившая одновременно с ним, женщина-врач, которая уже имела от него ребенка. Но все-таки Белянин надеялся использовать свой брак, так как дед и бабушка его жены жили в Латвии, и он хотел попасть к ним на хлеба как родственник. Он мечтал как можно скорее попасть в глубь Германии и зажить буржуазной жизнью в свое удовольствие. Говоря о советской власти, давшей ему высшее образование, и о своей жене, он пересыпал речь завзятой матерщиной. Все это было очень неприятно, мы вели с ним крупные разговоры, но на него ничего не действовало.
Числа 18 октября к дому подъехала огромная немецкая грузовая машина и выбрала для отправления на запад 25 командиров. Большинство командиров ехали очень охотно, так как говорили, что на западе для военнопленных хорошее помещение и питание.
После этой отправки старший командирского помещения составил списки очередности отправки. Командирам было очень скучно – абсолютно никакой работы, теснота, плохое питание, вечные ссоры между собой…
Когда Полянин (Белянин?) захотел также записаться в эти списки, то ему не отказали, но по приезде второй машины его просто не взяли на том основании, что он не командир, а врач.
Внезапно немецкие санитары перестали рассказывать о Москве. И лица их помрачнели. Отсюда я с радостью вывел заключение, что дела немцев под Москвой ухудшились. Появилась какая-то надежда на изгнание проклятых насильников из земель нашей родины.
25 октября ко мне подошел Левыкин и сказал, чтобы я готовился к этапу вместе с партией военнопленных. Это было для меня неожиданно. Я хотел остаться ближе к фронту, я считал, что чем я буду дальше на запад, тем труднее мне будет бежать. Несмотря на мою просьбу оставить меня, Левыкин был неумолим и сказал, что ему приказано дать фамилий пять врачей для этапа, и он внес мою фамилию в список. Со мной были направлены врачи: Белянин с двумя его однолетками и бывший дивврач Рябой, сносно объяснявшийся по-немецки (как почти все попавшие в плен евреи). Узнав, что я ухожу, ко мне подошел Прозоров и просил взять его также, так как без меня ему будет очень тяжело, и он опасается, что могут его совсем изгнать из санчасти ввиду отрицательного к нему отношения Левыкина и Молочникова.
Перед домом был выстроен большой этап тысячи в три человек. Здесь были не только вполне здоровые люди. В этап были направлены многие ослабленные, температурящие, легкораненые, даже имеющие ранения ног. Таково было распоряжение немецкого коменданта. Он говорил, что идти нужно не более 12-ти километров, и там бытовые условия будут значительно лучше. В надежде на это, многие, собрав последние силы, становились в ряды.
Прозорова с трудом удалось поместить вместе с врачами как помощника врача. Нам, врачам, выдали на дорогу по одной маленькой буханке хлеба на двоих. Другим хлеба не выдали.
Этап начал двигаться довольно быстро, и сразу же стали кричать все больные, что они не могут двигаться с такой быстротой. Конвоиры приказали двигаться медленнее, и отстающих начали подгонять прикладами. С этапом ехало три тележки для очень обессиливших, но у меня создалось такое впечатление, что этим транспортом воспользовались люди совершенно здоровые, и не больше трети уселось людей, действительно нуждающихся в перевозке.
Дорога носила следы недавних боев – снарядные и бомбовые воронки, разбитые танки и орудия, автомашины и повозки. Среди всего этого редкие неприбранные трупы красноармейцев. Вот огромная бомбовая воронка, в глубине которой прилег на бок разбитый танк, около которого трупы трех молодых красноармейцев – так и вспомнилось «Три танкиста, три веселых друга…».
Вот лежит еще труп, на одной ноге которого хороший сапог. К нему подбегает военнопленный из этапа и пытается снять сапог. Снять трудно, нога закостенела, но, в конце концов, ему это удается, и он тут же одевает сапог себе.
Проходим мимо еще неубранного картофельного поля. Несколько человек выскакивают из рядов и начинают быстро рыть, в них стреляет из автомата конвоир, но большинство из них не обращают на него внимания и опять входят в ряды только после того, как к ним подбегают несколько конвоиров. Голод настолько силен, что уже не страшна угроза смерти.
День был хороший, без дождя. К вечеру мы прошли 18 километров и остановились в небольшой деревушке. К нам вышли молодой рыжий немецкий офицер (как мы узнали, до войны он был зубным врачом) и «староста» деревни, несколько говорящий по-немецки, так как еще в первую империалистическую войну он был долго в плену в Германии. Этап загоняют в два огромных сарая. Полянин (Белянин?) и Рябой добиваются у немецкого коменданта отвода для медперсонала крестьянской хаты. Но предупреждают, что если кто-нибудь из нас убежит или сделает попытку к бегству, то все остальные будут расстреляны.
Вся деревня тщательно охраняется немцами.
Хозяин хаты варит нам картофель и стелет на пол солому. В хате тепло и здорово хочется спать, но заснуть не могу, все прожитое меня будоражит; лежащий рядом со мной Рябой сильно храпит. Только к утру я начинаю дремать.
С рассветом нас выстраивают снова. Моросит довольно сильный осенний дождь. Быстро начинают намокать пилотка и шинель. Один из санитаров, идущий с нами, дает мне старую плащ-палатку, он сам имеет еще кожаное пальто сверх шинели. Эта плащ- палатка сразу улучшает мое положение.
Этап движется без конца, делая 10-минутные остановки каждые два часа. Начальник конвойной команды молодой блондин, он рассказывает Белянину, что он евангелист. На вид он кажется очень кротким. Но в противовес своему начальнику конвойная команда все более свирепеет, особенно один маленький брюнет с автоматом. Он уже старается стрелять по живым целям без разбору. Ко мне подходит на перевязку с разорванным пулей грудным мускулом военнопленный с очень культурным видом и разговором. Он шел в общей колонне и во время беспорядочной стрельбы был ранен. Конвоиры не только стреляют, они избивают отстающих и пристреливают их. А во главе этой банды – евангелист… Этот евангелист делает вид, что он ничего не замечает.
Я, несмотря на свою хорошую тренировку, начинаю уставать. Дорога тяжелая по грязи под дождем, и идем мы бесконечно. Другие прямо валятся от усталости, колонна далеко растянулась. Иногда навстречу попадаются небольшие группы в шинелях и в другой одежде штатского покроя. Они утверждают, что их, как местных жителей, немецкое начальство отпустило по домам. Но конвой им не верит и включает в общую колонну.
Наконец, мы добираемся до трассы Минск-Москва и идем вдоль нее на запад. Вся трасса наполнена автомашинами, двигающимися несколькими рядами сразу в направлении на восток. Они больше стоят, чем двигаются. Ах, если бы десяток наших бомбардировщиков – это идеальная цель…
Пройдя вдоль трассы километров пять-шесть, мы подходим к лагерю в Дурове. Военнопленные заключены в огромном сарае, стоящем на краю болота в низине. Кругом размякшая грязь. Белянин и Рябой хлопочут перед немецким унтером об отводе нам хаты, но унтер разводит руками – все хаты заняты немцами, и помещают нас в самом начале сарая на мокрой грязной соломе, откуда он предварительно выгоняет кого-то. Но как только мы ложимся в темноте, на нас, несмотря на протесты, наваливаются какие-то люди и располагаются на нас, как на пустом месте. С трудом мы находим мыслимое, но очень неудобное положение и остаемся здесь до утра. Ночь проходит без сна: немцы все время стреляют вглубь сарая в ответ на крики, доносящиеся оттуда. А в сарае непрерывно раздается матерщина и возникают ссоры и споры главным образом из-за места, так как всем лечь негде, и люди устали крепко, и всем хочется спать и, конечно, на соломе, которая дает какое-то тепло и которой на всех не хватает.
Утром из сарая вынесли несколько трупов. У одного крепко уснувшего вырезали всю спину шинели.
В полдень раздали немного хлеба и нам, врачам, принесли немного теплой воды. Остальные пили холодную воду.
Сарай был тесно огорожен проволокой. Рядом с ним была выкопана уборная, немного дальше вмазаны котлы, в которых начали варить капустные листья. По другую сторону сарая зарывали трупы умерших.
Во вторую половину дня появился немецкий переводчик – врач Нестеренко.
Белянин, Рябой и Нестеренко все время просили немецкого коменданта, немецкого унтера об отводе нам отдельного помещения, где мы могли бы не только жить, но и обслуживать больных и раненых.
Эти хлопоты имели успех, и вечером повел нас этот унтер в крестьянскую избу, из которой выселили немцев-солдат и хозяев. Мы убрали грязь, вытопили русскую печь и сварили большое количество картошки, которую нашли тут же, в яме за печью. Эту ночь удалось проспать на теплой печи.
На другой день два молодых врача пошли в сарай и привели с собой несколько человек раненых. Больных они обслужили насколько могли на месте. Несколько человек из раненых имели свежие ранения. Так, например, у одного была отрублена кисть правой руки. Это ему отрубил в спешке его товарищ при рубке дров для кухни. У другого была размозжена пулей правая рука выше локтя. Руку пришлось ампутировать и отпилить часть плечевой кости, остаток которой остался торчать в ожидании более радикальной операции, так как у нас инструментов почти не было, например, отрезали руку большим острым карманным ножом.
История этого ранения была такова. Рядом в сарае положили труп убитой лошади, возможно, затем, чтобы потом ее разделать и сварить. Два товарища подговорили пострадавшего отрезать кусок мяса. Он только начал резать, как немецкий часовой прострелил ему руку.
Это был необычайно крепкий мускулистый субъект. Перенес он операцию без стона (без наркоза!). Он не жалел о руке, он мечтал, что теперь он стал для немцев безопасным, и они его отпустят домой, а дом его находился где-то недалеко. Унтер будто бы обещал его отпустить.
Но вышло дело не так. Я случайно проследил за ним несколько времени. После нескольких дней в лагере его послали по этапу дальше на запад, в другой лагерь. Он страшно похудел, и я полагаю, что он погиб.
Врача Рябого немцы посылали одного в окрестные деревни за где-то оставленным медимуществом. Но его хлопоты почти не имели успеха. Там были другие русские врачи, которым тоже было нужно медимущество, главным образом для обслуживания местного населения, что было очень выгодно для врачей, так как они за это получали все необходимое для сытой жизни.
У нас начали заводиться вши, и мы устроили стирку. У меня не было второй смены белья и, развесив над печью вымытое белье, я принужден был одеться без белья.
В это время явился немецкий унтер с каким-то военнопленным и приказал нам немедленно выйти в сени. С ним остался Нестеренко, и через неплотную дверь мы услышали следующее (переводчиком был Нестеренко).
Унтер: Какие основания вы имеете, требуя отделить вас от других военнопленных и дать вам паек немецкого солдата?
В/пленный: Я работал мастером на московском военном заводе. В 1938 году я познакомился с представителем германской разведки, который мне предложил приносить для него все новые чертежи изготовляемых деталей, с которых он снимал копии.
Унтер: Как вы с ним объяснялись, не зная немецкого языка?
В/пленный: Он хорошо говорил по-русски. Он был со мной очень любезен и хорошо мне платил за доставляемые сведения.
Унтер: Какими деньгами он вам платил?
В/пленный: Конечно, русскими. Требуя сейчас освобождения из лагеря и пайка немецкого солдата, я считаю, что служу Германии с 1938 года.
Унтер: Хорошо. Я доложу коменданту и думаю, что ваша просьба будет выполнена. Можете идти.
Затем унтер позвал нас и начал отбирать у нас все теплое, а также и другие вещи. У меня отобрал хорошую меховую шапку, и мне с трудом удалось отвоевать мокрое белье. Затем он построил нас в один ряд.
Я забыл рассказать о следующем. За день до этих событий к нам утром явились трое: врач Левыкин, его правая рука Молочников и его любимый санитар, причем Молочников – под видом медицинского работника. Это появление на молодых врачей произвело потрясающее впечатление. Они выставили эту тройку временно из избы и собрали совещание, на котором решили, что Молочников и санитар должны быть изгнаны в общий барак, Левыкину же как врачу разрешалось остаться с условием ни во что не вмешиваться. Так и сделали.
Левыкин рассказал, что с их этапной партией шел еще один врач-гигиенист, фамилию его я забыл. Он принял чужую фамилию, так как носил еврейскую. Когда этап шел, то под их ногами взорвалась мина, и куски человеческих тел буквально летали над головами. Этот врач был оставлен в ближайшем к месту взрыва селе с 50-тью ранеными при взрыве. Сколько было убито – неизвестно. Больше этого врача я не встречал.
Итак, нас унтер построил в ряд, в том числе и Левыкина (Рябой в это время отсутствовал). Затем он ткнул пальцем в Прозорова и Нестеренко и заявил, что они остаются, остальные же должны следовать за ним. По дороге к нам присоединилось человек 20 военнопленных, из которых один был без сознания, и его несли на руках. Так мы дошли до трассы, на которой унтер остановил большую грузовую автомашину, усадил нас туда с двумя конвоирами, и мы поехали на запад. К вечеру мы добрались до Днепра, через который был наведен очень плохой деревянный мост. Старый, хороший, был взорван. Этот мост, через который пропускали автомашины со значительными интервалами, служил препятствием, тормозящим движение. Было уже совсем темно, когда мы доехали до лагеря военнопленных в Ярцеве. Бывший без сознания военнопленный был уже трупом, и по приказу конвоиров его положили в придорожный кювет. В лагере нас сперва поместили в наскоро сбитый из досок барак с земляным полом, посреди которого горел костер, а затем повели в санчасть, уже с деревянным полом. Здесь нам дали суп с хлебом, и мы легли на подстилку из старого сена. Во время ужина вошедший немец хотел снять у меня с петлиц знаки различий (шпалы), но я их не давал. Местный врач, желая угодить немцу, все же снял с меня одну шпалу и отдал немцу. Этот врач всего боялся, а было чего бояться – он был еврей.
Рано утром нас опять покормили и присоединили к партии военнопленных в 1000 человек. При подходе к железной дороге стояла группа немецких офицеров, которая заставила всю (нашу) группу бежать к открытым площадкам ожидавшего нас поезда. Паровоз был маленький, нерусский. Был промозглый ветер глубокой осени, от которого некуда было спрятаться. После часового ожидания поезд тронулся по направлению к Смоленску.
От Ярцева по существу ничего не осталось. Группа военнопленных под истерические крики немцев-надсмотрщиков разбирала кирпич разбитых домов. По краям дороги было очень много ям от снарядов и бомб, видно, здесь шли сильные бои.
Поезд, состоящий исключительно из открытых платформ с военнопленными, подвигался довольно быстро. Часа через 3-4 показался Смоленск с разбитыми и выгоревшими многоэтажными домами. Большая часть Смоленска, как я убедился потом, выгорела от зажигательных авиабомб в самом начале войны – тушение пожаров не было организовано.
Наши платформы наконец-то останавливаются. Рядом с нами смешанный поезд с пассажирскими и товарными вагонами, в одном из которых оборудована кухня. В вагонах и перед ними люди в одежде цвета, напоминающего английское хаки, на левых рукавах у них повязки со свастикой и с надписью «Todt», как я узнал впоследствии, это обозначало принадлежность к инженерно-строительной организации, работавшей над прокладкой дорог, возведением специальных укреплений и т.д., названной по имени ее руководителя и главы, доктора Тодта. Наши курильщики просят у них папиросы, но те отдают только окурки. Левыкин протягивает 10-рублевую бумажку и за нее получает одну папиросу. Немцы смотрят на нас с любопытством, некоторые обращаются по-чешски и по-польски.
После стоянки на месте около 3-4 часов, нам приказывают сходить с площадок, и наша колонна начинает двигаться по улицам на три четверти разрушенного Смоленска. Вот мы идем по берегу Днепра, не широкого, не быстрого. Колонна останавливается на несколько минут, этим многие пользуются для совершения естественных отправлений.
Один из военнопленных заходит за развалины одноэтажного дома, конвоир резко кричит ему, но он идет, не обращая внимания на крик конвоира. Конвоир стреляет, человек падает, раненный в бедро. Конвоир подбегает к нему и в упор стреляет в голову. С других участков колонны тоже слышны выстрелы…
Наконец-то мы приходим в лагерь, расположенный в каких-то помещениях складского типа на окраине города на Краснинском шоссе. Большинство строений – высокие деревянные бараки, оборудованные четырехэтажными нарами. Но есть бараки и без нар, через полуразрушенные крыши беспрепятственно проникает внутрь мелкий осенний дождь, иногда с крупой и снегом. Осень необычайно холодная.
По лагерю ходит много полицейских с дубинками, которыми они с удовольствием избивают своих вчерашних товарищей. Выдают какое-то горячее хлебало, по лагерному выражению – баланду. Есть хочется, но получить нельзя, так как мы не вошли еще в состав команд, которым идет выдача, и, кроме того, нет котелка или банки, даже нет кружки для получения этой баланды.
Уже становится совсем темно. Белянин пытается устроиться при санчасти, расположенной в одноэтажном кирпичном строении, но даже ему это не удается.
Оказывается, что именно с этого дня все врачи, не работающие в санчасти, изгнаны оттуда по обвинению в краже часов санчасти. Эти часы были с разбитого самолета и, конечно, в кармане их носить не представлялось возможным. Все это очень странно и неправдоподобно, но факт изгнания – налицо, и врачи перешли в общий барак на верхние нары.
Наша партия в пять человек сперва старается устроиться в бараке без нар, с разбитой крышей, а затем благоразумно перебирается к изгнанным врачам, с боем занимая места рядом с ними. Наступает полная темнота, но споры из-за места не утихают. Но хуже того, некоторые мерзавцы мочатся с верхних нар на тех, кто находится внизу. Начинается яростная перебранка с густой матерщиной, но слова не помогают. К утру шум несколько затихает.
Утром из нашего барака выносят восемь трупов – худых, истощенных, со щетиной на щеках. Истощение, болезни и нелеченные ранения делают свое дело.
На следующий день молодые врачи проявили большую деятельность в отношении шкурных вопросов. В результате их деятельности наша партия в пять человек ночевала в проходе между комнатой, занятой женщинами, и приемной санчасти и, кроме того, мы получили хлеб дважды – в санчасти и в командирском отделении. Самое трудное было днем – как провести время. Я был сильно истощен и на дворе, на холодном ветре буквально замерзал. В санчасти оставаться запрещалось, там постоянно шныряли немцы, в том числе и штаб-арцт Закс (Sax) – главный немецкий врач лагеря [Dulag] № 126. Он был большой формалист, русских откровенно ненавидел, в бараках не бывал и мечтал о поголовном истреблении русских, как он сам впоследствии рассказывал одному из русских врачей, с которым несколько считался.
В одном из бараков была какая-то специальная печь очень большой теплоемкости, нагреть которую было очень трудно. Около этой печи собиралось много народу, кроме того, в ней пекли картофель, и из-за места происходили ссоры. Полицейский, стоявший здесь же с дубинкой, гонял всех, кто ему не нравился. Одним словом, наступила жизнь гораздо более осмысленная, чем жизнь первобытного пещерного человека.
Мы начали получать в санчасти также и баланду. Конечно, повар давал нам верхи, т.е. самую жидкую часть, а картофель и даже кусочки конины доставались другим. Но все же было что-то жидкое и горячее.
В комнате женщин при санчасти было человек 6 женщин, среди которых была одна врач-гинеколог лет 32-х, неряшливая и достаточно некультурная. Она выдавала себя за польку и говорила, что у нее где-то в Польше есть родственники. Несмотря на ее, на мой взгляд, непривлекательный вид, за ней сильно ухаживал помощник Закса, врач Ламур, и еще один унтер по медслужбе. Они заходили к ней не только по нескольку раз днем, но также с наступлением темноты, освещая себе дорогу карманными электрическими фонарями. Поэтому спать в проходе было очень трудно из-за постоянного хождения.
Кроме нас в проходе спало еще 3 санитара, и места не хватало.
В первую же ночь врач Богданов – заведующий санчастью – поднял меня и Левыкина и устроил спать на полу в перевязочной. Здесь было теплее, никто не беспокоил, и до 6 утра, когда начиналась уборка, можно было выспаться.
С Богдановым я разговорился, он очень обрадовался, когда узнал, что я – любитель- охотник. Он любил говорить на эти темы. Заксу он старался угождать внешней дисциплиной и чистотой санчасти. Но под этой личиной в нем чувствовался русский человек, патриот.
После знакомства с Богдановым у меня появились некоторые перспективы. Я ему сказал откровенно, что моя мечта – не удаляться от фронта на запад, так как чем ближе к фронту, тем больше возможностей для возвращения к своим. Он обещал мне содействовать.
Когда меня первый раз увидел Закс и узнал, что я украинец, то он сразу обратился ко мне с вопросом, умею ли я ездить верхом. Не зная, к чему ведет этот вопрос, я ответил уклончиво, что с 1917 года я верхом не ездил. На это он мне сказал, что я быстро возобновлю навыки верховой езды, и он хочет, чтобы я пошел врачом в казачьи части, организуемые немцами. Ему нравился мой рост (Рост Мстислава Владимировича был 185 см [прим. ОИЯ]) и представительность. На это я ответил, что я не хирург и даже не терапевт и не подойду для этой роли. Мой отказ ему не понравился.
На третий день моего пребывания в лагере был отправлен большой этап на запад, в том числе около 40 врачей. Богданову удалось задержать меня и Левыкина под тем предлогом, что необходимо два врача для южного отделения лагеря, находящегося на Рославском шоссе. Мы, конечно, с радостью согласились на эту работу, так как это закрепляло нас в Смоленске. У Левыкина в Смоленске жила родная сестра с дочерьми, но он почему-то не рвался испросить разрешения, чтобы навестить их. Он боялся, что они убиты. Его психология была для меня непонятна.
При санчасти был небольшой санпропускник, которым пользовались преимущественно немцы, затем русские, непосредственно обслуживающие немцев (шофера, пекаря, повара и др.) и изредка пленный комсостав. За баней наблюдал санврач лагеря Каменев, немного говорящий по-немецки. Он был крайне исполнителен и любезен с немцами. Кроме него было три врача и несколько фельдшеров и санитаров. Среди врачей был врач Кальнишевский, очень худой, с больными легкими человек, который непрерывно шил себе новые костюмы за счет мены материалов у военнопленных на пищевые продукты, которые он добывал через старшину санчасти, очень ловкого и жуликоватого парня. Кальнишевский в минуту откровенности рассказал, что он был в белогвардейском кавалеристском отряде Шкуро и с удовольствием попал в плен к немцам и хочет попасть в русские части, формируемые немцами против большевиков. Это желание исполнилось. Месяца через 3-4 он попал в армию предателей родины, организованную несколько позже генералом Власовым.
Вечером после работы в санчасти пели хором, и солисты достали музыкальные инструменты, недостаток которых пополнялся стаканами и гребешками. Это занятие музыкой имело большие плюсы, как это показало будущее.
Однажды вечером ввели военнопленного с пробитой головой. Его ударил конвоир- немец безо всякого основания. Раненый рассказывал, но чувствовал себя все же плохо. После перевязки его повели под руки к дверям, но он не дошел до них и умер. Наконец мне сообщил Богданов, что на следующий день он должен по приказу Закса отправить в южный лагерь для работы там двух врачей, трех фельдшеров и пять санитаров, и что мы можем кое-кого взять из наших знакомых.
Дня за два до этого, когда я находился около одного из бараков, меня кто-то окликнул по имени, я оглянулся и увидел соседа по квартире в Марьиной Роще (Район Москвы, где мы жили до 1965 г. [прим. ОИЯ]), Львова. Он был последнее время обозным в МСБ, ему я дал свою вторую пару сапог, и он был возчиком и хранителем моих утерянных [затем] при попытке прорыва вещей.
В данный момент вид у него был истощенный, и он торопился на какую-то работу вне лагеря, догоняя рабочую команду. Когда же Богданов предложил мне подобрать санитаров, то я вспомнил о Львове. Где же его искать? В бараке рабочей команды его не было, не видно было и в других помещениях. Я медленно возвращался в санчасть и на ступенях входа столкнулся со Львовым. Он шел, согнувшись, с болями в животе, попросить какое-нибудь лекарство. Он очень обрадовался моему предложению, я дал ему хороший прием опия и усадил в тепле. После этого начался сбор остальной команды.
В качестве фельдшера мы взяли еще одного молодого врача Шлейна. История его была такова. Он был с группой врачей в районном центре «Починка». (Здесь должно быть «Починке», поселок называется «Починок» [прим. ОИЯ]) Бургомистр Починок направил их в Смоленск с отношением в лагерь. В отношении говорилось, что в Починках очень нужны врачи, и он просит трех человек отпустить к нему обратно. Это отношение было у Шлейна, но, прибыв в лагерь, он передал его другому врачу, грузину, для предъявления в комендатуру лагеря. Этот грузин получил разрешение для возвращения в Починок трем врачам, и третьим вместо Шлейна взял фармацевта Какауридзе, после чего, не показываясь на глаза Шлейну, они ушли в Починок. К этому еще следует добавить, что это отношение бургомистра достал по своей инициативе Шлейн.
Нас выстроили и повели. Через полчаса мы уже входили на территорию южного отдельного лагеря, расположенного в разрушенном многоэтажном здании Смоленского мединститута при выходе из города на Рославском шоссе. В здании были обитаемы подвалы и несколько комнат первого этажа, бывшие уборные и умывальни в виду их сводчатых крепких, бетонированных перекрытий. В этих сырых уборных располагалась санчасть. В ней были следующие лица: 1) женщина-врач, молодая полная киевлянка, немного говорящая по-немецки. Она была хорошо знакома с немецким капитаном Шомбергом, который когда-то имел поместья в Золотоношенском уезде (около Киева). Шомберг хорошо говорил по-украински и обещал ее и ее мужа, тоже врача, на днях отправить в Киев; 2) ее муж, кадровый военный врач; 3) женщина-врач, пожилая, худая; 4) врач Алимов, оставшийся после отъезда киевлян старшим врачом лагеря; 5) фельдшер Новохацкий и т.д. – санинструктора и санитары.
Алимов принял нас неприветливо и вечером отправил спать в маленькую комнатку с двухэтажными нарами. Сам же он с фельдшером Новохацким занимал отдельную комнату. Санитарам и без нас было тесно, но здесь пришлось еще более потесниться. Спать было очень душно, не хватало воздуха, спящие без стеснения портили воздух. Алимов относился к нам, вновь прибывшим, не по-товарищески, это сказывалось во всем. На медицинские темы он избегал говорить. Медицинской терминологии и рецептуры он почему-то не знал, и все касательно этих моментов, он передавал Новохацкому. Его функции были – распределение работ и санитарный порядок помещений и двора. Даже сухарями, бывшими в большом количестве в его распоряжении, он не делился с нами, а ел их сам с Новохацким все свободное время, размягчая их в чае. Печь топилась в его комнате целый день.
На вопрос, где он работал до войны, он рассказал мне, что был коммунальным санинспектором в Киевском районе Москвы. Однако он меня не знал, и я его также, хотя все коммунальные инспектора Москвы в целях повышения квалификации слушали у меня раздел гигиены, относящийся к метеорологическому фактору и профвредностям. Мне это показалось очень странным. Новохацкий как-то раз смеялся над ним и рассказал, что он не понимает, что значит слово «инъекция», и многого другого. Как может врач не знать того, что знают рядовые фельдшера и медсестры?
Условия существования главной массы военнопленных были кошмарными. В подвальном помещении, без света и вентиляции, были установлены жидкие нары в три этажа. Проход в эти помещения шел по узкому коридору с лужами от выступающей почвенной воды. В проходе стояли полицаи с дубинками, торопили при входе и при выходе и беспощадно били дубинками. Ночью они далеко не всегда разрешали выходить за совершением естественных надобностей. Утром свежему человеку, попавшему в этот подземный ад, перехватывало дыхание и казалось непонятным, как могут существовать люди в такой обстановке.
С питанием военнопленных было скверно. Они получали буханочку плохого хлеба весом около 1,2 кг на четверых, редко на троих. В обед варилась почти неочищенная от грязи полугнилая картофель в мундирах. Воды не хватало для питья, не говоря уж об умывании. Дистрофия разыгралась вовсю, начались отеки и голодные поносы. Люди теряли человеческий облик, и число умерших с каждым днем увеличивалось.
Командный состав и рабочие выделенные команды жили в несколько лучших условиях в подвале, имеющем освещение через приямки (?). В этом же подвале жил в хорошей комнате русский комендант лагеря, летчик-лейтенант. Он тащил часы и хорошие вещи с живых и мертвых. Перед своим уходом из лагеря он ежедневно выносил за его пределы чемоданы всяких вещей, и в день ухода унес небольшой чемоданчик с часами, цепочками и др. мелкими ценными вещами и большой чемодан с отрезами сукна и т.д. У него в городе была «жена», на квартиру которой он все это переносил.
Его заместитель, молоденький лейтенант, был менее жаден.
Я упомянул о «жене» и хочу рассказать вообще о «женах».
Почти каждый день, а в праздничные дни в большом числе, у ворот лагеря появлялись женщины, городские и деревенские. Они искали мужей. Меньшинство – действительно бывших их мужьями раньше, а большинство выбирало себе мужей из военнопленных. Иногда женщинам из меньшинства, действительно, удавалось находить мужей, я такие случаи знаю. Женщинам же из большинства почти всегда удавалось находить для себя мужей – ведь трудно быть без мужчины, да и работник дома нужен. А многие здоровые молодые ребята охотно шли на это дело. Целыми днями они крутились около проволоки входных ворот и находили возможность поговорить с «женами», иногда даже выходя из ворот лагеря под видом рабочего из похоронной команды (могильщика), или ловчились еще как-нибудь. «Жены» доставали для них свидетельства и документы у деревенских старост и т.д., приносили хорошие продукты немецкой охране лагеря и давали какие-либо вещи, и их новые «мужья» под кличкой «зятьков» поступали в их распоряжение. Так впоследствии и сменился почти полностью штат фельдшеров и санинструкторов санчасти лагеря.
Немецкий комендант держался изолированно в лагере и почти не появлялся, боясь заразиться. Ежедневно ему готовилась ванна, для стока из которой против окон санчасти была выкопана яма.
В лагере очень редко появлялся Закс, обычно в сопровождении своих помощников и коменданта лагеря. Он никогда не спускался в тот кошмарный подвал, о котором я писал раньше. Иногда он заходил и в санчасть. Во время одного такого посещения, когда Алимов угодливо сгибал спину, бегал перед ним, открывал двери и возбуждал своим поведением даже у сопровождающих Закса немцев улыбки и насмешливые замечания, Закс приказал ему немедленно выделить одного врача для обслуживания русских военнопленных, работающих на аэродромах (погрузка бомб и горючего и др. работы). Выбор Алимова немедленно пал на меня, и через полчаса я уже шагал с мешком на спине в сопровождении немца в основной лагерь на Краснинском шоссе.
Богданов встретил меня хорошо и поместил в комнате обслуживающего персонала. Я попросил его избавить меня от этого неприемлемого для меня назначения, и он обещал мне содействие. Затем он неожиданно спросил меня, действительно ли Алимов врач. Я был очень изумлен этим вопросом и ответил, что у меня также закралось сомнение в его врачебных знаниях, но утвердительно я сказать ничего не могу.
Вскоре приехал Закс и спросил Богданова и меня также относительно Алимова, на что мы не могли ответить ничего положительного. Тогда он приказал Богданову вызвать немедленно Алимова и спросить его, что и было сделано немедленно. При опросе Алимова он сказал, что был очень давно на ветеринарных курсах в течение двух лет, но этих курсов не закончил, и медицинского образования он не имеет.
После того, как Богданов доложил Заксу об ответах Алимова, Закс приказал посадить Алимова на три дня в бункер, т.е. подземный карцер общего характера, за самозванство. Алимов был этим очень потрясен. Я просил Богданова, чтобы он дал распоряжение о кормлении Алимова из кухни санчасти, что и было выполнено, несмотря на то, что заключенным в бункер выдавалось в сутки только 200 грамм хлеба и воды. После отсидки Алимова назначили санитаром в один из бараков. Из ненадежного источника я потом слыхал, что он сошел с ума и погиб.
При следующем посещении Закса Богданов сказал, что мне необходимо дать в помощь еще одного врача-терапевта, для чего и выделили молодого врача Устименко, который охотно шел на аэродром, так как он слышал, что там бытовые условия для врачей были хорошие. Нас пока не отправляли. Через пару дней Богданов сказал Заксу, что для аэродрома можно будет отправить одного Устименко, а меня нужно отправить обратно в южное отделение, так как там недостает врачей. Закс с этим согласился, и я начал маршировать обратно.
Я еще хочу рассказать кое-что об основном лагере. В первую мою бытность в нем я встретил там политрука Евменова, очень голодного и грязного. Я поделился с ним своим хлебом, и он помог мне приобрести за кусок хлеба котелок и очистить его от грязи. Он очень боялся, что кто-нибудь выдаст его немцам как политрука, тогда он был бы немедленно расстрелян. Он назвался лейтенантом и мечтал о скорой отправке на запад, что ему и удалось через несколько дней.
В одном из бараков размещалась группа в 26 человек, которые были освобождены от каких-либо работ, целый день бегали с котелками по разным кухням и ухитрялись не только наедаться досыта, но даже часть своей добычи продать голодным товарищам.
Выглядели они хорошо и при всяких недоразумениях заявляли, что они являются проводниками немецкой армии по Москве. Оказывается, что высшее немецкое командование дало распоряжение начальнику лагеря отобрать 26 человек из коренных москвичей, знающих хорошо город, которые при будущем вступлении немцев в Москву должны были служить проводниками для немцев. Мечта, которой не суждено было сбыться! После отхода немцев от Москвы этих идиотов направили в рабочие команды.
Будучи в первый день моего пребывания в необорудованном бараке, я наблюдал азартную карточную игру среди военнопленных, причем в банке было более 6 000 руб.! Во время моего второго пребывания в главном лагере я встретился с врачом Нестеренко, прибывшем из Дурова, и врачом Левиным из Холма-Жирковского. Левин переменил свою фамилию на Левченко, но беднягу сильно выдавала его еврейская внешность. Он был хорошим парнем, и мне было его очень жалко.
Эти врачи рассказали, что врач Рябой был направлен унтер-офицером без конвоя в Смоленск, но, проехавши километров 10, он вернулся обратно, доложив унтеру, что машина, на которой он ехал, испортилась, а другие машины его не брали. Унтер его собственноручно застрелил из пистолета, как не выполнившего приказания, и он был зарыт на окраине болота, рядом с сараем для военнопленных. Эти врачи думали, что унтер застрелил Рябого как еврея, а мотивировка была только предлогом. Унтеру за это будто бы дали выговор.
Итак, я опять оказался в южном лагере, где за время моего отсутствия смертность значительно возросла, а народ убавился. Будучи в главном лагере, я спрашивал у Богданова об ежедневном количестве смертей, на что он мне ответил, что если в день умирает 2% от общего количества, то этот день считается благополучным. Обычно же умирает значительно больше. Однажды утром я отправился с ним на утренний обход бараков. Трупы еще не успели увезти, и они наваливались кучами при выходе из бараков в ожидании транспорта и ручных тележек. Все умершие были ужасающе истощены, с темными грязными лицами. Одежда их представляла сплошные лохмотья, ноги были босы или в невозможных опорках, все, могущее быть использованным, было снято с них еще живыми товарищами. Увозили их на ручных тележках почти такие же истощенные, как и умершие. Один из уже уложенных в тележку трупов начал дышать, и Богданов распорядился, чтобы его опять поместили к живым…
Итак, я опять очутился в южном отделении лагеря, где мои товарищи встретили меня хорошо. Мы – трое врачей и фельдшер Новохацкий – разместились в комнате, где раньше жил Алимов, и условия нашего существования улучшились, чего нельзя было сказать о других военнопленных лагеря. В 1941 году была холодная осень и очень рано наступившая холодная зима. Были такие морозы, что не раз привозили трупы замерзших на работе военнопленных. У большинства истощение прогрессировало, а вместе с тем и вшивость. Остро стал вопрос об обмывке или хотя бы о жаровой камере для одежды. Во время поиска места для пропускника была обнаружена огромная душевая с кабинами, которая была отделена от остальных подвальных помещений лагеря кирпичными стенками в дверных проемах. С улицы же туда можно было проникнуть через окно. Здесь было загажено в начале помещения, затем валялось много муляжей, анатомических препаратов, и в конце было сложено несколько десятков тысяч книг, главным образом учебников, затем политическая литература и некоторое количество беллетристики. Как только немецкий комендант об этом узнал, он тотчас распорядился все книги сжечь, и его с трудом уговорили пощадить учебники и беллетристику. Все политические книги были сожжены.
О проводке воды и нагреве нельзя было и мечтать, можно было бы сделать дезинфекционную камеру. Я пригласил для этой работы двух инженеров из офицерского помещения и дал им эскиз, который они должны были подработать и выстроить с помощью военнопленных дезкамеру. В связи с этим открытием библиотеки и вообще новых помещений немцы поручили одному майору и одному капитану из офицерского барака сделать чертежи здания мединститута, причем им было разрешено выходить из лагеря для наружного обмера здания. На второй день их работы они бесследно смылись.
Хотя немцы боялись возникновения эпидемии сыпного тифа в лагере и, казалось, естественно должны были бы способствовать всем мероприятиям по уничтожению насекомых, они все же этого не делали, скорее даже всячески препятствовали работам, связанным с устройством дезкамеры, и далее закладки фундамента они не двинулись.
Один из ее исполнителей, молодой инженер-теплотехник, умер от истощения, сидя и греясь около одного из котлов в котельной, снабжающей паром кухню, другой инженер умер от сыпного тифа, который начал быстро разыгрываться в декабре 1941 года. В связи со все увеличивающейся смертностью от дистрофии и тифа мы начали направлять большие партии больных в расположенный вблизи лазарет для военнопленных. Партии сопровождал всегда кто-нибудь из врачей, и при первом же посещении мною лазарета, я встретил там Рябову, дружинницу моего медсанбата, и «дядю Ваню», повара того же медсанбата, а также познакомился с большим русским патриотом, врачом А. П. Петровым. [Александр Прохорович Петров, ставший дедушкиным другом. После войны мы довольно часто встречались семьями, хотя Петровы жили далеко за городом [прим. ОИЯ]].
Лазарет был очень переполнен, и через пару дней к нам обратно возвращали более половины посланных нами больных, из которых многие по прибытию умирали.
В середине декабря у меня началась форменная дизентерия с большим выделением крови. Как я выжил – это не понятно для меня до сих пор. Быть может, помогло небольшое количество риса, которое мне достал один из фельдшеров, скоро после этого умерший от сыпняка. Этот рис он купил у одного из рабочей команды, который в свою очередь его спер при какой-то разгрузке продуктов на станции.
После перенесенной дизентерии я стал медленно поправляться. Смертность в лагере все возрастала. Довольно остро стоял вопрос с похоронами умерших. Земля была сверху мерзлая и с трудом откалывалась ломом, отходили только небольшие кусочки. Лопата не брала. Промерзлость в среднем доходила до метра. Теми силами, которые выделялись на это, – человек 40 могильщиков, – достаточно истощенных и поэтому малотрудоспособных, – вырыть общую могилу для 50-60 человек ежедневно умиравших было невозможно. Хоронили в старых окопах, вырытых еще летом, но скоро ближайшие окопы были целиком использованы. Немцы, боясь вспышки эпидемии, дали приказ, чтобы над трупами был слой земли около полутора метров. Это еще более увеличивало трудности. Тогда немцы приказали хоронить на старом, недалеко расположенном кладбище. Здесь сверху была трава, промерзлость была значительно меньше, и земля была рыхлая. Ранее погребенные мертвецы извлекались и вновь погребались в братских могилах с красноармейцами. Все вещи, сохранившиеся на мертвецах, снимались могильщиками.
Недалеко от этого кладбища, около лазарета для военнопленных было место, оставленное под кладбище лазарета. Однажды врач Левыкин, возвращаясь в лагерь после провода больных военнопленных в лазарет, наблюдал картину: несколько местных жителей с большими узлами вещей умерших убегали с кладбища лазарета, так как приняли его за какое-то начальство или испугались немца, сопровождавшего его. Эти жители покупали все барахло от умерших у могильщиков, все это было завшивлено до последней степени, причем большой процент вшей был заражен сыпным тифом. Так тиф начал распространяться среди населения.
Мы, врачи лагеря, начали знакомиться с врачами лазарета. Лазарет был без книг, а в лагере было их огромное количество, и я способствовал переносу книг в лазарет. Анатомические атласы Воробьева почти все расхватали немецкие врачи, но несколько экземпляров все же удалось сохранить и передать в лазарет. Таким образом, мы навещали лазарет при отправке этапов больных, а представители лазарета начали навещать нас. Начали распространяться слухи о ликвидации южного отделения лагеря. Это сулило нам плохие перспективы – нам тогда пришлось бы перейти в большой лагерь, а оттуда нас могли бы отправить на запад…
В офицерском бараке появился молодой врач Смирнов, очень ловкий парень, не брезговавший заняться спекуляцией. Одно время он рубил дрова в немецком гараже, где его довольно хорошо кормили, затем он перешел к нам в санчасть. Через его руки проходило все: часы, сахарин, носильные вещи, пищевые продукты. Продолжал он жить в офицерском бараке.
[В] Новый год нам очень взгрустнулось. Плохие были перспективы, как для нас, так, по нашим понятиям, и для родной страны. Немцы неудержимо наваливались и продвигались все дальше на восток. Что с нашими близкими? Едва ли мы их увидим… И что они думают о нас? Считают ли живыми?
В 12 часов ночи выпили по рюмке денатурата-сырца, добытого с большим трудом, и с тоскою в сердце легли спать, но не спалось…
Новый год начался нехорошо. Заболел врач Шлейн, и я его отвез в лазарет. Затем заболел Левыкин. Я тоже чувствовал себя нехорошо, прихварывал и фельдшер Новохацкий, одним словом – вся наша команда… Приезжали обеспокоенные немецкие врачи и не подпускали нас к себе ближе, чем за 4 метра. Они ужасно боялись заразиться. Их глава, Закс, перестал навещать лагерь и посылал вместо себя помощника Ламура. Но помощи от них нельзя было ждать. Единственное средство борьбы с сыпняком – обесвшивливание – провести мы не могли. Не было воды, дров, пропускника, жаровой камеры, чистого белья. Тиф наступал развернутым фронтом, не встречая сопротивления. И в это время, в середине января, нам объявили, что южное отделение ликвидируется.
Это известие произвело большое впечатление на меня и Новохацкого. Левыкин был мрачен, молчал и не реагировал. У Новохацкого в лазарете был хорошо знакомый ему врач, Попов, бывшее его начальство в Сталинграде. Я и Новохацкий решили употребить все усилия, чтобы остаться в Смоленске, а это было возможно, перейдя на работу в лазарет. Об этом нашем желании был извещен Попов, который заявил, что он нам будет способствовать. Мой новый знакомый, Петров, прямо мне сказал: «Переезжайте к нам явочным порядком». Но, к сожалению, этого сделать было нельзя – немцы вели точный учет врачей.
Накануне выезда всего лагеря к нам приехал Ламур, и я к нему обратился с просьбой перевести меня в лазарет для обслуживания больных сыпным тифом. Он был крайне [удивлен] этой просьбой и через переводчика сказал, что он считает это верной смертью для меня, на что я улыбнулся и весело ответил, что у меня уже был в прошлом сыпной тиф, я его нисколько не боюсь, а если даже заражусь, то он протечет у меня в легкой форме. Ламур дал свое согласие, после чего я передал ему такую же просьбу от Новохацкого, на тех же основаниях. Ламур разрешил и ему перейти на работу в лазарет. Туда же я хотел перевести в качестве санитара и Львова, на что не требовалось разрешения немцев, но русское начальство лазарета на это не согласилось. Итак, на следующий день я отправил команду санитаров и фельдшеров во главе с врачом Смирновым в лагерь (основной), взял одну подводу для больного Левыкина, туда же погрузили медицинские книги, нужные лазарету, и вместе с Новохацким покинул опустевший «лагерь смерти», как его называли военнопленные.
Большинство в этом лагере погибало от дистрофии, но были и случаи расстрелов евреев, политработников и других, особенно неугодных немцам советских граждан. Для их содержания перед расстрелом было такое же, как и в большом основном лагере, холодное помещение – «бункер» по немецкой терминологии. Еще до моего приезда было расстреляно до 25 евреев. Этот расстрел немцы произвели после того, как один из евреев покончил с собой, раскусивши запальную трубку с гремучей ртутью от ручной гранаты. В карманах у него были найдены еще такие же трубки, и вот, будто бы беря всех евреев лагеря после этого под подозрение, немцы их расстреляли. Затем расстреляли военнопленного красноармейца, на рукаве шинели которого можно было разобрать невыцветшее место после споротой пятиугольной звезды. Был ряд и других расстрелов.
У меня непрерывно сверлило мозг одно желание – бежать. Но как это осуществить?
Стояли лютые холода зимы 41-42 года, в лагерь неоднократно привозили замерзших на наружных работах военнопленных. Я остро чувствовал холод, сказывались дистрофические явления. Иногда даже, после пребывания на морозе в течение 15-20 минут, я промерзал так, что мне казалось дальнейшее пребывание на дворе просто немыслимым. Быть может, если бы на мне был теплый овчинный кожух, то было бы легче, но шинель плохо помогала мне.
Связь с партизанами установить не удавалось, поведение даже близких окружающих было таково, что я им не доверял.
Когда я приехал, вернее, пришел в лазарет, то так промерз, что я с трудом занес к русскому начальнику лазарета, врачу Сергееву, книги, ранее отобранные мною. Этот врач вместе с несколькими другими жил в 1-ом хирургическом корпусе. Корпус этот при полном наполнении вмещал не более 250-300 человек и был показным для демонстрации его высшему начальству и представителям других стран. Далее, в глубине двора, стоял второй корпус, вмещавший иногда 5 000 человек. В ряде палат там не только не было коек, как в первом корпусе, но больные не имели места для лежания и, по существу, сидели. Это положение было для подвальных помещений, куда помещались все вновь прибывшие пленные красноармейцы. Сюда редко заглядывали врачи, и царями были санитары этих палат. По мере подъема вверх положение несколько улучшалось, и на 4-ом этаже, в хирургическом отделении, была даже одна палата на 12 коек для послеоперационных больных.
Инфекционное отделение было изолировано от других. Я сдал туда больного сыпным тифом Левыкина (для медицинского и офицерского состава было три палаты с койками) и узнал, что дела врача Шлейна плохи. Затем мы с Новохацким явились к замначальника 2-го корпуса, бывшему дивврачу Суржанинову, который нас направил к врачу Попову для дальнейшего устройства. Попов с увлечением рассказывал об успехах русских, особенно о смелых рейдах в германском тылу кавалерийской группы генерала Белова. Мне было очень приятно слышать такие рассказы, быть может, даже со значительными преувеличениями, они хорошо поднимали дух, и после них откровеннее становились русские.
Наконец нас отвели в инфекционное отделение, где начальник его, бывший кадровый врач, татарин Фарахшин, поместил нас в своей комнате, где было очень тесно и, кроме нас, жили врачи Миньков, Ширяев, Штоклянд и Ступин (кроме них в инфекционном отделении были врачи Позигун, Петров и …). В комнате стояла железная печка с таким же дымоходом, выведенным в окно. Топили ее вечером сырыми дровами, отпускаемыми в очень небольшом количестве. Около часа чувствовалось некоторое тепло, после чего комната быстро охлаждалась. Мне и Новохацкому было здорово холодно, так как мы не имели достаточно имущества для утепления. Другие же, старожилы, чувствовали себя более комфортабельно, например, Ступин имел огромное количество теплой одежды, а на кровати два толстых волосяных матраса, одним из которых он укрывался. Дать нам, новоприбывшим, из своего большого запаса он не решался, так как сильно любил приобретать вещи.
Мне дали две палаты в 60 человек больных сыпным тифом. Моим помощником был назначен Новохацкий, фельдшер с большим опытом.
Больные лежали на полу, в палате было все же теплее, чем в нашей спальне – больные нагревали помещение собственным теплом. Здесь, так же, как и во всех других помещениях, были железные печи с выводом дыма в окна. Если ветер хоть немного дул со стороны окон, то тяга опрокидывалась, и весь дым шел в комнату. В такие дни, а их было около половины, палата не отапливалась.
Несмотря на общее истощение, плохие условия содержания, отсутствие медикаментов и скудное питание, больные переносили сыпняк легко. Более тяжело, с более частыми смертельными исходами, переносили его люди более упитанные. У меня в это время тоже был сыпной тиф, но я об этом никому не говорил и переносил его на ногах, за работой. Тяжело было только ночью, так как сон был плохой, было очень холодно, и при этом я так потел, что несколько раз утром буквально сливал пот из подстеленной на кровати плащ-палатки – такого количества пота я еще ни у кого не наблюдал.
Днем я согревался или в палатах больных, или в маленькой дежурной с полом из метлахской плитки, под которым была расположена дезкамера. При топке дезкамеры пол нагревался.
Питали нас очень плохо, хуже, чем в лагере, больше водой, в которой было малое количество картошки. Единственно, что поддерживало – это 600 грамм хорошего ржаного хлеба (русская пекарня), который мне казался прямо пряником. К сожалению, его было мало.
Проверять, все ли до нас доходит, не представлялось возможным, так как доступ в кухню и в другие места корпуса был для нас запрещен (карантин).
Под инфекционным отделением (изолятором) была дезкамера и баня. Эта комбинация не носила характера пропускника. Водопроводная подводка была сделана мелко, туба была с четверть дециметра, и все это замерзало. Для мытья воду приносили ведрами, нагрев ее был примитивный – в котле. Дезкамера давала очень медленный и недостаточный нагрев, ужасно дымили топки. Санитарный врач Бобров (москвич), устроивший этот «пропускник», лежал, умирающий от сыпного тифа. Командовал здесь санинструктор, татарин Исаев, и почти весь обслуживающий персонал, так же как и в инфекционном отделении, состоял из татар. Подобрал их Фарахшин. Они изрядно спекулировали на одежде больных и умерших и на разных вещах, вплоть до часов. С ними в контакте были могильщики, также набранные из татар.
Ознакомившись с врачами инфекционного отделения, я увидел, что говорить откровенно можно только с одним врачом – Петровым (маленьким). А врач Ширяев вел явную прогитлеровскую агитацию. Остальные были инертны и боялись выявить свое лицо. Петров же откровенно высказывал свою антипатию к немцам и, встретив во мне сочувствие, сказал, что мечтает уйти в партизаны.
Вместо Боброва, после его смерти, была назначена санитарным врачом Пухнаревич, бывшая когда-то врачом в моем медсанбате, а затем при школе в дивизии. Суржанинов был ею очень недоволен. Для нее все эти санитарные дела были очень необычными, так как она была врачом-пищевиком. Немцы на нее смотрели косо и, в конце концов, ее отправили в большой лагерь.
Суржанинов вызвал меня и предложил мне принять на себя обязанность санитарного врача, на что я охотно согласился, так как это давало мне возможность бывать всюду и улучшало мое материальное положение. Итак, я перебрался в комнату Исаева, находящуюся вне изолятора. Здесь было очень тепло, так как в распоряжении Исаева были дрова для бани. Кроме того, Исаев был в хороших отношениях с кладовщиком и кухнями и потому приносил картофель и изредка муку. В общей столовой медперсонал кормили лучше, чем медперсонал изолятора – на это я сразу обратил внимание и заставил при себе отпускать обед в изолятор, после чего мне была передана благодарность от врачей изолятора.
На моей обязанности были: 1) присмотр за пищеблоками, 2) санитарное содержание помещений и двора, 3) установка карантинов и пропуск через дезкамеру в баню. Все это было крайне запущено. В помещении грязь, на дворе три горы замерзших нечистот вперемежку с ампутированными ногами и руками. Около дезкамеры убийственный дым и рассадник вшей. В кухнях сплошное злоупотребление – паек далеко не полностью доводился до больных. Работы было очень много, и я ею занялся. Побег приходилось откладывать до более благоприятного времени.
С Исаевым в одной комнате жил врач Липкин, выдававший себя за татарина и ни одного слова не знавший по-татарски, и врач-бактериолог Власов, маленький, раздражительный, задиристый и очень неприятный субъект, выздоровевший от сыпного тифа. Ему помогал санитар Сергей – до войны он был директором стадиона Буревестник и станции моторных судов на канале Волга-Москва, а также мастером лыжного спорта.
Полностью он назывался Сергеем Борисовичем Трифоновым. Так вот, Власов, пользуясь его бесправным положением в лазарете, всячески измывался над ним и кричал на него. Пробовал Власов ссориться и со мной, но это ему мало удавалось. С Исаевым он не ссорился, так как Исаев часто приносил пищу вне обычного пайка и хорошо отапливал комнату – ссориться с ним было невыгодно.
С моим приездом к Исаеву Липкин переселился в другую комнату, и осталось нас трое. Власов с каждым днем становился нестерпимее, и вот в тайне от него мы с Исаевым заняли только что освободившуюся маленькую комнатку, в которой можно было поставить только две койки, и переселились в нее. Власов пытался было сунуться к нам, но места для него не было.
Еще в инфекционном отделении я познакомился с бывшим санинструктором Латуном Борисом Афанасьевичем, харьковчанином. Это был высокий, сухощавый украинец, красивый мужчина с черными усами. До войны он работал механиком во флоте и на заводах, а сейчас был на все руки мастер и к тому же хороший советский патриот. Мы с ним близко сошлись и начали работать вместе по санитарной технике. Начали мы с того, что переделали систему нагрева в дезкамере, что дало несколько лучший эффект и улучшило тягу.
У лазарета существовало несколько человек, имевших некоторое доверие у немцев, дававших им документы на свободный проезд в некоторых пределах оккупированной территории. Они также имели полномочия от лазарета, и на их обязанности лежал сбор продуктов для лазарета у крестьян. В первую очередь эти довольно бесконтрольные люди снабжали себя, привозя своим городским и деревенским любовницам целые возы с отборными продуктами. Затем они привозили хорошие продукты немцам, командующим в лазарете, и лазаретной верхушке – русскому начальнику, переводчикам и т.д. В склады же лазарета для больных они привозили некоторое количество ржи, которая и варилась без какой-нибудь переработки. В таком же виде эта рожь не усваивалась и сквозняком проходила через кишечник.
Латун по моему настоянию смастерил крупорушку, начали получать ржаную крупу, из которой получалась очень сытная каша, вполне усваиваемая. Особенно по вкусу эта каша, которую можно было выдавать сверх положенной пайковой нормы, пришлась выздоравливающим после сыпного тифа, а таких было немало и среди медперсонала.
Я ежедневно навещал инфекционное отделение. Врачи Бобров и Левыкин умерли.
Привезли врача Молчанова Владимира Ивановича, бывшего ранее начальником лаборатории моего медсанбата. Он, будучи худым, истощенным человеком, перенес сыпной тиф довольно хорошо. В ту же палату попал и врач Устименко, который вместо меня попал врачом на аэродром. Он также легко перенес тиф и стремился возвратиться на аэродром, чего ни в коем случае нельзя было сказать о военнопленных, обслуживающих аэродром. С этими белыми рабами немцы обращались зверски и нещадно их били, настолько били, что даже высшее немецкое командование, боясь потерять часть рабочей силы, издало приказ о введении более человеческого обращения с военнопленными на аэродромах, но не знаю, насколько этот приказ помог.
В этой палате и в других было еще много врачей, незнакомых мне, но раз я увидел знакомое лицо – моего бывшего командира медсанбата, врача Слободчикова Александра Ивановича. Он был уже без сознания и так, не приходя в себя, скончался. В карманах у него нашли много сердечных средств, очевидно, сердце было у него слабое.
Пересматривая списки поступивших в инфекционное отделение, я как-то увидел фамилию Кандиано и нашел его. Он оказался Виктором Михайловичем, сыном одного из спутников моего детства, Михаила Владимировича Кандиано. Я старался ему помочь в питании, чем только мог, но, к сожалению, мои ресурсы были очень слабы, а у него был огромный аппетит после тифа. Он был летчиком и попал в плен, когда его машину сбили немцы.
Лежал в сыпном тифу один из переводчиков лазарета по имени Чак. Он считался вторым переводчиком, первым был Герман, из поволжских немцев. Переводчики играли особую роль. Это были совершенно доверенные люди у немцев, работавшие в тесном контакте с представителями гестапо и выполнявшие ряд заданий по поручению последних. Эти переводчики вели себя в отсутствие немецких начальников, как полномочные хозяева лазарета. Пользуясь своим положением, они непрерывно шили для себя в мастерских лазарета костюмы из всевозможных, иногда очень хороших трофейных материалов. Вообще, мастерские шили вещи и сапоги только по их запискам. Для них заготовители привозили самые вкусные вещи, и они были всегда под хмелем. Угрожая пленным девушкам, они принуждали их отдаваться. Эти люди были хуже немцев. Чак особенно свирепствовал в отношении евреев. И эта скотина все же не погибла от сыпного тифа, несмотря на свою упитанность, он поправлялся. Сам он по фигуре и по лицу был несколько похож на еврея.
Начались более теплые дни. Начальник второго корпуса, врач Дурнов, передал в мое распоряжение свободных санитаров и рабочие команды для выноса трех гор отбросов в ямы за пределы проволоки, ограждавшей лазарет. Но эти люди не очень слушались меня, и тогда Дурнов пришел на помощь, заставляя их работать обещаниями и угрозами.
Первый корпус имел канализацию с выводами в овраг метрах в трехстах. Смотровые колодцы были расположены у 2-го корпуса, и по моему указанию Латун оборудовал слив баков с нечистотами через решетку в один из колодцев. К этому месту впоследствии была подведена вода, и сам слив был утеплен для зимнего времени. Таким образом, корпуса лазарета очистились от окружающей их мерзости, и были созданы вполне гигиенические условия в смысле их окружения. Уборные были перестроены, расширены, и специальные ассенизаторы следили за их чистотой, периодически выливая их содержимое в оборудованный канализационный колодец. Оставалось еще только одно неупорядоченное место – это кладбище, где было похоронено около 15–20 тысяч человек. Хоронили их в братских могилах, кое-как, засыпая комьями мерзлой земли, хоронили мелко. С таяньем могилы начали проваливаться, пошел нехороший дух. Сюда тоже были мобилизованы люди из рабочих команд, и кладбище было приведено в порядок.
Ведал кладбищем Воронин, сам москвич, он указал мне возможность бежать через кладбище, за которым был не особенно серьезный присмотр со стороны немцев. Я продолжал встречаться с Петровым-маленьким. Он мне сообщил, что установил связь со смоленской подпольной организацией и думает вскоре бежать к партизанам. На это я ему сказал, что не по-товарищески уходить одному, что можно вывести к партизанам хотя бы человек 40 из пленных летчиков и других советских патриотов и, конечно, в первую очередь надо взять меня и Латуна.
В эти планы был посвящен и другой Петров, Александр Прохорович, тот советский патриот, с которым я познакомился при моем первом посещении лазарета. Рассказали об этих перспективах и Кривоносову, его сожителю по комнате. Почему-то эти товарищи не очень охотно шли на предложение перейти к партизанам, им хотелось как можно скорее к своим, на Большую Землю, в регулярную армию. На партизан смотрели только как на промежуточный этап, надеясь с их помощью перейти через линию фронта.
Было очень много разговоров на эту тему и остановились на следующем: Петров- маленький передает Кривоносову пароль и место контакта с представителями смоленской подпольной организации, а сам, в сопровождении одного интенданта, который у него сейчас работает под видом санитара, уходит к партизанам. Добравшись до партизан, он устанавливает связь с нами, и мы уходим с присланным проводником, забирая с собой целую группу советских патриотов. Таким образом, нашему бегству будут способствовать или смоленская подпольная организация, или партизаны.
У одного из врачей пропали часы, и каким-то образом подозрение в их краже упало на маленького Петрова, которого по этому поводу вызвали к русскому начальнику лазарета. Петров не сознался в краже этих часов, и после беседы с начальником лазарета пришел к нам и сказал, что теперь ему очень удобно бежать – соучастников его бегства (пособников-единомышленников) искать не будут и решат, что поводом к бегству послужила боязнь наказания за кражу часов. С ним собралась уходить и Рябова, молоденькая дружинница из моего медсанбата, с которой сошелся Петров.
План бегства был таков: сегодня же около 4-х часов дня, когда рабочие команды будут отдыхать после обеда, я занимаю разговором постового полицейского, следящего за выходом из лазарета на территорию кладбища. Петров-маленький и его спутница берут лопату, ведро, как будто для того, чтобы на кладбище выкопать ранние цветущие травы для посадки на клумбы, что очень одобрялось начальством. Если этот номер не пройдет, то выпустить эту компанию через туннель из пропускника к разрушенной котельной, для чего нужно будет разобрать в нем кирпичную стену. Это не хотелось делать, так как через этот туннель предполагалось выпустить основную большую группу после установления крепкой связи со смоленской организацией или с партизанами.
Половина четвертого, я вышел во двор как будто бы для прогулки. Стояла солнечная весенняя теплая погода с несколько свежеватым ветерком, защищаясь от которого полицейский-украинец стал в открытых широких дверях небольшого гаража, в котором стояла полусобранная машина, предназначенная для обер-шеф-арцта Закса, который обещал слесарям, собиравшим ее, отпустить их на свободное проживание вне лазарета, в случае, если машина будет хорошо собрана (это обещание он не выполнил). Полицейский имел кое-какие технические знания в области автодела, и я ему начал рассказывать об опытах видоизменения состава горючего, о подбавке к парам бензина водорода и о возможности полного перехода на водород со всеми преимуществами, какие эта замена горючего даст. Это очень заинтересовало полицейского, и тут же я начал рассказывать о борьбе с выхлопными газами в гаражах, об устройстве выводной трубы на некоторых машинах так, что выхлоп получался выше крыши кабинки. При этом я все это показывал на полусобранной машине. Когда я кончил рассказ, то Петрова-маленького, Рябовой и интенданта в лазарете уже не было, они быстро маршировали с орудиями производства – лопатой и ведром – по уединенной тропинке, ведущей к лесу, расположенному километрах в 6-7 от лазарета.
Их хватились только поздно вечером, и на следующий день любопытный полицейский как-то особенно пытливо смотрел на меня. Если у него и мелькнула в уме какая-либо догадка, то я полагаю, он держал ее про себя, так как сознайся он в своей оплошности, то ему бы и всыпали за недостаток бдительности. Поэтому молчание являлось золотом, тем более, что никто не знал, как ушли беглецы.
Через несколько дней наша группа получила сведения о судьбе беглецов – они добрались до одного фельдшерского пункта в деревне, расположенной в 9-10 километрах от лазарета. На пункте были свои ребята, ранее работавшие в лазарете. Там они переночевали и ушли по дороге на Рославль, с которой должны были километрах в 18 от Смоленска свернуть на восток и добраться до деревни Боровой, где жила одна женщина, как будто имеющая отношение к партизанам. Дальнейшую судьбу Петрова я узнал только через несколько месяцев, о чем я расскажу в своем месте.
В начале весны в лазарет с востока прибыло несколько врачей: Юзбашев (я полагаю, что его фамилия была другая), Мерейнис – бывший хирург-консультант 32-ой армии (ополченческой) и Кланг Глафира Антоновна. Последнее время она жила где-то в деревне, недалеко от Вязьмы, и хорошо питалась. Кланг рассказала, что вместе с ней была молодой врач Дидык и другие, что они уходили со штабом нашей дивизии и школой курсантов на юго-восток от Вязьмы, через станцию Семлево, за которой немцы преградили им путь. Дидык и другие начали перебегать под ружейным и пулеметным обстрелом, Кланг же, ввиду ее пожилого возраста, не решилась перебегать и вернулась несколько назад в то село, в котором летом (в августе и начале сентября) был медицинский пункт полка, где она работала. Крестьяне предлагали ей остаться жить с ними в качестве врача, но она испугалась артиллерийского обстрела и попала по своему желанию в группу врачей, работавших более глубоко в немецком тылу.
Вторая группа врачей, прибывшая к нам несколько позже, состояла из врача Волкова с женой и молодого врача Шугаева. Они попали в плен после окружения и разгрома нашей 33-ей армии. Эта армия в январе 1942 года под командованием генерала Ефремова незаметно для немцев, без дороги, через леса и снега, прошла в их тыл, заняла Холм- Жирковский и освободила там всех военнопленных, в том числе и зубного врача Батрака из нашего медсанбата, и затем перерезала дорогу из Вязьмы на запад. Здесь она была окружена немцами, и Ефремов пустил себе пулю в лоб.
Юзбашев вел себя несколько демонстративно в отношении евреев и при всяком удобном случае называл их «проклятыми жидами». Я полагаю, что это был случай самомаскировки. У Мерейниса, не скрывавшего своего происхождения, он забрал шахматы и при разговоре с ним вел себя вызывающе.
Волков быстро акклиматизировался и на политические темы избегал говорить.
Шугаев был хорошим парнем, и мы сразу приняли его в свою компанию.
Немцы развели большую агитацию среди санитаров и рабочих команд в отношении их вербовки в антирусскую армию генерала-ренегата Власова. Пущены были в ход все средства, вплоть до обещания дать «сытный и вкусный паек» немецкого солдата. И затем, по существу не спрашивая их, начали повторять с ними обучение строю, каждый день не менее двух часов с утра проходило в маршировке.
Конечно, кто был настойчивее и имел свои сложившиеся взгляды, тот в конечном результате не попал в этот набор, несмотря на свое обучение строю. Но большинство было все же направлено к Власову. В числе 100 % добровольцев был врач Петров (третий – молодой, высокий, хорошо сложенный), врач Явеин и через несколько месяцев врач Денисов. В числе добровольцев было два хороших парня – русских, работавших в санпропускнике. Меня это очень поразило, так как я знал, что они – комсомольцы. Я перестал с ними разговаривать. Тогда один их товарищ наедине сообщил мне, что они идут со специальным заданием от Смоленской комсомольской организации. В конечном результате эта группа наиболее здоровых санитаров была отправлена в основной лагерь, а на их место взяли других санитаров из выздоровевших. В должности санитаров они довольно быстро поправлялись, у них было много статей дохода за счет больных.
Ушла вторая партия беглецов – два фельдшера и один санитар (фамилия одного фельдшера была Кузьменко). Через некоторое время они были пойманы при участии местного населения километрах в 20-ти от фронта. После них уходили еще маленькие партии, но все они попадали в конечном результате в руки немцев. Немцы пойманных обычно не расстреливали, но заключали недели на две в подземные бункера на 100-200 грамм хлеба и на воду. Молодые выдерживали, но для пожилых людей или уже достаточно истощенных это кончалось смертью.
Наступили хорошие теплые солнечные дни, подсыхали весенние лужи, и мысль о побеге не выходила из головы. Но побег надо было осуществить с толком, полностью используя подземный ход из пропускника, т.е. выведя максимальное количество людей и, кроме того, надо было вывести так, чтобы они в дальнейшем не попали опять в руки немцев, то есть установить связь со смоленской организацией или с партизанами – нужны были проводники. Кривоносов потерял, т.е. проморгал, связь, оставленную ему бежавшим Петровым, Петров же не подавал никаких признаков жизни. Однажды, часов в 10 утра около I-го хирургического корпуса остановилась крупная автомашина, вся окрашенная в серо-стальной цвет. Она представляла из себя плотную камеру без окон и каких-либо вентиляционных приспособлений с плотной дверью сзади.
Немцы отдали приказ вывести всех заранее отмеченных евреев, в том числе и врача Мерейниса. Когда эти люди спрашивали, брать ли им с собой свое имущество – узелки с переменой белья, кружкой, котелком и т.д., то немцы с усмешкой отвечали, что можно и брать. Их всех усадили в эту камеру, плотно заперли за ними дверь, и машина укатила.
Сведений мы о них больше не имели, за исключением того, что один из переводчиков принес через несколько дней нарукавную повязку врача Мерейниса, на которой было вышито «Arzt» и передал в кладовую для какого-нибудь из новоприбывших врачей. Свой печальный конец Мерейнис знал заранее и просил меня сообщить, если у меня будет возможность, его родным о своей смерти, для чего дал их адрес. Когда я говорил, что надо быть активнее и бежать, все равно терять нечего, то он мне ответил, что он не способен к активным действиям такого рода – ходить он много не может. А между прочим, ему было 47 лет, и по виду он казался здоровым человеком.
Начальство госпиталя стало косо смотреть на врача Дурнева, начальника II-го корпуса. Говорили, что он даже не врач, а «мелиоратор», т.е. специалист по борьбе с малярией. Он жил с заведующей аптекой и жил неплохо в материальном положении, за счет своего положения и тех возможностей, которые это положение давало. У него было прекрасное питание, и он отлично одевался.
В конечном результате его отправили в основной лагерь на Краснинском шоссе, а на его место назначили молодого врача Денисова, помощником которого остался Суржанинов. Суржанинова не назначили начальником, потому что гестаповцы его подозревали в «неарийском» происхождении.
Денисов настоял на том, чтобы я переселился с 1-го этажа от Исаева на 3-ий этаж, где жил весь медперсонал корпуса. Я перебрался к Петрову третьим, с ним жил еще молодой врач Востриков Георгий Яковлевич. Кривоносова, который с ним жил раньше, отправили в большой лагерь за его романы, которые не нравились начальству.
Из моей новой квартиры на 3-ем этаже открывался более широкий вид на окрестности. Площадь, занимаемая лазаретом, лежала между двух шоссейных дорог, выходящих из города на Киев и на Рославль. Киевское шоссе шло непосредственно за проволокой, окружавшей лазарет. По ту сторону шоссе шли крестьянские дворы, со стороны же лазарета, дальше от города, шли огороды и пашни по склону в долину.
Несколько дальше от шоссе, как раз в том месте, где виднелась недостроенная котельная с большой трубой, к которой вел отопительный ход из пропускника лазарета, стояло два больших двухэтажных дома, служивших в основном как казарменные помещения для немецких кратковременных школ обучения младшего комсостава. Схема расположения лазарета была такова (см. рис.)
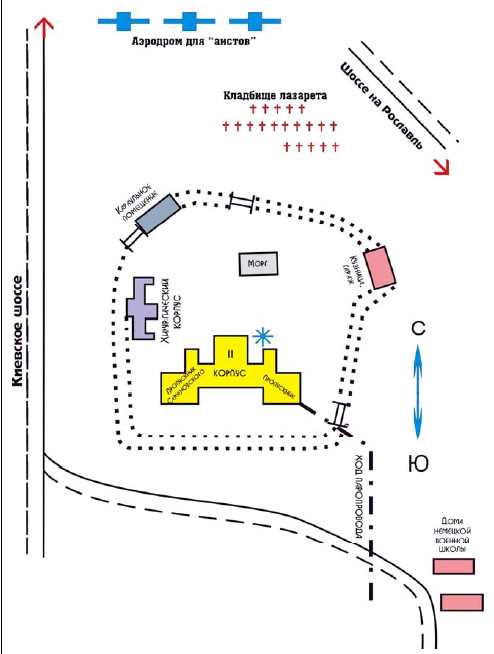 |
Когда я был в декабре 1941 года вызван в большой лагерь, то я впервые услышал далекий шум моторов русского бомбардировщика и стрельбу из зенитных орудий по нему. Это было редкое явление, но было очень приятно наблюдать суматоху среди немцев и убедиться, что наша авиация еще жива, несмотря на рассказы немцев и их русских прихвостней о том, что русская армия совершенно и безнадежно разбита и не имеет больше сил для борьбы с Гитлером. Весной 1942 года авиационные налеты стали учащаться, и здание нашего лазарета служило, по-видимому, маяком для налетающих бомбардировщиков – они всегда летели с юга через корпуса лазарета. Это побудило немцев в конце 42 года произвести маскировочную окраску обоих корпусов.
Налеты нашей авиации особенно участились и стали наиболее эффективными весною 43 года. Эти налеты действовали на обитателей лазарета по-разному. Например, мой сожитель Исаев начинал трястись и прилипал к окну, несмотря на мое предупреждение, что осколками стекла может выбить глаза. Затем он иногда зарывался головой в подушку, но все же из комнаты не уходил. Суржанинов и некоторые из врачей, а также значительный процент женщин уходили в подвал. Немцы скрывались в свои бомбоубежища. Наша же компания полностью выбиралась на балкон 3-го этажа и с большим интересом наблюдала за всеми моментами ночного воздушного боя, и мы точно знали, куда попали бомбы, так как с балкона было хорошо видно. Недостающие сведения и детали мы узнавали утром от людей, прибывающих к нам по разным делам из города.
Мы радовались каждому удачному попаданию и знали, что русскому командованию известно, что здесь расположен лазарет для военнопленных и поэтому они нас не бомбят, и это действительно было так, об этом нам говорили наши летчики, попавшие в плен со сбитых самолетов – ведь они при этом получали ранения и поэтому попадали в наш лазарет на излечение.
Только один раз весной 1943 года один какой-то шалый парень свалил три бомбы на наш корпус, причем две дали недолет, а третья разорвалась на том месте, которое на моем эскизе отмечено звездочкой. При этом выбило ближайшие окна и стеклом выбило около 20 глаз больных военно- пленных, частично подняло крышу со стропилами и вы- несло ряд дверей в близ- лежащем коридоре. У меня с печки попадали на пол пузырьки. Немцы потом снимали бомбовую воронку для какой-то агитки.
Немцы имели своих агентов среди нас, обычно мы их знали. Они собирали сведения о каждом и в соответствии с ними осво- бождали из-за проволоки ряд людей. Когда захотели также уйти мы с Петровым (он, как единственный знающий рент- генолог – в рентгеновский ка- бинет города, я, как санврач – тоже специальность в то время редкая, – и хлопотал за нас городской врач Каменев), то нас не отпустили.
Немцы особенно охотно отпускали людей, живущих с женами, в особенности, если еще ожидалось потомство. В большинстве случаев эти жены (да, пожалуй, и всегда) были женами военного времени, вместе отбывающие плен. Из врачей отпустили Фарахшина, Попова (женился на заведующей прачечной и ожидал потомства), Камынина, Чижова, Филененкова, Гилеева (в 19 армии он был Гиллерштейном, женился в плену и ожидал потомства), Юзбашева (так же, как и Гиллерштейн фамилию придумал уже будучи в плену, женился и ожидал потомства), Власова, Шепеткова (за «бдительность» – при перевозке русского офицера: обнаружил [у офицера] автоматический пистолет и сдал его немцам, немцы офицера расстреляли), Затычец, Терпигореву, Каменева, фельдшера Колю …, который тоже женился и ожидал потомства. Удалось уйти в район Красного и врачу Богданову, но это уже летом 1943 года. Он пробыл в районе не много, ровно столько, сколько нужно было, чтобы связаться с партизанами, после чего, захватив с собою медикаменты, инструменты, перевязочный материал и своих, советски настроенных людей, он перешел на обслуживание одного из партизанских отрядов.
Другие реагировали иначе. Например, Фарахшин, направленный еще до Богданова в тот же Краснинский район, очень скоро вернулся оттуда и просил немцев дать ему другое назначение, так как он боялся партизан. Его тогда направили в район Орши.
Обычно отпущенные в район врачи, как например, Затычец, Терпигорева, Камынин и др., думали только о материальной стороне своего существования, зарабатывали очень много натурой – сельскими продуктами – и некоторые, как нам передавали, например, Затычец, сильно толстели.
В начале лета в лазарет прислали из большого лагеря военнопленного инженера- механика Семеновского Виктора Дмитриевича, которому было поручено выстроить большой пропускник в полуподвале части II-го корпуса, ближе к Киевскому шоссе. Он выселил оттуда сапожную, кожевенную и жестяночную мастерские, очень смело разрушил для расширения помещения часть внутренних стен, из-за чего появилась небольшая осадка и трещины в стенах вышележащих этажей. Также малоэкономно были устроены 5 дезкамер с топочными устройствами в помещении – камеры нагревались только отходящими из топок газами – и сделал еще ряд ошибок, так как он не был строителем и никогда не занимался вопросами санитарной техники. К замечаниям он относился очень нетерпимо, обнаруживая большое самолюбие. Но все же пропускник был сделан, немцы остались довольны, и этот пропускник начал обслуживать главным образом рабочие команды из города – заключенных из ближайшей тюрьмы (немцы очень боялись вшей как переносчиков сыпного тифа) – и больных лазарета.
Меня вызвал к себе Суржанинов и спросил, можно ли выстроить на месте существующего старого пропускника другой, вполне отвечающий названию «пропускник». Я сказал, что это вполне возможно и что я берусь это выполнить, начиная с проекта, который я могу дать к вечеру следующего дня и вплоть до укладки последнего кирпича. Мне только будет нужна помощь в отношении установки котла на 12 секций. Я охотно брался за эту работу, в которую входила также и реорганизация прачечной, примыкающей к санпропускнику, так как это мне давало возможность сохранить существующий ход паропровода и использовать его для бегства при установлении связи или же наличия проводников.
Как для устройства большого пропускника, так и для малого, а также для ряда других строительных работ нужен был кирпич. Для этого немцы разрешили выламывать этот кирпич из стен недостроенного здания детской поликлиники, расположенного около недостроенной котельной, куда выходил ход паропровода. Конечно, эти работы происходили под внимательным присмотром немцев и русских полицейских. На эту выборку для отбора железных балок и других материалов ходил я, и это мне дало много. В первый же день я обратил внимание на выброшенную среди пашни грязную груду бумаг. Надеясь найти хотя бы относительно чистую бумагу для записей, я поднял первую попавшуюся бумагу, которая оказалась схемой Смоленской области. В основном эта схема послужила для ориентации при выработке маршрутов бегства, на нее заносились дополнительные детали.
Мой проект был рассмотрен лазаретным начальством и немецкими врачами, Семеновского пригласили как главного консультанта. Проект был утвержден, ибо немцы смертельно боялись сыпнотифозных вшей, и из проектанта я превратился в производителя работ.
Итак, я целиком ушел в работу по устройству пропускника, моей правой рукой был Латун.
Прачечную отделили совсем, но все же оставили одну дверь, которую, при случае, можно было открыть, если в этом будет надобность. Котельную я сделал на месте балкона с земляной засыпкой и кирпичной наружной стеной, причем перекрыл железными балками, уложенными почти вплотную. Над этим перекрытием было еще два балкона, таким образом, котельная превратилась в прекрасное бомбоубежище и по своему уединенному, изолированному расположению прекрасно служила мне местом для всех конспиративных переговоров.
Добыча материалов для стройки помогла мне очень хорошо ознакомиться с близлежащими окрестностями и спасти от разборки и уничтожения ход паропровода под тем предлогом, что через него выходит вода из прачечной, и другого выхода для отработанной воды нет. Это было в конце лета 1942 года.
Немцы непрерывно хвастались своими победами. Несколько раз нам передавали, что на фронте взяты большие количества наших пленных, в том числе много раненых и больных, и потому мы должны быть готовы к приему нескольких тысяч человек, однако эти сообщения на деле не подтверждались, и мы перестали им верить. К нам попадали только одиночные пленные из числа летчиков или разведчиков, от них мы узнавали, что наша армия крепнет и с каждым днем дает все крепче отпор, оснащение ее людьми и техникой все возрастает. Иногда у этих пленных сохранялись обрывки наших газет, которые мы с жадностью прочитывали.
Кроме этих пленных, попадали еще и перебежчики, почти исключительно из нацменьшинств, некультурные люди, не разбирающиеся в политическом положении. При переходе немцы выдавали им удостоверение о том, что они перешли добровольно, и уже в немецком тылу к ним относились по-другому, рассчитывая их забросить в антирусские части и использовать как пушечное мясо против русских. Их держали отдельно и значительно лучше кормили.
Осенью 1942 года немцы особенно стали хвастаться разгромом нашей значительной группировки, окруженной к ЮЗ от Харькова. Они говорили, что умышленно дали возможность этой группе наступать с некоторым успехом, а затем окружили ее и полностью уничтожили.
Затем началось наступление на Сталинград, взятие которого немцы считали решающим ударом для всей русской компании. Немецкая агитация через выпускаемые на русском языке газеты и иллюстрированные журналы работала вовсю. Успехи в Северной Африке (до небес восхвалялся генерал Роммель), колоссальные цифры судов, потопленных германским подводным флотом, успехи при их продвижении к волге и на Кавказ… Наши ребята совсем повесили носы. Но мы с Петровым старались вести свою агитацию – мы напоминали товарищам о мировой экономике, о громадных возможностях наших союзников и СССР, о беспредельных просторах, которые нужно еще пройти немцам, и о том, что кривая подъема мощи СССР и союзников непрерывно растет, и немцам становится все труднее. Русский добродушный и миролюбивый человек осознал всем нутром ужас немецкого вторжения и уподобился рассвирепевшему медведю, а силы у него много, и немцам будет плохо. Имел успех старый анекдот об одном немецком враче, который в истории болезни одного больного ежедневно писал «легше», а затем заключительно написал «помер». Надо верить в свои силы и вспоминать истории вторжений в Россию, их успех в начале и неизбежный провал в конце.
Одновременно с этой немецкой агитацией враги советской власти, как, например, врач Ширяев Николай Михайлович, начали вести беседы с санитарами о том, что пора всем вступить в ряды Власовской армии и активно помогать немцам против коммунистов, которых он согласен душить собственными руками… По его мнению, все миллионы русских военнопленных должны вступать в армию Власова. Услыхавши это, я довольно удачно заметил, что этих миллионов уже нет, что не менее 75 % их уже погибли от голода и ужасных условий в немецком плену, и вышло так, что, по существу, немцев можно благодарить только за быстрое уничтожение военнопленных, и этим военнопленным бессмысленно сражаться за своих убийц… Такая контрагитация была довольно рискованной, но я сдержаться не мог. После этого Ширяев замолчал в моем присутствии. Врач Штыкалев упорно, но довольно неудачно организовал церковный хор, усиленно посещал Смоленский собор и завел знакомство со всеми антисоветскими церковными элементами. Он почему-то часто посещал также представителя гестапо Рибиша и вел с ним продолжительные разговоры наедине.
К декабрю немцы стали помалкивать про Сталинград, и нам стало известно, что их дела пошатнулись. Чем больше немцы мрачнели, тем больше мы веселели. Наконец, мы узнали об окружении 6-ой немецкой армии, о том, что немцы отступают – это уже в начале 43 года. Немцы стали усиленно говорить о несокрушимом стальном вале их обороны, о который разобьются все бессмысленные атаки Красной Армии, однако этот вал отступал все дальше на запад. Наконец, нам стали известны имена победителей под Сталинградом – имена Рокоссовского и Воронова. После уничтожения 6-ой армии, немцы объявили трехдневный траур. Для нас это было праздником.
С легкой руки товарища из основного лагеря у нас организовался очень приличный хор, появились и солисты, организовался маленький джаз-оркестр. Хором заправлял врач Шипов Павел Амплиевич, оркестром врач …, сам скрипач. Ставили маленькие пьесы веселого содержания, появился конферансье Катаев, комик Пищальников, солист Сидоров (думаю, что его фамилия была другая). Содержание хоровых выступлений было схоже с выступлениями красноармейских ансамблей песни и пляски, у нас также нашлись плясуны. Выступления хора и солистов близко напомнили несчастным, полуголодным, оторванным от своих людям их родину и близких. На глазах у многих часто выступали слезы. Иногда репертуар удавалось расширить и экспромтом вдруг вставить песенку из «Веселых ребят» или еврейскую песенку из «Искателей счастья». Эти выступления вновь возвращали сознание забитой, униженной массе, военнопленные снова делались людьми, остро являлись желания, будились воспоминания, оживлялась психика.
Наша информация о событиях ширилась. Все, что случайно попадало из советской печати в лазарет, в конечном результате попадало к нам. Одно время был налажен радиоприем собственным маленьким приемником. Делалось это довольно просто – у немцев приемник почему-то начинал шалить (дело рук наших радистов), немцы не могли его исправить и отдавали на починку тем же нашим радистам, которые устанавливали его в подвале хирургического корпуса и слушали наши передачи без всяких помех. При этом приглашали и меня.
Когда я в первый раз услышал свое, родное радио, у меня закапали слезы, и их удержать я не мог.
Врач Штоклянд ведал секционной, куда для вскрытия часто приезжал немецкий врач анатомопаталог. Штоклянд был неосторожен, он забыл, что его раньше подозревали в неарийском происхождении и как-то раз попался на глаза шеф-арцту Заксу. Закс, увидев его, рассвирепел, раскричался – как мог этот «юда» сохраниться до сих пор – и дал приказ о немедленном его изъятии из лазарета и уничтожении. Изымал его переводчик Чак, с величайшим презрением отбирая наиболее ценные вещи из имущества Штоклянда. Штоклянд был отправлен в основной лагерь и уничтожен.
Через некоторый небольшой срок Чак был арестован и, как мы позже узнали, уничтожен, так как он был также «юда».
Вскоре после Чака был арестован другой переводчик Герман и заключен в тюрьму. Мы его видели месяца два спустя, его приводили из тюрьмы в пропускник. Он очень сильно похудел, просил дать папиросу.
Приблизительно в то же время привели из тюрьмы врача маленького Петрова, бежавшего ранее. Узнать подробности от него о его скитаниях не удалось. Значительно позже я узнал, что он почему-то был отправлен в Дурово, где местные крестьяне признали в нем партизана, доложили об этом немцам, и Петрова расстреляли. Где делась дружинница Рябова, мне узнать не удалось.
Весною 1943 года Закса сменил Гиват, добродушный толстый врач, любитель охоты, хорошо покушать и особенно – послушать русский хор. При нем начали демонстрировать немецкие кинокартины, конечно, большая часть которых имела значение агиток.
Например, перед одной из первых картин Гиват взял из своего кармана записочку, на которой немецким готическим письмом были записаны русские слова, отошел к окну и прочел: «Торокие русские, вам путет покасан Германия так, как она есть, смотрите – делайт сравнения с русской жизнью, делайт свои выводы». После этого была показана странная Германия с узкими улицами, большими арбами, запряженными волами, вспашкой земли плугом, запряженным с одной стороны лошадью, с другой – коровой…
Все ожидали показа каких-то достижений сельскохозяйственной техники, необычных комбайнов, тракторов и т. д. и были чрезвычайно изумлены, начались разговоры и смешки – сравнение было не в пользу Германии. Гиват был несколько недоволен и озадачен. Ему, очевидно, казалось, что показ такой старинной идиллии должен был бы умилить русских…
Затем показали картину «Еврей Зюсс», поставленную по роману Фейхтвангера с некоторыми искажениями. Мультипликации-агитки были явно неудачны. Показывали также картину из спортивной жизни со странной для русских психологией. Кино явно не достигало той цели, для которой его показывали. Также показывали защиту Атлантического побережья, рекламируя ее как совершенно недоступную линию. Весною 1943 года Семеновский начал планировать площадку для прогулок, игры в городки и проч. На этой площадке выступали немецкие агитаторы. Первым выступил какой-то латыш на не совсем чистом русском языке. Он был несколько смущен, и из его речи можно было понять, что он был призван в русскую армию, при первой же возможности сдался в плен, причем сделался немецким солдатом, и солдатский паек у немцев был лучше, чем у русских. Затем он опять попал к русским и уже сам оттуда перебежал к немцам, где опять-таки подтвердилось превосходство немецкого пайка. Все к этому сводилось. Принципиальной стороны не было никакой. Его начали высмеивать за лишние 100 грамм хлеба в пайке немецкого солдата, и он довольно скоро оставил собрание.
Второй был из русских с правильным московским выговором. Он восхвалял жизнь в Германии и строй, создавший такую жизнь. По его словам, германское командование устроило экскурсионную поездку по Германии группе русских, которым демонстрировали работы на фабриках и заводах, сельскохозяйственных фермах и мелких сельских хозяйствах, частную жизнь рабочих и служащих и целый ряд городов. Этого агитатора здорово взяли в оборот пленные летчики и затем девушки, кто-то сказал, что его знает, что он – один из администраторов театра им. Станиславского. На вопрос, где он жил до войны, агитатор сказал, что в Москве. Тогда начали допытываться, как его фамилия, и по какому адресу проживает его семья. Он отвечал уклончиво. Вместо агитации получился допрос агитатора, который начал огрызаться, начал кричать, что его нельзя запугать, что он не из пугливых и т. д. Одним словом, его агитация была сорвана, и он был увезен из лазарета. Больше агитаторов в лазарет не присылали.
Нам, безвыходно заключенными за тремя проволочными оградами лазарета (немцы непрерывно усиливали проволочные заграждения), было, конечно, очень тоскливо, особенно весной, и мы заявили начальству, что на Пасху нам очень хочется побывать в церкви и послушать церковную службу. Немецкое начальство тогда разрешило довольно значительной группе медицинских работников в сопровождении охраны посетить Смоленский собор. В число этих медработников втерся и я со своими ребятами – Петровым, Востриковым и Латуном. Шугаева уже среди нас не было по причинам, которые я назову позже.
Впечатление от нашего посещения Смоленского собора было таково: центр этого красивого города сильно пострадал от первых налетов немецкой авиации, даже не от бомб, а от зажигалок – дома выгорели изнутри, в них провисли деформированные от огня железные балки. На окраине дома сохранились лучше. Тушить зажигалки в свое время было некому, противовоздушная оборона Смоленска не была организована. Собор, выстроенный, кажется, при Борисе Годунове, сохранился хорошо. Под его мощными высокими стенами немцы устроили небольшое кладбище для своих кавалеров железного креста, позже они их начали вывозить в Германию. Церковная служба шла не в Соборе, а в значительно меньшем помещении рядом с собором. Собор являлся музейной редкостью, и его посещало много любопытных немцев.
После службы мы попросили показать нам смоленский базар (за Днепром, недалеко от собора). Базар был небольшой и небогатый. Мы поменяли кое-какое барахло на лук, чеснок и лимоны – все же кое-какие витамины, которых мы были лишены.
На обратном пути мы встретили бывшего когда-то в лазарете и затем отпущенного на частную квартиру молодого врача Филёненкова, прекрасно одетого, в щегольских блестящих хромовых сапогах и несколько навеселе. Он рассказывал, что ему живется весело и сытно. Но нас интересовало другое – вопросы подпольной работы против немцев. Он рассказал, что таковая, по слухам, ведется, что немцы еще недавно привели в тюрьму много арестованных русских за подпольную работу и связь с партизанами, и что почти все арестованные в настоящее время уничтожены. В тюрьме находится также много немцев, отказывающихся воевать, дезертиров и др. – их также беспощадно расстреливают. Много его не пришлось расспрашивать, так как наша охрана все же кое-что понимала по- русски, да и путь от места его встречи до лазарета был очень короток.
Эта прогулка дала нам много оживляющих впечатлений, еще сильнее захотелось нам бежать к своим. Но как найти хоть какую-нибудь связь?
Теперь несколько слов о Шугаеве. Еще не сошел снег от лучей весеннего солнца, и по утрам были крепкие заморозки, как он, врач Жуков и одна из девушек решили бежать.
Мы очень уговаривали не брать с собой девушку, недостаточно приспособленную для такого трудного бегства, и вообще отложить побег до более теплых дней, но они об этом не хотели и слушать.
Маршрут они выбрали тот же, что и бежавший первый Петров. Их выпустили через ход паропровода, и ушли они незаметно. Через день после их бегства мы узнали, что их уже поймали и заключили в тюрьму, в бункер. Через некоторое время мы узнали и историю их поимки. Они прошли всего 18 километров до бывшего совхоза … по Рославскому шоссе и свернули влево, направляясь к деревне Боровой, но их спутница заявила, что она очень перемерзла и устала, и они по ее настоянию зашли к какой-то деревенской женщине, которая их приняла очень приветливо, обогрела, накормила и, в довершение всего, привела немцев, которые их арестовали. Это была общая судьба всех беженцев в окрестностях Смоленска – население их немедленно выдавало. Немцы при этом не оставались в долгу и награждали предателей некоторой суммой марок или еще чем-нибудь. При бегстве местных жителей надо было бояться больше всего. Надо было уходить ночами, как диким зверям, не попадаясь на глаза никому.
Шугаев и Ко выдержали бункер, их затем отправили в общий лагерь, затем дальше на запад. Больше о них мы не слыхали. Тайну своего ухода им удалось сохранить, и ход у нас остался.
Семеновский оказался своим парнем. Он имел право выхода из лазарета в город, так как он вел разные строительные работы не только для лазарета, но также по ремонту, например, квартиры для главного немецкого врача Гивата. Немцы с ним очень считались. В свободное время он разрабатывал конструкцию оригинального парового котла с максимальным к.п.д. Он слыхал в городе много новостей и сообщал их нам.
Наши шахматные состязания занимали много свободного времени и хорошо отвлекали немцев от наблюдения за нашей подпольной деятельностью. Появился молодой немецкий врач Якоб, помощник Гивата, классный шахматист, который рассказывал, что, будучи студентом, он зарабатывал шахматами себе на пропитание, делал турне не только по Германии, но и по Италии. Немцы ему не очень доверяли. Когда однажды разговор среди немцев коснулся бегства группы русских из основного лагеря (бежала группа музыкантов и певцов, воспользовавшись налетом нашей авиации и страхом немецкой охраны, они захватили автомашину и на всем ходу вырвались из лагеря – потом их выдало местное население), то Якоб заявил, что он на месте русских поступил [бы] так же, что это вполне естественно. Такое заявление сильно шокировало немцев.
Якоб давал сражение сразу на 6 досках и в большинстве случаев побеждал. Одним словом, у немцев создалось впечатление, что мы – отчаянные шахматисты, ни о чем другом не думаем. Это нас спасло от слежки и от высылки на запад.
В начале лета внезапно были высланы на запад врачи Востриков, Омеличев и Ступин, причем все лучшие носильные вещи были от них отобраны. В любой день и нам могла грозить такая же участь, так как количество больных сильно сократилось и не пополнялось. Оно начало пополняться только при наступлении Красной Армии, когда немцы начали эвакуировать более восточные лазареты, расположенные ближе к Вязьме и затем к Ярцеву.
Нужно было бежать, пока еще будет тепло. Вся наша надежда на связь с подпольными организациями или партизанами зависела от Семеновского, и он начал усиленно действовать в этом направлении.
И вот в июне он сообщил нам, что связался с подпольной смоленской организацией, представитель которой – очень интересная женщина, обещающая дать конкретные указания и проводника для нашей группы, для чего Семеновскому нужно было навестить ее еще раз. Мы с нетерпением ждали этого второго свидания, но второе свидание не дало ничего конкретного – представительница сказала, что еще не прибыли люди, могущие отвести нас к партизанам.
В лазарете появился мальчик из крестьян лет 15-ти, он был арестован по подозрению в связи с партизанами. Семеновский с ним разговорился и узнал от него, что, действительно, он был у партизан, где и сейчас находится его отец, километрах в 60-70 к северо-востоку от Смоленска. В Смоленске находится его мать. Мы решили выпустить его из лазарета с тем, чтобы он помог нам бежать и привел в условленное место взрослого проводника, которого мы могли бы узнать по некоторым условным, заранее обусловленным, признакам.
Во время наружных работ, которыми руководил Семеновский, мальчика удалось выпустить – это было легко, так как он был маленький и в штатском платье. Паренек ушел, но проводника не прислал.
Помимо нашей организации, бежало 3 человека из обслуживающего среднего персонала, для чего они подняли пол в прачечной и ушли через ход паропровода. Немцы немедленно обнаружили путь их бегства, и срочно приказали Семеновскому замуровать этот ход, чтобы не было никакой возможности бежать в будущем. Для этого по их указаниям были поставлены кирпичные стены на цементе при входе в туннель и при выходе из него. Затем весь туннель под помещением прачечной был завален огромными обломками от взорванной трубы котельной. Для вывода воды из прачечной была внизу, под завалом и стенкой, проложена труба около 25 мм диаметром. После этого, казалось, бежать этим ходом было невозможно. Но немцы произвели эти работы, конечно, не сами, а руками русских, и во главе рабочих, главным мастером, был наш Латун. С трудом достали некоторое количество сахара-песка и добавили его в часть цемента, пошедшего на заделку первой стенки, так как за этой работой особенно тщательно следили немцы. Цемент остался белым, но в том месте, где он был с сахаром, его, конечно, не схватило как следует. В цемент стенки при выходе примешали немного глины, цемент несколько потемнел от этого, но немцы на это внимания не обратили. Кроме того, они еще не учли того, что во дворе был еще один смотровой люк, спустившись в который, можно было миновать первую стенку. Конечно, спуститься в люк было трудно, так как он был на виду у охраняющих лазарет полицейских и немцев.
Нашу организацию постигла вторая неприятность. При попытке второго посещения смоленской подпольной организации Семеновский чуть было не попал в руки гестапо, которое арестовало до 70 человек этой организации, другими словами, почти полностью разгромило и вскоре физически уничтожило ядро смоленской организации. Наши надежды рухнули.
В 45 километрах от Смоленска на СЗ, на берегу Днепра, находится село Гусино. В этом Гусине находились какие-то продовольственные склады, обслуживаемые русскими военнопленными. Во главе этих складов был известный нам по работе его в лазарете немец Курт. Курту не нравились помещения подведомственных ему русских, а также проволочные ограждения их жилья, и он призвал Семеновского с тем, чтобы последний составил проект перестройки этих помещений и затем руководил этими работами. Семеновский поехал и вскоре приехал оттуда в хорошем настроении. По его словам, кругом Гусина находится много партизан и с ними легко завязать связь. При вторичном посещении Гусина ему удалось установить и организовать следующее: шофер машины из основного Смоленского лагеря по прозвищу «профессор» знаком с партизанами и уже посещал их два раза. Женщина-кухарка, обслуживающая немцев в Гусине, тоже имеет связь с партизанами.
Через шофера Семеновский договорился о следующем: около 5 км на восток от Гусина по трассе Минск-Смоленск имеется километровый столб с отметкой 242. От этого столба несколько на СЗ в одном-полутора километрах, на опушке леса находится дом лесника, где живут люди, имеющие постоянную связь с партизанами. Если мы явимся к ним и скажем пароль – «мы от профессора», то нас немедленно отведут к партизанам. Обсуждая все это втроем (Петров, я и Семеновский), мы решили, что ожидать нам более нечего. Наши обязанности мы распределили так: я брался возобновить подземный ход и проверить возможность бегства через него. Семеновский должен был поддерживать связь с «профессором»: быть может нам удастся с комфортом за полтора-два часа на машине доехать до 242 столба и часа через три после побега быть уже у партизан. Петров должен был организовать людей для побега, что надо было сделать весьма тонко, чтобы не выдали, не разболтали. Кроме всего прочего, если идти пешком, то нужны продукты – кое-что надо достать. Идти только ночью, не вступая в контакт ни с кем из местного населения. Эскизы местности и компасы у нас были.
За несколько дней до предполагаемого выхода умер художник-москвич, и половина населения лазарета вышла его проводить на кладбище. Выходя из ворот, я увидел представителя гестапо Рыбиша в сопровождении двух немцев, наблюдавшего за выходящей толпой, а совсем близко от него, на земле, кем-то оброненный компас… Я быстро нагнулся, поднял компас и положил в карман – хороший знак для бегства!
Я созвал своих работников пропускника и дал им задание: вскрыть аккуратно три доски в полу чистой одевальни пропускника, узким ходом, ведущим оттуда, проникнуть под прачечную и растаскать сверху куски от трубы котельной, оттаскивая их вглубь помещения, добраться до первой стенки и в точно указанном месте (где был положен в цемент сахар) сделать отверстие. Вторую, дальнюю стенку, пока не трогать. Мои ребята были очень изумлены, они полагали, что ход возобновить нельзя, и они не предполагали о существовании продолжения хода под помещениями пропускника. Ребята очень обрадовались.
Работа началась этой же ночью, что вполне возможно было сделать ввиду полной изоляции пропускника и комнаты обслуживающего его персонала от остального лазарета. Работа была очень трудная, но продвигалась вперед успешно.
С другой стороны, я был здорово встревожен вопросами, связанными с подготовкой людей к бегству. Несмотря на мои предостережения, будущие участники бегства посвятили в свои планы нескольких девушек, тоже собиравшихся бежать. Девушки начали болтать. Глазной врач Шипов, руководитель хора, ничего не знающий о предполагаемом бегстве, сообщил мне, что к нему ходит лечиться одна из девушек, которую следует лечить длительное время. Эта девушка сообщила ему, что ей на этих днях придется прекратить лечение, что она уходит из лагеря, давая ясно понять, что она собирается бежать. Эта болтовня заставила нас максимально ускорить подготовку к бегству, так как разговор о нем неизбежно и скоро дойдет до немецкой агентуры и последует тягчайшая кара…
Семеновский против нашего желания посвятил в планы бегства зубного врача Кулакова, которому мы не очень доверяли, и его брата-слесаря, который сообщил об этом другим слесарям. Они перебрались в продовольственный склад и выкрали оттуда большой ящик с мясными консервами в банках, но, несмотря на наши убеждения, не пожелали распределить эти банки между участниками бегства, боясь, что консервы (а также потом они выкрали еще ведро с искусственным медом) у них заберут, а их не возьмут с собой. Мы им не сообщали тайны ухода в подземный ход, так как узнавши это, вся эта публика немедленно полезет удирать, не дождавшись других, и вообще может сорвать окончание работ по очищению хода. Слесари были очень недисциплинированы и плохие товарищи, думающие только о себе. Эта публика также легко могла разболтать. Летчики тоже были недостаточно конспиративны…
Набралось нас около 40 человек – сапожники, банщики (среди последних был один капитан), слесаря, врачи, средний обслуживающий персонал.
Петров установил график, в какой очередности какая группа должна бежать. В первую очередь уходят работники пропускника, работавшие на прокладке хода, так как если ход обнаружат раньше времени, то им попадет больше, чем кому-либо из других. За ними уходим мы – я, Петров, Орлов, с нами Латун, санитар Сережка (лейтенант), Тоня (разведчица). За нами идут сапожники и далее летчики, которым труднее всего попасть в ход, так как они обитают в другом корпусе, и им надо перейти через двор. Если их пустить ранее других, то это может сорвать все дело не только для них, но и для других.
Мои ребята сообщили мне, что дошли до первой стенки. Я направил Латуна, чтобы он пробил эту стенку в том месте, где им был положен в цемент сахар, пролез через дыру и дошел до стенки, закрывающей выход. Поздно вечером ко мне зашел Латун (он жил в смежной по коридору комнате), это было 26 июля, перепачканный землей, и доложил, что, хотя и трудно, но по ходу можно пролезть, стенку он проломил и дошел до наружной стенки. Ход к бегству был готов.
Я сообщил Петрову, что мы должны бежать завтра, не позже, так как много людей посвящено в план бегства, и налицо огромный риск, если мы будем откладывать. Петров здорово волновался. Он должен был с утра сообщить всем участникам бегства тайну выхода в подземный ход и точно время ухода для каждой партии. Семеновский предполагал выехать на машине в Гусино рано утром 28 июля, предполагая, что нас могут не хватиться так часов до 10 утра. Приехав раньше нас в Гусино, он должен был немедленно бежать к партизанам и организовать дежурство у километрового столба 242 километра для приема прибывающих к этому месту беглецов. За 27 июля все пищевые продукты должны быть распределены между всеми беглецами.
Если бы фашистская агентура была бы внимательнее, то она заметила бы значительное оживление и много бесед отдельных лиц, старавшихся для этого уединиться, а также взволнованный и оживленный вид некоторых участников бегства.
Слесаря оказались 100 % свиньями – они не желали распределять банки с консервами и мед между участниками бегства, говоря, что это сделают перед самым бегством. Они почему-то думали, что продукты у них заберут, а самих их не возьмут. Я три раза посылал к ним за продуктами, и все безрезультатно. Только одному работнику пропускника, гармонисту Геннадию, удалось получить у них несколько банок с консервами, которые он пронес в футляре от гармонии и распределил между своими четырьмя товарищами. Наступил вечер. До 9 часов я играл в шахматы, затем сказал, что устал и иду спать. В комнате меня уже ждали Петров, Латун и Семеновский. Петров был в эту ночь дежурным по лазарету, и мог бродить безо всякого подозрения всю ночь. Он не мог сдержать своего волнения. Семеновский его успокаивал, и, наконец, мы отправили его вниз в пропускник, а сами вышли – я, Латун, Сережка и пекарь – на лестницу, оттуда на чердак и с чердака начали спускаться заброшенной лестницей прямо в подвал. На чердаке было чертовски темно, и нас вел Латун. Спускаясь вниз по лестнице, у Латуна выскользнул из-за пояса котелок и с грохотом покатился вниз. При этом шуме голоса дежурных у входа, расположенного в непосредственной близости от лестницы, смолкли. Мы замерли на месте… Но вскоре разговор опять возобновился, и мы продолжали наш спуск. При входе в подвал нас встретила Тоня и сообщила, что банщики уже ушли, Петров тоже полез в ход. Под ногами были какие-то банки, но мы на них не обратили внимания. В пропускнике было темно, и в полу чернело отверстие от двух вынутых досок. Я уходил последним. Когда я с трудом спустился в узкую щель, где нельзя было повернуться, мне сперва показалось, что этой дырой пролезть нельзя. Но зная, что ряд товарищей уже ушли, я протиснулся и пополз по горизонтальному ходу под полом. Внизу хода стояла вонючая вода на глубину выше колена. Над водой сбоку шла труба паропровода, по которой я и полез. Через каждые полтора метра вверху были железные кронштейны для поддержки свода над ходом – под ними проползать было очень трудно. Хотя я двигался очень медленно, но быстро нагнал проползавшего впереди Орлова. Он дальше не двигался, кто- то не мог впереди протиснуться, это задерживало всю группу. Было очень душно, повернуть назад было немыслимо, от усилия удержаться на трубе, от напряжения начинали дрожать руки и ноги. Вещевой мешок здорово мешал продвижению. Хорошо еще, что я бросил в комнате свою шинель, с нею я не смог бы протиснуться. Наконец, Орлов двинулся веред – оказалось, что всех задерживал Петров, который по своей толщине не мог протиснуться в дыру через первую стенку. (Мне дедушка рассказывал, что Александр Прохорович Петров был маленького роста и все время толстым. Он не похудел даже при плохом питании. Возможно, у него был голодный отек. Во всяком случае, когда делалась дыра в стене, ее делали для «широких плеч», и никто не думал, что там может застрять живот Петрова. Убегавшим повезло в том, что Петров не шел первым. Когда он создал собою пробку в дыре, его передние бежавшие выдернули из этой дыры, после этого смогли пройти остальные [прим. ОИЯ]) С большим трудом и я долез до этой дыры и бросил через нее свой мешок, а затем и сам полез вниз головой. Далее проход был высоким. Я поднял свой мешок и пошел вперед. Каждый шаг гулко отдавался под сводами и казалось, нас должны были слышать: сверху – охрана лагеря. Все торопились выбраться наружу. Наконец, дыра во второй стенке, за нею ров – бывшие остатки разрушенного хода.
Темная тихая безлунная ночь… Пахнет созревающими хлебами. Согнувшись, мы пробегаем через полевую дорогу и входим в густое поле ржи. Мы все обессилили от прохода через подземный ход и, добравшись до первого оврага, садимся на несколько минут отдохнуть. Но надо спешить. Со стороны покинутого нами лазарета слышны оживленные голоса охраны, блестит фонарь. Но скоро все затихает, и мы идем через хлеба дальше. Нам нужно перейти через киевский тракт, но мои спутники почему-то тянут влево, несмотря на мои протесты. Наконец, мы натыкаемся на какую-то проволоку, недалеко слышна немецкая речь. Здесь стоят зенитные батареи.
Я беру на себя роль провожатого, круто поворачиваю вправо, вскоре мы переходим через шоссе, и опять углубляемся в хлебное поле. Идти трудно, ноги путаются в колосьях. Идем мы медленно, но ускорить движение не можем – обессилели. У нас есть фляги с разбавленным спиртом и с некоторым количеством эфира. Я отпиваю несколько глотков, и вместо бодрости вдруг чувствую такую слабость, что принужден сесть на землю. С большим трудом приподымаюсь и веду группу дальше.
Начинает светать. Леса вблизи нет, но среди ржи видны небольшие густые кусты, около которых растет трава. Мы пробираемся к третьей группе кустов и залегаем в нее. Светает все больше. С одной стороны поет петух, ему откликается другой с противоположной стороны. Я приподнимаюсь и вижу две деревни с двух сторон, так в километре от нас каждая. Но дальше уходить некуда, и мы стараемся незаметно расположиться на отдых.
Вдруг близко раздаются шум и шаги, и в наши кусты кто-то входит – мы видим возбужденные лица, у одного в руке нож – это оказывается группа слесарей с врачом Кулаковым. Они вышли из хода за нами и случайно шли той же дорогой. Они просят нас дать им покушать, так как с собой не захватили второпях ни одной банки с консервами, ни хлеба, ни меда. И другим не дали, и себя не обеспечили, просто вели себя, как идиоты! С ними артист Пищальников. Делимся с ними нашими сухарями, которых, в сущности, у нас не хватит на два дня…
Среди дня мимо наших кустов проходят бабы с косами и косят траву. По счастью, никто из них в кусты не заходит, и до вечера нас никто не обнаруживает.
Километрах в 4-5 от нас видно здание лазарета, из которого мы бежали, и если бы немцы по нашим следам пустили ищейку, то через час они нас опять бы захватили… Но, к счастью, они до этого не додумались или, быть может, из хода [вело] так много следов в разные стороны, что не известно, по каким [было] идти. Ведь не все бегущие идут по нашему маршруту. Нас всего 13 человек, с нами вместе идет один майор-летчик, очень ослабленный, я, Петров, Латун, Орлов, Кулаков, Сережка, Тоня, пекарь, майор, Пищальников и три слесаря.
(Предполагаю, что могла быть и иная причина – немцы были уверены, что население сдаст беглецов, тем более, что бежало много народа. Меня другое удивляет, – по полю прошло так много народа, фактически должна была образоваться дорожка, по которой очень легко найти людей… [прим. ОИЯ])
Начинает темнеть, и мы выходим из кустов. Поля совершенно безлюдны. Мы идем прямиком, без дороги, по компасу. Идем сперва несколько на ЮЗ, затем на З, а затем на СЗ. Пробираемся невероятно густой рожью вдоль далеко растянувшейся деревни, через которую переходить мы не хотим, по выходе в поле мы не досчитываемся майора- летчика. Он отстал от нас, должно быть, не имея сил так быстро двигаться. Окликать он не стал, боясь выдать наше присутствие. Потужили мы о нем и пошли дальше. На рассвете пересекли Краснинское шоссе и нашли уютные густые кусты среди поля, где и легли отдыхать. Слесаря опять потребовали хлеба, мы им отдали половину того, что имели, и сказали, что больше не дадим. Они были очень недовольны, сразу съели все и остались голодны. После короткого обсуждения они заявили, что пойдут отдельно, так как намереваются питаться в деревнях.
На дневном отдыхе нас никто не беспокоил, и вечером мы вышли в дальнейший путь. Слесаря и Пищальников пошли отдельно, а врач Кулаков присоединился к нам. Нам нужно было идти до Днепра и переправиться через него. Для этого мы пошли на СЗ, перед рассветом вышли к Днепру и начали искать место для дневного отдыха.
Наконец, нашли неширокую полосу кустов среди мокроватого луга со следами пребывания стада. Место это не нравилось, но другого искать не было времени, так как стало довольно светло. Не успели мы задремать, как начался дождь, от которого меня спасала плащ-палатка. Но от дождя укрыться было некуда, и мы оставались на месте.
Вскоре раздались женские голоса, мычание стада, удары бича и ругань старика- пастуха. Стадо паслось справа с одной стороны кустов, затем с другой, после чего старик как будто ушел. Женщины, помогавшие ему, зашли в кусты и обнаружили несколько человек из нашей группы. Они перепугались и хотели бежать, но наши их задержали, рассказали о том, что они беглецы и просили их чем-нибудь накормить. Женщины отнеслись сочувственно и обещали принести молока и хлеба, после чего ушли. Мы были крайне обеспокоены – выдадут или нет? Большинство решило, что выдадут и что нужно спасаться в другом месте. Наша разведка обнаружила недалеко густо заросший овраг с ручейком, пересекавший большую дорогу. Со стороны дороги – треск мотоцикла. Обождав, пока он стихнет, мы перебежали в овраг, где было много малины, и спрятались там.
Только стало вечереть и мы собрались в путь, как невдалеке увидели группу из 4-х человек, идущую к нам. Это оказались наши же слесаря и Пищальников. Они чувствовали себя хорошо, так как женщины, говорившие с нами, действительно принесли молоко и хлеб и, не найдя нас, обнаружили слесарей и отдали им свои харчи.
На этот раз мы решили опять идти вместе и пошли безлюдной проселочной дорогой вдоль Днепра. Часа через полтора мы дошли до деревни, прошли около ее края, не встретив никого, а затем опять ушли с дороги. После короткого отдыха наша группа в 8 человек пошла дальше, а слесаря решили спать с тем, чтобы путь продолжать днем. На рассвете мы нашли густые кусты, кончающиеся в метрах 30-ти от берега Днепра, и залегли в них. Днепр оказался нешироким, но глубоким. Противоположный берег – правый – был высокий и заросший сосновым лесом. Где-то за лесом пел петух, слышались звуки и шумы близкой деревни. Когда взошло солнце, ребята выгнали лошадей на луг за нашими кустами. Через Днепр они переплывали верхом на лошадях. Один из них так близко проскакал от нас, что мы его хорошо разглядели.
Я и Латун настаивали на том, чтобы переправиться в этом месте, но остальные были против и настаивали, чтобы спуститься немного ниже, где будет менее людно, и переправиться там.
С наступлением сумерек мы опять двинулись в путь, и через километр нам преградила дорогу неширокая, но глубокая, густо заросшая речка, впадавшая в Днепр.
Наши попытки переправиться через нее с вещами не увенчались успехом, было около берега очень вязко, и мешали кусты. Конечно, перейти было можно, но не все хорошо плавали, и большинство решило пройти вверх по речке – там, вблизи, несомненно была через нее переправа для идущих вдоль берега Днепра. В темноте мы найти переправы не могли. На лугу мы встретили лошадей, и нам показалось, что какой-то человек побежал до нас. Мы испугались, что это пастух, могущий нас выдать, и вернулись опять к Днепру, а затем обнаружили, что это был один из нас, и вернулись обратно. Речка становилась все уже и мельче и, наконец, перешла в журчащий ручей, через который мы и перебрались вброд.
После короткого путешествия по лугам мы опять вышли к Днепру, вдоль которого шел густой лес, через который лежала довольно широкая дорога. Я предложил остановиться здесь, днем сделать из сухих сучьев плот и в сумерках переправиться на ту сторону, но остальные этот план не поддержали и решили идти по дороге через лес дальше. Но почему-то боялись встречи по дороге немцев или партизан, которые могут сразу открыть по нам ружейный огонь. Никто не хотел идти впереди, и сперва пошел шагов на 50 вперед Петров, затем вскоре сменил его я и так вел группу до рассвета. Мы дошли до опушки леса, около которой были картофельные поля. Все кинулись рыть картофель, и я с трудом собрал всех для дальнейшего пути к Днепру, от которого мы при переходе через лес отдалились. Около Днепра мы нашли много грибов и решили сварить хорошую похлебку с картофелью и грибами. До чего хотелось есть! Наши сухари давно были прикончены, да они мало удовлетворяли наш голод. Начали в овражке разводить костер, который сильно дымил, так как топливо было сыровато, была сильная роса утром.
Вдруг послышался щелк бича. Пастух пел во все горло, приближаясь к нам. Вдруг он замолк и через некоторое время к нам подбежал врач Кулаков, который встретил пастуха. Пастух очень перепугался за нас и сказал, что около 200 немцев идут облавой в лесу и, если мы хотим избежать поимки, то в нашем распоряжении считанные минуты.
Костры погасили и кинулись к выходу из леса, к Днепру. Лес был крупный, кустов мало, спрятаться негде. За лесом, среди холмистой местности шел большой и длинный заросший овраг с ручьем, впадавшим в Днепр. Мы решили разбиться на мелкие группы, чтобы вечером собраться у края леса. Латун и пекарь Миша ушли в кусты на берегу Днепра, Петров и Кулаков быстро пошли по оврагу, я и Орлов тоже пошли в овраг, только дальше от берега, чем Петров. В овраге было сыро и много малины. Лечь было негде. Мы решили несколько пройти вверх по оврагу. Здесь я потерял Орлова, который, перебегая, скользнул в какие-то кусты. Кричать было нельзя.
Недалеко я увидел стадо, которое пас старик и небольшой мальчик, и я решил поговорить с пастухом, чтобы он накормил меня и посоветовал, как перейти через Днепр.
Я подошел, поздоровался и рассказал, что нас трое бежало из Смоленска, что я потерял товарищей и прошу его помощи, за что могу отдать 150 рублей советских и брезентовые сапоги, бывшие у меня про запас. Пастух обещал прислать мне в кусты с мальчиком молоко и яички. С переправой через Днепр было трудно. Лодок немцы не позволяли держать на реке. Сегодня только на несколько часов спустили лодку, чтобы перевезти несколько человек в церковь на другой берег, но перевоз контролируется. Недалеко от оврага – немецкое хозяйство. Гражданские немцы захватили хороший совхоз со всем инвентарем и обрабатывают сами землю. Около этого совхоза находится немецкий отряд в 250 чел.
Надеясь, что пастух меня не выдаст, я спрятался на его глазах в кустах в небольшом углублении и задремал. Часа через два меня разбудил мальчик – он принес два яичка и небольшой кусочек ужасного хлеба с овсюгом, выпеченный из раздавленных сырых зерен ржи. Я с жадностью все это съел и отдал ему сапоги. Он сказал, что может быть принесет мне еще молока, и я опять задремал. Меня разбудила Тоня, которая тоже разговаривала со стариком-пастухом, и он указал ей мое местопребывание. Она также нашла Орлова и указала, где он находится. Мы уговорились с наступлением сумерек встретиться в том месте, где овраг примыкает к Днепру. Она думала, что лодку прячут там, и можно будет ею воспользоваться.
Вскоре после ее ухода я услышал немецкую речь. Были ли это колонисты или солдаты – я не знаю. Я решил забраться глубже в овраг. Часа через два я услышал нечто вроде женского голоса, который кого-то звал.
Когда начало темнеть, я вышел из своего убежища и пошел искать Орлова. Его я не нашел, но он потерял свой брезентовый мешочек, который я и поднял в том месте, где он сидел днем.
Затем я пошел вдоль оврага к Днепру. Окликнул – никого нет. Я чувствовал себя очень одиноко и решил дожидаться. Ночь уже спустилась. Наконец, я услышал сдержанные голоса. Это были Тоня, Орлов и Сережка. Они искали лодку, но лодки не было. Тоня ругала меня. По ее словам, пастух взялся перевезти нас, и она меня искала и даже кричала, но найти не могла. Пастух же без меня перевоз не хотел организовывать. (Отец имел талант находить общий язык с людьми. Его обаяние вызывало доверие [прим. ММЯ]) Все же она надеялась найти лодку, но лодки не было.
Тогда мы направились вниз по течению Днепра, желая найти деревню Корыбчино, где, по словам пастуха, жил на берегу рыбак, у которого была лодка. Мы долго шли, сперва по малопроходимым заболоченным местам около самого Днепра, а затем по полевой дороге вдоль Днепра. По словам пастуха, эта деревня была в 2-3 километрах, но мы быстро шли уже часа полтора – деревни не было. Мы подумали, что она осталась в стороне, сзади и решили задержаться на отдых, чтобы днем сориентироваться. Мы остановились на высоком песчаном берегу Днепра с богатыми посадками сосны, еще молодой. Когда рассвело, то спереди и сзади нас оказалось по деревне. Которая же из них Корыбчино? Мы решили послать на разведку Тоню, а сами начали сооружать из сухих сосновых сучков плот для вещей. К вечеру вернулась Тоня, принесла около литра молока и рассказала, что встретила парня из бывших военнопленных, который подтвердил, что у рыбака в деревне Корыбчино должна быть лодка, и советовал нам ночью потребовать у этого рыбака лодку для переправы. Но, заходя в деревню, он советовал внимательно наблюдать, нет ли в деревне немцев, так как их большой отряд идет партиями и переходит из села в село.
Настала ночь, и я с Тоней отправились на разведку. Сережка оказался порядочным трусом. Орлов, хотя был на два года моложе меня, разыгрывал из себя старика, не способного к активным действиям.
Мы осторожно подошли к деревне. Слышен был женский смех, мужские голоса. Я не мог разобрать отдельных слов, но Тоня утверждала, что разговаривают по-немецки, и потому мы ушли к своим, не заходя в село. Переночевали, вернее, передневали, в густом молодом сосняке. С вечера попробовали спустить на воду наш плот, но он не мог выдержать тяжести даже одного вещевого мешка с нашими пожитками.
Когда наступил вечер, я настоял, чтобы мы все пошли в деревню, в которой, наверное, немцев нет, так как никто не стрелял, а немцы всегда ночью стреляют, и, найдя рыбака, взяли бы у него лодку. Немцев в деревне, действительно, не оказалось, и мы сразу нашли дом рыбака, стоявший несколько особняком. На наш упорный стук открыла двери жена рыбака, которая заявила, что ее муж уехал на несколько дней, и клялась в том, что лодки нет, ее будто бы уничтожили немцы. От нее мы узнали, что на сеновале спит старый дед, мы разбудили и его и грозно требовали лодку, для устрашения постукивая в металлические фляги для воды. Но ничего не помогало. Наконец, я категорически заявил жене рыбака и деду, что мы не уйдем, и им будет очень плохо, если они не дадут возможности переправиться нам на другой берег. Старик тогда сказал, что некоторое время назад здесь переезжала группа партизан под предводительством человека, называвшего себя Махном, и они сняли с петель ворота колхозного сарая, положили их на бревна, которые лежат на берегу, и переправили на этом плоту свои вещи.
Мы тогда немедленно сняли указанные ворота, отвязали от воза с сеном длинную веревку, стащили ворота к Днепру, нашли бревна и подмостили их под ворота, привязав веревкою. Разделись, вещи положили на плот и с ними посадили Тоню – больше плот выдержать не мог. Тоня плавать не умела. Мы же втроем поплыли, держась за плот и направляя его вразрез быстрому течению к другому берегу. Вода была теплая. Длинный шест в руках Тони не доставал до дна, было основательно глубоко. Наконец, плот подчалил к прибрежным кустам, к которым мы его и привязали. Ночь была очень темна. Я потерял хороший пояс с флягой, но искать его в такой темноте было невозможно.
Одевшись, мы быстро зашагали на СЗ по компасу и скоро достигли густого молодого леса, через который в темноте пробиваться было крайне трудно. На деревьях и траве лежала густая роса. Мы решили ждать света. И как только рассвело, пошли дальше, старясь держаться опушки леса. Места были очень безлюдные, сырые, болотистые, с кочками и озерцами. Попадались болотные ягоды – брусника, черника, и мы их ели на ходу. Потом начали встречаться покосы среди болот, послышалось мычание стада, людские голоса. Мы залегли среди густых кустов на опушке леса. Какая-то деревня была в полукилометре от нас. Тоня пошла на разведку и, вернувшись, сообщила, что близко железная дорога, которую нам нужно пересечь, чтобы выйти к магистрали Минск- Смоленск. Это здорово усложняло наше передвижение, так как железные дороги усиленно охранялись немцами.
Тоня заявила, что не желает идти дальше и проведет еще одну ночь здесь вместе с Сережкой, с которым она сошлась. Ей это можно было сделать, так как во время своих разведок она подкармливалась у крестьян и тайком приносила кое-что Сережке. Но мы с Орловым сильно страдали от голода и рисковали тем, что совершенно потеряем последний остаток сил. Вообще последние дни она вела себя нехорошо и ругалась самыми последними словами. Мы решили расстаться, и вечером я и Орлов пошли дальше вдвоем.
За лесом было небольшое озерцо, мы спугнули оттуда крякву. Дальше на бугре стояло два дома: один, похожий на сельскую школу, и рядом обычная хатка. Около двери хатки стояли молодая женщина и худощавый старик – это были школьная учительница и сторож. Мы им рассказали, что идем из Ярцева, около которого идут сильные бои, и немцы угоняют все население в тыл. Мне кажется, что наши собеседники не поверили этому рассказу. Затем мы попросили дать нам что-нибудь покушать, но они сказали, что часа три назад заходила тоже какая-то беженка и съела все, что у них было. По их описанию это была Тоня.
Мы пошли дальше по сельской улице и просили продать нам за немецкие марки, которые были у Орлова, молоко и хлеб, но никто не хотел продать – все боялись. Наконец, одна женщина дала нам снятого молока и не захотела взять за него денег.
Присутствующий тут же мальчишка, увидав у меня в руках хорошую командирскую пилотку, предложил обменять ее на кепку. Для этого я должен был, проходя по улице кинуть ему около его дома пилотку, взамен которой он кинет мне кепку.
Мы торопились, ведь в любой момент могло появиться какое-нибудь начальство и арестовать нас. По дороге я получил кепку взамен пилотки. Отойдя на один-два километра, мы решили заночевать, чтобы ранним утром перейти через железную дорогу. Оказывается, Гусино было километров в 5 от нас на запад, следовательно, идя на север, мы пересечем трассу в районе столба № 242.
Ранним утром мы двинулись дальше и вскоре дошли до железной дороги.
Железнодорожное полотно было ограждено частично колючей проволокой. На линии виднелись ДОТы. Мы двинулись на некотором расстоянии от полотна, думая найти где- нибудь дальше удобный переход. Среди поля, недалеко от леска, через который шла железная дорога, мы сели, обсуждая свое положение. Дальше по линии железной дороги начиналась деревня, а в ней, конечно, немцы. Мы вытащили копию карты местности, сделанную Семеновским, и внимательно рассматривали ее. Вдруг мне показалось, что за нами кто-то есть. Я быстро обернулся и встретился глазами с молодой крестьянкой, наблюдавшей за нами. Она сейчас же стала уходить, я ее окликнул и задержал, расспрашивая, как можно перейти железную дорогу. Она сказала, что можно через деревню, но там немецкий караул, проверяющий у некоторых подозрительных документы. Но вот здесь, за этой полуразрушенной банькой, есть тропинка, по которой местные жители переходят сами через полотно и перегоняют скот.
Другого выхода не было. Сгорбившись и взявши в руки по посоху, мы, не торопясь, начали переход через железную дорогу и благополучно перешли через нее. Дальше шло болотце справа, и за ним лес на болоте, справа на бугре виднелась большая деревня. Мы начали с большим трудом пробираться по заболоченному лесу, перешли его и вышли на покосы около трассы Минск-Смоленск… Я завел разговор с косарем, перебравшимся недавно сюда с востока, расспрашивая его, где 242 километр, но он ничего не знал. По дороге ехали немецкие части в автомашинах и подозрительно смотрели на нас. В Гусино из деревни шла какая-то женщина, но она также не знала, где 242 километр. Я начал вглядываться, и метрах в ста увидел столб. Быстро подошел к нему и увидел цифру 242!!! Местность соответствовала описанию Семеновского, только лес за трассой лежал довольно далеко. На доске была отметка группы слесарей с Пищальниковым. Никаких условных камешков с записками под ними и палочек, указывающих направление, под столбом не было (это было условлено с Семеновским). Значит, его здесь не было, с ним что-то случилось.
Около столба за дорогой была густая трава и кустарники. Я сделал нашу условную отметку на доске – поставил буквы «Я» и «О», и мы залегли в густой траве около кустарника. Никто нас не ожидал. Мы решили после передышки идти дальше, но когда приподнялись, то увидели немецкий патруль человек из 8, идущий в том направлении, куда хотели идти и мы. Это нас остановило, и мы пролежали до вечера. Недалеко от нас по полю раза два проехали возы с сеном, но нас не заметили.
С наступлением сумерек мы отправились искать дом лесника, но найти его не могли. Здорово хотелось пить, и мы зашли в хату около леса и попросили пить. Но на нас посмотрели зверями и с питьем отказали. Недалеко от хаты мы напились из какого-то подозрительного болота. Среди ночи легли спать в каком-то небольшом леске, а утром, обнаружив неподалеку деревню, углубились в болотистые небольшие поляны с группами деревьев среди них. Орлов мне сказал, что больше не имеет сил идти, и лег на землю. Я вблизи этого места нашел много черники и принес ему полную кружку ягод, а сам отправился на разведку. Неподалеку в лесу нашел дорогу, а на ней заготовки лесных материалов. Дальше я идти побоялся и, повернув назад, встретил деревенскую девушку. Она мне сказала, что лес очень небольшой, недалеко косят сено, а в деревне, отсюда совсем близко, стоят немцы. Никакого дома лесника она не знает, хотя и родилась в этих местах.
Возвращаясь к Орлову, я спугнул двух молодых тетеревов, сидевших на суке, и пожалел, что со мной нет охотничьего ружья – я мог бы сразу насытить и себя, и Орлова…
Положение создавалось скверное, а главное – не хватало сил от голода. Мы решили все еще поискать дом лесника, может быть он тут, где-то рядом…
Под вечер мы опять вернулись к деревне и начали искать отдельный дом около опушки леса, как говорил Семеновский. Вдруг я заметил две фигуры. Мы спрятались. Фигуры приблизились, и оказалось, что это Тоня и Сережка. Мы взаимно очень обрадовались. Я даже сделал попытку испечь картофель, но мы боялись, чтобы костер нас не выдал – от него было много дыма. И картофель, очень маленькая, осталась сырой. Тоня, оказывается, ходила на разведку в деревню и узнала, что тут недавно были партизаны, но где они сейчас – неизвестно. Кругом много немцев. Дома лесника нет и не было.
Выход был один: идти на СВ и переходить через фронт, линия которого была сильно заминирована. Тоня принесла горшок молока, которое мы жадно выпили. И следующим вечером мы пошли по компасу, на север, через почти непроходимые болота, заваленные лесным полусгнившим ломом. Мы шли и шли. За болотом был густой лес с сильно заросшими травой полянками. Затем вышли на заросшие развалины деревни. Мне очень хотелось здесь устроить дневку, но мои спутники настаивали на движении вперед. Встречались какие-то странные, свежепротоптанные в густой траве дорожки, как будто прокатилось очень широкое колесо по густой траве. Несмотря на безлюдье, чувствовалось, что кто-то здесь бывает тайком.
За этой деревней были какие-то искусственные дорожки и молодые посадки сосны, затем полуразбитая узкоколейка, за которой мы и легли отдыхать.
Но отдых был недолговременным, начинался дождь. У меня была защищавшая меня плащ-палатка, но мои спутники не были защищены, и под дождем лучше идти, чем лежать, поэтому мы поднялись и пошли. Идти узкоколейкой нам было по пути, и она довольно быстро привела нас к торфоразработкам. В двух местах с края обширного пространства с деревьями шел дымок от тлеющего торфа. В расстоянии около двух километров виднелись рабочие бараки, над ними вился дымок. Место было опасное, нас легко могли заметить на этом открытом пространстве, но обходить его было чересчур далеко, и мы начали быстро двигаться через торфоразработки. При этом мы с Орловым два раза теряли наших спутников и потом опять их находили. Наконец, мы сошлись на запущенной железнодорожной насыпи, ведущей в лес. На склоне насыпи росла в изобилии малина, и мы ее жадно ели, но ее все же было мало – видно было, что кто-то ее обирает.
Через насыпь мы попали в невысокий лес и пошли лесной дорогой. Вдруг невдалеке послышались людские голоса и скрип телеги, и мы поспешили укрыться в густую посадку хвойных деревьев. Близко слышались голоса деревни. Ходу нам дальше не было – лес кончался, и впереди шло открытое пространство со строениями и людьми. Мы поневоле должны были дневать здесь.
Голод нестерпимо мучил, стоило только задремать, как сейчас же чудились пищевые продукты, мучительно близкие и в то же время недоступные. Мозг постоянно думал о пище и больше ни о чем. Этот кошмар прекращался только при движении, но сил оставалось очень мало, каждый шаг давался с трудом.
Вечером мы двинулись дальше. По нашим расчетам, до фронта было еще очень далеко, и для меня стало ясным, что при таком физическом состоянии до него мы с Орловым не дойдем. Нужно было найти пищу во что бы то ни стало. Среди ночи подошли к линии железной дороги, идущей от Смоленска в Витебск. Дорога усиленно охранялась. Через короткие промежутки времени поднимали кверху осветительные ракеты, и нам приходилось ложиться на землю, чтобы не быть замеченными. Попытка перехода ночью была весьма рискована, и мы решили дожидаться утра. Сухого места не было, все пространство около дороги было заболочено. Найдя какие-то бугорки, мы легли. Под нами выступала вода, было прохладно, но все же удалось задремать.
На рассвете мы поднялись, и я заявил товарищам, что больше им не попутчик, так как силы нет, двигаться дальше не могу, сделаю попытку достать пищу в ближайшем селе. Орлов присоединился ко мне, и мы расстались – в предрассветном тумане от нас ушли чуть заметные фигуры Тони и Сергея.
Недалеко от места нашей ночевки шло хорошо асфальтированное шоссе, и мы двинулись вдоль него. Километрах в двух на шоссе выходила большая деревня. Пройдя хаты 3-4, мы зашли в следующую хату, больше других, со скотными сараями. Хозяйка встретила нас неприветливо и заявила, что ничего не имеет. Дальше мы начали просить подряд без выбора, и всюду нам отказывали. Выходя из четвертой хаты, мы столкнулись с вооруженным полицейским, одетым в немецкую форму. Он, конечно, поджидал нас, встреча не была случайной, ему о нас сообщили наши любезные землячки, отказавшие нам в еде. Полицейский потребовал от нас документы, конечно, немецкие, и, конечно, их у нас не было. Тогда он повел нас к бургомистру.
Эта деревня оказалась селом Голынки с железнодорожной станцией того же названия. Здесь же был и немецкий комендант, вообще пункт был крупный. Ожидая прихода бургомистра мы узнали, что рядом имеется амбулатория с платным приемом. У женщины, охраняющей эту амбулаторию, было какое-то плохое кислое снятое молоко, и Орлов заплатил ей 35 марок за две кружки этого молока, которое мы с жадностью выпили. Наконец, пришел бургомистр, среднего роста плотный мужчина лет 38-40. За поясом у него висел в кобуре револьвер. Он хорошо говорил по-русски, культурным языком, и, как мы потом узнали, хорошо говорил по-немецки.
На его расспросы, кто мы и откуда, мы с Орловым, не скрывая истины и не говоря о других наших спутниках, сказали, что мы бежали из Смоленского лазарета и думали перейти через фронт. Он был очень изумлен нашим рассказом и тем, что мы в своих скитаниях не встречали партизан. Ему импонировало то, что один из нас был профессор, а другой врач. Он был с нами очень любезен и рассказал, что русские имеют успех под Орлом, и немцы отступают. Он спросил нас, что мы теперь желаем, на что мы ему ответили, что единственное наше желание – это перебраться через фронт к своим, на что он ответил, что должен отвести нас к немецкому коменданту, причем он приложит все усилия, ходатайствуя за нас в отношении облегчения нашей участи.
Приведя нас к коменданту, дом которого был расположен около железнодорожной станции, бургомистр оставил нас снаружи под надзором часового, а сам пошел говорить с комендантом. Мы его ждали довольно долго, и, наконец, вышел комендант с переводчиком и бургомистр.
Комендант также расспросил нас, кто мы, откуда бежали и с какой целью. Я не знаю, как ему переводили наши ответы переводчик и бургомистр, но этот выхоленный, хорошо одетый немец сказал, что он считает причиной нашего бегства недостаточно хорошее отношение к нам немецкого командования, что ему не понятно, почему нас держали все время за проволокой и что нас следовало бы давно выпустить из лагеря на частные квартиры и дать нам возможность заниматься частной практикой, обслуживать население и проч., тем более, что в лагере, конечно, с питанием было неудовлетворительно (последнее мы ему в нашем ответе подтвердили). Он нам сказал, что теперь, безусловно, мы будем существовать именно в частных квартирах и ни в коем случае нас не отправят за проволоку, конечно, при том условии, что мы не будем думать о бегстве. На последнее мы ответили несколько уклончиво, а именно, что после таких тяжелых условий нашего неудавшегося побега, у нас сейчас не может быть никаких мыслей о повторении такового (мы, действительно, от истощения еле могли двигаться).
В заключение комендант добавил, что у него здесь в Голынках нет для нас подходящей работы, но он нас отошлет в Рудню, где нам таковую работу дадут. После этого он распорядился дать нам поесть. Дали кофе, серый хлеб со студенистой массой, похожей на фруктовый мармелад без сахара.
Как только надзор за нами несколько ослаб, мы с Орловым поделились своими соображениями. Все как будто складывалось в нашу пользу: 1) Рудня была ближе к фронту, чем Голынки, Рудня была несколько северо-западнее, и [с] севера фронт в этом месте приближался; 2) будучи вне лагеря, мы в любой момент сможем удрать; 3) будучи вне лагеря, мы можем завязать связь с партизанами, которые в этом районе, безусловно, были, и их боялись немцы и полицаи; 4) будучи на частных квартирах, мы, безусловно, подкормимся, что даст нам возможность легко перенести даже трудные переходы при нашем повторном бегстве.
Вскоре за нами пришел переводчик и немецкий офицер, нас посадили в пассажирский вагон заграничного типа с входом в каждое купе снаружи. Сопровождал нас немецкий офицер.
В поезде ехали, главным образом, военные немцы, но было некоторое число и штатских немцев и русских.
Поезд довольно долго стоял в Голынках. За время его стоянки с востока подошел санитарный поезд, плотно наполненный тяжелоранеными лежачими немцами. Нам это хорошо было видно через окна. Койки для раненых были расположены одна над другой с максимальным использованием мест. Это на нас также произвело положительное впечатление – значит, крепко наши жмут на фронте.
Я забыл упомянуть, что после разговора с нами к немецкому коменданту Голынок пришло двое сельских – староста и агроном, – которые просили несколько задержать минирование полосы вдоль железной дороги до окончательной уборки урожая. Комендант на это согласился, только поставил очень короткий срок и при этом видимо волновался. Эти подготовления, опять-таки, указывали на некоторую слабость немцев, которые, очевидно, не исключали возможности успешного наступления русских и их появления в этих местах, а если это так, то нам возможно будет запрятаться в какую-нибудь щель и дождаться прихода своих.
Наконец, поезд тронулся. Шел он очень медленно, несомненно опасаясь возможного минирования полотна со стороны партизан.
Приехав в Рудню, сопровождавший нас офицер отвел нас в фельдкомендатуру и долго и довольно горячо беседовал с комендантом. В конце концов он раздраженно махнул рукой и ушел. Больше мы его не видали.
Рудненский комендант выделил для нас конвой, конвоир остановил одну из проезжавших грузовых машин, усадил нас в нее, и мы отъехали от Рудни километров на 5 на север по шоссе. При проезде нам встречались значительные группы гражданского населения под охраной немцев, исправлявшего шоссейную дорогу.
Нас высадили и повели влево от шоссе по проселочной дороге среди еще несжатых хлебов. Вскоре в ложбине мы увидели хорошо нам знакомую картину – наблюдательные вышки, три линии проволоки и ворота с часовыми. Вместо частных квартир, нас привели в лагерь для военнопленных в дер. Переволочье.
Перед нашим окончательным поселением в лагере нам учинил основательный допрос переводчик-немец, одетый в военную форму. Звали его Иван Иванович, он до 1921 года около 20 лет жил на Украине, ездил как коммивояжер, рекламируя товары различных фирм, женился на русской, которая во время гражданской войны умерла. В 1921 году он уехал в Германию, откуда до войны не уезжал.
Он пытался нас агитировать в пользу немцев, говоря, что русские смотрят на своих попавших в плен, хуже, чем на собак, и, если случайно кто-нибудь возвращается, то он попадает в лагерь ГПУ (он знал только старое название), откуда возврата нет. Все теряют гражданские права. Конвенции о военнопленных русских, в лице их представительницы в Швеции Коллонтай, подписывать не хотят, отказались от них совсем и проч., и проч.
Орлов с ним горячо спорил, я считал, что на спор не надо тратить своего запаса сил.
Наконец, нас отвели в отдельно стоящую на краю лагеря хатку, отделенную от лагеря проволокой и имеющую особо внимательную охрану. Общаться с другими обитателями лагеря нам было воспрещено, но несмотря на это, к нам ходило довольно много народа под видом ремонтных рабочих, несколько утеплявших эту ветхую хату перед наступлением холодного времени. Они жадно расспрашивали нас о бегстве, и все были крайне поражены, что мы за 13 дней не встретили партизан. От них мы узнали, что недалеко от лагеря оперируют партизанские отряды, и недавно несколько человек убежало через водосточную канаву, которую теперь также преградили решеткой. После этого бегства было нападение на немцев из лагеря, которые вместе с полицейскими и военнопленными выехали на двух машинах за дровами. При этом нападении несколько человек было убито и разбита одна машина. Среди нападавших партизан был один из бывших военнопленных, бежавший недавно через водосточную канаву.
Все это было бы весьма утешительно, если бы нам представилась хотя какая-нибудь возможность бежать, а таковой при создавшемся положении не предвиделось. Кормили нас совершенно недостаточно, у меня начались обычные непорядки с желудком, которые я раньше наблюдал в лагере в Смоленске у истощенных, кандидатов в покойники. Отек ног все увеличивался.
Время от времени при обходе лагеря к нам заходил комендант лагеря, иногда один, иногда в сопровождении немецкого врача. При этом всегда присутствовал и старый переводчик. Затем заходил переводчик и занес все данные о нас на особые регистрационные карты. Орлов все с ним спорил на политические темы, я старался уклониться от этих споров – разве можно было переубедить старого матерого фашиста- немца?
При первой попытке пройти к водяному насосу, расположенному вне зоны нашего специального заключения, нас чуть не пристрелил наблюдающий из будки полицай. Затем нам официально было разрешено умываться по утрам.
Такое безрадостное существование тянулось день за днем. Немного только ободрял иногда доносившийся до нас далекий гул фронтовых орудий…
Недели через две к нам зашел комендант в сопровождении врача и переводчика, и последний объяснил нам, чтобы мы готовились к переходу на жизнь в санчасть лагеря. Предварительно нас провели через санпропускник и затем отвели к врачам, находящимся в санчасти.
Здесь было 5 врачей:
– Олейников из Средней Азии, бывший компаньон Папанина при посещении последним в гражданскую войну крымских партизан.
– Пестяков – врач-терапевт одной из московских больниц.
– Сумароков – молодой московский врач.
Эта тройка считалась в штатах лагеря. Кроме того, было еще два молодых врача – Седов и Шилов.
Приняли нас хорошо и накормили вкусным обедом, с мясом, которого мы давно уже не пробовали.
Разместили нас четверых, не числящихся в штатах лагеря, в отдельном маленьком домике. Штатная тройка продолжала жить обособленно, питаясь отдельно от нас. У них были недоступные для нас возможности: платный прием больного населения. Плата натурой. Продажа (мена) населению украденного из пропускника белья и одежды. Кроме того, от них ходил имеющий свободный пропуск фельдшер, который снабжал за определенную мзду больных среди населения медикаментами из лагерного запаса. Контроль немцев в отношении белья, одежды и медикаментов был слаб.
Эта тройка каждый день имела молоко, мясо и проч., часто выпивала допьяна. Нам они уделяли небольшое количество картофеля, который мы сами варили и скупо делили по утрам. По существу, мы опять оказались на весьма голодном пайке.
Седов и Шилов много спали, и этим сохраняли свою энергию. Мы с Орловым так много спать не могли. Утешительно было то, что мы не мерзли, из запасов санчасти нам выдали по два теплых одеяла.
В лагере, кроме военнопленных, находилось еще некоторое количество гражданского населения – родственники партизан, учительницы, которых подозревали в сношениях с партизанами, и др. Это-то население лагеря мы и видели на работах по исправлению шоссе.
В санчасти было три девушки-фельдшера. Но к ним часто ходили в гости немцы, и мы чувствовали к ним большое недоверие.
Мысль о бегстве все чаще жгла нас, но бежать здесь было труднее, чем в Смоленске.
Мы были люди новые, лагерного населения не знали – кто чем дышит, кому можно верить. Никакой лазейки не было, охрана была очень бдительна, каждые два часа часовые сменялись. К тройному ряду проволоки, окружающей лагерь, незамеченным можно было подойти только в одном месте – около хатки, где содержалось гражданское население. Но здесь был постоянный охранный пост.
Я часто выходил из дома по ночам, стараясь войти в курс ночной жизни, найти какие-либо слабые стороны охраны лагеря, но таковых не находил. Всегда ходили вдоль проволоки часовые близко друг от друга и часто перекликались. Все это мне крепко не нравилось.
Я и Орлов, мы оба, продолжали вести агитацию побега среди врачей. Мы говорили, что вот мы – старики – и то имели силы и мужество бежать из Смоленска, это наше несчастье, что мы не встретили партизан, а здесь, наверное, есть партизаны. И стыдно вести такой шкурный, трусливый образ жизни, ничего не предпринимая.
Врачи отмалчивались, но не выдавали и не протестовали.
Девушки военнопленные из медчасти сами как-то заговорили о необходимости побега. Они просили меня включить и их в число желающих бежать и уведомить о бегстве своевременно. Но мы им не верили – чересчур уж они были близки с немцами. Мы старались избегать разговоров с ними, в особенности на темы о бегстве. Я говорил им, что это, вообще говоря, невозможно.
Однажды вечером ко мне подошел врач Сумароков и тихо спросил, побегу ли я с ними. Я сказал, что мой ответ всегда может быть только положительным. Тогда он спросил, а как же я пойду, когда у меня отекают ноги? Я рассмеялся и сказал, что я – лучший ходок, чем кто-либо из них, а если мне будет плохо, то они просто оставят меня одного где-нибудь в лесу, а сами пойдут дальше. Одним словом, обо мне беспокоиться нечего.
Вскоре я был посвящен в план бегства. Он состоял в следующем: в лагере имелся переводчик с немецкой фамилией, он за последнее время часто ходил к нам и делился всеми новостями, какие только ему удавалось узнать из газет или по слухам. Он оказался вовсе не немцем, а чистым украинцем, который когда-то закончил немецкую школу, и потому свободно говорил по-немецки. Немецкую фамилию он себе присвоил, чтобы у немцев не было в отношении его какого-либо подозрения.
Этот переводчик сагитировал молодого парня, украинца-полицейского. Подсчитали дни и высчитали, что этот парень будет стоять на охране лагеря от 22 до 24 часов 28/VIII 1943 г. как раз за хаткой, к которой можно было незаметно подойти. Он даст возможность подрезать проволоку.
Сумароков предполагал взять с собой двух девушек-учительниц из местных сел, которые знали, где можно искать партизан.
День 28 августа приближался и, наконец, наступил. Нам как будто все благоприятствовало. К немцам приехали какие-то гости из других частей, и они начали выпивать и веселиться. Небо хмурилось, приближалась гроза. Стемнело быстро и сильно. Вооружившись ножницами для удаления гипсовых повязок (на этих ножницах было приспособление для резки проволоки), Сумароков и Шилов в темноте поползли к намеченному пункту и бесшумно скрылись.
Накрапывал мелкий дождик, сверкали молнии, слышался далекий гром. Один за другим мы проскальзывали в открытую для нашего бегства дверь безлюдного санпропускника, пройдя через который, из другой двери можно было выйти ближе к нужному нам пункту, минуя один ряд внутреннего проволочного заграждения.
В пропускнике было очень темно, входили незнакомые мне люди. Одного я узнал. Это был врач Пестяков с каким-то свертком в руках. Он очень боялся создавшегося положения и при каждом шуме буквально трепетал.
Мы все сгрудились у выходной двери. У переводчика была в руках винтовка, выкраденная у охраны. Ждать долго было опасно. Быстро в темноту скользнуло двое, за ними я и за мной – Орлов.
Мы бежали быстро, нагнувшись насколько возможно, и добежали до проволочных внутрилагерных ворот, которые предупредительно были открыты для нас. Отсюда мы ползком добрались до домика и внезапно услышали рядом немецкую речь. На наше счастье около домика была выкопана траншея-бомбоубежище, куда мы и свалились один за другим. Еще бы секунда, и нас бы заметили – по ту сторону шел немецкий обход с ручными электрическими фонариками. Они были навеселе, громко разговаривали и смеялись, но вскоре обратили внимание на растерянный вид полицейского-украинца, который должен был выпустить нас. Он был потому растерян, что проволока внизу уже была перерезана, что можно было заметить, внимательно вглядевшись. Но немцы этого не сообразили, они думали, что он боится наступающей грозы, а один из немцев сделал предположение, что полицейский занимался флиртом через проволоку с заключенными в домике женщинами из гражданского населения… Посмеялись немцы, посветили немного на проволоку фонариками и пошли дальше, а мы один за другим полезли под проволокой. Проволоки подрезано было немного, проползать было трудно, спина цеплялась за верхний ряд, полицейский старался приподымать этот ряд как можно выше и при этом шепотом ругался последними словами… Натянутая проволока звенела, когда ее задевали.
Вот мы все благополучно пролезли и отбежали к близко стоящей хате, у которой и столпились. Не было с нами Сумарокова, Шилова и Пестякова, а также тех двух девушек, которые должны были указать нам место пребывания партизан. Мы осторожно окликнули в нескольких местах по имени отсутствующих, но никто не отзывался. Полицейский, рискуя, тоже поджидал их прихода на своем посту, он потом сообщил нам, что молодые врачи прошли первыми, а девушек и Пестякова не было.
В домах охраны блестел свет, слышались пьяные немецкие возгласы, по линии проволочных рядов, окружающих лагерь, вспыхивали огоньки от ручных электрических фонариков, и перекликалась охрана.
Внезапно вблизи показалась фигура бегущего полицейского, который громким шепотом сообщил нам, что подходит проверка – патруль, он оставил свой пост, и сейчас за ним могут прибежать полицейские. Ждать дальше мы не могли и быстро начали уходить, причем одна половина пошла за Олейниковым прямо от лагеря, а другая, в том числе и я, - за переводчиком на гору (лагерь лежал в ложбине), правой дорожкой. Шли мы очень быстро, насколько позволяла сильная темнота, и вскоре вышли на гору. Здесь мы остановились и сообразили, что вторая наша половина партии для нас утеряна, а у них были какие-то данные относительно местопребывания партизан.
В нашей группе были следующие лица: переводчик, полицейский (выпустивший нас), врач Седов, неизвестный мне работник лагерного пищеблока, Орлов и я. Но где же нам искать остальных товарищей по бегству?
Я подал мысль, что, быть может, они придут в полуразрушенный домик, стоящий на горе, и переводчик подтвердил, что этот домик был в плане бегства вначале намечен как сборный пункт. Надо было идти одним.
Переводчик сказал, что он знает дорогу к тем местам, где партизаны напали на партию из лагеря, выехавшую на лесозаготовки.
Мы, следуя за ним, прошли через пашню и вышли на укатанную дорогу, которой и пошли дальше. Отойдя около 2-х километров, мы свернули в сторону вдоль довольно длинного озера. Некоторые захотели напиться. В это время за озером из лежавшей там какой-то деревни раздалась пулеметная очередь и было выпущено несколько трассирующих красных пуль, а затем взвились три ракеты, одна за другой.
Мы легли на землю. Почему такая тревога? Надо полагать, что ищут нас. Как только опять наступил мрак, мы быстро зашагали от озера, прошли немного по какой-то дороге, затем свернули в сторону, попали в заболоченное место, затем в мелкий лесок. Дождь пошел сильнее, идти в такой полной темноте не было никакой возможности – в одном шаге ничего не было видно.
Мы сели на землю. Меня спасала моя плащ-палатка, другие здорово мокли. Сидели долго, наконец начало светать. Недалеко была деревня, мы были на дороге среди мелкого леса.
Почти бегом мы вышли из леса и пошли на северо-запад. Среди равнины шли гряды холмов, покрытых лесом, местами под холмами были небольшие озерца. Лес был негустой, местами [шли] попутные тропинки. В одном месте на густой траве был след, крепко утоптанный, шириной около 0,5 метров, недавно проложенный – уж не партизаны ли его проложили?
Занимался день. Надо было выбирать на день укромное место. Перешли мостик через мелкую речку, обошли какую-то деревню и начали углубляться в большой сосновый лес. Проходя мимо строений, увидели какого-то человека, но не немца. Признак нехороший, значит, и он нас видел…
В лесу было холодно, одежда была мокрая. Несмотря на мои и Орлова предупреждения, развели костер и просушились. Загасили костер и легли отдыхать. День разошелся, показалось солнце.
Мы выползли на опушку леса погреться на солнышке. На обширное пространство, окруженное лесом и покрытое какими-то разросшимися, одичавшими травами, приехало несколько возов за сеном, с возами было несколько малых ребятишек, но они боялись углубиться в лес.
По другую сторону леса время от времени раздавались выстрелы, мы потом по ряду признаков решили, что это – стоянка полицейского поста. Но никто оттуда не пришел за весь этот день.
Начало смеркаться, мы двинулись дальше. Прошли благополучно мимо поста, оттуда временами раздавался собачий лай, и пошли полями.
Было очень обидно, что имея все данные для организации толкового побега и нахождения партизан, все это не было сделано как следует, и мы шли вслепую, как и при первом побеге.
По дороге набрали на поле картофеля, надеясь его сварить. Седов очень быстро уставал, но все же он вел всех нас, имея на руках компас и консультируясь с переводчиком. Под утро он наотрез отказался идти дальше, и мы решили пару часов вздремнуть. Земля была чертовски холодная, нашли какие-то крохи соломы, но это не согревало. Несмотря на холод, некоторые захрапели, но эта ночевка была совершенно неприемлема. Мы опять поднялись, чтобы в ходьбе хоть немного согреться, и меньше, чем в 200 метрах, нашли стог сена, в который и зарылись, и вовремя – начался дождь. В сене было тепло, и удалось чуть-чуть вздремнуть.
Во время нашего неудачного привала без сена – невдалеке от нас, очевидно, был какой-то населенный пункт – близко слышалась стрельба из автомата, чем обычно занимаются немецкие часовые (а также русские полицейские, служащие у немцев). Когда мы лежали в копне сена, эти очереди слышались значительно дальше.
Начало светать, надо было покидать наш теплый приют. Мы опять углубились в лес и невдалеке, в овраге зажгли костер и начали чистить картошку, как вдруг по деревьям защелкали пули от автоматной очереди – несомненно, стреляли по дыму от нашего костра.
Мы быстро собрали картофель и начали уходить, но идти было некуда, лес кончался, через луговую низину начинался другой лесок. В низине стояло строение – деревянная запущенная баня без окон. Мы забрались в нее и посидели около часа, затем перешли в другой лесок и развели там огонь. Картофель уже была почищена, и первая порция в котелке быстро была готова. Эту порцию получил я и Орлов. Начали варить вторую порцию – опять то же – автоматическая очередь по нашему костру… Мы схватились и начали уходить, но куда? Прошмыгнули опушкой, идя обратно, миновали баньку и легли в купках невысоких кустарников.
Не прошло и полчаса, как послышались женские голоса, и в поле нашего зрения показались две женщины. Мы решили задержать их и расспросить. Они крепко испугались. Мы ничего не скрывали, и женщина постарше, наконец, решила поверить нам. Они рассказали, что в этих местах, действительно, оперируют партизаны, что их можно найти в лесу около бывшего колхоза им. «МОПР»а и указала нам направление. Недалеко от нашего местопребывания была большая деревня, мимо которой нам следовало пройти.
Дождавшись до вечерних сумерек, мы опять двинулись в путь. На опушке леса около деревни услыхали мужские голоса, переждали и пошли дальше. Прошли за деревню и послали меня и работника пищеблока на разведку в крайнюю хату.
Там мы нашли женщину средних лет, которая дала нам кусок хлеба и указала путь к колхозу МОПРа, куда было не более 5 километров.
Прошли мы 5 километров и даже более – никакого МОПРа нет… Вернулись обратно, и двое других пошли расспросить о дороге.
Вернулись они с такими новостями: молодая женщина, в дом которой они зашли, очень хорошо отнеслась к ним. Она сказала, чтобы мы ни в коем случае не шли в МОПР, так как туда направился значительный отряд немцев и власовцев для засады на партизан. Идти туда – верная смерть. Хорошо, что мы не нашли дороги…
Она советовала вернуться несколько назад, в деревню Маташево (Скорее, Матушево – так дает современная карта [прим. ОИЯ]), и при этом уверенно сказала, что мы там встретим партизан.
Вот мы двигаемся в Маташево, сбиваемся с дороги, опять находим ее. Вот деревня. Двое заходят на разведку в ближайшую хату, а выходят из хаты шестеро, из которых четверо с автоматами…
Мои спутники прыснули в кусты. Я же остался на месте в твердой уверенности, что это – партизаны. Действительно, это были свои ребята!!! Разведка первого отряда 14-ой партизанской бригады Вишнева, а командовал разведкой Першиков – замечательный парень!
Они встретили нас как родных и обещали доставить в бригаду к Вишневу не позже, чем через 1-2 суток. Наконец-то нам повезло!
После того, как эти ребята крепко пожали нам руки, Першиков спросил, не нагуляли ли мы аппетит за время нашего путешествия, и, получив утвердительный ответ, так как мы были голодны как звери, развел нас по ближайшим хатам, приказав хозяевам срочно нас накормить, что те и выполнили за счет молочных продуктов и хлеба.
Это село было партизанское, т.к. из него многие ушли в партизаны, и население было свое, без предателей.
После кормежки он вывел нас из деревни и привел к большому дубу, стоящему несколько в стороне от дороги и окруженному кустами. Отсюда удобно можно было наблюдать за окрестностями, и это место служило явочным пунктом для партизан 1-го отряда. Здесь надо было подождать до вечера, а вечером присоединиться к отряду. Время проходило в рассказах о недавних приключениях, которых у Першикова и др. партизан было больше, чем у нас. Седов вытащил хорошие игральные карты, захваченные из лагеря, и молодые люди с увлечением начали играть в дурака.
Вдруг кусты раздвинулись, и показалось перепуганное лицо крестьянина. «Что вы делаете, - громким шепотом сказал он, - сюда подходят власовцы, их не менее 60 человек, с ними пулеметы»!
Першиков сейчас же выполз из кустов на разведку и, убедившись в справедливости сказанного, сказал нам нагнуться и быстро следовать за ним.
Незаметной ложбиной он провел нас к опушке небольшого, но густого леса, с краю которого была довольно высокая горка, обросшая деревьями. На ее вершину мы и забрались. Отсюда нам было все видно, а нас не заметно.
Игра в карты продолжалась, Першиков все время проигрывал, но не сердился. Он много рассказывал о взрывах немецких поездов, которые он проделывал не раз. За леском, по шоссе временами проносились немецкие автомашины и мотоциклы, стук клапанов которых нам был хорошо слышен. Першиков был вполне спокоен, и его спокойствие передавалось нам.
Часа через три он опять вывел нас к тому же дубу и усадил. Подходили новые партизаны и знакомились с нами. Нас еще подкормили хлебом с маслом, принесли двух овец на ужин. Народ менялся, одни приходили, другие уходили. Разведка показала, что власовцы ушли далеко. Партизаны рассказывали, что власовцы ведут разговоры о сдаче с оружием в руках, но дальше разговоров это дело не двигается, и верить им нельзя.
Мы, в свою очередь, рассказали Першикову, что в этих местах должна быть вторая половина беглецов из лагеря, и он сейчас же принял меры к их розыску, давши соответствующие указания нескольким партизанам. Он уверял, что к вечеру их партизаны найдут, он был в этом уверен.
Еще засветло он привел нас к стоянке отряда, которым командовал комиссар бригады, очень толковый человек лет 30-33-х, бывший шофер. Здесь нас угостили очень сытным обедом с большим количеством баранины. Комиссар предупредил, чтобы мы были осторожны, чтобы не расстроить своего пищеварения, но мы не ели, а просто жрали – ведь столько времени мы не видели сытной пищи! Нехороших последствий не было.
Ночью партизаны привели нашу вторую партию бежавших, но с ними не было ни Сумарокова, ни Шилова. Об этом мы также сказали партизанам.
На рассвете мы тронулись в путь в направлении штаба бригады. Вышли из леса долиной, травами, растянувшись гуськом. Не успели мы пройти и километра, как на месте нашей ночной стоянки раздалась пулеметная стрельба – это немецкие прихвостни или сами немцы обстреливали остатки наших костров.
За нами на траве остался ясный след – свежая тропинка смятой травы – ведь во время нашего первого бегства, да и во время второго мы видели такие тропки – это, должно быть, был партизанский след, недаром меня так тянуло пойти по ним! Но вели нас так, что только опытный следопыт мог бы проследить – мы сворачивали на другие тропинки, которых было немало.
Часа через три пришли в сосновый лес, на опушке которого было несколько подобий шалашей, прикрытых сверху от дождя очень широкими полосами коры. Здесь некоторое время назад стоял штаб бригады, но его немцы обнаружили и пытались захватить врасплох. Но им этого не удалось, и они потеряли несколько человек убитыми. Штаб перешел в другое место.
Здесь мы устроили дневку и вечером уже расположились на ночлег, как пришел разведчик и раздалась команда собираться для ухода. Об этом было сказано и Седову, который ответил «сейчас» и повернулся на другой бок. Когда мы собрались, его не было, и я сказал Олейникову, его компаньону по шалашу, чтобы он его немедленно привел.
Олейников же возразил, что Седов укладывает вещи и сейчас будет, беспокоиться нечего. Затем начался быстрый переход в сумерках. На ходу пили какую-то болотную плохую воду, некоторые через платок, чтобы не наглотаться ряски.
Наконец, вышли на широкую тропу – след бригады. Затем попали в густой лесок на горке среди равнины, в которой горел костер партизанских разведчиков. Мы их захватили и пошли дальше.
Затем вошли в большую деревню и, пройдя ее, попали в систему небольших густых молодых лесков, в одном из которых и стоял штаб бригады. Было уже поздно, командование бригады приказало нам заночевать. Спать было холодно, земля была голая. Засыпая, я слышал, что партизаны говорили о нашей партии беглецов, что эта партия очень нехорошая. Почему?
Утром нам на 12 человек выдали две бараньих туши и мешок картошки. Дали и котел для варки. Предупредили, чтобы мы жгли только сухой орешник, которого было довольно много, так как он вымерз в зиму 1941-1942 гг. От него не было дыма.
Я принял участие в приготовлении еды. Нас одного за другим вызывали на расспросы в штаб. Вызвали и меня. Расспрашивали трое – командир бригады Вишнев, комиссар (только другой, недавно переведенный в бригаду) и начальник штаба бригады. Расспрашивали подробно, но по-дружески. Особенно много вопросов было о двух полицейских, бежавших вместе с нами. Я даже не знал, что со второй партией, с Олейниковым, бежал еще один полицейский.
Затем мы сели есть. Обед был готов и был очень вкусным. Рядом со мной сел тот полицейский, о котором было много вопросов в штабе. Это был среднего роста, очень хорошо упитанный и хорошо одетый молодой человек лет 25-28. И все вещи у него были отличные. Ели мы все из одного котелка, так как тарелок у партизан нет.
Не успели мы начать еду, как сзади полицейского появилось двое партизан с автоматами и сказали ему, что он арестован и пусть сдаст все вещи, которые имеются у него в карманах. После этого они повели его в штаб, а минуты через две посланный из штаба приказал нам всем прервать еду и следовать за ним.
Нас выстроили на полянке, перед нами поставили полицейского со связанными сзади руками и прочли смертный приговор. Он обвинялся в том, что поступил на службу к немцам, и, будучи до лагеря в Переволочьи, в другом [лагере?], более восточно расположенном (в Сычевке), выполнял обязанности палача в отношении русских военнопленных. Оказывается, его опознали некоторые из партизан, и он не отрицал ни одного пункта обвинения. Он только успел крикнуть: «Я хочу искупить свою вину!», его повернули к нам спиной, и в тот же момент в упор выстрелил ему в затылок арестовавший его партизан. Выстрелил он из 10-зарядной винтовки особым беззвучным патроном так, что раздался громкий лязг затвора, и полицейский свалился как сноп.
К вечеру этого дня нас, врачей, распределили по трем отрядам бригады, меня – во II отряд, Орлова – в I и Олейникова – в III. Всех молодых, в том числе и врача Седова, оставили при I-ом отряде, и они присоединились к группе Першикова (Седов явился к вечеру очень сердитый на своего компаньона Олейникова. Оказывается, Седов по привычке к длительному и частому сну в то время, как мы собирались накануне выходить в ночной поход, крепко заснул и проснулся только утром в полном одиночестве. На его счастье каких-то два партизана заглянули днем в эти места и привели его в штаб бригады).
У меня началось довольно скучное существование – этот второй отряд состоял главным образом из людей местного происхождения. Они отлично знали местность, но были бездеятельны, боясь опасности и активных действий. С некоторыми из них были жены. Командир жил в палатке с женой, которая в скором времени должна была стать матерью. При отряде была одна реквизированная корова, молоко от которой шло на питание командиру отряда и его жене.
Все отряды стояли в непосредственной близости друг от друга. Они завели поразительную грязь не только кругом своей стоянки, но и в самой стоянке. В этом отношении особенно отличался второй отряд – все отбросы, начиная с овечьих ног и голов, которые они выбрасывали тут же, среди стоянки, начинали портиться и издавать зловоние. За своей нуждой им также было лень уйти подальше. Я начал с этим борьбу, но не мог добиться каких-либо больших сдвигов.
Днем отсыпались, ночью шли в караулы, на разведку, на задания, для сбора продовольствия в окрестных селах. Все это партизаны II отряда выполняли с успехом, но когда им дали задание взорвать воинский эшелон, они его не выполнили. Отряд № 1 отличался от отряда № 2 – в нем было много красноармейцев, бежавших из плена или спрятавшихся в лесах при окружении. Они действовали значительно увереннее и смелее. Например, Першиков с нашими молодыми ребятами взорвал немецкий эшелон дня через 3-4 после нашего прибытия в штаб бригады.
Об этом деле так рассказывал бывший переводчик. Ночью они с большими предосторожностями медленно подползли к линии железной дороги. Линия крепко охранялась. Первое, на что они наткнулись – это был ствол пулемета, торчавший из отверстия (амбразуры) ДОТа. От него они поспешили отползти и вскоре услышали немецкую речь – вдоль линии шел патруль. По временам зажигались осветительные ракеты, от которых немедленно следовало спрятаться.
Навстречу патрулю, вдали, показались огни паровоза того эшелона, который следовало взорвать. Першиков дал пройти патрулю, и сейчас же за его проходом партизаны выползли на полотно и заложили под рельсы тол, после чего с предельной быстротой кинулись от насыпи, так как поезд был совсем близко. Раздался грохот взрыва, лязг и скрежет железа, оглушившие партизан, после этого они бросились бежать прямо через деревню, близко примыкавшую в этом месте к полотну, бежали, не разбирая дороги через огороды, напрямик. Скрылись удачно – немцы никого не захватили. На счету у Першикова это был не первый эшелон.
Дня через три нас, беглецов из Переволочья, потребовали для опознания одного явившегося к партизанам человека – это оказался врач Сумароков.
История его была такова: он вместе с Жилиным прорезал проволоку и вылез из лагеря в Переволочье. Затем им показалось, что началась какая-то тревога, и они несколько далеко отошли от лагеря. Общего массового выхода они не видели, нас, их окликавших, не слышали и пошли странствовать вдвоем. В конце концов попали на какое- то болото, Жилин по привычке (вроде Седова) залег спать, а Сумароков, оставив около Жилина свою стеганую куртку, сапоги и шапку, отправился за ягодами, поел их и набрал для Жилина, а найти Жилина опять не мог. Он даже попробовал кричать, но никто не откликался, возможно, что сон у Жилина был так же крепок, как у Седова. Одним словом, в конечном результате Сумароков вышел к деревне, около которой стоял штаб бригады, и ему кто-то указал, где партизаны.
Сумарокова оставили в другой бригаде, стоявшей недалеко от нашей 14-ой. Однажды мне пришлось принять участие в реквизиции пищевых продуктов у местного населения. Это, конечно, происходило ночью. Наш отряд сразу рассыпался группами по 3-4 человека по всей деревне. На особом счету были семьи, члены которых каким-либо образом сотрудничали с немцами, – у них отбирали наиболее ценное, в том числе, и носильные вещи. Когда брали живность (например, овец) у крестьян, то говорили, что при отступлении немцы все равно им этого не оставят.
(Да, что немцы, что партизаны – все активно грабили и без того нищее население. Ни одни, ни другие ничего не производили, только поглощали продукты, а бедным крестьянам надо было и с голода не помереть, и не попасть под шальную пулю той или иной стороны! Не уверена, что те крестьяне, родные которых не были в партизанах, были счастливы из-за такой раскладки… И еще вопрос: после свободы и вольницы партизанам трудно было вписаться в режим обычной жизни. Интересно, преследовал ли партизан НКВД, чтобы после войны не осталось островков независимости – ничего об этом не знаю, но, судя по стилю жизни того времени, такая мысль просто напрашивается. Возможно, партизан довольно быстро включили в регулярную армию, когда она дошла до партизанских территорий, тогда их там приучили к подчинению… [прим. ОИЯ])
Партизаны злоупотребили мясом, и оно им основательно приелось. Я вел агитацию за то, чтобы при сборе продовольствия брали побольше картофеля. Моя агитация имела успех.
При штабе бригады была своя радиостанция для связи с нашими фронтовыми частями. Однако радистам никак не удавалось установить эту связь, плохо работали аккумуляторы. В конечном результате все же эту связь установили, и фронт сообщил, что будет прислан для связи самолет. До этого времени всю корреспонденцию направляли в далекий партизанский отряд за Двину, который имел постоянную самолетную связь с большой землей. Я также отправил первое письмо к своим, в Москву.
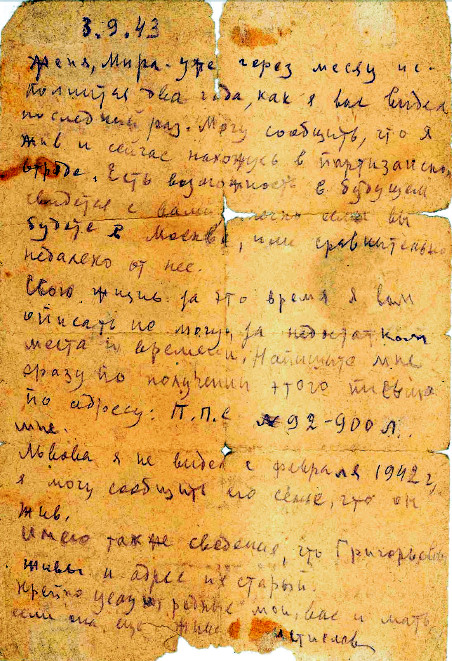 |
Письмо из партизанского отряда |
 |
Обложка письма |
Ночью, когда пылали огромные костры среди леса и в самом разгаре было приготовление пищи, раздался быстро приближающийся шум самолета. Чей самолет, немецкий разведчик или свой? По звуку отличить не могли. Как будто бы У-2, а может быть и нет? Загасить костры за такой короткий срок было невозможно. Над ними натянули одеяла и другие вещи, но их все же сверху было отлично видно. Самолет с низким гулом низко пролетел над нашим лесом и улетел обратно. Но ведь он не мог и приземлиться, посадочной площадки приготовлено не было.
Опять связались с фронтом, оказывается, самолет был наш. Фронт ругался, зачем не подготовили площадки, обещали еще раз прилететь.
Мы, врачи, обратились к командованию бригады с просьбой дать нам возможность перелететь на самолете на Большую Землю, так как мы здесь, в бригаде, не нужны, имеется у них свой леком, и тому делать нечего, так как перевязочных материалов и медикаментов почти нет, ранения редкие, народу мало – всего 140 человек, зачем им такое количество врачей? Командование согласилось с нашими доводами и обещало при первой оказии усадить нас в самолет.
Появились два новых человека, которые каким-то образом нашли штаб бригады и явились почти одновременно. Это были плотные, хорошо упитанные люди, довольно хорошо одетые в русское военное платье. Они говорили, что не знакомы друг с другом и все эти годы после окружения жили в деревне – нашли себе молодых хозяек, а теперь желают воевать вместе с партизанами. В прошлом они будто бы были командирами Красной Армии.
Устроили, как будто случайно, их встречу и незаметно наблюдали, как они будут вести себя – оказываются, они друг друга знают. Вдобавок были получены сведения от глубокой разведки – от тех жителей, которые жили с немцами и власовцами, что в отряд немцами послано два разведчика не то из власовцев, не то из полицейских.
После допроса в штабе бригады оба эти субъекта были расстреляны. Одного из них я видел незадолго до расстрела. Он подошел к нашему костру и с большим апломбом начал говорить о своей бывшей службе в Красной Армии.
Вскоре после этого расстрела были получены тревожные вести. Немцы и власовцы направились на розыски нашей бригады. Вдали слышался треск пулеметов, даже слышно было их утром и днем.
Партизаны уверяли, что для того, чтобы их окружить и уничтожить, нужно не менее дивизии. Года полтора или год назад они сумели прорваться даже через сравнительно плотное окружение силами более дивизии. Были потери, но основное ядро все же вышло из окружения.
В те времена фронт еще не представлял такой сплошной линии, как потом, и были продухи, через которые партизаны ухитрялись прогонять скот и провозить брошенные в полях русскими войсками автомашины, тягачи и даже танки. Одновременно с этим проходило на большую землю и большое количество населения, главным образом, молодежь.
Только живя с партизанами, я уразумел, как много значат эти сравнительно мелкие отряды плохо вооруженных людей. При наличии каких-нибудь 2-3 сотен партизан, немцы должны иметь несколько тысяч человек охраны линий железной дороги, шоссе, складов и населенных пунктов. Везде можно было ожидать удара – взрыва, нападения. С наступлением сумерек движение прекращалось, немцы прятались в населенные пункты под охрану сторожевого охранения, вооруженного автоматами и пулеметами. Для того, чтобы показать, что охрана еще не заснула, сторожевые время от времени стреляли короткими очередями. И все же этой охраны было не достаточно – партизаны делали свое дело, крепко тревожа тылы немецких армий, взрывая эшелоны, сжигая склады, уничтожая отдельные небольшие группы немцев. Население, получая приказы немцев, боялись их выполнять, собранные продукты уничтожались и т.д. Великолепное знание местности помогало партизанам в их деятельности.
В настоящее время, получивши тревожные сведения, партизаны решили переменить место стоянки – на данном месте они стояли больше 10 дней – срок очень большой. Вся бригада пошла цепочкой, растянувшейся более, чем на километр, вытаптывая узкую тропку. Такие тропки мы видели при своих скитаниях в поисках партизан. Шли низкими местами, кустарниками, высокими травами, иногда делали совершенно неожиданные повороты. Шли днем, но, конечно, никого не встречалось из местных жителей – при немцах они выходили из деревень только для совершения каких- нибудь сельскохозяйственных работ и выходили не в одиночку, а группами.
Наконец, мы пришли в прекрасный хвойный лесок (больших лесов в этой местности нет), расположенный по моим расчетам в одном-полутора километрах от деревни, которая оказалась колхозом им. МОПРа, в которую мы когда-то счастливо не попали, так как в ней тогда был немецкий отряд.
Под пушистым мхом я сразу нашел несколько белых грибов. Вода была близко – какой-то полуразрушенный колодец и около него остатки дома. Среди леса была небольшая полянка с неубранной травой – покосами в этой местности крестьяне почти не занимались.
Приятно было прийти на место чистое, не загаженное еще отбросами лагеря. В первую же ночь на покрытую травой площадку рядом с лесом опустился самолет, который взял двух людей из отряда.
Партизаны ощущали большой недостаток в патронах для автоматов и в обуви – в ближайший прилет самолета должны были привезти это партизанам. Командир бригады обещал отправить нас с возвращающимися порожняком самолетами.
Я изобрел способ согреться ночью – мох под деревьями был густой и сухой и снимался пластами. Я подстелил вниз много мха, сделал из сучьев защиту от ветра и наложил несколько пластов мха на себя – сразу стало тепло.
Приготовив себе ужин из жирной баранины с картошкой (я приобрел временно для этой цели старую жестяную большую банку) и угостив своим ужином еще двух партизан, я уже начал засыпать на своей твердой постели, как вдруг послышался гул приближающегося самолета. Мои доброжелатели из отряда сразу же прибежали ко мне и посоветовали быстро идти на импровизированный аэродром. Однако, будучи человеком дисциплинированным, я зашел к командиру отряда и спросил его, нужно ли мне идти или ждать его приказа. Командир был занят какими-то сборами личного порядка и сказал, что мне сообщат, если только самолеты смогут взять нас, врачей.
Однако мои доброжелатели посоветовали мне не слушать его – оказывается, он хотел отправить на большую землю свою жену и боялся, что из-за врачей ее не возьмут. Я пошел к штабу бригады и нашел там только одного штабного работника – ни командира бригады, ни комиссара не было. Профессор Орлов уже отправился на аэродром, ничего не сказав мне и Олейникову, который почти одновременно со мной пришел к штабу бригады. У меня зародилась горькая мысль о плохих товарищах – ведь все же я вывел Орлова из Смоленска и много сделал для него, а при первом же случае он бросил меня и ушел один.
Несколько человек еще шли на аэродром, и мы с Олейниковым поспешили туда же. Там было выставлено на углах охранение с пулеметами, принимала самолеты небольшая группа во главе с командиром и комиссаром.
Курсировало два самолета, они привозили сапоги и патроны, а вывозили партизанских жен, в том числе и жену командира бригады Вишнева, красивую, крепкую молодую женщину. Были еще некоторые партизаны, по тем или иным причинам желающие отправиться на большую землю.
Все же командир бригады обещал нас отправить. При отправке Олейникову сменили прекрасные сапоги на дырявые – ведь он быстро приобретет на большой земле другие. Я отдал свою плащ-палатку, а самопишущую ручку и перочинный ножик я подарил комиссару.
При приближении самолетов зажигали пучки соломы на углах посадочной площадки, самолет катился по густой траве и быстро останавливался. Курсировало два самолета. При третьей, последней посадке последний самолет взял меня и Олейникова. Я сел позади пилота, Олейников свернулся сзади меня в багажнике.
Зашумел пропеллер, самолет все ускорял свой ход, быстро катился по высокой сухой траве, незаметно оторвался от земли, и низкий лесок начал уходить назад у нас под ногами. Была половина второго, сзади и несколько сбоку светила полная луна, хорошо освещая землю.
Летчик30 обернулся ко мне и улыбнулся, сверкнув белыми ровными зубами. У него было хорошее, приятное, молодое лицо. (Я теперь думаю, что это была женщина [прим. Мстислава Владимировича]) В ответ я тоже радостно улыбнулся – теперь весь кошмар немецкой неволи остался окончательно позади, и если даже нас собьют при перелете, то все же я погибну свободным на своем родном самолете, на котором я чувствовал себя уже находящимся на большой земле.
Впереди и несколько правее мигал авиамаяк, против него, левее горел большой костер, на который мы и летели. Около костра были какие-то люди, которые, услыхав шум нашего самолета, быстро убежали под защиту каких-то кустов. Дальше были видны при свете подымающихся ракет, прифронтовые сооружения, вспыхивали огни. По направлению нашего самолета вытянулась полоса красных трассирующих пуль. Выстрелов не было слышно.
Над линиями фронта мы пролетели на высоте не более километра, дальше шли большие водные пространства, река, за рекою большая полоса леса с редкими полянами, затем опять водные пространства, стал виден слабо обозначенный четырехугольник огней. Мы быстро к нему приближались. Самолет круто снижался и заходил на посадку, и мы сели в большом селе Войкове (?) за 40 километров от линии фронта на большой земле, среди своих…
ПРОДОЛЖАЮ МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ, В 1967 ГОДУ
Когда самолет сел, то мы ожидали, что нас тепло встретят. Но встретили нас с нахмуренными бровями, из небольшого сарая вывели проф. Орлова и жену Вишнева и под конвоем двух вооруженных бойцов отвели в крестьянскую хату.
В конце концов мы узнали от нашей охраны, что нас считают за немецких диверсантов, в том числе и Вишневу. Она начала рыдать, что могло причинить ей вред, так как она, кажется, готовилась стать матерью. И все это несмотря на то, что она имела на руках (при посадке забрали) удостоверение, кто она и проч. за подписями командира и комиссара бригады и за круглой печатью. Вскоре ее увели, и дальнейшая ее судьба мне неизвестна. Нам был дан приказ никуда не отлучаться.
Крепко хотелось есть, и в конце концов что-то удалось раздобыть съестное. Наш страж (теперь в единственном количестве) понемногу размягчился и, наконец, отправился спать на сеновал, а мы последовали его примеру.
На следующий день утром за нами зашел вооруженный карабином конвоир и повел нас в неизвестном направлении. Но, несмотря на его служебную неразговорчивость, нам в конце этого путешествия (а шли мы 18 километров) удалось узнать, что ведет он нас в СМЕРШ (смерть шпионам). Эти организации допрашивали всех подозрительных людей и в случае обнаружения у них компрометирующих улик, ликвидировали этих людей.
По дороге мы услышали выстрелы, что нам показалось подозрительным, и мы с конвоиром устроили облаву. Конвоир сам храбро устремился на звук выстрелов и скоро вернулся – по его словам стрелял какой-то парнишка из трофейного ружья. Этого парня он не задержал и ружья не отобрал.
Командир СМЕРШа, майор МГБ, внимательно выслушал нас, выругался, что ему присылают таких людей (врачей), накормил нас питательным обедом и сказал конвоиру, чтобы тот отвел нас в политотдел армии.
В политотделе 4-ой армии нас отвели в помещение, в котором находилось еще несколько человек, проходивших предварительную проверку. Первого на допрос вызвали Орлова и сразу, по его возвращении, меня.
Спрашивало сразу несколько человек. Мне предложили рассказать подробно все дни нашего бегства. Прервали мой рассказ, только когда я дошел до подхода к Днепру и сказал, что мы собирали картофель. Мне сказали, что этого не было. Я сразу сообразил, в чем дело и ответил, что если Орлов об этом не сказал, то это потому, что он – большой барин и, конечно, в сборе картофеля не участвовал (как это и было на самом деле). Все рассмеялись, и я закончил рассказ без помех. Очевидно, мои данные вполне совпадали с рассказом Орлова.
Из политотдела нас направили в один из лагерей, куда собрали всех лиц, перешедших линию фронта, а может быть и попавших при наступлении наших частей.
Здесь были и полицаи и власовцы, довольно пестрая и, часто, неприятная компания. Этих лагерей мы повидали несколько, допрос был только один раз, а время шло неделя за неделей. Тоска была смертная, кормили плохо, работы никакой. Полицаи были в лучшем положении, иногда их выстраивали, выдавали ружья и отправляли на фронт как пополнение для наступавших частей. (Вероятно, их отправляли в штрафные батальоны [прим. ММЯ])
Только в одном лагере жена молодого лейтенанта, начальника лагеря, дала нам почитать несколько книжек Яна («Батый» и др.).
Месяца через полтора нас, наконец, направили в Москву. Проезжая через Москву я ухитрился послать домой короткое письмо, где извещал, что проезжаю через Москву и о месте своего окончательного пребывания сообщу дополнительно. О том, что я еще существую, дома знали из моего письма, отправленного мною из партизанского отряда.
Мы попали в Подольск, в большой лагерь для офицерского состава, но были там недолго, нас переправили в филиал лагеря, расположенный вблизи станции Щербинка недалеко от Подольска. Здесь снабженцы, надо полагать, вместе с начальством, занимались явным воровством, воруя у заключенных продукты их питания, которые в то время ценились очень дорого. Мне удалось отправить письмо домой с указанием места, где я нахожусь, и дня через три ко мне приехала Евгения Ивановна с кое-какими продуктами. Ей удалось получить кратковременное свидание со мною и передать эти продукты мне. Я же, в свою очередь, не мог не поделиться со своими товарищами.
Ноги у меня начали отекать, возникла большая слабость, и я попал на несколько дней в стационар здравпункта, где выдавали паек полностью и поэтому кормили лучше.
За время пребывания в Щербинке меня только один раз вызвали к следователю, молодому человеку с погонами младшего лейтенанта. Он меня расспрашивал о ряде лиц, бывших в плену в Смоленске, и ни разу не спросил о моем поведении там, другими словами, я оказался в роли свидетеля, а не подозреваемого «врага народа». Это мне показалось странным и я его спросил о причине такого характера допроса. По его словам ряд лиц, бывших в Смоленске, отзывался обо мне положительно, не было ни одного отрицательного отзыва. При этом он улыбался и рассказал несколько анекдотов.
Так почему же меня в таком случае держат здесь без дела в такие горячие годы войны? Я ничего не понимал.
В Подольске нас лучше кормили, можно было существовать. Надо полагать, что тут воровства не было. Водили нас даже в баню. Во время прохождения нашей команды под конвоем по улицам обитатели Подольска, а больше обитательницы, кричали: «Предатели, изменники, уничтожить вас надо!» и тому подобное. Показывали кулаки.
А ведь большинство из нас были бежавшие из плена самые активные патриоты, которые просто не могли больше оставаться в плену и, совершая бегство, очень многим рисковали, вплоть до расстрела на месте. Мы думали, что нас на большой земле встретят хорошо и сразу же дадут какую-нибудь военную нагрузку, какая бы она ни была, ведь фронту так нужны были люди! А эти люди были особенно ценные, недаром же существует старая поговорка: «За битого двух небитых дают».
А некоторые энкаведешники из нашего начальства, окопавшиеся в тылу, относились к нам с особым презрением. Когда нужно было обратиться к такому субъекту, то мы не знали, как это сделать: например, на обращение «товарищ лейтенант» такой тип или совсем не отвечал или отрезал: «Я вам не товарищ!».
Ко мне заезжали из дома и понемногу привозили съестное, но я в Подольске мог бы обойтись без этого.
Однажды, издалека, в толпе новоприбывших я увидел Латуна (или очень похожего на него человека) и решил немного позже разыскать его, но всю эту партию куда-то срочно отправили, и я потерял эту возможность.
Мне передавали, что Петров находится в Щербинке, но я его не мог повидать. Из моих спутников в Подольске были Орлов, Кулаков и Олейников.
Время тянулось очень тоскливо. Я с жадностью слушал фронтовые сводки о продвижении наших частей вперед. Еще в 1943 году осенью или в начале зимы передали, что освободили Шишаки.
У нас был только командирский и начальствующий состав. Были и из Севастополя и из Сталинграда. Севастополец рассказывал, что далеко не все смогли эвакуироваться при оставлении города, и много попало в плен, не менее 50 000.
По рассказам того, который был под Сталинградом, там был такой кошмар, что он предпочитал быть расстрелянным здесь, чем возвратиться в Сталинград. Я думаю, что он просто дезертировал оттуда.
Проходила «проверка», возглавляемая политкомиссаром, неплохим сознательным человеком. Прошедшим «проверку» выдавались маленькие листочки с круглой печатью на тонкой синей оберточной бумаге с указанием, что такой-то «проверку» прошел. Но нас все же не отпускали и никуда не назначали.
 |
Справка о прохождении проверки |
Наконец, в январе 1944 года нас начали пропускать через медицинскую комиссию и направлять в штрафные батальоны. Меня, несмотря на мою просьбу, не отправили, а забраковали (у меня слегка отекали ноги) и предложили работать у них в НКВД, от чего я отказывался.
Почти все, находившиеся в лагере, были отправлены, я находился один в большой комнате, да и соседние комнаты были почти все пусты. Тоскливо было ужасно. В конце концов меня отправили в Москву, в управление этой организации, где гвардии полковник медицинской службы Ежов (Однофамилец бывшего наркома [прим. ММЯ]), очень хороший парень около сорока лет, убедил меня согласиться, иначе, сказал он, меня не выпустят из лагеря. Направил он меня в южные лагеря для пленных немцев начальником санитарной части лагеря, который предполагали открыть в Згуровке, где-то недалеко от Киева.
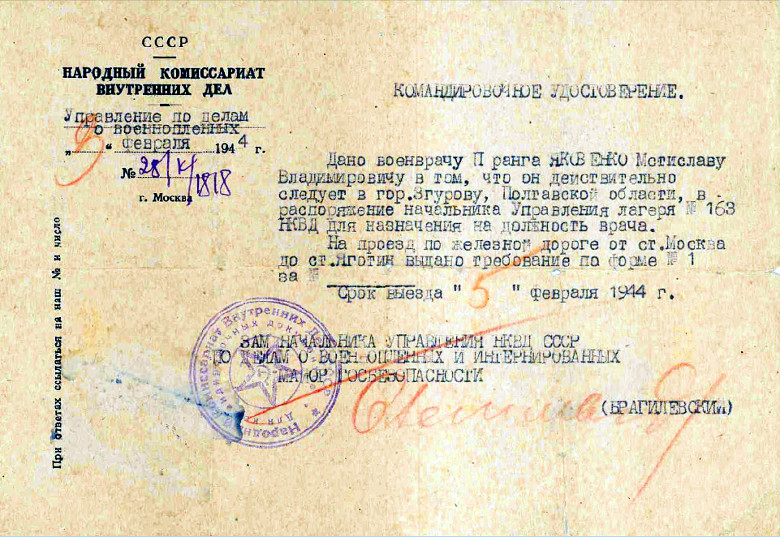 |
 |
Две стороны предписания на службу в лагере для немецких военнопленных |
После моего согласия меня отпустили на два дня домой, выдали соответствующие документы и очень тяжелый ящик с медикаментами для лагеря, причем сказали, что меня на вокзале (Курском, так как поезда шли через Харьков) встретит еще один врач, едущий туда же, и он поможет мне в переноске. Врач этот на вокзал не пришел, и если бы не Игорь (Мой отец и муж Миры Мстиславовны, Игорь Аркадьевич Селезнев [прим. ОИЯ]), то я не влез бы в вагон, который был переполнен сверх меры. На нижней боковой скамейке (вдоль прохода) нас сидело четыре человека, над нами один лежал на спальном месте, а один – на полке для вещей. Поезд тронулся, и мы ехали до Киева 6 дней. Спали сидя, уборные не работали, так как их превратили в пассажирские купе. Одним словом, поездка была «веселой», к тому же в вагоне так дымили махоркой, что с трудом можно было разобрать лица окружающих.
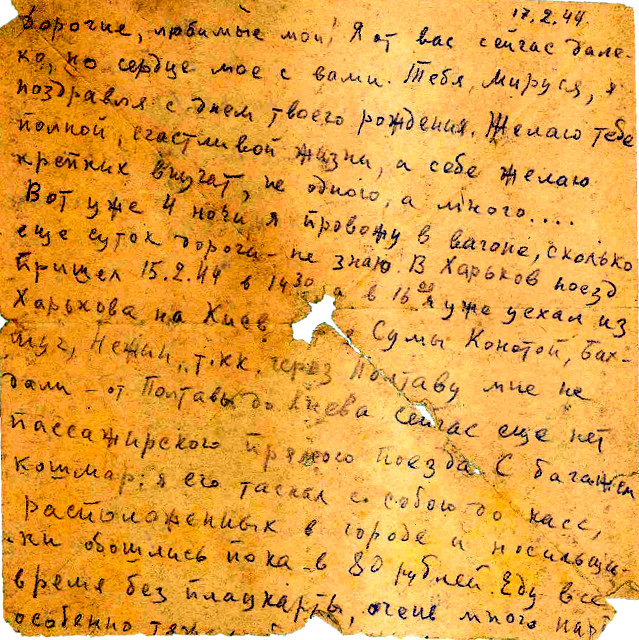 |
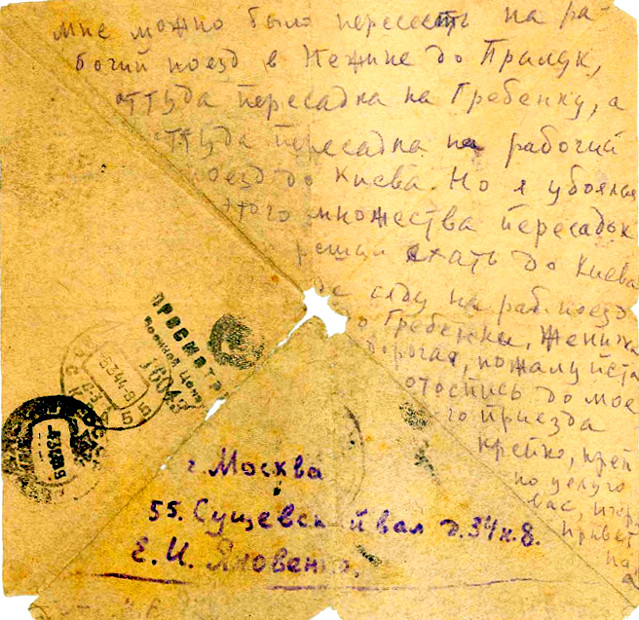 |
Письмо с дороги к новому месту службы |
Поезд из Харькова пошел не на Полтаву, а на Конотоп-Бахмач. По дороге шли разговоры, что самое опасное место это – Дарница, где сходятся железнодорожные пути и которую немцы бомбят очень часто.
В Киев наш поезд пришел к вечеру, спускались сумерки. Полуразбитый вокзал был засыпан снегом, который некому было убирать. Каким-то чудом я со своими вещами добрался до военного коменданта, который указал мне дальнейший маршрут – до станции Яготин (это по направлению на Полтаву), а оттуда узкоколейкой около 20 километров до Згуровки.
Мне посчастливилось довольно быстро попасть в товарный поезд, идущий в этом направлении. Из-за Днепра, с правобережья, хорошо был слышен гул артиллерийской канонады почти до самого Яготина. Это заканчивали окружение немецких дивизий в районе Шевченковской могилы.
Комендант ст. Яготин не порадовал меня. По узкоколейке движения поездов не было. Оказалось, что скоро пойдет паровоз, который может захватить и меня. Помещения и питания комендант предоставить мне не мог – ищите сами, а живущие около станции боялись пускать к себе кого-либо на ночевку. Все же мне удалось пристроиться у каких- то учительниц-сестер, с малыми ребятами. Учительницы всего боялись и не напрасно. Около станции процветал бандитизм, милиции почти не было. И вот раз во время моего пребывания, к ним явился вооруженный пистолетом бандит в солдатской форме, потребовал спиртного и еды. Перепуганные женщины старались ему угодить. В отношении меня он вел себя вызывающе, ведь я был без каких-либо знаков различия и оружия не имел. К счастью, он недолго терроризировал моих хозяек.
Я возился с ребятишками дошкольного возраста и время от времени ходил на станцию узнавать, когда пойдет паровоз. И вот на третий день мне сказали, что паровоз пойдет часов в 11 вечера. Я поблагодарил учительниц и перебрался с вещами на станцию. Машинист, с которым я ехал, предупредил меня, что в случае бомбежки следует лезть под тендер, это наиболее безопасное место ввиду его большой нагрузки.
В полночь мы тронулись неторопливым ходом и минут через 50 паровоз остановился среди поля, и мне предложили выгружаться. А где же Згуровка? Да километрах в трех отсюда – и мне указали направление, добавив, что здесь много развелось волков. Навстречу дул ветер со снежной крупой, паровоз быстро исчез, кругом не видно ни одного огонька. Поднять сразу весь мой багаж я не мог и поэтому переносил его частями метров за 150-200, затем возвращался и забирал остальное. К утру я добрался до сарая, в котором временно жила воинская команда еще неоткрытого лагеря.
На следующий день я ориентировался. Никаких данных для открытия здесь лагеря не было, помещения, возможно, были только на сахарном заводе, расположенном дальше. Сообщение с Яготиным трудное.
Во главе присланной сюда команды был совершенно не желавший работать майор войск НКВД (фамилии не помню). Весь этот запроектированный лагерь как будто бы совершенно забыли – денег на зарплату и на другие расходы не переводили, продукты черпали из местных источников (колхозы и др.) бесплатно, к счастью, после ухода немцев продуктов осталось достаточно.
В моем распоряжении было два фельдшера, которым я и передал привезенные мною медикаменты на хранение. Сам я поселился сперва в селе, что было довольно-таки трудно, так как никому не хотелось пускать к себе на постой, а потом за селом в хате сторожа колхозного добра (картофель в буртах и влажное зерно, которое нужно было непрерывно подсушивать в специальном большом помещении с печами, отапливаемыми соломой). Мои хозяева в продуктах не нуждались и кормили меня бесплатно. Этот сторож был болен трахомой, и я дал ему медикаменты, нужные для лечения, так как местная больница их не имела.
День проходил за днем без всяких перемен. Несмотря на то, что я постоянного говорил майору, что следует запросить если не Москву, то Киев о том, что же нам делать, он пребывал в бездействии, что ему нравилось – его неплохо кормили, и он имел связь с бухгалтером колхоза, которая себя несколько скомпрометировала при немцах и среди последних имела своих покровителей (как мне рассказывали).
Однажды ночью я проснулся от какого-то беспокойства и увидел, что окна дома ярко освещены красным светом. Выбежал из дома – огромный столб пламени от горящей в трубах сажи поднимался над сушилкой для зерна. Разбудил хозяев и сказал сторожу, что необходимо немедленно влезть на чердак сушилки и поливать балки, на которых укреплены трубы и вообще потолочное перекрытие. Но сторож струсил и категорически отказался. Тогда я забрался на чердак, а мне наверх подавали воду, и первые же вылитые на балки ведра почти мгновенно испарились, так высока была температура. Но дольше пошло все легче, часа через полтора сажа прогорела, и опасность миновала. Этот случай дал мне какое-то удовлетворение – все же я принес какую-то пользу.
Наконец и майор забеспокоился – как бы чего не вышло, и сделал телеграфный запрос, как дальше быть? О нас тогда вспомнили и по телеграфу приказали немедленно выехать в Киев, в лагерь, расположенный на Сырце вдоль Бабьего Яра, в котором немцы держали русских военнопленных.
Выбраться из Згуровки можно было только пешком, и вот мы зашагали по полотну железной дороги, ведущей от завода к станции. Груз-багаж удалось погрузить на подводы. Был хороший, ясный, морозный день, и мы все с радостью покинули Згуровку.
На Киев шли смешанные поезда: и товарные, и пассажирские вагоны вперемежку. Мы влезли в набитый уже пассажирский вагон, и после свежего воздуха заняло дух от отравленного махорочным дымом воздуха. Не прошло и часа, как я потерял сознание, но такой случай, к счастью, до самого Киева не повторялся.
Из пребывания в Згуровке вспоминаю один случай, очень расстроивший меня: фельдшера, у которых были на сохранении медикаменты, начали распродавать их, и когда я уличил их в этом, то они нахально начали обвинять меня в том, что это я им не додал… Одним словом они оказались спекулянтами и мерзавцами.
В Киеве (на Сырце) уже функционировал лагерь, у которого было два филиала: в гор. Васильеве и в Дарнице. Больше всего военнопленных было на Сырце, здесь же были продуктовый и вещевой склады и находился главный начальник, капитан Цупиков, который почти все время пребывал в Киеве, где он ежедневно пьянствовал и устраивал оргии с проститутками и подобными им женщинами. Изредка он приезжал в лагерь, главным образом, за пополнением запасов спирта (спирт он брал в медсанчасти без каких- либо расписок) и продовольствия.
Фактически, лагерем управлял его заместитель, майор лет 55-ти (фамилии его я не могу сейчас вспомнить). Этот майор сожительствовал с молодой еще женщиной-врачом – начальником санчасти лагеря, жил с ней в одной комнате. Муж женщины-врача был где- то на фронте. Эта связь не скрывалась.
В лагере, в основном, были немцы, затем некоторое количество югославов, которых использовали как поваров и парикмахеров, и человек 30 французов, попавших в плен вместе с немцами. К ним относилось начальство лагеря очень плохо.
Нам – мне и майору из Згуровки – предложили подыскать себе жилье и подождать несколько дней, пока нам не дадут назначения.
Все окрестные деревянные домишки были заняты работниками лагеря и другими, и мы не могли что-либо разыскать для себя. Отходя от одной из дорог из лагеря, мы встретили, вернее, догнали двух женщин, жалующихся на трудности жизни, мы вступили в разговор и в конце концов уговорили одну из них пустить нас переночевать одну-две ночи.
Ее квартира была в полуподвале двухэтажного деревянного дома. Когда мы дошли, было уже темно. Хозяйка расположилась в первой проходной комнате, уступив нам свою спальню с широкой кроватью. Мы крепко уснули, но около полуночи нас разбудили пьяные мужские голоса, требовавшие от хозяйки, чтобы она их пустила к себе. И когда им в этом было отказано, то раздался выстрел, и пуля пробила оконное стекло в первой комнате. Оружия у майора также не было, и мы чувствовали себя скверно. Но после этого выстрела банда удалилась. Впоследствии выяснилось, что это были солдаты из охраны нашего лагеря.
Еще через день мне удалось устроиться в том же доме, в другой его половине, на первом этаже. Здесь жила молодая женщина-врач из нашего лагеря, и ее переводили в Дарницу. Хозяйка не хотела пускать меня, но я сумел уговорить ее, так как вместо меня к ней могли вселить очень нежелательных жильцов.
У нее была дочка Лида, лет 14-15. Муж ее был неизвестно где. Потом мне рассказывали соседи, что он скрывался где-то вблизи, боясь кары за сотрудничество с немцами. (Когда папа жил на Сырце у хозяйки, муж которой где-то скрывался, он помогал ей по хозяйству и материально, и писал нам об этом. У нее, кажется, была коза, этим, в основном, она жила [прим. ММЯ])
После пребывания в немецком плену я поразился порядкам этого лагеря. Немецкие офицеры были освобождены от каких-либо работ, кормили их лучше – качественнее и сытнее, чем наш начальствующий состав. Рядовые использовались для работ крайне редко – напилить и нарубить дрова, прибрать дорожки в лагере и бункере, где они жили. Смерть какого-либо военнопленного считалась чрезвычайным происшествием. Паек их по калорийности в несколько раз был выше пайка для русских военнопленных.
Через несколько дней меня назначили начальником санчасти лагерей, а женщину- врача отправили куда-то в другое место. Майор из Згуровки не захотел здесь работать и его также отправили.
Работать было трудно. Цупиков набрасывался на спирт, а его адъютант требовал огромного количества медикаментов, будто бы для своих детей, а на самом деле для спекуляции – в то время в Киеве достать что-либо было очень трудно. Я ему отказал, а требования Цуканова на спирт отказался подписывать. К счастью, Цупикова скоро убрали, уж очень бесполезным, тупым и вредным животным он был. На его место поставили другого – подобное ему барахло – где только набирали таких? Майор, который был фактическим начальником лагерей, почему-то упорно отказывался от звания начальника.
Начались заболевания сыпным тифом среди военнопленных французов, их необходимо было перевести в достаточно изолированное помещение. На площади, занимаемой лагерем, стоял один одноэтажный деревянный дом, комнаты на 4. Одна из комнат была сплошь забита старыми мужскими головными уборами, главным образом, кепками. Я никак не мог догадаться о причинах такого изобилия, но впоследствии выяснилось, что в этом доме хранилась одежда расстрелянных в Бабьем Яру: верхнюю одежду, белье и обувь куда-то вывезли, а кепки почему-то остались.
Мое начальство противилось переводу французов в этот дом, но я все же сумел настоять на своем, указывая на то, что изолировать их необходимо, и вообще такой дом- изолятор совершенно необходим для лагеря. Французы начали умирать, начальство всполошилось и настояло на том, чтобы их перевели в военный госпиталь в Киеве, где было инфекционное отделение. Препровождать их туда пришлось мне самому, и я запросил у заместителя по лечебной части госпиталя, майора медицинской службы, где же у них пропускник? В ответ на это он повел меня к недостроенному дому и ознакомил с планом еще только монтируемого «пропускника», который, по существу, напоминал примитивный обмывочный пункт без элементов пропускника.
Мне пришлось долго толковать и с этим заместителем и с начальником госпиталя, пока я их не убедил, что они проектируют не пропускник, а неизвестно что, и набросал им чертеж настоящего пропускника, учитывая конфигурацию помещения, в котором они его располагают. Госпитальное начальство было мне очень благодарно за мои указания, и я еще раза два побывал у них, указывая, что нужно делать. С какой бы охотой я пошел бы на службу в этот госпиталь, но перевестись было невозможно. А я им был полезен, так как у них никакого опыта в организации госпитального дела не было.
Мне необходимо было посетить оба филиала лагеря – в Дарнице и в Васильеве. Первая моя поездка была в Дарницу, с переездом через Днепр по временному деревянному мосту. Сама станция носила следы тяжелых фугасных бомб, за железнодорожными путями валялись крупные нефтяные-бензиновые железнодорожные цистерны, выброшенные силою взрыва с путей. Сама станция имела глубокое бомбоубежище, куда пряталось все живое во время бомбежек. Кругом станции было много землянок, где ютились беженцы.
Как только на станцию прибывали поезда с военной техникой или с военными частями, немцы сейчас же посылали свою бомбардировочную авиацию. Эти поезда, как правило, сильно задерживались в Дарнице, и это обстоятельство помогало немцам, у которых, несомненно, был осведомитель с радиопередатчиком, скрывавшийся среди живущих вокруг станции беженцев, которых почему-то не выселяли с территории станции.
Филиал лагеря был небольшой, тысячи на три военнопленных, врачей было два: та женщина-врач, после которой я поселился на квартиру, и врач Филёненков Анат. Ив., которого я знал еще в 1943 году по Смоленску. Он не был военнопленным, а жил там на частной квартире в городе Смоленске, довольно прилично одевался, мог свободно ходить. Вообще, он был мне еще в Смоленске антипатичен, он умел хорошо приспосабливаться. Лагерь нужно было привести в порядок, произвести ряд ремонтно-строительных работ, организовать пропускник. Рабочие руки были – военнопленные немцы, строительного материала много – разрушенные дома, готовый кирпич у недостроенных домов, у которых я нашел на следующее утро пребывания в лагере склады готовой извести под землей (спец. ямы). Надо было только проявить энергию, и я дал распоряжение Филёненкову этим заняться.
Для ночевки мне предложила женщина-врач свою комнату, а сама перешла ночевать к каким-то женщинам. Эта комната была шириной не больше двух метров, а длиной – около 5 метров. Все стены были капитальные. Я тогда же подумал – вот отличное бомбоубежище!
Дней через 10 надо было опять навестить Дарницу для контроля. Вечером я туда не поехал по каким-то обстоятельствам, да и работы там было немного – только проконтролировать ход ремонтно-строительных работ. Накануне выезда, вечером и ночью, туда летало много немецких бомбовозов, и были слышны далекие разрывы бомб. И вот, рано утром, подъезжая к Дарнице, я увидел ужасную картину: разорванные на куски тела солдат, многочисленные воронки от авиабомб. Оказывается, к концу дня на станцию прибыло несколько эшелонов с воинскими частями, и они были задержаны на станции на неопределенное время. Немцы были немедленно извещены, и ихние бомбовозы устроили настоящую бойню. Даже на лагерь для военнопленных бросили несколько бомб, стараясь разрушить проволочные заграждения вокруг, и одна бомба попала как раз в ту комнату, где я ночевал раньше. От капитальных стен осталась только груда щебня. По счастливой случайности хозяйка комнаты во время бомбежки отсутствовала, и никто не пострадал.
К нам из Москвы приехал Ежов как контролер и проявил довольно кипучую деятельность: например, принимал участие в медицинском осмотре военнопленных и т.д. Мы с ним ездили в военно-санитарное управление Киева по вопросу о размещении заболевших тифом военнопленных, так как заболевших сыпняком французов мы с трудом поместили в инфекционный госпиталь. Наши переговоры успеха не имели, к Ежову военно-медицинское начальство относилось отрицательно. Но к нашему счастью, больше заболеваний сыпным тифом в лагере не было.
Ежов производил такое положительное впечатление, что я решил поговорить с ним откровенно относительно ареста и, возможно, уничтожения А. Баркова. Барков, мой товарищ по университету, с которым я был в полевом госпитале летом 1915 года (Львов, Кременец и т.д.), в 1933 году был в генеральском чине начальником медслужбы пограничных войск СССР. Он был женат на одной из бывших жен Ягоды, и, когда арестовали Ягоду, арестовали и его. Ежов был очень положительного мнения о Баркове (которого он замещал), считая Баркова прекрасным службистом, который себя не скомпрометировал и у которого он сам учился работать. Причины репрессирования Баркова ему не были известны.
Я попросил Ежова устроить мне перевод в Москву, где у меня семья, и Ежов это сделал. (Видимо, к этому времени относятся фотографии – дедушка вернулся домой, окна еще заклеены крест- накрест бумагой, но тепло, и все – он, мама, бабушка и прабабушка – одеты довольно легко [прим. ОИЯ])Уже в июле 1944 года я начал работать санитарным врачом в Люберцах, в лагере для русских, бывших в плену или живших на оккупированных немцами территориях, почему-то заподозренных НКВД. Затем мне удалось пройти медицинскую комиссию (была обнаружена язва двенадцатиперстной кишки), и меня отчислили в резерв военно-медицинского управления армии, и уже оттуда, несмотря на предложение работать пищевым врачом по военной линии в Москве, мне удалось вернуться на старое место работы – в лабораторию Санэпидстанции гор. Москвы.
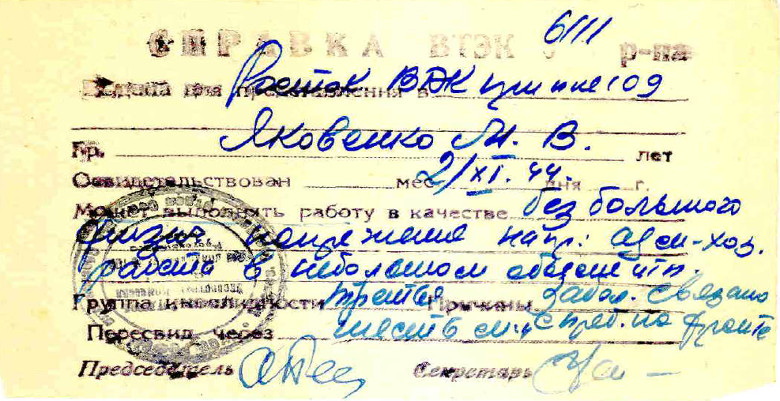 |
Справка об отчислении из армии по состоянию здоровья |
С Ежовым знакомство я прервал, не желая этим знакомством бросить тень на него – все же я был в плену.
СПИСОК ВРАЧЕЙ И ФЕЛЬДШЕРОВ, ВИДЕННЫХ МНОЮ В ПЛЕНУ ЗА ВРЕМЯ С ОКТЯБРЯ 1941 Г. ПО АВГУСТ 1943 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
1. Левыкин – хирург, умер от сыпного тифа в 1942 г. в Смоленске.
2. Емшанецкий – хирург, видел в октябре 1941 г. в лагере Холм- Жирковский.
3. Высоцкий – хирург, видел в октябре 1941 г. в лагере Холм- Жирковский.
4. Левин – хирург, видел в октябре 1941 г. в лагере Холм- Жирковский.
5. вр. Райко (?) – женщ. – терапевт, ранена в бедро Х.1941 г. , Холм-Жирковский.
6. вр. Белянин – Х.1941 г. Холм-Жирковский; XI.1941 г. – Смоленск.
7. вр. Рябой (бывш. дивврач) – расстрелян Х. 1941 г. в Дурове.
8. вр. Молчанов Вл.Ив. – III.1942 г., Смоленск.
9. вр. Нестеренко – Х.1941 – VII.1943 г. Дурово-Смоленск.
10. вр. Слободчиков Ал. Ив. – умер от сыпного тифа в 1942 г. Смоленск.
11. вр. Кланг Глафира Антоновна – 1942-1943 г. Смоленск.
12. вр. Фарахшин – 1942-1943 г. Смоленск.
13. вр. Миньков – терапевт, 1942-1943 г. Смоленск.
14. вр. Шлейн – терапевт, 1942-1943 г. Смоленск.
15. вр. Богданов – окулист, 1942-1943 г. Смоленск.
16. вр. Петров Ал-р Прохорович – 1941-1943 гг. Смоленск, из плена бежал.
17. вр. Петров- маленький, казах, – Бежал, имею сведения об его расстреле.
18. вр. Петров, молодой, высокий, хорошо сложен. – Смоленск, 1942 г., поступил добровольно во Власовскую армию.
19. вр. Денисов Г.Я. – поступил добровольно во Власовскую армию. Смоленск 1942-1943 гг.
20. вр. Петяев – спортсмен-прыгун – поступил добровольно во Власовскую армию. Смоленск 1943 г.
21. вр. Явсин – был направлен во Власовскую армию, не протестовал. 1942 г., Смоленск.
22. вр. Попов из Сталинграда – 1942-1943 гг., Смоленск.
23. бриг. вр. Наумов – отправлен в 1943 г. из Смоленска на запад.
24. дивврач Суржанинов Серг. Ал. – отправлен в 1943 г. из Смоленска на запад.
25. вр. Макаров – 1943 г., Смоленск.
26. вр. Черносвитов – 1943 г., Смоленск.
27. вр. Шипов Павел Ампильевич – 1942-1943 гг., Смоленск.
28. вр. Камынин – хирург, 1942 г., Смоленск.
29. вр. Чижов Анатолий Ив. – 1942-1943 гг., Смоленск.
30. вр. Филененков Анат. Ив. – 1943 г., Смоленск.
31. вр. Хмырев Вас. Алекс. – 1943 г., Смоленск.
32. вр. Волков – хирург, 1943 г., Смоленск.
33. вр. Волкова – его жена.
34. вр. Визгалин – 1942-1943 гг., Смоленск.
35. вр. Кальнишевский – Смоленск, 1942 г., поступил добровольно во Власовскую армию.
36. вр. Мерейнис – хирург-консультант 32 армии – расстрелян в 1942 г., Смоленск.
37. вр. Востриков (Г.Я.?) – отправлен в 1943 г. из Смоленска на запад.
38. вр. Липкин – отправлен в 1942 г. из Смоленска на запад.
39. вр. Гиллерштейн (из 19 армии) – 1943 г., Смоленск.
40. вр. Юзбашев – 1943 г., Смоленск.
41. вр. Власов – бактериолог, 1942 г., Смоленск.
42. вр. Штыкалев – терапевт, 1943 г. Смоленск.
43. вр. (?) Дурнев – 1942 г., Смоленск.
44. вр. Шепетков – хирург, 1942 г., Смоленск.
45. вр. Омеличев – хирург, в 1942-1943 гг. Смоленск, отправлен на запад.
46. вр. Ступин – терапевт, 1942-1943 г. Смоленск.
47. вр. Штоклянд – 1942-1943 гг., Смоленск, расстрелян.
48. вр. Позигун – инфекционист, 1942-1943 гг., Смоленск.
49. вр. Ширяев – 1942-1943 гг., Смоленск.
50. проф. Орлов Алексей Федорович – 1942-1943 гг., Смоленск. Бежал из плена.
51. вр. Кулаков – стоматолог, 1942-1943 гг., Смоленск, бежал из плена.
52. вр. Шугаев – 1942 г., Смоленск.
53. Свидерский – зубн. врач, 1943 г., Смоленск.
54. вр. Сергеев – 1942 г., Смоленск.
55. вр. Кривоносов – хирург, 1942 г., Смоленск.
56. вр. Зубов (?) – 1943 г., Смоленск.
57. вр. Алейников – 1943 г., Переволочье, бежал из плена.
58. вр. Седов – 1943 г., Переволочье, бежал в 14 бригаду Вишнева партизанскую.
59. вр. Сумароков – 1943 г., Переволочье, бежал в 14 бригаду Вишнева партизанскую.
60. вр. Пестяков – 1943 г., Переволочье.
61. фельдш. Прозоров А.И. – 1941 г. Дурово. Бежал из плена.
62. фельдш. Новохацкий из Сталинграда – 1942-1943 гг., Смоленск.
63. фельдш. Кузнецов – 1942-1943 гг., Смоленск.
64. фельд. Афанасьев – 1942-1943 гг., Смоленск, умер от т.в.с.
65. фельдш. Ткаченко – 1942-1943 гг., Смоленск.
66. санинстр. Исаев (татарин) – 1942-1943 гг., Смоленск.
67. санинстр. Латун Б.А. – 1942-1943 гг., Смоленск, бежал, судьба побега неизвестна.
68. вр. Жуков – 1943 г., Смоленск.
69. вр. Подтыкайло – 1942 г., Смоленск.
70. вр. Терпигорева – 1942-1943 гг., Смоленск.
71. вр. Смирнов 1942 г. (?), Смоленск.
72. вр. Каменев1942- 1943 гг., Смоленск. – 1942-1943 гг., Смоленск.
73. вр. Устименко – 1941 г., Смоленск.
74. фельдш. Румянцев – 1941-1942 гг., Смоленск. 139
75. вр. Бобров – гигенист, умер от с. тифа, 1942 г., Смоленск.
76. вр. Пухнаревич – пищевик, 1942 г., Смоленск.
77. вр. Затычец
78. вет. (?) вр. Яковенко – 1941 г., Холм-Жирковский
79. медсанбат Дидык- Сорокина – 1943 г., Смоленск.
80. Шийовский
81. Юрьев
82. Клыков
83. Тимофеев
84. Катаев
85. Пищальников
86. фельдш. Доцоева – Б. Спасская, д, 28, кв. 5
87. Горины – 2-ая Мещанская, д. 20, кв.12 (?)
88. Рябинин –
89. Мартынюк К.Д. –
90. Чижов А.И. –
Около 30 фамилий врачей не могу вспомнить
К ВОСПОМИНАНИЯМ ВРЕМЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В финскую войну мы потопили финский плавучий госпиталь. Вместо извинения покинули Международный Красный Крест, поэтому наши военнопленные не получали помощи. По другой версии (а может быть, это одна?) Сталин отказался от участия в Международном Красном кресте.
В плену немцы распространяли газету «…. правда», где сверху было написано не «Пролетарии всех стран объединяйтесь», а «Объединяйтесь на борьбу с большевизмом». В этой газете была целая страница с напечатанным выступлением Власова. Его обращение. Содержание было такое: он, Власов, не против Советской власти, а только против коммунистов. Он много думал, и в лесу, и во время окружения, и пришел к выводу, что большинство народа живет плохо, рабочие ничего не имеют. Крестьяне работают за палочки-трудодни и прочее. Он давно видел несправедливость и был против нее. Все, кто согласен с ним, вступайте в ряды формируемой армии.
Пленные слушали: все правильно (про рабочих и трудодни). Некоторые думали так: он хитрит, это он нарочно – соберет армию, пустят нас на фронт, а мы ударим по немцам.
Другие думали: оденут меня, накормят, дадут винтовку, на фронт пустят, а там я уже к своим перейду. Здесь все равно подохнешь через месяц.
Третьи просто польстились на водку, одежду, еду.
Все это пленные высказывали в палатах Петрову, а он им: «Вы что же думаете, что вас всех так кулаком и пустят? На одного пять немцев придется, да вас еще вперед и пошлют!». Призадумались.
Глафира Анатоновна Кланк (врач): «Я считаю своей самой большой заслугой, что ни один больной из моих палат не записался к власовцам. Спрашивали меня: «Доктор, как Вы думаете?» Я им: «Конечно, конечно, хорошо». А потом к каждому отдельно ходила, говорила: «Ты что же это, гад, делать думаешь?» И никто не записался.
Выстроили на площади всех, кто записался. Переводчик переводит им речь немца, содержание ее: «Кто не хочет, кто раздумывает – два шага вперед». Никто не пошел. Тогда он говорит: «Тут многие записались, потому что думают перейти к своим» (и повторил все, что сказал Петров). «Так вот, перед тем, как пустить вас на фронт, вас используют в борьбе с партизанами, с местным населением для того, чтобы вам к своим возврата не было (запачкать преступлением), а на фронте пойдете один на пятерых немцев».
«Прав был доктор», – подумали многие. «Так вот, кто не хочет записываться, кто раздумал, два шага вперед!»
Никто не вышел, так как все равно – расстрел. Влопались как кур во щи.
Позднее, когда поняли, что у своих ждет только пуля, тогда озлобились: «Ага, здесь пуля ждет, если не выполню, там – от своих. Все равно убьют». И стали ярыми сторонниками немцев.
(Судя по тексту, эти отрывки были записаны мамой со слов Мстислава Владимировича [прим. ОИЯ])
О ВЛАСОВЕ
Написано было (где?), что немцы, окружив деревню, в одной из изб обнаружили целый штаб русских офицеров. Из избы, якобы вышел, подняв руки, генерал и сказал: «Я Власов!»
Илья Эренбург пишет другую версию. Власов, попав в окружение, в солдатском платье был пойман в избе, но боялся как солдат быть расстрелянным и закричал, что он генерал.
***
ИСТОРИИ А.П. ПЕТРОВА
Петров. При допросе на проверке ему говорили: «А что это все говорят, что Петрову надо дать орден Ленина… За что это?» – «Они говорят, вы их и спросите!»
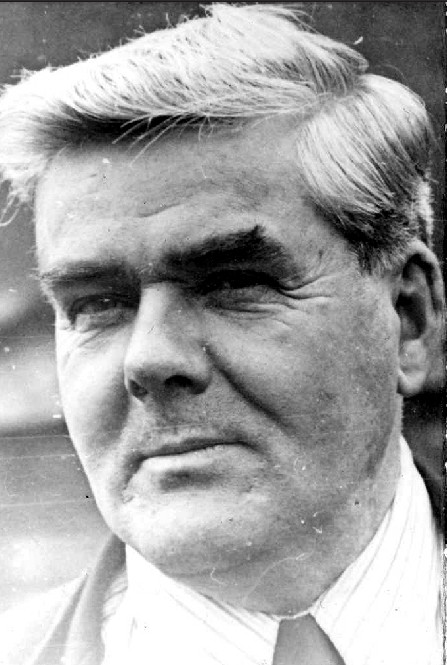 |
Товарищ по лагерю в Смоленске, а потом хороший друг, |
Когда следователь говорил ему, почему не застрелился, Петров, кроме прежних доводов, сказал: «Не желал бы я Вам оказаться там. Но если бы Вы оказались, думаю, что и Вы бы не застрелились бы (посмотрел бы я, как бы он застрелился!). Хотя, может быть, Вы бы и застрелились – коммунист, НКВД, лейтенант. Ну а у меня этих оснований не было. Я – врач, по международной конвенции всех должен лечить: и своих, и чужих людей, без различия».
Следователь: «Кого Вы лечили?» – «Пленных». – «Вылечили для кого? Куда они пошли потом?» – «На работу». – «На кого?» - «На немцев». – «Вот видите, значит, пособничали врагу!»
Рассказывал о плохой информации. Танковый бой на территории медсанбата. Петров командиру: – «Дозвольте перевести медсанбат!» – «Так, твою мать! Никакого там боя нет! Что ты мне очки втираешь! Пусть придет начальник медсанбата!» Петров доказывает, тот свое. Петров уехал ни с чем. Пришлось ехать начальнику медсанбата.
Или: приказ передислоцироваться в такой-то хутор (карта 1927 года). Приехали, а хутора нет. Женщина: – «Да его, милые, уже 10 лет, как нет!».
Деревеньку окружили 10 немецких танков. Петров ухаживал за ранеными (это – попутно, он выходил из окружения). Три ампутации ветеринарными инструментами. Аква дестилято, трубочки, примус получил.
За два дня перед тем дали Петрову справку, что он врач, местный, 25 лет работает, возраст 60 лет. Поставили печать и сдвинули, чтобы ее не разобрать.
Немцы на танках, взяли деревню. Кто-то донес им, что под видом раненых – партизаны. Они к Петрову, он развязал, разбинтовал. «Этого, этого, этого!» – тыкали немцы пальцем. Все раненые.
И вот при отходе один танк – на ящик со снарядами – ну взорвется, тогда нам несдобровать! Но он, слава богу, по краю проехал.
Немцы ушли. Они с Сережкой (начальник медсанбата) шли несколько дней (неделю?), немцев видели не раз. «Противно, но надо привыкать», – сказал Петров. По дороге – еще «местными» врачами – в одном месте переменили справку с 60 лет на 40. Немцы проверяли документы, отпускали. И вдруг: «Хальт, русс!» В гестапо.
Там немец принял хорошо, начал беседу: то, сё (они к врачам хорошо относятся), вот сколько, мол, врачи в Германии получают, 2000 марок, а у вас? 90? Скоро, мол, будет организовано в Берлине правительство, Москву возьмем, правительство приедет37. Петров: «А кто будет во главе этого правительства?» – «Ага, хитрый какой» – не назвал. Петров ему: «А вот на мне сапоги, часы, могут ваши забрать?» – «Ни в коем случае! Если кто заберет, сообщите мне!»
(Москва решала многое, организовали бы правительство, а там и армию этого правительства из русских, и т.д. [прим. ММЯ])
Вышел уже пленным. Переводчик (?), солдат (?): «Вас ефрейтор зовет в лес». Солдат привел. Ефрейтор показывает на часы и сапоги, угрожает револьвером. Петров: «Скажи ему, что со мной говорил командир дивизии (?), и он сказал, что если кто тронет, чтобы ему сказать, тут же расстрел будет».
Привезли Петрова в Смоленск, в госпиталь военнопленных. Привел гестаповец (переводчик?). И вдруг на лестнице навстречу спускается … «А, Петров!». Гестаповец: «Кто, кто?» – « … – помощник начальника медсанбата» (а в справке-то гражданский, цивильный). Гестаповец с ними ушел, расспрашивал о Петрове, они подтвердили: «Да, да, помнач медсанбата!»
– Передайте ему, чтобы больше не обманывал. Я его должен был расстрелять за обман, но я сам – доцент Берлинского университета, мобилизован. Попадись на мое место другой, он бы расстрелял…
***
ИСТОРИИ Г.А. КЛАНК
С немцами до Лодзи, оттуда со своими (со СМЕРШем) до Берлина. Допроверяли уже в Берлине.
Попала к своим в СМЕРШ. Две хаты (две комнаты школы?) набиты людьми, ранеными. Она сразу организовала порядок. Тогда вызвали ее к командиру. Это был самый страшный момент в жизни. Командир говорит (запинаясь? заперся?): «Знаете, мы передумали…» (и пауза).
– «Что, что передумали?» – «Командирские палаты у нас на горке». И ее туда! Там врач, майор, кожник, нерасторопный. Она ему много помогала по работе, а он ей потом помог (избавиться от подозрения в шпионаже). Каждое утро она писала ему, что надо сделать, а он эти донесения подавал, якобы, от себя по начальству. Относительно венериков-женщин – уже рассказывала…
БЕРЛИН
Один полковник все просит стрептоциду. Она заподозрила. Врачу: «Да посмотри ты зад этому стрептоциду!» Оказалось, льюис.
Шофер молодой, красивый: «Глафира Антоновна! Я стесняюсь других, посмотрите меня!» Сифилис. – «Где же ты подхватил?» – «Да я не знаю – у меня в тот день пятеро было – и русские, и немки». Вот что творили!
Кланк с подозрением на шпионку посадили (уже в Берлине) в сарай. Там еще двое. Ей – кресло: «Садись, мамаша!». Повар прислал ей кофе и два пирожка. Там вот насчет немок сказала. Проверяли два месяца. Подымали по ночам, как партию пригонят (немок, стряпухи?). Мы брали мазки. Потом явились такие подозрительные: «Вот, доктор, у нас две оказались здоровы!» (Ехидно) Кланк: «Ну что же, проверим!» Оказалось, случайно с сестрой и подругой пришли.
Вскоре после окончания войны Кланк доверили целую поликлинику.
***
Кто воевал с именем Сталина против измышлений немецкой пропаганды, во всякой критике слышали отголосок ее.
Маруся (Фастова?) во всем видела предательство и вредительство. Такие, как она (очень прямолинейные, честные) остались на прежних позициях, они не очень-то принимают разоблачение культа. «Сейчас все валят на Сталина» – говорят они. Сейчас глаза у Маруси прозрели на все, что творится вокруг. И она упрекает Хрущева (это отголосок отношения к нему рабочих, которые его не очень-то жалуют, честят за все, на чем свет стоит).
1944 г. Возвращение домой. Демобилизация
 |
 |
 |
Мстислав Владимирович вернулся в свой старый дом в Марьиной Роще - деревянный барак, вросший в |
 |
Евгения Ивановна Яковенко. В эвакуацию она ехать отказалась и ждала Мстислава Владимировича |
 |
Мира Мстиславовна Яковенко, дочи Евгении Ивановны и Мстислава Владимировича. Она была в |
Об ополчении
3 июля Сталин призвал «братьев и сестер» на защиту Родины.
17 июля двадцать две ополченческие дивизии маршировали навстречу немцам. В этот день немецкие танки заняли Ельню, немцы находились в 350 км от Москвы. Все, чего немцы достигли к тому времени, было благодаря их танкам. Их основная армия – пехотные войска – двигались к фронту свежими, не участвовавшими еще в боях. Они могли подойти через 10-12 дней.
Создание народного ополчения – выдумка, вынужденная паникой.
С 1931 по 1937 гг. существовало так называемое «тыловое ополчение» – нечто вроде лагерей принудительного труда, но они скрывались не в недрах ГУЛАГа (Видимо, текст об ополчении был написан где-то годах в 60-х или позже, когда появился в официальной печати этот термин [прим. ОИЯ]), а в недрах военного ведомства. В батальонах тылового ополчения отбывали трехлетнюю службу достигшие призывного возраста сыновья лишенцев, кулаков, почему-либо находившихся на свободе.
В 1934-35 гг. было 90 таких батальонов. Военное ведомство как подрядчик принимало заказы на постройку железных и грунтовых дорог в самых гиблых местах, куда нельзя было заманить обычных рабочих, больше всего на Дальний Восток, где работало 60 таких батальонов. Состав их не имел никакого оружия, не [но?] носил петлицы и звездочку на фуражке. Обращение начальства было сравнительно человеческое при условии беспрекословного повиновения и выполнения стахановских норм на работе.
Ополчение июля 1941 года. Организовали его и формировали райкомы Москвы и ее военкоматы. Каждый район должен был формировать одну дивизию. Людей, обмундирование, транспорт должен был давать район. Оружие и военную технику – военное ведомство.
Районов было 25, но три из них были маломощны, и были присоединены к другим (22 дивизии всего). Все «добровольцы» были старше 40 лет (Не так - А Миша Мейер, а Запольский, а Левыкин и т.д.! Точнее: большинство «добровольцев» было старше 40-лет. В ополчение влились и те, кого военкоматы не успели мобилизовать – не справлялись. На общих собраниях они «добровольно» должны были вступать в Ополчение. Не вступать было нельзя, неприлично, бесчестно, и все вступали [прим. ММЯ]). Военное ведомство для каждой дивизии выделяло командира дивизии и ее начальника штаба.
3-го [июля] было выступление Сталина, а 4-го во всех учреждениях и предприятиях Москвы прошли вербовочные митинги. Все подымали руку. Тут же и начальство, и представители райкомов огласили списки лиц, которые нужны были предприятию и не могли быть отпущены, и вычеркнули явных калек. Остальным был приказ – на следующий день явиться на районные сборные пункты.
7 июля батальоны и полки были уже разведены по пригородам и окрестностям Москвы, где, приняв оружие, должны были нести охранную службу против диверсантов и десантов. 80% из них впервые держали в руках винтовку.
Многие думали, что ополчению предстоит тыловая служба. Вспоминали царские времена, когда бригады ополчения формировались одновременно с полевыми войсками для охраны железных дорог, мостов, этапных линий и прочих тыловых надобностей. Теперь полагали, что хотят освободить для фронта многочисленные части НКВД.
Но Сталин внутреннего фронта боялся не меньше, чем немцев, и тратить части НКВД не собирался.
Из ресурсов района формировались 4 штаба и 8 противотанковых бригад из тех же ополченцев. Тогда высший состав штабов, начиная с начальников управления и отделов, замещался кадровыми офицерами.
Не успели как следует сформироваться – приказ о выступлении. Четыре армии: 31, 32, 33 и 34-ая должны были к 20 июля расположиться для обороны на линии: гор. Волоколамск–Можайск–Малоярославец, приблизительно в 130 км от Москвы. Под Можайском линия обороны проходила точно по полю боя Бородинской битвы 1812 года.
Эта занятая ополчением линия образовала так называемый «центральный тыловой фронт». Его штаб был в штабе Московского военного округа на ул. Осипенко в Москве. Руководил им ген. Жуков. Настоящий фронт был в 250 км впереди у Ржева и Смоленска, где немцы приостановились, ожидая пехоту.
Ополчение получило задачу: возможно прочно укрепиться и быть готовым отрезать попытки прорыва немецких танковых групп к Москве. Восемь часов в день должны были рыть окопы и противотанковые рвы, и 4 часа затрачивалось на обучение и освоение оружия.
Для ополчения были наспех введены выдуманные новые штаты. Если норма для советской пехотной дивизии (стрелковой) была 14 500 человек, то в ополчении – 7 600 человек. Нормальная дивизия имела 2 полка артиллерии – легкой и гаубичной с 765 орудиями у обоих. Из них 12 пушек 76 мм и 64 гаубицы от 122 мм калибра. Зенитный дивизион из 9 орудий. Кроме того, в трех стрелковых полках полагалось иметь: 12 пушек 76 мм полковой артиллерии, 18 пушек 42 мм – противотанковых, 18 полковых минометов, 54 батальонных миномета, 81-83 ротных миномета. В дивизии ополчения имелся 1 арт. полк из 24 пушек 75 мм – польских, трофейных, и – более ничего.
Первые учебные выстрелы удалось сделать из этих пушек лишь в конце августа, когда была доставлена компрессорная жидкость польского состава, хотя появления танков можно было ожидать уже в июле.
Стрельбы с закрытых позиций батареи полка вести не могли: не было прицельных приспособлений, имущества связи и обученных расчетов. Эти же пушки должны были служить как противотанковые, но они были малоподвижны, не было тягачей, конных запряжек. Перевозились они, прицепляя их к грузовым машинам.
Нормальный стрелковый полк должен иметь в своих батареях и ротах 48 станковых тяжелых пулеметов Максима и 81 легкий пулемет Токарева. Полк ополчения получил вместо этого 48 тяжелых американских пулеметов Кольта на треноге с воздушным охлаждением, очень капризных в обращении и рассеивающих огонь. Никто их прежде никогда не видел и не имел о них понятия. Не было и инструкций. Они валялись на каком-то складе Ленинграда со времени Первой мировой войны. Полученные тогда из Америки, они и в царское время имели ограниченное применение.
Единственным оружием, имевшимся в достаточном количестве, были винтовки (?), но нужно было учить, как с ними обращаться.
В нормальной дивизии для ведения разведки полагался разведывательный батальон из роты легких танков, роты бронированных машин и кавалерийского эскадрона. В ополченческой дивизии имелся разведрота, которой было дано приблизительно 30 велосипедов, отобранных у населения Москвы.
Связь. Не было ни одного километра провода, ни одного телефонного аппарата. Взамен – несколько десятков велосипедов. Вся связь – на посыльных пеших и велосипедистах.
Инженерная служба. За названием «саперная рота» скрывалось приблизительно 200 чел. с винтовками – не стрелки и не саперы. Имели лопаты, топоры, несколько пил.
Каждая дивизия получала в Москве от своего района 300 полутора- и двухсполовинотонных грузовых машины, 5 легковых эмок и 300 отобранных у жителей велосипедов. Все – потрепанное. Командование дивизии должно было этими же средствами подвозить хлеб из Москвы (из своего района). Часть машин, поэтому, надо было выделить в транспортный батальон. Вторым потребителем были артполки, возить орудия надо было «шажком». Деревянные колеса были не на пневматическом, а на железному ходу, и рассыпались на мостовой при малейшем увеличении скорости.
На Можайской линии, пока до Москвы было недалеко и поскольку вооружения и техники почти не имелось, транспортных средств еще хватало.
Итак: дивизии имели по 24 нестреляющих пушки и по 144 ... – неизвестно, как из них стрелять, – пулеметов Кольта. Винтовки были образца 1891 года, но большинство ополченцев не умело стрелять и было малоспособно этому научиться.
Пехота немцев была еще далеко, ожидать можно было только танки.
Сначала никто и не подозревал, что из польских пушек нельзя стрелять. В Москве, при получении их, никто и не пробовал. Было некогда и некому, не было орудийных расчетов.
Только на пятый или шестой день стояния на Можайском рубеже в нескольких дивизиях были сделаны пробные учебные выстрелы, вызвавшие панику: ствол орудия каждый раз срывался с люльки и калечил людей. Почему – не понимали. Вызвали из Москвы специалистов...
Правда, нашлась еще противотанковая артиллерия: параллельно четырьмя штабами армий формировалось 8 противотанковых бригад. Они прибыли, и каждая дивизия получила по две-три трехорудийных батареи из этих бригад.
Каждая бригада имела от 16 до 24 зенитных пушек 83 мм. Средство это против танков при случае очень мощное, но как специально противотанковое – весьма неудобное. Очень тяжелая система орудия, с коробчатым лафетном тумбой, на роликах, а не на колесах. Ее без тягача и на метр не подвинешь. Раз поставленная на огневую позицию, в бою она не могла уже сдвинуться с места. В горизонтальном положении для стрельбы по танкам ствол пушки возвышался чуть ли не на 2 метра над землей. Это затрудняло зарядку и замедляло стрельбу. Сложно такую махину замаскировать, и прислуга при стрельбе, работая во весь рост, ничем не была прикрыта.
На дивизию, занимавшую 10-12 км, приходилось две-три батареи этих пушек, то есть, в лучшем случае, по одной пушке на километр фронта. Пушки эти обычно стояли по 2-3 штуки в затылок вдоль дорог, прорезавших фронт в 300-400 метрах одна от другой. Что-нибудь лучше было трудно придумать.
В этот критический момент власти снабдили ополчение, а затем и весь фронт, новым «противотанковым оружием»: возле каждого штаба полка или батареи высились, прикрытые ветками и присыпанные травой, штабели водочных бутылок с прозрачной, чуть желтоватой жидкостью, которую прозвали «сталинский коньяк». Каждый боец обязан был иметь такую бутылку, чтобы в нужный момент бросить ее в башню немецкого танка. Пролившаяся в щели горючая жидкость должна была вывести из строя немецких танкистов. Это средство было той же категории, что и приказ летчикам рубить хвосты у немецких мессершмиттов. Для него требовалась готовность к массовому самопожертвованию.
Вероятно, по всей стране трудно было сыскать менее подходящий боевой материал, чем эти 180 000 человек московского ополчения. Это были столичные горожане, не обладающие выносливостью и непритязательностью. Среди них не было даже рабочих, так как городские рабочие в большинстве были освобождены как специалисты. Было только небольшое количество лиц из непроизводственных и кустарных артелей, портных, сапожников, дворников, посыльных...
В основном же это были чиновники, несколько тысяч было научных работников. Много было среди них капитанов, майоров, полковников запаса разных технических специальностей. В армии большинство из них не служило, свои ранги получали по военному запасному учету за вузовские дипломы. Рядовым в одном полку был член-корреспондент Академии Наук Кулик – исследователь сибирских метеоритов. В другом полку солдатом был Аралов – член былого триумвирата Троцкий, Склянский, Аралов по Реввоенсовету республики времен гражданской войны. Как он уцелел?
В дивизии Ленинского района центра Москвы, где было много разных главков, трестов и наркоматов, число офицеров запаса превышало 30%, в некоторых ротах – 50%.
В Московском ополчении была элита народа – остатки дореволюционной интеллигенции и отборные старшие кадры новой советской. Власти жертвовали этой элитой, не моргнув глазом.
Большинство было солидными отцами семейств, отяжелевшими физически, но идеологией не перегруженные. Они никак не предполагали, что им придется защищать Москву с оружием в руках, да еще швырять бутылки в танки. Все они прошли положенную советскую обработку, да еще столичную, восприняли требующийся советский облик. Отношение их к власти и режиму было примерно следующее: «Существует советский режим, ничего не поделаешь, надо терпеть и славить Сталина. Не будет режима, исчезнет Сталин, хуже, во всяком случае, не будет». А тут многим стало казаться, что и режиму и Сталину приходит конец.
То, что среди них было много членов партии, много больше, чем в любой воинской части, на их настроении не отражалось. Безусловно, были власти сочувствующие. Но одно дело сочувствовать, а другое дело жертвовать собой для дела как будто проигранного... Носить бутылки было неудобно, и они причиняли ожоги. Каждый заботился, чтобы [бутылка] разбилась заблаговременно или при благоприятных условиях заменяли жидкость.
Артиллерийские эксперты не успели выяснить, почему не стреляют польские пушки. Ополчение двинулось навстречу врагу.
В ночь на 1 августа пришел приказ: немедленно выступать и к исходу 5 августа занять для обороны рубежи Сычевка–Сомлево–Спас-Деменск–Людиново. Приказ «волевой», выполнить его было невозможно: каждой дивизии пришлось бы пройти около 200 километров, то есть идти 5 дней по 40 км. Это превышало силы даже хороших полевых войск.
К вечеру 1-го августа полки и батареи перестали существовать, все расползлось и растянулось на десятки километров. В последующие дни мобилизовали весь свободный автотранспорт: колонны грузовиков, пущенные по маршруту дивизий, подбирали отставших и вывозили их вперед в пункты ночлегов. Выгрузив, возвращались за новыми. Это продолжалось до 7 августа, когда, наконец, ополчение собралось на новые рубежи и начало «организовывать оборону».
Можно было только удивляться, что встреча с танками противника не произошла. Ополчение ведь и было двинуто вперед в связи с угрожающим положением под Смоленском.
30 июля, дождавшись подхода армейских корпусов и наладив тылы, немцы двинулись вперед по обе стороны Смоленска и южнее от Критчева на Рославль, окружили и уничтожили там армию ген. Качалова и привели в полное расстройство две других, устремившихся за реку Десну. На Рославль прорвались и его заняли немецкие танковые колонны уже 1-го августа утром. Ничто не мешало им двинуться вперед, но действовали они почему-то очень вяло. Танки дальше не пошли. Пехотные дивизии, вытолкнув остатки не окруженных советских войск за Десну, дойдя до нее, тоже остановились. Ополчение остановилось в 30 км от Десны.
Гудериан в своих воспоминаниях не проливает света на такую странную остановку немцев. Мы узнаем только, что немецкая операция 1 августа с самого начала была ограничена узким заданием взятия Рославля и достижения Десны. Этим группа Гудериана завершила выполнение основного приказа и задачи, полученных еще до начала войны. Эти скрупулезные пунктуальность и точность, может быть, решающим образом отразились на судьбе Москвы и всей войны.
Зачем Москва двинула ополчение? Эти толпы пожилых штатских... Встретив танки, ополчение разбежалось бы. Официальной задачей было создать линию обороны позади основного фронта. Но ее могла создать и Можайская линия, где ополчение сидело до 1 августа. Но в последний момент Москва спохватилась, что Можайский рубеж так близко от Москвы и так далеко от фронта!
На оставленную Можайскую линию тотчас прислали других ополченцев: из Тулы, Калуги. Эти уже были ничем не вооружены, только с лопатами. Оружия больше не было. Они продолжали рыть противотанковые рвы и окопы. Для руководства этими работами оставили штаб 34-ой армии – так «наращивали» оборону Москвы!
На новой линии у Спас-Деменска в 30 км позади основного фронта прошел весь последний период существования Московского народного ополчения – почти два месяца.
Официально ополчение перестало существовать 1-го сентября. Ополченческие дивизии переименовали в обычные стрелковые, дали им новые номера и должны были их соответственно усилить. Прислали новые штаты: число человек в дивизии увеличилось с 7 600 до 10 000, но не до 15 000, как в нормальных.
Скоро стало известно, что внутри страны дивизии будут формироваться по этому сокращенному штату. Уже не добровольцами-ополченцами, а обычными запасными пополняли дивизии до нового состава очень быстро. Роты связи и саперные стали соответствовать батальонам. Людей было в них вчетверо больше, но имущества самого необходимого почти не поступало.
Еще в середине августа польские пушки начали, наконец, стрелять, получив компрессорную жидкость нужного «польского» состава.
Ополчение должно было укреплять занятый рубеж. Не только зарыться в землю, построить бункера и блиндажи, но и опоясаться непрерывным танковым рвом гигантских размеров: шесть с половиной метров ширины, два метра глубины. Несмотря на понукание Москвы, дело шло медленно, хотя к вечеру люди валились с ног.
Тогда Москва решила помочь. В конце августа каждый штаб фронтовых армий получил приблизительно такую телеграмму:
«Такого-то числа на такую-то станцию в ваше распоряжение [поступит] столько-то строительных батальонов примите и немедленно поставьте на рытье рвов и постройку бункеров». Например, 33 армия должна была получить по 10 батальонов, другие по пяти.
Телеграмма произвела ошеломляющее впечатление! Значит, тыл не парализован и не дремлет, он действует!
Один штаб запросил штаб (?) о составе прибывающих. Но там ничего не знали: едут по распоряжению Москвы.
2 сентября приемочные комиссии 33 и 42 армий собрались среди мрачных руин разбомбленной станции Спас-Деменска. После многочасового томительного ожидания неожиданно появился юный политрук, доложил, что привез 3 стройбата и просит их принять. Почему политрук, а не кто-нибудь из начальства батальонов, комиссию озадачило, но все оживленно направились к месту прибытия эшелонов.
Тупик у разгрузочной рампы. Вдоль бесконечного ряда товарных вагонов, среди полузасыпанных воронок и мусора копошилась серая масса неописуемо оборванных, заросших волосами и покрытых грязью людей. Ближайшие уныло и безучастно оглядывали приближающихся военных. «Концлагерники» – екнуло сердце...
Политрук развязно докладывал. Он – представитель Сызранского военкомата – привез в качестве сопровождающего три строительных батальона: 3 000 по 1 000 на батальон. Вот списки. Человек 90 не хватает, отстали, может быть доедут со следующими эшелонами. Просит заверить прибытие, он сейчас уезжает.
Кто-то из комиссии робко осведомился: «Как же батальоны организованы?». Политрук неодобрительно пожал плечами, выражая удивление такой непонятливости. Он же сказал, что «тысяча человек – батальон»! Добавил, что хлебом люди удовлетворены на сегодняшний день, горячей пищи со дня отъезда не получали. Председатель приемочной комиссии, полковник, вспылил: «Да что это за люди? Кто при них начальство? Разбиты они на роты, взводы? Имеют ли какое-нибудь имущество? Ну, хоть котелки и ложки, что ли?»
Теперь уже политрук обиделся. Он ясно доложил: 1 000 человек – батальон. Это и все. Никаких нет взводов и рот, нет котелков, нет начальства. А люди? Люди, понятно, запасные, из военкомата же!
Тягостное молчание. Со стороны Ельни прогромыхал близкий фронт, назойливо пел в вышине немецкий разведчик.
– Да..., строительные батальоны... – протянул, наконец, полковник, и вдруг прорвался: – Давай сюда твои списки, обормот, и можешь катиться, не нужен ты здесь больше! – сорвал он злость на несчастном политруке.
В этот и следующие дни на станцию прибыло еще 5 эшелонов, и набралось 18 таких батальонов, предназначенных для трех армий. Должно быть еще два, но куда-то их завезли, и они так и не прибыли.
В первый же день из Москвы поступил запрос:
– Сколько строительных батальонов поставили на работу и каков успех работы?
У большинства были разбитые лопаты. Около 300 человек пришлось сразу же отправлять в госпитали назад, в тыл, и несколько десятков свежих могил появилось на ближайшем кладбище.
Грязные, голодные, измученные люди... Целиком из запасных Гомелевских областей, из белоруссов-полещуков, призванных два месяца назад, в первую неделю войны.
В Гомелевскую область немцы пришли позднее, чем в другие области Белоруссии, поэтому военкоматы там успели призвать всех, кого положено. Но в соединения и части, куда призванные были приписаны, направить их уже не могли. Под угрозой надвигающихся немцев их направили на восток. К половине июля десятки эшелонов их скопилось на станции перед Сызранским мостом через Волгу. Дальше ходу не было. Путь был занят более важными перевозками. Всех высадили и приказали жить поэшелонно же в окрестных лесах. Так Припятские полещуки превратились в мордовских лесовиков. В лесах на время их просто забыли. Кроме нерегулярно получаемых 800 граммов хлеба, они ничего не получали. Выпросить, даже купить картошки в нищих мордовских колхозах было невозможно, а новая еще не выросла...
Люди, уходя из родных деревень в летнюю жару, одевали, что полегче, шли даже босиком, чтобы не обижать семью. Предполагали, что через пару дней получат солдатское и выбросят надетое... Пришлось плести лапти и выпрашивать у сердобольных баб какую-нибудь сермягу, чтобы не дрогнуть по ночам. В этом и приехали копать рвы... В последних числах их в сверхпожарном порядке собрали представители военкоматов и районного МГБ и отправили на запад.
Три дня и три ночи без перерыва провели усиленные приемочные комиссии на станции Спас-Деменск, организуя прибывших в роты и батальоны, направляя на место работы. Мелких начальников отобрали и назначили из запасных же старшин и сержантов. На старшие должности потянули из ополченческих дивизий сотню технических майоров и полковников, стоявших там, в строю простыми солдатами. Нашли среди приехавших несколько десятков забитых деревенских коммунистов. Может быть, у себя в колхозе они были грозой, здесь же – слиняли. Можно было предположить, что их было больше, но, по-видимому, большинство предпочитало не признаваться, т. к. в списках ничего, кроме имен и фамилий не было. Все-таки из назвавшихся сформировали традиционный партаппарат.
Десятки присланных из армии грузовиков подвезли хлеб. В раздобытых в разбитом городе котлах варили картофельный суп с кониной.
Но как они будут питаться и существовать на месте работ? У них не было ни одной лошади, ни одной повозки, ни ложки, ни плошки, люди чуть ли не голые! Армия запросила Москву. Пока что приказали находиться во всем на иждивении ближайших к работам деревень, требовать, просить продукты, посуду, лопаты и мотыги. Несколько тысяч примитивных, самодельных лопат должны были дать дивизии.
Убожество смоленских и калужских колхозов, да еще обглоданных уже войной... Колхозный скот давно угнали в тыл...
Правда, хлеб обещали подвозить, по возможности, из запасов армии.
Москва ответить не торопилась, а когда, наконец, ответила, то ответ заставил командование оторопеть... Под личную ответственность командиров запрещалось давать стройбатам какое-либо продовольствие и вообще что-либо из своих ресурсов! Ни одного пайка на батальон не должно было быть дано! Приказывалось расследовать и донести, сколько, кем и что уже выдано для наказания виновных, указывалось, что о батальонах должно заботиться НКВД через свои строительные тресты.
Только через два дня в районе 41-ой армии удалось обнаружить экскаваторный отряд стройтреста НКВД из нескольких сотен уголовников. Оттуда заявили, что никаких указаний свыше не имеют и никакими средствами, в первую очередь транспортными, не располагают. Тщетно пыталось и военное НКВД выяснить вопрос и побудить НКВД гражданское что-нибудь предпринять. Так и остались беспризорные батальоны на подножном корму. По 600 гр. хлеба армия продолжала давать на свой страх и риск. Он был не особенно велик: можно было списать на бомбежки и всякие стихийные бедствия. Картошку и капусту батальоны завоевывали в деревнях в порядке военного коммунизма. Кое-что просто воровали.
С 20 сентября над Центральным фронтом снова стали сгущаться грозовые тучи. К этому времени немцы разгромили и окружили под Киевом 6 советских армий, взяв в плен 700 000 человек со всем их добром. Танковые и моторизованные дивизии немцев потянулись позади фронта обратно на север к Рославлю и Смоленску. Вернулась авиация и начала громить советские тылы в направлении к Москве.
1 октября на всем 300-километровом фронте, включавшем вместе с ополченческими дивизиями 8 советских армий от Глухова на юге до Сычевки на севере, немцы начали наступление по трем главным направлениям: на Севск-Орел на юге, с Рославля на Юхнов в центре и на Белый-Можайск на северном крыле. Прорезав, как масло, фронт, танковые клинья устремились вперед, выбрасывая в стороны отсекающие пути отхода заслоны, громя и парализуя тыл. Этот удар привел немцев к быстрому и решительному успеху. У очевидцев и участников войны операция эта известна под названием «Вяземское окружение».
К 7 октября все советские войска атакованного 300-километрового фронта, все 8 находившихся на нем советских армий барахтались в трех изолированных друг от друга мешках-окружениях: вокруг г. Трубчевска на юге, в Брянском районе в центре и в самом большом, Вяземском, на севере. Здесь были захлопнуты сразу 4 армии: 42-ая и 29-ая на фронте и две ополченческие – 33-ья и 32-ая на второй линии. Кольцо замкнулось вокруг них в Гжатском районе. Поэтому маршалу Буденному со штабом центрального фронта пришлось освободить этот пункт, а 22 октября сам штаб был освобожден от маршала Буденного, уволенного из армии. Дивизия народного ополчения без выстрела разбежалась, когда немцы до них дошли, некоторые и раньше.
За несколько дней до 1 октября несколько дивизий, считавшихся лучшими, были даже выдвинуты вперед на основной фронт по Десне. Это были: 9-ая генерала Боброва и 17-ая полковника Козлова. Их судьба от этого не изменилась: пришлось в колоннах военнопленных двигаться на запад. Примерно 1500 человек из «строительных батальонов» закончили свои дни в «лесном» лагере военнопленных под Минском.
Вся польза от двадцати двух созданных дивизий народного ополчения выразилась в той затрате сил и времени, которые понадобились немцам, чтобы выловить, собрать и отконвоировать ополченцев в лагеря.
Но созданием ополчения был «убит крупный зверь» – мужчины всех возрастов, способные еще двигать руками и ногами, сделались сразу автоматически военнообязанными, как бы призванными. Теперь они, например, должны были уходить от немцев вместе с войсками, иначе, оставаясь на занятой территории, они становились изменниками. Каждый обязан был браться за винтовку, лопату, за все, за что прикажет начальство.
Два с половиной месяца руководство скребло везде, где только можно, подпирая фронт, оборонявший Москву. За одну неделю вся постройка рассыпалась как карточный домик.
На протяжении 300 километров от фронта и войска, его составлявшего, не осталось ничего. В трех названных выше мешках попало в плен 670 000 человек, и к весне последние остатки московской интеллигенции лежали в братских могилах. Под немецкой опекой в эту зиму пережили единицы, и жребий этот выпал, понятно, только на долю более молодых.





