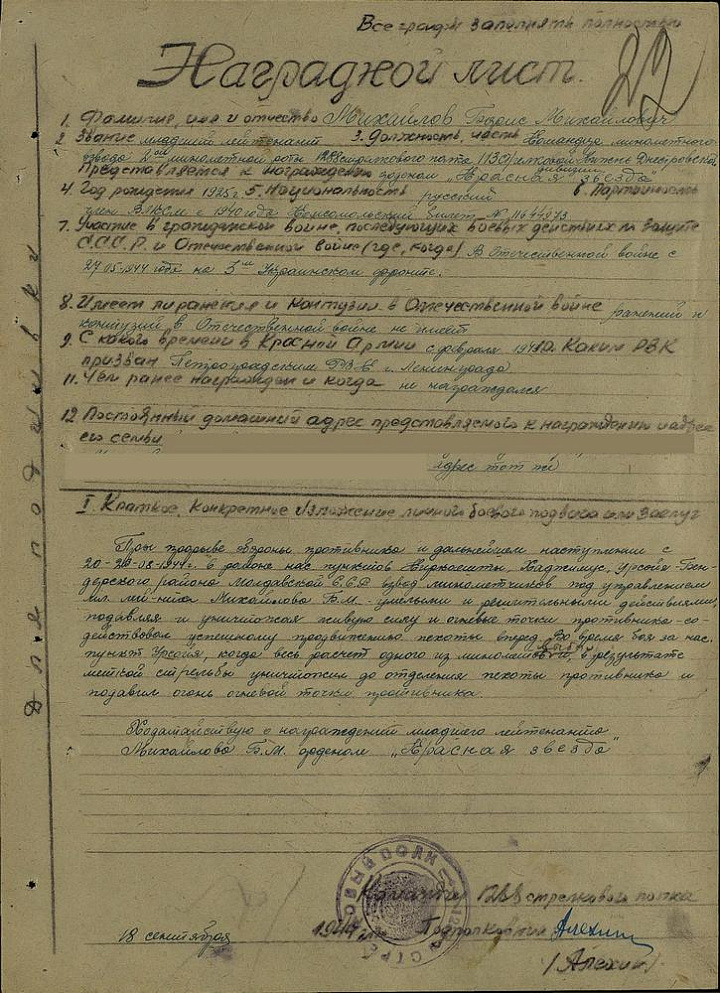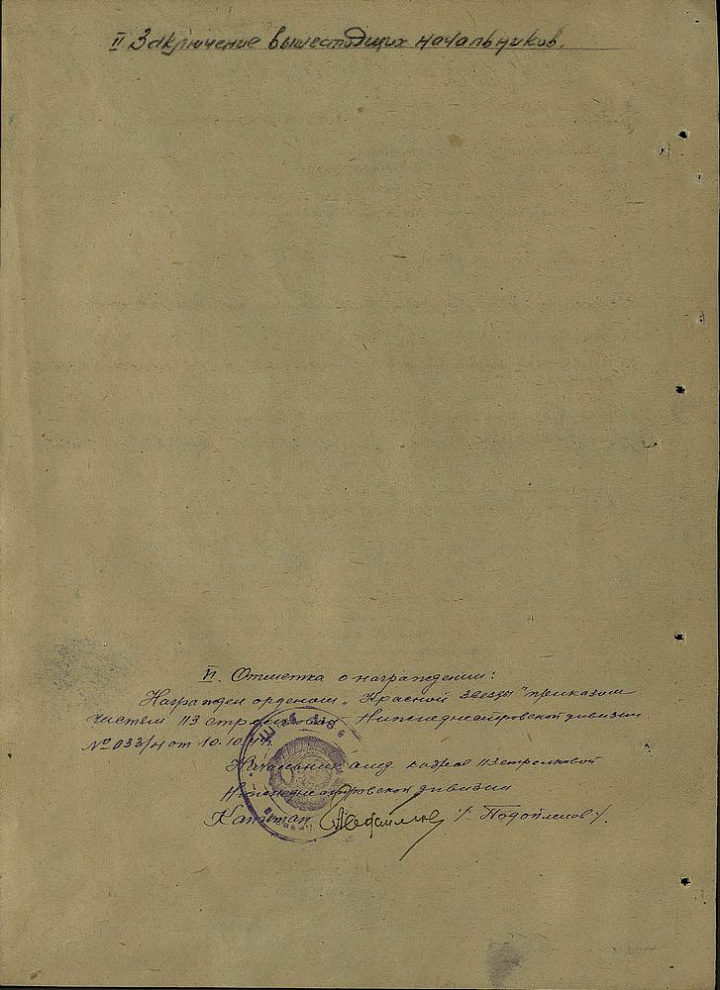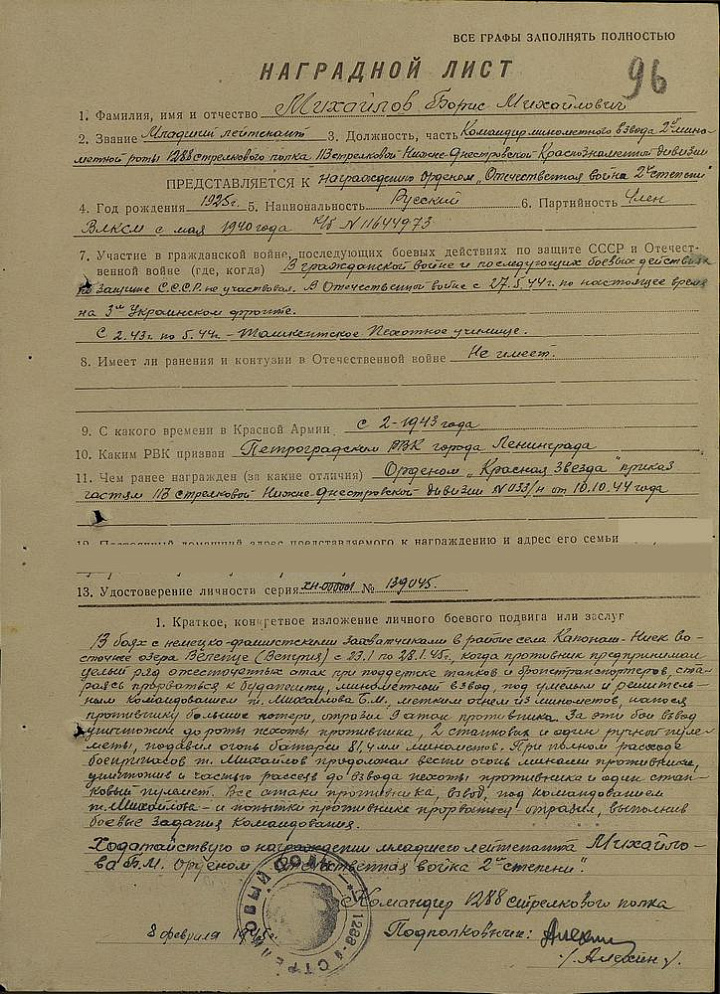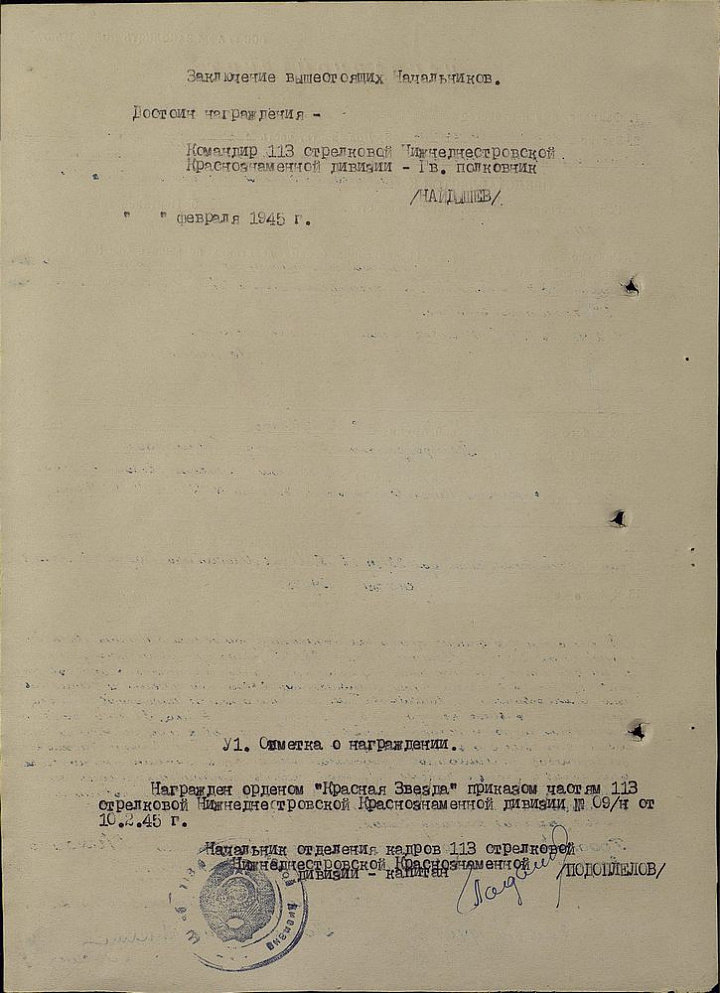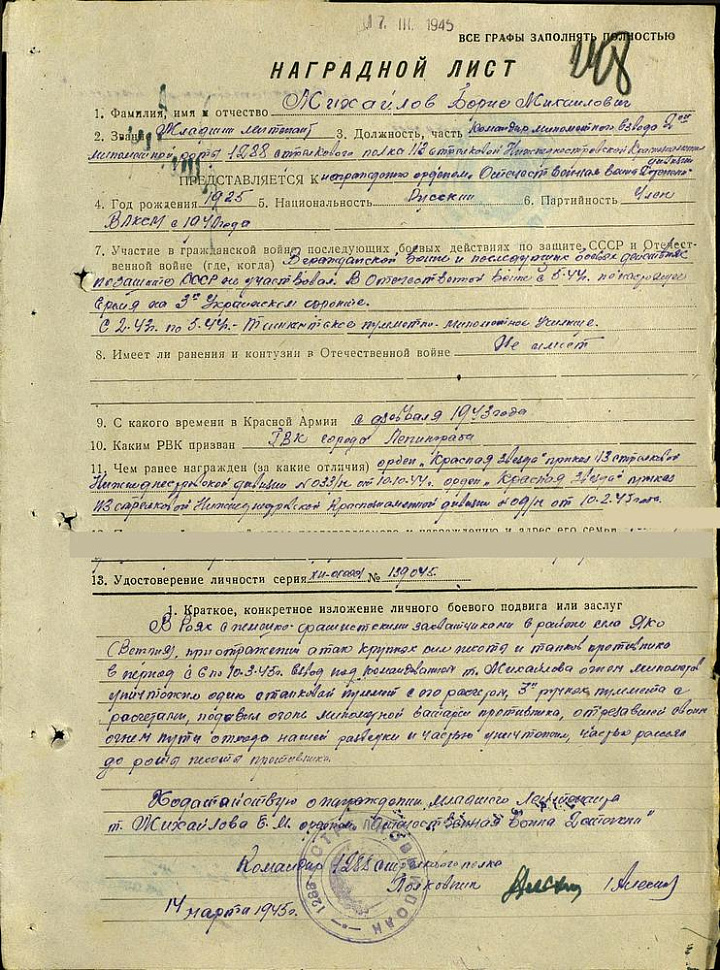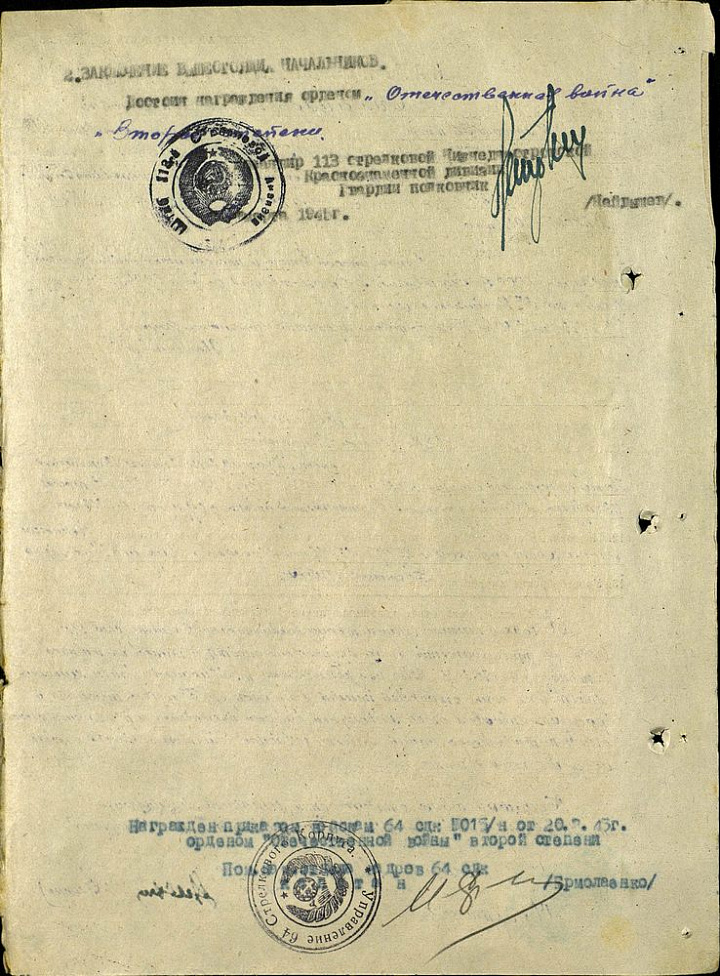Из книги “На дне блокады и войны”. Автор Михайлов Б.М. СПб, Изд-во ВСЕГЕИ. 2001. 454 с.
Борис Михайлович Михайлов после окончания училища (Из архива Б. М. Михайлова) |
Я, Михайлов Борис Михайлович, родился в 1925 г. в Ленинграде. На Советско-германский фронт - на Заднестровские плацдармы прибыл 9 мая 1944 года после окончания офицерского пулеметно-минометного училища (г. Термез).
В должности командира взвода 82 мм минометов 2-го батальона 1288 полка 113 стрелковой дивизии (бывшей 5-ой ополченческой Фрунзенского района Москвы) прошел от Молдавии до Австрии, где в апреле-мае 1945г был дважды ранен. К этому времени я оставался последним солдатом пехотного батальона, начавшим боевой путь с Днестра.
За год непрерывных наступательных боев наш полк неоднократно выводили в тыл из-за огромных людских потерь. В стрелковых ротах оставались единицы солдат и ни одного офицера.
Моя родная 113 дивизия вышла на Днестр в апреле 45 года, будучи обескровленной тяжелыми боями на Правобережной Украине, но все же остатки ее пехоты сумели переправиться через Днестр и закрепиться там на Шерпенском плацдарме.
На Правобережной Украине стрелковые подразделения дивизии пополнялись в значительной части “чернорубашечниками”. С этим словом, изобретенным немецкой пропагандой и запрещенным советской цензурой, я заочно познакомился еще по дороге на фронт, встретив на бруствере брошенного окопа листовку - пропуск для сдачи в плен.
- Рiднi братя, украiнцi! Чорнорубашечники! Росiяни гонят вас як скiт на убой пiд дулами своих автоматiв. Вам не довiряют новоi зброi, не обучають современной войне, а также не дають обмундирования - все равно смерть! Повертайте зброю протiв ненависнiх жидiв-комiсаров! Переходьте до нас. Тут ви зустрiнете своiх истиных друзiв - борцiв за самостийную Украiну, незалежну от Радяньской тиранii...”
Направление на передовую чернорубашечников, то ест не обмундированных в военную форму призванных полевыми воекоматами и “непроверенных” украинцев было вызвано разными обстоятельствами и, в первую очередь, большими потерями наших пехотных частей в кровопролитных наступательных боях десяти сталинских ударов сорок четвертого года.
На Шерпнский плацдарм я не попал, хотя и был туда направлен. Именно в этот день - 9 мая во время смены частей немцы атаковали боевые порядки дивизии. Началась паника. Пехота побежала. Мало кто из солдат перебрался с плацдарма на “материк”. В минометной роте к моему появлению осталось несколько солдат и один офицер. Наша рота, как и все пехотные части дивизии пополнялись собранными по деревням Одесской области “белобилетниками” - больными и старичками , каким-то образом избежавшими призыва полевыми военкоматами. Практически все они служили в Красной армии и по различным чаще неафишируемым причинам оказались на оккупированной немцами территории, где безбедно прожили три военных года. Большой любви к русским, к возвращению в колхозы у них я не наблюдал.
Все летние месяцы на нашем фронте шли “бои местного значения”. Красная армия готовилась к Битве за Балканы. Эта битва началась на заднестровском Тираспольском плацдарме У11 Сталинским ударом, который вечевым колоколом гремел над Балканским полуостровом и всей юго-восточной Европой долгих три месяца, оповещая мир о скором крахе немецкого вермахта. Весь август-сентябрь-октябрь советские войска, не считаясь с потерями, громили фашистов и их сателитов в Румынии, Югославии, Венгрии. Только в ноябре 1944 года 11 и 111 Украинские фронта вышли на венгерский отрезок Дуная, захватили правобережные плацдармы и завязали бои на подступах к Будапешту.
ПРОРЫВ НА БАЛКАНЫ
“Избранный для прорыва участок фронта (Тираспольский плацдарм - Б.М.) представлял большие неудобства, но зато давал крупнейшие оперативные выгоды [Малиновский. Ясско- Кишеневские Канны. М. Наука.1964.]
Об оперативных выгодах я в то время ничего не знал, поэтому буду говорить только о неудобствах.
Итак, до прорыва остались считанные дни. Вот-вот взлетят ракеты. Мало кто взойдёт на этот косогор. По крайней мере, половина твоих боевых товарищей будет похоронена здесь. Половина шансов за то, что ты останешься лежать в болоте, либо на косогоре, а другие - живые пройдут мимо, оставляя работу похоронным командам и медсанбатам. А пока...
Все ночи напролёт мы укрепляем и без того высокие брустверы, тем самым наращивая глубину окопов, строим землянки, рубим, пилим, маскируем. А утром солдаты, как убитые, валятся спать. Над всем передним краем тревожной мглой висит сознание близких грозных перемен. Кажется, весь воздух пропитан тревогой...
РАЗВЕДКА БОЕМ
- Командиры взводов, к командиру роты!
Спросонья я ничего не понимаю, но ноги сами бегут куда надо. Булганов, хмурый и напряжённый, только вернулся от командира батальона. Тревога моментально передаётся нам, заставляет быть до предела внимательным: наш полк вместе со штрафниками участвует в разведке боем!
Что это значит?
Для начала это значит, что большинство из нас не должно дожить до послезавтра. Но не об этом говорит Булганов. Он медленно рассказывает диспозицию:
-На рассвете 18 августа на участке 113 дивизии в первый ряд окопов придут штрафники. Пехота нашего 1288 полка отойдёт на вторую линию окопов. Два другие полка (1290 и 1292) уйдут во второй эшелон. Артиллерия всех полков нашей дивизии (включая и миномёты-“самовары”), останется на месте и будет “имитировать артподготовку прорыва”, то есть стрелять сорок минут, вызывая немецкий огонь на себя. После артподготовки штрафники поднимутся в атаку, а пехота 1288 полка займёт их места. Немцы, решив, что прорыв начался, откроют огонь. В это время наши наблюдатели всех родов и видов войск (которые ещё гуляют в приднестровских сёлах), будут наносить на свои планшеты обнаружившие себя огневые точки противника.
Задача пехоты - не вылезая из окопов, кричать “ура” и не пускать обратно штрафников;
задача штрафников - своей смертью помочь выявить огневые точки противника;
наша задача (в чём-то сходная с штрафниками) - как-то держаться и буквально на глазах у немцев стрелять сорок минут под прицельным огнём артиллерии “Неприступного Днестровского вала”.
Булганов уходит в пехоту на НП. Я остаюсь старшим на позиции. Связь по проводу.
Мы вернулись во взвода. Одно спасение, если оно есть, - копать. Пусть вода, пусть по колено, по пояс - только копать! Маскироваться бесполезно - всё на виду!
И мы копаем под неумолчный зуд августовских ещё более злых комаров в болотной духоте тростниковых зарослей. Вечер, ночь не приносят прохлады. Кухни где-то застряли. Посланные за ними солдаты заблудились и только к вечеру принесли сухой паёк. Мы безразлично жуём хлеб с американской свиной тушёнкой, запивая вонючей болотной водой...
Подводы, тяжело гружёные ящиками с минами, вязнут в непролазной грязи. Измученные, в кровь избитые ремнями и палками лошади, искусанные слепнями и некормленые, обессилено ложатся в болотную ижу. И не поднять, и мы на себе таскаем мины связками через плечо.
17 августа из госпиталей, медсанбатов, санрот на передовую вернулись все малярики - “Болеть будете потом!”.
К нам в роту пришло человек 10-15. Жёлтые от хины и акрихина, измождённые постоянными приступами, они были плохими помощниками, но всё же... Рота выглядела вполне солидно. Человек тридцать на довольствии (полтора литра спирта в день!)...
Первый приступ малярии у меня был сразу, как мы пришли в болото. Но я не придал этому большого значения, а точнее, не разобрался: в 19 лет здоровое тело легко переносит временный подъём температуры, озноб... Это не семьдесят, когда уже при 37о жуёт кости, ломит голову. Следующий приступ схватил меня через день, когда копали окопы - было не до малярии. По-настоящему она взялась за меня именно в ночь на 18 августа, когда после двух бессонных комариных ночей пришла третья - решающая.
Я пошёл встречать заблудившуюся в тростниках телегу с минами. Долго лазал, кричал, мне отзывались, но я каждый раз выходил на чужие позиции. Наконец понял, что заблудился и дорогу назад не найду. Голова кружилась, всё тело тряслось от озноба. Подкосились ноги. Я сел около какой-то телеги, стоявшей прямо на дороге. Началась рвота... Потом всё было в полудрёме. Ездовой солдат узнал меня, взвалил на повозку с минами, привёз на позицию, уложил на сухой тростник. Я забылся... И вот...
“Редеет мгла ненастной ночи,
И бледный день уж настаёт,
Ужасный день...”
Пока я лежал на тростнике особых происшествий не произошло. Немцы вели беспорядочный обстрел переднего края. Мы стояли метрах в трехстах за пехотой, и к нам снаряды долетали редко. Лишь одна тяжёлая мина угодила в повозку, как раз в ту, которая поздним вечером привезла меня. Ездового закопали здесь же, в одной из болотных луж.
Приступ кончился ещё до артподготовки. Я чувствовал себя вполне сносно, хотя ночные 40о ещё давали себя знать.
Все на местах... В небе три красных, три зелёных: начало!
Я у телефона. Голос Булганова:
- Цель номер один! Десять минут беглый огонь!
Расчётные данные выверены с вечера. Команда чётко передаётся по взводам. Немного вразнобой слышатся выкрики командиров отделений:
- Огонь! Огонь! Огонь!
Привычно чавкают миномёты. Может быть только чуть торопливее снуют подносчики мин и заряжающие. На роту отпущено 600 мин. Через наши головы с редкими интервалами, будто не спеша, летят снаряды полковой артиллерии: пушки- гаубицы 76-мм, звонко пулькают сорокопятки. Через 10 минут смена цели: заряжающие вставляют в стабилизаторы дополнительные заряды:
- Огонь!
...И тут завизжали первые немецкие мины и снаряды - беглый массированный налёт на нашу позицию. Солдаты трёх расчётов бросились в щели.
- Назад!
Я бегу к миномёту и одну за другой пускаю мины, уже не глядя на установку прицела. Вдали вижу Юрку. Он возится у миномёта: плиту засосало в болото, и труба никак не опускается до нужного прицела. У Николая как будто всё в порядке. Одна за другой с его миномётов летят мины. Я уже не командую. Связи с Булгановым нет. И Юрка, и Николай сами переносят огонь в сторону, в глубь обороны, обратно... Прошло двадцать минут. Осталось ещё двадцать. К миномётному обстрелу подключилась тяжёлая немецкая артиллерия. Первый снаряд ухнул слева... второй... третий... Земля заходила ходуном. Один Юркин солдат как-то странно задом влетел в наш окоп и закрутил обалделыми глазами. Он нёс мины. Снаряд попал в бруствер. Весь расчёт его убит, миномёт покалечен. Юрка был в другом окопе. Солдат контужен. Его затащили в землянку.
- Мины! Мины! Давай стреляй!
Новый налёт. Я пробегаю по окопам. В испуге уже не подвластном разуму, солдаты бросаются в щель, дальше в землянку. Вижу, как командир отделения Замурай последним закрывает своим тщедушным телом вход. На позиции один заряжающий. Я выверяю прицел:
- Давай! Давай!
В проходе ещё несколько ящиков с минами. Часть их разбросано взрывной волной и встало на боевой взвод.
- Тащи мины!
Разрыв! Меня больно ударяет о стенку хода сообщения. Весь ход засыпан. Мокрая пыль - пороховая или земляная - залепила лицо, гимнастёрку. Я на четвереньках лезу туда, где только что в стенку хода сообщения ударил тяжёлый снаряд. Задом ко мне на приступке землянки, странно согнувшись, сидит Замурай. Низ гимнастёрки в крови.
- Эй, живы? Вылезай!
Оттуда никто не отзывается. Я тяну Замурая за плечо. Он молчит. В землянке шорох.
- Кто там есть? А ну, помоги вытащить!
Испуганно между Замураем и мной вылезает солдат, он пытается что-то сказать, но только мычит...
Артподготовка кончилась, и там на передке штрафники пошли в свою последнюю атаку. Немцы перенесли огонь на наступающие цепи. А у нас...
Подошёл старший сержант - командир соседнего отделения: они живы и расстреляли все мины. Мы втроём пытаемся вытащить Замурая, чтобы узнать судьбу других, сидящих в землянке. Замурай мёртв. Я залезаю на бруствер, старший сержант подаёт мне руки Замурая. Я тащу... легко... Оказывается, осколками его перерезало пополам. До сих пор в глазах стоит та картина: руки, голова, туловище..., а ноги остались там. От них по стенке хода сообщения потянулись разноцветные потроха. А дальше в темноте землянки застывшие в ужасе глаза одесских “земляков”... Над лесом ни с того, ни с сего завизжали снаряды немецкой дальнобойной артиллерии. Кто был рядом, попадали на дно окопа. Я знаю по звуку - перелёт, но знают ли это снаряды? На всякий случай присаживаюсь на корточки и прижимаюсь к своей половине трупа... Пронесло! “Давай ноги!” Замурая мы похоронили под ивами.
В тот день наша рота потеряла более трети своего состава и ещё один миномёт. Офицеры все остались живы. Ранен только Николай - побита рука. Он сидит забинтованный. Мы не знаем, уйдёт он или нет - решать ему самому. Николай остался и ... совсем нелепо поплатился за это жизнью. Но иначе он не мог. Я думаю, так бы поступило большинство офицеров того времени.
Пришёл Булганов и долго ходил по разбитой позиции. Оставшиеся в живых молча сидели или лежали кто где. Ничего не хотелось. Я не помню никакой радости, удовлетворения, чувства выполненного долга... Нет!
У меня гимнастёрка вся заляпана неизвестно чем, на ней и на руках кровь Замурая, но нет сил помыться...
Малярия, будто чувствуя безнаказанность, перешла в сплошной безостановочный приступ. Булганов обещал достать хину и спирт...
Следующие две ночи на 19 и 20 августа весь плацдарм гудел мощными тракторами, тягачами, машинами. На плацдарме собирался кулак прорыва. Кажется, на этом куске земли не оставалось ни одного свободного места, а с того берега через переправы всё шли и шли танки, пехотные батальоны, “катюши”, “андрюши” и пр., и пр. 240 стволов на километр фронта! Это значит один ствол на 4 метра. На позиции выходила вся артиллерия фронта. Огромные для нас 122 и 152 мм пушки, новые “катюши” и ещё какие-то чудовища, встречавшиеся нам только на тыловых дорогах, выползали на край нашего болота и подымали вверх свои стальные хоботы.
За последнюю ночь рядом с нами ствол в ствол встали миномётные роты двух других полков нашей дивизии, буквально за нашей спиной тяжёлые 120 мм миномёты, даль - пушки-гаубицы.
В ночь на двадцатое был получен приказ о наступлении. Я плохо помню, как мы его восприняли, так как эти два дня для меня превратились в сплошной малярийный приступ. Я пожелтел и превратился в еле подвижную мумию.
Два дня к нам возили мины. Вместо двух разбитых миномётов из обоза принесли запасной. На место убитых и раненых пришли наши обозники. К роте временно прикомандировали полковых “шестёрок” - писарей, парикмахеров и пр. Опять собралось человек тридцать. В самых деталях мы договорились с Булгановым, что делать, если прервётся связь, куда идти, где назначается встреча, и т.д. Правда, завтра всё это окажется ни к чему, ибо искать Булганова можно будет уже только на том свете...
ПРОРЫВ
В ночь на двадцатое никто не спал. У нас уже часам к трём всё было готово, и солдаты томились у миномётов, как провожающие на перроне.
Перед артподготовкой я заглянул в землянку к Николаю. Он хрипло дышал и был в каком-то забытьи. Я хотел уйти, но он открыл глаза - красные, воспалённые. От него несло нестерпимым болезненным жаром. Торчащие из-под бинтов пальцы в призрачном ночном свете были неестественно чёрными. Теперь-то я знаю, что у него началась гангрена и нужна была срочная операция, но тогда... “Потерпи немного. Сейчас отстреляемся и тебя увезут!”
Наконец, откуда-то сзади, буднично и лениво поднялись несколько ракет. Те или не те? Те!
Когда рядом с тобой стреляет пушка, то рекомендуется затыкать уши, чтобы не порвались барабанные перепонки. А как быть, когда одновременно начинают бить тысячи и десятки тысяч стволов?!
Я не знаю. что делалось у немцев, но у нас всё болото ходило ходуном. За два с половиной часа нам следовало выпустить все привезённые на позиции 2000 мин.
После первых массированных залпов “катюш” и тяжёлой артиллерии немцы открыли бешеный ответный огонь. Но и им, и нам было ясно: “Немцам капут”! Гремело и рвалось всё вокруг. Сквозь сплошной рёв еле-еле прорывались крики команд. Куда, какие и чьи снаряды летели?!
Это было не 18 августа! Немецкие пушки и миномёты, стоявшие на передовых позициях, уже минут через 15 - 20 одна за другой “приказывали долго жить”. Косогор был весь в дыму, и из этого сплошного ада протуберанцами вверх вылетали столбы пыли и огня от разрывов снарядов тяжёлой артиллерии. Никакого прицельного огня уже нельзя было вести, и артиллерийские наблюдатели лишь смотрели на общий итог своей подготовительной работы.
Дольше действовала немецкая тяжёлая артиллерия, скрытая на дальних закрытых позициях. Её давили наши штурмовики, безраздельно господствовавшие в воздухе. Немецкие самолёты, по-моему, и не появлялись над плацдармом.
Прошёл час. Мы первый раз переносим огонь на вторую линию обороны.
Телефон в моей землянке. Прибежал солдат:
- Миномёт разбит! Лейтенанта убило!
Я почему-то решил, что Юрку. Бросился в его сторону, но оба Юркиных миномёта стреляют нормально. Сам он рядом, торопливо черпает воду пилоткой и поливает стволы миномётов. До них уже нельзя дотронуться, - вода кипит. Убит Николай. Снаряд попал в угол землянки. Там всё разворочено и бесполезно что-то откапывать... Немецкая тяжёлая артиллерия продолжает бить. Их снарядам не надо искать цели - они повсюду. Ещё час...
Наконец мы уже окончательно переносим огонь вглубь обороны, и в заложенных от стрельбы ушах неясным гулом впереди по окопам катится: “Ура-а-а-а-а-а!” Пехота пошла в атаку! Ожили невесть откуда взявшиеся огневые точки немцев. Пулемётные, автоматные очереди. Это обречённые остатки недобитых фрицев в упор расстреливают атакующих. Сейчас самый ответственный момент - добежит ли пехота до немецких окопов? Этого с замиранием сердца ждут все: танки, пушки, генералы и сам Сталин в Кремле. Она должна добежать, с любыми потерями! Пусть два, пусть один наш солдат будет в передней линии немецких окопов. Все мы ему поможем! Иначе вся артподготовка, все выпущенные миллионы снарядов - пустое дело.
Мы переносим огонь ещё дальше. Стрельба идёт на полных зарядах, то есть на три километра. При каждом выстреле миномёты вздрагивают, как ретивые кобылицы. Из-под плит, глубоко ушедших в болото, вылетают струи вонючей болотной воды и чёрная грязь. Солдаты все заляпаны ею, но уже радость торжества, радость победы, жизни светится сквозь грязные сморщенные малярией лица. Разбит ещё один миномёт с расчётом. Кто-то орёт, стонет, но всё равно - Победа! Её ничем нельзя запачкать, ни с чем спутать, она как алмаз будет сверкать в куче грязного гравия, поднятого с плотика.
Я ловлю ухом стрельбу оставшихся трех миномётов. Вдруг один (мой!) замолкает. Бегу по ходу сообщения. Там толпятся солдаты... окровавленные бинты, крики... Объясняют: в спешке заряжающий не успел убрать руку от ствола, и вылетевшая мина сорвала кожу с мясом до кости. У другого - его земляка то же самое. В добавок к этому ещё и оторвало палец. В то время я не придал значения странному совпадению, а просто встал на его место: ведь артподготовка ещё продолжалась и мины были. Потом, уже на следующий день, а может быть, и позже, ротный писарь мне “тайно шепнёт”, что эти двое земляков - самострелы. Они давно таились вместе и думали, как бы сбежать. Кто знает, как всё это было на самом деле. Ведь измазать человека так просто, а отмыться - ой, как тяжело!
В суматохе с солдатами я не обратил внимания на наступившую вокруг тишину (уши у всех были заложены). Бежит штабной майор:
- Какого вы ... по своим бьёте! Пехота уже в третьей траншее! Вперёд!!”
Телефон молчит. С трудом вытаскиваем из болотной жижи миномётные плиты, связываем оставшиеся мины... Почему-то солдат стало очень мало... Оказывается, все полковые “шестёрки” без разрешения смылись с позиции. Юрка пытался их остановить, но ему на ходу бросили: “Нас придали только на время артподготовки!”. К этим “шестёркам” я ещё вернусь, когда меня заставят писать на них наградные листы. А сейчас не до этого. Нас только-только хватает на миномётные вьюки. Юрка сам тащит ствол. Я навешиваю на себя две связки мин (32кг!), и мы трогаемся вперёд, оставив телефонистов сматывать связь.
Окопы нашей пехоты на краю болотного кустарника пусты. На брустверах, в ходах сообщения валяются шинели, каски, сапёрные лопатки и даже вещмешки штрафников. Всё это уже не нужно их хозяевам. Мы тяжело перелезаем через окопы там, где они разрушены снарядами, и боязливо идём по полю, вчера ещё бывшему ничейной землёй - ведь поле минировано и нами, и немцами! Стрельба идёт спереди и с флангов. Мы, пригибаясь к земле, бегом-шагом преодолеваем поле. За нами охотятся немецкие пулемёты. Но они далеко и не могут вести прицельного огня. Всё же двое ранены. Мы им не можем даже дать сопровождающего - некому нести миномёты и мины.
Наконец, немецкие окопы, перепаханные нашей артиллерией так, что иногда трудно определить, где был окоп. Немецких трупов почти нет. Немцы в любых обстоятельствах делали всё, чтобы унести не только раненых, но и убитых. Но они были. Потом об этом скажет пленный командир 9-ой пехотной дивизии немцев, которая стояла против нас: ...”Моя дивизия занимала выгодные для обороны позиции. Уже в начале наступления мои полки понесли огромные потери от артиллерийского и миномётного огня. Вскоре наша дивизия оказалась в окружении” [Москва № 9, 1984]. Надеюсь, что наши 2000 мин внесли в эти “огромные потери” свою лепту.
И раз уже я отвлёкся, - две коротких цитаты из генеральских мемуаров, поясняющих наши действия
“Ударом с плацдарма южнее Бендеры (это наш Тираспольский плацдарм - Б.М.) в направлении Хуши окружить и уничтожить во взаимодействии со 2-ым Украинским фронтом 6-ую немецкую армию. Главный удар предстояло нанести 37-ой и частью сил 57-ой и 46-ой армий на участке шириною 18 км. ...57-ая армия получила задачу одним своим корпусом (это наш 68 корпус - Б.М.) прорвать оборону противника севернее оз. Ботно и наступать в направлении Золотнянка”.[Р.Я.Малиновский . Ясско- Кишинёвские Канны, М., Наука, 1964].
Что мы и делали.
Мне трудно удержаться, чтобы не прокомментировать следующее предложение из той же книги Р.Я. Малиновского и показать, насколько генералы были далеки от солдат:
“Ну, что же, придётся повторить то, что было на Волге” - говорили между собой солдаты, когда узнали, что перед ними обороняется 6-ая армия”.
О том, что против нас стояла 6-ая немецкая армия, я узнал только в восьмидесятых годах, когда прочитал Малиновского, а “наши солдаты”, призванные, в основном, из районов, ранее оккупированных немцами, не знали не только этого, но и того, что под Сталинградом попала в окружение тоже 6-ая немецкая армия. Наша жизнь и наши помыслы были совсем другими!
День 20 августа был солнечный, жаркий. На тот самый немецкий косогор мы выбрались часам к десяти и остановились передохнуть около разбитой немецкой пушки, недавно стоявшей против нас на прямой наводке. Я отошёл к кусту... Под ним, плотно прижав уши, сидел настоящий большой и живой заяц! Я такого видел впервые в жизни! Помню, как забыв зачем пошёл, схватил зайца за уши и поднял вверх. Он не сопротивлялся, а только хлопал глазами: вероятно, был сильно контужен. Я радостно понёс косого к солдатам. Там меня ждал парторг - приземистый хмурый старший лейтенант, уже в годах. Солдаты, несмотря на усталость, бросились к зайцу. Парторг не пошевелился. Я подошёл к нему.
- Ты оправдал доверие. На, пиши заявление в партию. Он протянул мне листок бумаги и огрызок карандаша.
Это была моя первая награда. Он диктовал, я писал: “...Хочу идти в бой коммунистом”. Я был горд наградой, ибо этим заявлением входил в когорту людей, которых больше всего ненавидели мои лютые враги - фашисты. Фронтовые коммунисты, точнее, коммунисты пехоты, вступая в партию, получали только одну привилегию: первыми подыматься в атаку и первыми гибнуть под немецкими пулями. Я это видел сам, своими глазами.
На нашем участке немцы сопротивлялись свирепо. Оказывается, их линии окопов, расположенные по другую сторону возвышенности, остались почти нетронутыми.
Мы продвинулись на километр, потом ещё ..., ещё ... всего километров на шесть до какой-то очередной линии глубоко эшелонированной обороны, и всё ... Пехота выдохлась. Точнее, её не стало.
Перед нами ровное поле. Дальше небольшой лесок. По краю его то ли сараи, то ли амбары. Там немцы. Наши редкие пехотинцы сунулись было в поле, но тут же залегли под огнём немецких пулемётов. Мы подыскали укромное местечко для позиции.Установили миномёты. Мин уже не было. Связисты потянули провод в пехоту. Я пошёл с ними. Юрка остался на позиции. Связного послали за минами. Хотелось пить, а потом есть.
Слева, километрах в двух-трёх по дороге, идущей по гребню длинного бугра, на запад нескончаемой вереницей медленно, с остановками тянулись машины, лошади, артиллерия... Они уходили в прорыв, оставляя нас одних без танков, без артиллерийской поддержки. Тогда, я помню, подумал: “Как же это так можно?” Сейчас, почитав литературу о войне, понимаю, что основной прорыв с вводом в него танковых соединений был совершён в центре плацдарма. Там оборона была прорвана на всю глубину. Наши войска ушли на Прут, чтобы отрезать переправы, организовать внешнюю линию окружения Кишинёвской группировки. Мы же оставались на внутреннем обводе и должны были по мере возможности затягивать петлю, душить фанатиков-немцев, попавших в окружение. Нам опять доставалась не лучшая участь.
Двух солдат Юрка послал за едой. Они пришли только к вечеру, пьяненькие, с двумя вещмешками хлеба и несколькими банками тушенки. Божились, что спирту им не дали: спирт и еду в термосах забрал старшина и на подводе с минами поехал искать нас.
Налаживалась связь. Я нашёл КП батальона. Там был начальник штаба. Он принял командование после смерти комбата. Начштаба сказал, что Булганов убит вместе с комбатом. Потом мне рассказали подробности.
Булганов, потеряв связь, пошёл нас искать. В это время по нашему левому флангу в прорыв уже вводили танки. Тридцатьчетвёрки, ревя дизелями, шли через минные поля, по узким проходам, обозначенным флажками. Булганов, увидев танки, отскочил в сторону, и попал на противотанковую мину. То, что от него осталось, связной помог погрузить на оказавшуюся поблизости санитарную повозку.
Начштаба показал прямо на местности, где кто занимает оборону, куда будет наступать батальон. Завтра с утра мне надо быть готовым поддерживать наступление, вести огонь по указанным целям...
Старшины с едой и спиртом не было, и злые солдаты, не копая окопов, разбрелись по кустам. Сон...
На следующий день немцы сами ушли, и мы, преследуя их, днём в самый солнцепёк остановились километрах в полутора от большого села. Команда: “Окопаться”.
Что было дальше, мне кажется, я помню час в час с фотографической точностью, вплоть до деталей местности.
Небольшая плоская низина. На ней отдельные кусты и группы низкорослых деревьев. На ровном участке среди кустов мы сгрузили миномёты. Два из них поставили (для проформы, ведь скоро пойдём дальше), а два других свалили в кустах. Впереди на узком длинном валу, идущем вдоль канала, копошилось несколько солдат - остатки нашей пехоты. Метрах в 600-х за каналом начиналось село. Оттуда стреляли немцы. Я дал команду окопаться, а сам сначала пошёл, а потом пополз к пехоте в надежде узнать обстановку. Строевых офицеров там не было. Командование стрелковой ротой принял парторг (тот, который принимал меня в партию). У него был приказ взять деревню. Батальон не выполнил своей задачи,.. полк не выполнил своей задачи... В мемуарах Р.Я. Малиновского я прочитал про те дни: “...не выполнила своей задачи лишь 57-я армия”.
Мы с парторгом, единственные на передке офицеры, лежали на склоне вала. Говорили, что в соседней роте жив ещё один младший лейтенант, но он не появлялся. Было ясно: ни один из оставшихся в живых солдат сейчас не войдёт в канал, ибо в поле за каналом только смерть. Поднять таких людей в атаку выше человеческих возможностей. Это понимал и парторг.
- Мины есть?
- Нет.
- Так чего же ты сюда приполз? Иди, доставай мины, готовь огонь по околице. Будем наступать.
Юрка не был требовательным деловым командиром. Я - под стать ему. Уставшие солдаты, чувствуя нашу слабину, кое-как выкопали каждый себе маленькие ямки-окопчики и, угнездившись в них, спали. Миномёты беззащитно и ненужно стояли на лужайке. Двое солдат ушли искать старшину.
Через час старшина, наконец, нашёл нас. Голодные солдаты к холодной каше и тушёнке получили от провинившегося старшины табак и двойную порцию спирта. Мины должны были вот-вот подвезти. Старшина, разморённый жарою и лишним спиртом (за упокой убитых!) остался у нас. Я из крайнего окопчика выгнал недовольного солдата, взял с телеги лопату и стал копать окоп по росту - 181 см был у меня и тогда. Старшине его окопчик был мал. Он подложил под голову плиту разобранного миномёта, и минут через пь раздались густые рулады храпа...
Было уже далеко за полдень, когда высоко в небе появилась “рама” (“Фокке-Вульф - 110” - двухфюзеляжный немецкий самолёт-разведчик). Она как бы неподвижно парила в воздухе, посылая нам надрывный, иногда прерывающийся, звук мотора. Рама, так рама... Хмельные разморённые солдаты сопели в своих ямках, выставив оттуда кто руки, кто ноги... Полная беспечность, разгильдяйство и безответственность, ну как на Чернобыльской АЭС в ночь перед аварией...
Первая тяжёлая мина разорвалась чуть в стороне, заставив лишь некоторых солдат поплотнее угнездиться в своих ямках. Потом разорвалась вторая, уже ближе. На другом конце позиции из окопчика испуганно высунулся Юрка и опять спрятался. Я кончил копать. На полянке тихо и пусто. Пьяно и громко храпел старшина.
- Эй, старшина, убери голову!
Но он даже не пошевелился... Я бросил на дно окопа шинель и залёг. Делать нечего. Заставить солдат копать окопы? Да где там!
И тут в небе завыли мины. Вся поляна превратилась в укутанный пылью, дымом и пороховой гарью ад. Земля тряслась. Комья её летели во все стороны. Воздух гудел и рвался на куски. Я прижался ко дну окопа. Казалось, что каждая мина летит именно в меня... Потом также внезапно наступила тишина. Отряхнув землю, я выглянул из окопчика. Земля на полянке была чёрная. Миномёты пропали. С Юркиной стороны благим матом орал солдат. Туда уже кто-то бежал. Я выбрался из окопа и, пригнувшись, побежал тоже. Старшина храпел в том же положении, лишь чуть больше запрокинув голову. Плита была в комьях земли и чего-то белого.
- Эй, старшина, за мной!
Но он не обратил никакого внимания. Ведь надо же так нализаться!. Возле окопчика солдата валялась оторванная нога. Он громко голосил, выставив кверху культю с кусками окровавленного мяса. Я знал, что в таком случае надо остановить кровотечение, перетянув ногу в паху, но... кровь почему-то не шла, хотя кровеносные сосуды были очевидно порваны. ... Ещё мина. Я плюхаюсь прямо на солдата. Обломок кости утыкается мне в бок.., истошный крик, пыль, земля, смешанная с человеческим мясом,.. я тоже в крови... И снова тихо. Потом с двумя солдатами накладываем тряпки, кое-как бинтуем всю ногу и укладываем солдата на дно окопа. Он уже только тихо стонет.
Немцы методично бьют по нашей позиции. Иногда перенося огонь на другие цели. Мне здесь нет места, и я бегу к себе. Мина! Я бросаюсь к старшине. Падаю. Рука скользит по миномётной плите. Плита забрызгана чем-то противно- скользким... Мозги! Мозги у старшины на виске, на лбу, на волосах. Но он живой и хрипит, глубоко заглатывая язык. “Перевязывать бесполезно. Сейчас умрёт” - убеждаю я себя, вскакиваю и бегу дальше.
Потом рама улетает. Протрезвевшие солдаты вылезают на полянку. Вскоре приходят обе наши подводы, тяжело гружёные минами. Мы разгружаем их. На дно подводы стелем ветки, траву. Кладём безногого. Совещаемся, что делать со старшиной - он всё ещё жив. Кладём и его. На другую подводу пристраиваем покорёженный миномёт. Туда же садятся ещё трое раненых. В одноконной телеге запряжена моя любимица - караковая молодая кобылка, появившаяся у нас ещё на том берегу. Она не знает, что завтра я её убью, и доверчиво нежными, удивительно чувственными губами берёт с ладони специально для неё припасённый кусочек сахара. Удила мешают ей разгрызть. Сахар падает на землю. Я подымаю , быстро отстёгиваю удила и засовываю уже размокший кусок далеко в ее открытый рот... Подводы уходят в тыл.
Возвращается Юрка. Он ходил подыскивать новое место для позиции, подальше от канала. Вечереет. Мы торопимся перейти туда.
Всю ночь солдаты копали окопы для себя и оставшихся двух миномётов. Потом перетаскивали мины. Стемнело. Я сразу уснул, и только сквозь сон слышал, как матерился парторг, принимая пополнение тыловых “шестёрок”, как слева и в тылу у нас гудели моторы. Из тылов подтягивали артиллерию, выходили на боевые рубежи танки. А левее всё тем же нескончаемым потоком на запад шли тылы тех армий, которые, войдя в прорыв, эавязали бои уже где-то на той стороне Прута, в Румынии...
Ранним-ранним утром меня кто-то больно толкнул в бок:
- Вставай, смотри!
Будь я художником, то и сейчас через 50 лет мог бы по памяти нарисовать ту картину:
Чуть сзади и слева от нас плоская низина, поросшая ивняком. Она вся укутана плотным, чуть шевелящимся туманом. И в этом туманном молоке неясными неземными чудовищами скорее угадываются, чем различаются, танки. Их много. Мне кажется, что целое полчище. Пушки уже приведены в боевое положение и все неподвижно смотрят на деревню. Пощады не будет!
Пока я спал, вокруг на валу народу прибавилось. Нам придали полковой взвод автоматчиков, находившийся в резерве. Рядом встала сорокопятка. Артиллерийские наблюдатели протянули свои провода от дальних батарей. Появились ещё какие-то тыловые команды. Пехотинцы - те, которые должны будут идти в атаку, теряются среди приданных пехоте частей.
Я иду к телефону. Юрка не спит. Мы выверяем данные по целям. Открытым текстом договариваемся о командах. Комбат слышит наши разговоры ( как и мы его), но не материт нас. Ему не до этого. Деревня должна быть взята!
И вот: “Огонь!”.
Мин у нас много. Их все надо расстрелять, чтобы легче было подводам. Первые дома деревни окутались дымом. Мы бьём по переднему краю немцев. Они не отвечают. Наблюдатели сначала чуть высовываются над валом. Потом садятся, а некоторые встают в полный рост. Полчаса... Взвыли танковые моторы. Обдавая нас гарью, грязью, танки рванулись к каналу, чуть замешкались и один за другим стали выползать на тот берег, уже облепленные автоматчиками и пехотинцами. Мы все стояли и орали им вслед.
Пехотинец с танка протянул мне руку. Я вроде бы и не собирался лезть туда, но как-то сразу оказался около башни и уже сверху крикнул связному:
- Сворачивайте миномёты! В деревню!
Танки, лязгая и гремя гусеницами, дёргаясь на колдобинах, шли вперёд. При каждом толчке нас трясло и больно било о разное железо. Но деваться некуда - вперёд! Танки, развернувшись по всему полю, казалось летели на деревню без потерь. Лишь когда мы, то есть, танки, дошли до середины поля, разорвался первый немецкий снаряд. Потом второй.., третий... и четвёртый - рядом. Меня сбросило, и больно ударившись коленкой о что-то железное, я упал в воронку от снаряда. Танки с солдатами ушли вперёд. На галифе выступила кровь. Я, прихрамывая, пошёл к деревне. Около ближнего сарая лежал наш убитый автоматчик. Я поменял свой карабин на его автомат (всё равно кто-нибудь возьмёт).
Первые дома были полностью либо разрушены, либо сожжены. Некоторые ещё горели. Стёкол не было нигде.
Около каждого дома сад. На некоторых персиковых деревьях наверху завлекательно среди листвы краснели персики. Танки прошли через село и бой идёт на другом конце. В селе слышатся автоматные очереди, разрывы гранат - это наши выкуривают последних немцев. Мне торопиться некуда. Юрка подъедет не скоро. Я выломал из забора несколько палок и занялся охотой на персики. Они уже спелые, и шмякаясь о землю разбиваются в лепёшку - вкусно!
Главная улица села постепенно заполняется разными тылами. Едут подводы, артиллерийские обозы, санитарные повозки, машины. Разноголосые толпы тыловых солдат (их видимо-невидимо) растекаются в стороны по соседним улицам и домам. Стрельба затихает. Деревня наша. Мне пора выходить на дорогу искать своих... И вдруг... где-то в самом конце деревни крики, надсадный вой самолётов, резкая пушечная стрельба, разрывы снарядов...
Я прусь за дом. Низко над деревенской улицей один за другим проносятся три наших краснозвёздных ИЛа. Они бьют из крупнокалиберных пулемётов в самую гущу улицы, набитой техникой и солдатами. Это было так молниеносно, неожиданно и несправедливо! Заходит другая тройка...
- Стой! Кого бьёшь?!!
Я выскакиваю из-за дома, вскидываю автомат... И-и-и-у.., и-и-и-у... - это из-под широких разлапистых крыльев ИЛов огненными струями на дорогу летят реактивные снаряды. Пыль, огонь, проклятия накрывают колонну. Между мной и краснозвёздной “чёрной смертью” не более пятидесяти метров. Я бью в мотор, в пропеллер, мне так хочется убить эту падлу, но ... мимо. А может, пули отлетают от бронированных боков. Второго, не осознавая, что делаю, я встречаю на дороге. Очередь..! Но, вспарывая воздух, ревёт мощный мотор, и прямо надо мной ИЛ взмывает вверх, подставляя под автомат своё бронированное брюхо. Рожок пуст. Я опускаю автомат. Рядом стоит солдат и то ли со страхом, то ли с испугом, но одобрительно смотрит на меня.
Может быть, сейчас жив этот солдат и вспоминает иногда явно ненормального, тощего младшего лейтенанта, стрелявшего по советским самолётам. Может быть, икнется и лётчикам тех ИЛов, на далёких тыловых аэродромах гордившихся перед друзьями вмятинами от моих пуль.
Я перескакиваю кювет. На дороге в предсмертной агонии хрипят кони, дымятся подводы, где-то в огне ещё рвутся патронные ящики, полуторка с красным крестом уткнулась в землю. Кабина пуста. Около неё лужа крови. На дороге, прижав руку к окровавленному животу, сидит солдат. Другая рука тоже в крови. В бессильной злобе он грозит ею в сторону улетевших ИЛов.
- У... к блядям полетели шоколад жрать!
Я с ним заодно. Разница лишь в том, что его распоротый живот - верная мучительная смерть, а я ещё увижу то, о чём кричал, а значит и знал солдат: уютные землянки полевых аэродромов, внутри аккуратно застеленные постели, столовые на открытом воздухе и порхающие около них “бабочки” - ППЖ и ППШ - другая, сказочная для пехоты жизнь.
Всё ещё прихрамывая, я иду вдоль колонны, ищу своих. Нет.., нет... . Никто не знает. И уже совсем отчаявшись, натыкаюсь на них. Небольшая группка растерянных солдат копошится около одноконной подводы. Моя караковая любовь недвижно стоит, низко до самой земли опустив голову. Сзади у неё кровавое месиво. Я смотрю в её огромные чёрные сливы. На них мухи. Отгоняю мух. Мне на ладонь капают крупные слёзы. Никогда ни до, ни после, я не видел, чтобы лошадь плакала. Солдаты осторожно, сторонясь кровавой лужи, распрягают лошадь. До них, всю войну безбедно проживших в своей Одесской области, только сейчас доходит весь ужас, вся жестокость войны. Потом кобылу ведут к обочине. Она тяжело прыгает на трёх ногах. Я набиваю рожок. Наши взгляды на секунду сходятся. Мы оба знаем, что это конец. Я поднимаю автомат. Очередь... Моя любовь как-то неестественно вскидывает голову, падает передними ногами на колени и затем на бок в кювет. Ещё несколько раз в предсмертных судорогах вздрагивает тело. Всё. Я почему-то кричу на солдат. Они молчат.
Потом мы все вместе рассматриваем лошадей второй подводы. Они пугливо дрожат. На одном мерине алая кровь запеклась на боках, но выше шлейки. Ноги целы. Перегружаем всё на одну подводу.
Вдоль колонны уже бегают незнакомые офицеры:
- 1288 полк, выходи строиться на дорогу!
Незнакомые офицеры - это из различных штабных служб, которые сейчас составляют основу полка. Сам полк, его стрелковые роты остались на косогоре и в немецких окопах. Что не успели сделать немцы, завершили “краснозвёздные соколы”... “Убитые сраму не имут”, а виновные?...
Хоть мне и не нравится А.Зиновьев, но:
Скажи мне, почему фронтовики молчат,
Когда военный подвиг превозносят,
Или невнятно что-либо мычат,
Когда об этом их другие просят?
Я знаю, что война - не карнавал,
А голод, холод, тяжкие мученья
Банальна суть. Убитые молчат,
Живой пройдоха подвиг превозносит,
Случайно уцелевшие ворчат,
Их вспоминать давно никто не просит.
Не чувствуя за прошлое вины,
Плетут начальники военную науку,
И врут писатели романтику войны,
Очередную одуряющую скуку.
Вот почему...
Потом приехали кухни. Нас накормили, но спирту и табака не дали: мы вовремя не подали сведений о списочном составе роты.
Мы - пехота покорно сидим вдоль дорожной канавы , копя горечь и злобу на радостно снующих вокруг нас тыловых крыс , жирующих и пьющих в три горла за тех, кто остался там. Чем больше убитых - тем больше достаётся им.
Ротный писарь жив. Я назначаю старшиной самого пожилого солдата. Мы как-то составляем “отчётные документы”. В роте осталось два миномёта, два офицера и сколько-то солдат. Сейчас не помню, но совсем мало - человек восемь-десять. Это у нас в миномётной роте! Что же осталось от пехоты?
Я иду к командиру за боевым заданием на завтра. Но боевого задания нет. Завтра с утра мы выступаем походным маршем на юг к Белгороду-Днестровскому.
Это было уже числа 26 августа.
На севере от нас гвардейцы остались добивать окружённую под Кишинёвом шестую немецкую армию. А на западе... На западе фронт ушёл вперёд километров на 200-300. Ни с того, ни с сего мы оказались в глубоком тылу. Ясско-Кишинёвская операция - YII Сталинский удар для нас кончился.
На марше начальник штаба батальона передал мне для подписи несколько наградных листов, аккуратно заполненных каллиграфическим почерком штабных писарей. Незнакомые мне по фамилиям рядовые и сержанты представлялись к орденам и медалям за геройство, проявленное при прорыве.
- Кто это? - наивно спросил я.
- Это те, кто был придан вашей роте на время прорыва. На своих можешь написать сам. Тебя мы представили к “Отечественной”, а Нурка - к “Звёздочке”.
Я позвал нового писаря и старшину. Списки нашей роты куда-то пропали. Мы составили новые. В них, естественно, попали только оставшиеся в живых. Лишь кое-кто припомнил фамилии раненых земляков. Конечно, наши наградные, несмотря на все мои старания, не были столь сочны и виртуозны, как у набивших руку штабных писарей, но всё же, не в пример пехоте, солдаты нашей миномётной роты могли рассчитывать на награды.
Все наградные листы, насколько я понимаю, проходили через сито полкового начальства, поведение которого в вопросах награждения определялось многими, часто непредсказуемыми обстоятельствами: количеством “спущенных сверху” наград, более или менее пропорциональным распределением наград по крупным подразделениям, настырностью командиров этих подразделений, литературным и фантазийным талантом тех, кто писал наградные листы, явной очевидностью совершённого подвига, и пр., и пр.
Забегая чуть вперёд, скажу, что в итоге за прорыв на Тираспольском плацдарме я был награждён орденом “Красной звезды”, а Юрка - медалью “За отвагу”. Многие солдаты остались без наград. Я уже не говорю о убитых и раненых - на тех даже не писались наградные листы.
23 августа 1944 года Сталина.Москва салютовала нашей победе. Мы все получили грамоты с благодарностью
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Во второй половине августа 1986 года вчетвером: мой добрый знакомый Владимир Маркианович Гаращук, тоже воевавший на Днестре, и наши жены встретились в Тирасполе, чтобы через сорок два года вспомнить минувшее.
В первый же день на пригородном автобусе мы проехали в центр Тираспольского плацдарма - большое село Кицканы. Там главный “Днестровский музей Слы”. Музей помещается в высокой колокольне церкви бывшего мужского монастыря, действовавшего здесь до 1964 года. Сейчас каменные монастырские дома занимает больница. В колокольне с сохранившимся большим золоченом крестом в то памятное августовское лето 1944 года помещался наблюдательный пункт (“НП”) 3-го Украинского фронта.
Залы музея производят гнетущее впечатление: стандартный, “полученный из центра” и жестко проверенный цензурой набор экспонатов: турникены с известными снимками минувшей войны, оружие. Пылятся на полках и в витринах мундиры героев войны, аккуратно уложены ордена, прострелянные пулями комсомольские и партийные билеты ... Все, как везде.
Музейные солдаты, после войны бросавшиеся в атаку за парторгами с криками “За Сталина!”, потом - “За партию!”, “За родину!”, сегодня молчат. Вероятно, Главлит с началом перестройки благоразумно решил временно закрыть им рты.
Музей выполняет план...Из зала в зал перемещаются группы школьников..., по льготным путевкам автобусы подвозят ветеранов... заученно ведут рассказы экскурсоводы...
Идет экскурсия ветеранов 5-ой ударной армии, введенной в прорыв на Кицканском плацдарме 21-23 августа: группа человек 30 пожилых дородных, не смотря на жару одетых в тяжелые старомодные костюмы, разукрашенные бижутерией дешевых значков, среди которых теряются ордена и медали военных лет ... Я смотрю на них: большинство устало маются от жары, по стариковски согнувшись, сидят на станинах музейной 76мм пушки. Да они и сами сейчас тронутые патиной экспонаты, на которые с тревожным любопытством глядят школьники. Контакта нет. “Экспонатам” хочется рассказать о себе, “излить душу”. Экскурсовод с застывшей улыбкой выслушивает рассказы сорокалетней давности: “...а он как жамахнет!... А я вот так упал на бруствер, чувствую ранен ... кричу А-а-а-а-а”. Ветерану надо разрядиться и он кричит свое “А-а-а-а” немощным стариковским дискантом. Кто-то оборачивается на крик: что случилось? Подходит экскурсовод: давайте, расписывайтесь и поехали. Автобус ждет”.
Записав свое имя и званье,
Разъезжаются гости домой.
Так глубоко довольны собой,
Что подумаешь в том их призванье
Н.Некрасов
Я не удержался: “Скажите, пожалуйста, а пехотинцы среди Вас есть?”. “Конечно, у нас есть командир стрелкового батальона. Грицук! Грицук! Где Грицук?”. Мне очередной раз не повезло в поисках пехотинцев.
“ Слава Богу, уехали!” - не стесняясь меня, бросила им вслед девчонка - служащая музея.
Экскурсовод торопился на обед. Я пошел его провожать. Завязался разговор. “ Да, я слышал о налете наших Илов на деревню, занятую 113 дивизией, но не помню ее названия. ... Да, 18 августа в разведке боем участвовали штрафники, они захватили первую траншею немцев, но никто назад не вернулся. Это стало известно после нашей артподготовки, когда в этой траншее нашли трупы штрафников. Погибли они от нашей артиллерии.
На следующий день мы уезжали из Тирасполя с желанием вернуться и недельку пожить в соседней деревне, не спеша походить по памятным местам...
Владимир Маркианович вскоре умер... Добраться до тех мест практически невозможно...
Походной колонной, растянувшейся на несколько километров, дивизия прошла Молдавию, Румынскую Добруджу и остановилась перед фашистской Болгарией. Стрелковые роты на ходу пополнялись молдаванами, с которыми мы - русские офицеры частенько разговаривали через толмачей - украинцев, оставшихся в Бессарабии после ее оккупации Румынией в 1918 г. За время марша роты обзавелись лошадьми и параконными румынскими телегами - каруцами, на которых громоздились объемные солдатские вещмешки. Еды хватало.
Вскоре появились слухи, а потом приказ - распоряжение : все каруцы сдать в обоз, минометы и боезапас вьючить на лошадей - идем через болгарские горы в Турцию. Стрелковым ротам выдвинуться к границе. Артиллерии подготовить огни по болгарским позициям. Сегодня пишут, что ни один советский снаряд не был выпущен на болгарскую территорию. Это неправда. Что значит для артиллериста подготовить огни? Это значит надо по карте измерить расстояние до цели, определить ее координаты и пр. Поскольку карты у меня не было, то все операции я провел “на-глазок” и для проверки : “Одна мина - Огонь!”. Около моей цели - болгарской пограничной заставы корова, странно взбрыкнув копытами, галопом унеслась в поле. Не знаю, как корове, но мне было смешно. Ко мне со страшным матом выскочил ординарец командира полка: “Прекратить! В Болгарии революция!”. Новый приказ: грузиться на болгарские подводы и быстрым маршем идти в Югославию на помощь Тито.
Первые бои на Югославской земле были за сербский город Неготин. За Неготином начинались Сербские горы. Нашей 57 армии был придан свежий 4-ый гвардейский мехкорпус. В штабе фронта решили: пусть пехота возьмет горы “в лоб” без огневого сопровождения, а мехкорпус “ввести в сражение после преодоления стрелковыми войсками горного массива”[Толубко, Барышев, На Южном фронте. М. Наука. 1973]. Это решение современными историками названо “новаторским и единственно правильным”.
Пехота свою задачу выполнила. Горы взяла. Минуя оставшиеся в горах ее трупы, гвардейские танки без потерь ворвались в Моравскую долину и ушли на Белград.
Новым пополнением - белорусскими партизанами с примесью нацменов мы без огневого сопровождения брали Крагуевац, через который верные Гитлеру итальянцы с косоглазыми мулами бежали из Албании. Остатки 113 дивизии после падения Белграда ушли на Задунайские плацдармы. Могилы последних белорусских партизан, всю войну проведших в лесах родной Белоруси, надо искать под Надьканижей - последним источником натуральной нефти германского вермахта.
Зимою 1944 - 45 годов в кровавую мясорубку задунайских плацдармов наш 1288 стрелковый полк трижды выводили с передовой “на переформировку”. Иначе говоря, трижды наши стрелковые роты теряли боеспособность из-за людских потерь. Три команды сниматься с передовой для оставшихся в живых пехотинцев - три возвращения с того света. Вряд ли кому-либо из солдат стрелковых рот удалось продержаться всю зиму на передовой: либо “НАРКОМЗДРАВ” (госпиталь), либо “НАРКОМЗЕМ” (могила).
 Борис Михайлович Михайлов 1946 года. Отпуск в Ленинграде (Из архива Б. М. Михайлова) |
ВЕСНА ПОБЕДЫ
13 февраля 1945 года в Москве гремел победный салют - взят Будапешт!
В тартарары рассыпались надежды Гитлера сохранить за собой Венгрию - последнего сателлита, верой-правдой служившего ему всю войну.
На правобережье Дуная, истерзанном непрерывными четырехмесячными боями, таял снег и все дышало Победой. В эти радостные по-весеннему теплые дни 113 стрелковая дивизия возвращалась на юг под Капошвар. Точнее возвращались главным образом ее тыловые службы: штабы, медицинские, автотранспортные, ремонтные подразделения, пекарни, банно-прачечный батальон, агитбригада и пр., и пр., т.е. всё то, что во время боев находилось позади пехоты. Никто не хотел думать (и не думал) о братских могилах и тысячах безымянных холмиков, брошенных на произвол судьбы вдоль кровавых путей дивизии. Мало кого из нас - оставшихся в живых интересовали и тысячи раненых, уже отправленных скитаться по бесчисленным госпиталям. Все это осталось в прошлом. “Живой о живом и думает”. А думать и заботиться было о чем.
Наш 1288 сп погрузили в кургузые будто грушечные пассажирские вагоны и мадъярские машинисты под надзором полковых автоматчиков покатили нас мимо еще кое-где дымившихся пепелищ станционных построек, мимо залитых солнцем просыпающихся полей и виноградников, навстречу Судьбе.
Радость Победе
- особое ни с чем не сравнимое чувство заполняло души. Ликовали трофейные аккордеоны, баяны, русские гармони, визгливо вырывались из многоголосия песен губные гармошки. На редких остановках венгерские мужчины молчаливо сторонились наш состав, но девушки, молодые женщины приветливо и безо всякого страха окружали солдат, смеялись, подхватывали наши фронтовые песни, пели свои. Смех, молодость, выскочив из вагонов, сразу же заполняли все вокруг. Может быть мне это казалось, или кажется сейчас? Ведь как же могли веселиться матери, жены, подруги венгерских солдат - наших врагов, в большинстве своем находившихся там - в составе гибнущего немецкого вермахта? А впрочем “женская душа - потемки”.
В оправдание венгерских женщин можно заметить, что не так уж монолитно выступали мадъяры на стороне Гитлера. 22 декабря 1944 г. на востоке Венгрии в освобожденном 2-ым украинским фронтом Дебрецене было образовано временное национальное правительство, которое 28 декабря объявило войну Германии. На свет божий появились коммунисты. С тех дней запомнился случай: ко мне подбежал прилично одетый старовато-толстоватый венгр и на очень ломаном русском языке затараторил : ”Господин офицер, господин офицер я коммунист, я коммунист...” Оказалось, что солдаты взломали дверь в его богатом особняке и то ли забрали все, что можно послать в нищую Россию, то ли изнасиловали его жену или дочь...
Разложение коснулось и венгерской армии. Были сформированы воинские подразделения нового правительства. Я помню этих молчаливо-угрюмых солдат одетых во френчи зеленовато-серого цвета, узкие брючки, заправленные в высокие под самое колено добротные яловые сапоги. Мы с ними не общались. Кстати, эти солдаты так и не появились на фронте, за что Венгрия поплатилась своей Трансильванией, которая после войны была передана Румынии.
Всю ночь справа по ходу поезда устало рокотал и светился фронт. За ним немцы, зализывая раны, готовились к новым боям. Мы же, не думая о будущем, беззаботно спали ...
На следующий день без особых приключений мы прибыли туда, куда надо (кажется в Капошмаре - поселок, расположенный километрах в пяти западнее Капошвара).
Смутно помню длинный барак - нашу казарму на западной окраине Капошмере. С одной стороны к нему вплотную подходил то ли парк, то ли дикий лес. С другой - в сторону немцев - тянулось открытое всем ветрам поле. К концу февраля опять упала температура. Небо покрылось темными снеговыми тучами. Потянулись неуютно-холодные безалаберные дни не то учебы, не то ожидания нового пополнения и новых боев. В нашей роте после январских боев из девяти положенных минометов осталось четыре. Мы - командиры взводов выводили из теплой казармы на замерзшее ветреное поле поднятых с соломенных лежанок солдат (спали не раздеваясь) и ... ждали команды на обед. Часы и минуты тянулись удивительно медленно. Коченели пальцы, морозный ветер щипал нос, щеки. Как кротам, вытащенным из нор, нам хотелось нырнуть в привычные землянки, окопы, траншеи, прижаться друг к другу и, проклиная войну, в полудреме коротать время...
Но нам было по 18-20 лет! Вернувшись в теплый барак и проглотив горячую сытную баланду, мы резко меняли образ мыслей.
Все жилые дома Капошмаре были плотно заселены дивизионными и полковыми службами. Неподалеку от нас квартировал дивизионный медсанбат. У медсанбата имелась собственная стационарная баня с прожаркой. Реализация полученного ротой разрешения на “помывку” навела страшную панику на наших родных “породистых черноспинных ...”. После бани, помню офицерам выделили отдельное помещение (“общагу”), сменили подстилки, выдали офицерские доппайки с американской тушенкой и ... оказалось, что в общаге (если прислушаться) со стороны медсанбата слышны женские голоса, смех ... Пошли слухи, появились очевидцы, на следующий день уже все знали где живут медсестры, кто и как их охраняет... Это было 5 марта 1945 года. Мне уже 20 лет.
В обед чубатый здоровенный “петээровец” (командир взвода противотанковых ружей) сказал: “Вечером пойдем к сестричкам. Они приглашали”.
И вот долгожданный вечер! Мы в начищенных ни весть чем но до блеска кирзачах с подшитыми белыми подворотничками, с остатками офицерских доппайков и бутылкой самогона-первача появились под ярко освещенными заморской лампой ”люкс” окнами сестричкиного дома. За закрытыми окнами надрываясь хрипел патефон, а на покрытом простыней столе громоздились бутылки с этикетками и горы еды. Около заветных сестричек толпились штабные и медицинские офицеры. Среди них, как хозяин, выделялся высокий горбоносый капитан-медик.
Этого капитана я увижу и сразу узнаю летом 1987 г. в музее села Бутор на левом берегу Днестра. Он будет также заученно улыбаться с любительской фотографии в окружении сонма молодых веселых сестричек.
... Нас не ждали ...
Не помню как вел себя я, но до сих пор в ушах застряли обрывки длинного и грязного мата петээровца. Он было рванулся бросить в окно бутылку первача, но его удержали и мы вернулись в пустую общагу.
Я быстро отвалился и не участвовал в той грустной попойке. Всю ночь пьяные песни, крики неслись наружу сквозь распахнутые настежь окна из душного табачно-самогонного угара. Мои фронтовые друзья - пехотные ваньки-взводные бесшабашно торопились жечь свои здоровые и также молодые жизни. На это им были отпущены считанные месяцы (а кому и дни).
Тревога! В ружьё!!
С похмелья трещит голова. Муторно. Мои собратья только-только угомонились, их спящие тела разбросаны по полу там, где свалил перепившийся сон.
Подъем !!
БОЙ 6 - 7 МАРТА
За окнами серый рассвет, женские визгливые крики, снуют посыльные. Слышно, как выбираясь на шоссе, урчат груженные машины и тут же, набирая скорость, уходят в тыл в сторону Капошвара.
Появился политрук: “ ... вашу мать! Перепились, как скоты! Где солдаты ?!”
Немцы прорвались на Яко. Их танки вот-вот будут в Капошмере. 1290 полк нашей дивизии, державший оборону за Яко, бежит. Фронт открыт!
Мат политрука, его пистолет чуть сбрасывает хмель и приводят нас в чувство. Медсанбат и штабы уже эвакуировались. Последние машины с ранеными осторожно перебираются через колдобины. Приказ: “Занять круговую оборону!”. Мимо казармы солдаты чубатого петеэровца проносят свои неуклюжие ружья. Четверка батальонных кляч протащили сорокапятку. Пехота деловито окапывается по окраине поселка ... Нам идти некуда. Наше место тут, за первыми домами. Я иду искать чердак для НП (повыше и пооткрытее). Натыкаюсь на вчерашний дом с медсестричками. Дверь распахнута настежь. Захожу. На столе разбросаны остатки еды почему-то вперемежку с разбитыми бутылками. После сестричек уже кто-то здесь побывал. Красное вино будто кровь разлито по белым простыням. На столе разбитый венский стул ... Связисты уже тянут провод к дому. “Давай, наверх!”.
Проходит час, два. Над Яко огромные клубы дыма. Там далеко и поэтому тревожно грохочет бой. Пришло донесение: 1290 полк еще держится, но уже большая часть села у немцев. Мы во втором эшелоне. За нами занимает оборону третий (1292) полк нашей дивизии.
К полудню приказ: “Выступать!”.
До Яко около десяти километров. Сначала полк идет походным маршем. Потом стрелковые роты расходятся в цепь. Мы, отстав километра на полтора, продолжаем держаться своих подвод, чтобы не тащить на себе минометы и боевой запас мин. Яко стоит на пригорке и его видно издали. Глухой грохот разрывов снарядов, мин, сухая дробь пулеметов, автоматов, ружейная стрельба. Мы подходим к посадке. За ней долина небольшой речки и подъем к селу. Дальше идти нельзя. В посадке пункт сбора раненых. Их много. “Ходячие” после перевязки идут своим ходом навстречу нам. Солдаты с тревогой спрашивают: “Ну что там?” - “Прет!”. В Яко немецкие тигры. Наши засели в домах. Их окружили немецкие автоматчики.
Грешнов дал команду окопаться здесь, за поселком. Но только солдаты взялись за лопаты, как сзади из тыла появились полковые офицеры. - А ну, вперед! В Яко! Там окопаетесь! Село наше!. Минометные вьюки тяжелые. Тащить их в Яко, в огонь, где идет бой и неизвестно где наши, а где немцы ... ? Деваться некуда. Вброд перейдя речку, мы кучно, прячась за кустами, потянулись к горящему селу. Ближе к домам стрельба усиливается. За визгом пуль, за разрывами снарядов, мин ничего не слышно. Солдаты задерживаются в воронках, прячутся за кустами, выбирая удобный момент для перебежки. Пока нам везет. Но вот разрыв! Мы падаем. Истошный крик. За ним громкий мат Грешнова. Во втором взводе убитый и раненые. Грешнов командует мне уходить вперед, а сам остается с остальными. Мы проходим еще метров триста. Навстречу, пугливо озираясь, пробегает солдат. Кто такой?! Наверное, бежит 1290 полк? “Та нi! Це ж з нашого батальону, вiн мiй земляк!” - кричит мне подносчик третьего миномета. Куда ж мы лезем? Из кустов выскакивают еще трое солдат. Я выдергиваю из кобуры “вальтер”: “Стой! Стой, стрелять буду!”. У солдат бессмысленно открыты рты, глаза. Я стреляю над их головами раз ... другой ... Они бегут на меня. Стреляю еще: “Стой! С какой части!?”. Солдаты без оружия бегут мимо. Лишь последний волочит за собой карабин. Это паника. Паника - особое состояние человеческого организма. Как я понимаю сегодня, в это время головной мозг не работает. Человек подчиняется каким-то другим, не подающимся разуму законам природы. В панике он часто совершает безрассудные поступки: спасаясь от пожара, выбрасывается из окна небоскреба, не умея плавать, прыгает с моста в реку и пр..
Может быть это последние солдаты нашей пехоты и сейчас в кустах появятся немецкие автоматчики? В ответ на немой вопрос над головами бьет пулемет. Мы, не сговариваясь, поворачиваем назад.
“Стой, ...тригосподадушу….! Куда бежите?! Назад!! То есть вперед!!” - на тропинку выскакивает замполит соседнего батальона. К вечеру его убьют, но пока что пистолет в руке замполита куда серьезнее, чем в моей. “Трибунала захотел ... мать твою ... Ставь минометы!”. Я, естественно, не хочу ни трибунала, ни немецких автоматчиков, ни самого замполита: “Мины кончились!” - “Я тебе покажу распрона так ... мины кончились! А это видел?!” Он тычет мне в лицо вороненым стволом “ТТ”. “Каждому миномету десять мин беглый огонь и тогда назад!”.Да, все было так. Он один сумел тогда остановить нас, находившихся на грани панического бегства, прийти в себя и открыть огонь. Буквально под пистолетом замполита и огнем немцев я на глазок прикинул данные, полулежа установили прицел, угломер ... “Огонь! Огонь!”. Лихорадочно зачавкали минометы, с каждым выстрелом загоняя опорные плиты в болотистую почву кустарника. Все! Быстро на вьюки и бегом назад!
Я уходил последним. У третьего миномета засосало плиту. Мы остаемся вдвоем с подносчиком и пытаемся силой затащить ее из проклятого болота. Автоматная очередь. Оба падаем, уткнувшись головами в землю. Подносчик подымает окровавленную голову. Еще очередь. Голова безжизненно падает на землю. Немец подкрался со стороны подносчика и явно видит нас. Я пытаюсь, не двигаясь, залезть под убитого. От этого его тело шевелится. Длинная очередь. Ни жив, ни мертв я слышу или чувствую, как пули впиваются в труп. Сейчас, вот сейчас, немец подойдет и убьет меня в упор! Секунда ... минута ... Тело холодеет, душа давно в пятках и готова при первом выстреле выскочить наружу ...
Немец не пришел. Потом я вероятно бежал. Конечно бежал. Не мог же я спокойно, как ни в чем не бывало, возвращаться к своим. Я бежал. И довольно быстро хотя бы потому, что очутился среди своих, когда они только что подошли к траншее, выкопанной вдоль опушки посадки. Траншею выкопала и заняла оборону свежая пехота 1292 полка нашей дивизии. Здесь же сидели автоматчики, которые задерживали всех бежавших со стороны Яко солдат двух других - 1290 и 1288 полков. Появился Грешнов и нас пропустили в тыл.
Шли мы, вероятно, быстро, поскольку не заметили, как оказались на тыловой стороне посадки около удобно выкопанных кем-то добротных землянок. Здесь бы и остановится! Но дальше в тыл сам Бог прокопал и обсадил кустарником канаву. Горбясь под тяжестью вьюков и хоронясь от уже редких пулеметных очередей, мы бегом-шагом устремились в тыл к приметно темнеющим сараям. Но - не тут-то было! Бог что-то не учел и уже метров через триста нас встретил полковой заслон автоматчиков (заградотряд) и прогнал назад. Мы вернулись к землянкам. Впереди автоматчики немецкие, сзади наши. Наши страшнее. Хочешь жить - стреляй!
Бой набирал второе дыхание. До передовой траншеи было не более сотни метров и немецкие пули посвистывали над позицией. Я с телефонистом потянул провод через посадку в пехоту. Вся посадка дрожала от разрывов. Мины рвались в ветвях, снаряды снизу выбрасывали комья земли. Деревья умирали стоя, обезображенные огнем и железом. Трассирующие пули немецких автоматов резали воздух со всех сторон. Помню ощущение: будто тебя засунули в цирковой ящик, через который фокусник пропускает сабли.
Где ползком, где на корячках мы, наконец, добрались до опушки и свалились в передовую траншею около зарытого в землю и замаскированного “гроба на колесах”. Траншея была пуста. “Гроб” не стрелял. Командир самоходки со стрелком ушли налево ловить пехотинцев. Я пополз по траншее в другую сторону. Вскоре там встретил командира стрелковой роты. Заглушая стрельбу, он крикливым матом пытался собрать своих солдат. Подошли трое.
- Где немцы?!
Поле до самого Яко рвалось и корежилось. Казалось оно все напичкано немецкими автоматчиками. Справа на откосе железнодорожного полотна высоко к небу задрав ствол пушки черным костром горела наша тридцатьчетверка. Еще две уже потухшие или просто подбитые темнели ближе к нам. Говорят, четыре подбиты за насыпью. Три немецких подбитых танка еле видны около первых домов села. Яко полыхает огнем и дымом. По нему бьет наша тяжелая артиллерия из-под Капошмере. Кустарник, откуда мы недавно выбрались, у немцев. Солдаты, перебивая друг друга и путая русские, украинские, молдавские слова, азартно показывают мне откуда бьют немецкие пулеметы, где сидят автоматчики, куда они притащили пушку ...
Связь есть! Мины есть! ... Огонь!
Родные трехкилограммовые (3 кг 300 г) мины на одном основном заряде, не торопясь, почти видимо (скорость 20 м/сек) перелетают посадку и рвутся там, где надо, образуя хоть и дырявую, но какую-то защиту совсем поредевшей пехоте. Видя удачные разрывы мин, солдаты, рискуя жизнью, подползают ко мне, просят, требуют огня ... огня! Стреляют самоходки, сорокопятки, из тылов бьет артиллерия, стреляет все, что может стрелять. К вечеру в нашей траншее появилось сборное пополнение тыловиков. Немцы же, вероятно, понеся большие потери, умерили свой наступательный пыл. Бой затухал. Вечерело. Стрельба распалась на отдельные очаги, которые вдруг внезапно и злобно взрывались разрывами гранат и длинными пулеметными очередями, будто собачий лай во время псиных свадеб.
Уже в полутьме немецкие автоматчики накопились в рощице перед самой траншеей и открыли оттуда шквальный огонь трассирующими пулями, надеясь на ночь глядя психологической атакой ворваться в заветную посадку. Мы с командиром стрелковой роты рискнули: по его команде солдаты ушли из траншеи и мне удалось накрыть огнем минометной роты всю рощу вместе с траншеей. Немцы исчезли.
В книге “Путь к Балатону” об этом дне будет лаконично сказано: “ Бои 7.03 носили исключительно ожесточенный характер. 113 сд отразила боле15 атак. На траншеи, обороняемые подразделениями капитана Жук ( командир нашего 2-го батальона 1288 сп - Б.М.) и ст. лейтенанта Новохатского ( командира стрелковой роты - Б.М.) наступало до полка пехоты под прикрытием десяти танков и самоходных орудий. Шесть из них пытались проскочить к железной дороге и выйти во фланг”.
Прошу читателя обратить внимание на танки. О них дальше пойдет целый рассказ. А пока что ночь. Принесли ужин, спирт за живых и усопших... Ешь, пей “от пуза!”.
Будто вчера мы удобно разлеглись в глубокой бомбовой воронке чуть в глубине посадки. Весь день в воронке орудовал наш старичок , ему уже , вероятно, было за тридцать, - командир .батальонного санвзвода вместе с неизменной Асей и санитарами. Только что здесь сидел комсорг батальона - мой тезка - тихий и безобидный еще совсем мальчик. Он плакал молча и безропотно, прижимая к лицу полуоторванную челюсть, всю в крови и торчащими из мяса белыми зубами. Санвзвод ушел в тыл, оставив после себя окровавленные бинты, вату и острый запах свежей медицины.
Усталость валит с ног. Тишина ... Все молчат.
Вдруг что-то грузное свалилось сверху - командир батареи наших батальонных сорокопяток!
- Это кто же тебя так разукрасил?
Наискосок через всю физиономию никогда не унывающего коренастого весельчака ст.лейтенанта - комбата- 45 шел багрово-синий кровоточащий шрам.
- Гуртовенко! Мать его... Налей! ...
Из рассказа комбата - 45.
“Я докладываю Гуртовенко: Товарищ полковник, мои орлы шесть танков подбили. А он не дал мне договорить, хвать дрын, хрясь по морде. “Я тебе...распрона… покажу танки! Вон отсюда!” Потом схватил пистолет и заорал: “Чтоб все пушки были здесь! Не приведешь, расстреляю!” И я убег”.
Комбату дали еще спирта. Он немного похорохорился и вскоре исчез. Больше я его никогда не видел. Может быть и жив?
И вот только теперь, когда все спят, я не торопясь, более внятно расскажу о том бое 6-7 марта, который совершенно неожиданно имел массу различных последствий, не только для Гуртовенки - драчливом командующим артиллерией дивизии, о палке которого ходили легенды, не только для комбата-45, но и для меня.
С утра 6 марта батальонная батарея из четырех сорокопяток вместе с пехотой благополучно добралась до северной окраины Яко. Бой шел еще за селом. Наши медленно отступали.
В середине дня немецкие танки ворвались в Яко, через которое проходила разграничительная линия советских и болгарских войск.
Смертники-сорокопятки бились, сколько могли. Две пушки были разбиты прямыми попаданиями танковых снарядов. Две другие, расстреляв боезапас, сумели подцепиться на крюк и броситься наутек. Две четверки лошадей с отчаянным гиком понеслись через поле мимо вышедших из укрытия немецких танков, мимо автоматчиков, к своим! К удивлению видевших эту сцену, обе пушки добрались до речки. Одна вместе с комбатом, с ходу перескочила брод и благополучно влетела в наши траншеи. Другая же замешкалась и немецкий танковый снаряд угодил в лошадей. Солдаты попытались было отцепить пушку... а впрочем, остались ли живые солдаты? Короче, новенькая длинноствольная сорокопятка была брошена на радость подоспевшим немецким автоматчикам.
На ликвидацию прорыва Гуртовенко направил приданный ему танковый дивизион. Вскоре командир дивизиона по рации сообщил о первых успехах: подбиты четыре немецких танка, дивизион заходит в тыл немцам. Гуртовенко тут же распорядился наградить танкистов. Затем прибежал запыхавшийся “петеэровец” (командир взвода ПТР - противотанковых ружей) : “Товарищ полковник, мы подбили четыре немецких танка!”. За ним появился командир самоходок с сообщением о подбитых им танках. За самоходчиками потянулись артиллеристы... Счет подбитых танков перевалил за десяток!
Но, одновременно с победными реляциями, на НП командующего артиллерией просочились и другие сведения.
Из танковой контратаки мало кто вернулся назад. Восемь тридцатьчетверок подбиты немцами. Наша пехота бежит. В речке брошена новенькая сорокопятка. Расчет сбежал...
И надо же было как раз в этот момент перед его глазами появиться комбату-45 - очередному “сыну лейтенанта Шмидта -уничтожителю немецких танков!”.
Что же было дальше?
Свой приказ о награждении танкистов Гуртовенко отменил. Он был зол на всю свою подопечную артиллерию: “Никого не награждать!”.
Но четыре подбитых фашистских танка как бельмо на глазу чернеют на нейтральной полосе. И еще кто-то видел, как немцы уволокли к себе огромный подбитый “фердинанд”... Не награждать же нас минометчиков? Хотя ... я лично не исключаю что одна из наших мин (помните, пущенных под дулом замполитова пистолета) угодила в мотор фердинанда: “Чем черт не шутит, когда Бог спит”. В таком случае справедливости ради надо было наградить нас и посмертно замполита.
ПОЛИТОТДЕЛЬСКАЯ ИДЕЯ
В этой сложной ситуации, дерзкая и смелая идея пришла в одну политотдельскую голову, пожелавшую остаться инкогнито: “А почему бы нашей дивизии не заиметь собственного Александра Матросова?”
Найти претендента на столь почетное место было не трудно, ибо от пехоты полка остались “рожки да ножки”. Из “достоверно убитых” были отобраны: коммунист - командир отделения сержант Афанасий Смышляев, и комсомолец - рядовой Федор Щелкунов. Дивизионные борзописцы сочинили легенду, по мотивам которой художники создали душещипательный рисунок, повествующий о том, как коммунист и комсомолец, обвязав себя гранатами, с патриотическими возгласами бросаются под танк. Этот рисунок позже был переведен в красочную картину, которая уже после войны долго висела в нашем дивизионном клубе в Рымникул-Сэрате в Румынии.
Через несколько дней листовка (боевой листок) появилась в наших окопах. Казалось бы все “шито-крыто”, но первые комментарии к листовке прозвучали уже на следующий день из немецких рупоров: и Смышляев, и Щелкунов оказались живы-здоровы! Политработники дивизии не сдавались и объявили все “вражеской пропагандой”. Солдаты в присутствии офицеров молчали.
Рассказ солдата 2-го батальона 1288 сп, услышанный мною в апреле 45-го года, после возвращения из Бачальмаша.
“С утра шестого марта нас послали на Яко. Мы подошли к первым домам - никого. Стреляли на другом конце села. Кто-то сказал, что там “братушки” воюют с фрицами. Нам приказали держать оборону. Мы заняли крайние дома. Подошли пулеметчики и сорокопятки и тоже окопались. Потом из села по нам стали стрелять то-ли болгары, то ли фрицы. Мы тоже стали стрелять. Потом стали бить минометы. Подошли немецкие танки. Сорокопятки стали стрелять по ним. А те их шпок! Шпок! И нет пушченок. Мы попрятались в дома. А из-за танков немецкие автоматчики кричат: “Русь, сдавайся!” А нам что делать? Стали по очереди выходить. Два расчета сорокопяток за домами успели запрячь пушки в лошадей и тиканули по закоулкам. А нас немцы построили в колонну и повели накрай села окопы копать. Щелканов и Смышляев были с нами. Русские сильно били из минометов. Многих поубивало. Может и Смышляева тогда убило. Потом я его уже не видал. Потом немцы нас повели в тыл километров за пятнадцать тоже окопы копать. Со жратвой было хоршо и курево давали, но работать заставляли ого-го. Чуть что фриц кричит: “Шнель, шнель!” и палкой замахивается. На том месте русские нас и захватили. Свои же солдаты пришли. Это было уже недели через две.
Теперь посмотрим как тот же эпизод войны описан в генеральских мемуарах М.Н. Шарохина, отредактированных фронтовым борзописцем В.С. Петрухиным
(Путь к Балатону. Изд. Мин. обороны СССР, М.1966).
Итак, начнем с того момента, когда солдаты нашего батальона 6-го марта 1945г. заняли оборону в крайних домах Яко, и немцы атаковали их, а я с пистолетом в руках встречал первых бегущих с передовой солдат.
“... теперь не больше ста пятидесяти метров отделяли гитлеровцев от пулеметчика. “Вот она гвардейская дистанция” - сказал командир и нажал гашетку. Пули Николая Анисимова точно попадали в цель. За несколько минут более двадцати фашистов навсегда успокоились на подходах к пулемету. За первой вражеской цепью поднялась вторая и снова ее резанул пулемет. Еще тридцать фашистских молодчиков намертво свалились на землю. Три атаки отбил доблестный пулеметчик, истребил в этом бою семьдесят гитлеровцев.”
Мне кажется, что даже у неискушенного читателя подобная генеральская белиберда может вызвать только усмешку, а у бывших пехотинцев плюс к этому и возмущение кощунственной ложью к их фронтовым друзьям. Но ведь подобное печатается у нас в стране в миллионах экземплярах!
Читаем дальше:
“Бессмертный подвиг в тот день совершил командир отделения 3-ей роты 1288 сп 113 сд. Афанасий Смышляев - коммунист и красногвардеец Федор Щелкунов - комсомолец. “Будем драться до последнего человека, а последний человек до последнего патрона. Мы победим. Мы должны победить!”. Прижав к груди гранату, Смышляев бросился под гусеницы танка ... Но танк продолжал двигаться. Тогда навстречу ему ринулся комсомолец Федор Щелкунов. Через минуту его поглотили клубы пыли и дыма. Снова разрыв - танк остановился. Ценою жизни коммунист А. Смышляев и комсомолец Ф. Щелкунов преградили путь фашистким танкам”.(М.Н. Шарохин, В.С, Петрухин. Путь к Балатону. Изд. Мин. обороны СССР, М., 1966. Тоже повторено в В.С. Петрухин. На берегах Дуная. Изд. ДОСААФ, М., 1974).
Журналисту В.С. Петрухину в 70-х годах удалось встретиться в одном из сел Одесской области с благополучно бодрствующими комбайнером Федором Щелкуновым. В своем последнем произведении Петрухин приводит рассказ Федора Щелкунова:
“Щелкунов рассказал, что он бросил гранату, но рядом разорвался снаряд ... “Меня контузило и засыпало землей”. Щелкунов потерял сознание. Пришел в себя ... в плену. Откуда он бежал.”
Ради истины, мог бы сегодня в пору “гласности” пенсионер Щелкунов не уносить в могилу, а рассказать правду. Ведь сейчас сдача в плен не считается изменой Родине. За это в Сибирь на каторгу не сошлют.
Ну, да Бог с ними со Щелкуновым и Петрухиным. Ибо на этом история со злополучными немецкими танками не закончилась. По крайней мере для меня она еще вся впереди и будет иметь конец такой, которого, я уверен, никто из читателей не может предугадать.
Сначала несколько слов об оставшейся сиротой сорокопятке. Гуртовенко приказал поставить ее впереди пехоты на прямую наводку. Сорокопятка выстояла и еще долго была с нами, пока ею не стал командовать я. И не просто командовать, а стрелять по танку. Я прямой участник и свидетель ее славной гибели 8 мая 1945 года, накануне дня Победы. Но об этом потом.
ТАНКОВАЯ ИСТОРИЯ
В марте же события под Яко развивались следующим образом:
В один злополучный мартовский день 1945 года я щеголял по траншее переднего края в белой барашковой кубанке с синим верхом и красным крестом - моей заветной мечте, исполненной ротным портным.
Наверное, как раз здесь уместно отметить, что мой вещевой мешок после Будапештской операции не был столь пуст, как большинство пехотинских. Ведь он ехал не на мне, а на минометной подводе среди снарядных ящиков. Кроме кое-чего прочего в нем давно уже без движения лежали белые барашковые шкурки, синий атлас от поповской ризы и красная лента. Кое-что прочее я готовил для посылки домой.
Новый замполит, вероятно чувствуя во мне соперника, в разговоре среди солдат бросил в мою сторону: “А что, лейтенант, сходим пошуруем в немецких танках?”. Многие танки, как немецкие, так и наши в конце войны представляли собой склады награбленного барахла и были лакомой добычей фронтовых мародеров. Откровенно говоря, мне совсем не хотелось лезть под немецкие окопы, но ... солдаты смотрели на меня, на мою лихо заломленную барашковую кубанку и деваться было некуда.
Как только стемнело, мы вдвоем вылезли на бруствер боевого охранения и, чуть пригибаясь, пошли к речке. Кусты в пойме - ничейная земля. Наши разведчики не раз натыкались там на немецкие патрули. Моросил дождь. От этого ночь была еще чернее. Благополучно миновав речку, мы уже ползком либо на четвереньках стали подыматься по пологому косогору к деревне - к танкам, боясь наскочить на мины. Но и здесь все обошлось. Танк черной громадой вырос внезапно. Екнуло сердце. “Давай лезь. Я буду на стреме!” - шепотом то ли приказал, то ли дал указание замполит. Я приподнялся и сразу же из немецкого окопа взлетела ракета. Мы прижались к земле. Ракета шлепнулась рядом и долго шипела, обдавая нас искрами. Прошло минут пять, а может быть десять. Лезть в танк не хотелось. Я с надеждой смотрел на немецкие окопы, но они молчали.
Верхний люк танка был открыт. Я залез сзади на моторную часть. Снял с предохранителя пистолет и головой вниз свалился в танк ... Дальше все произошло мгновенно и я бы сказал профессионально: сильный удар по затылку, кто то клещами схватил и завернул за спину мою правую руку, от этого я скулой врезался в острый выступ железа. Сильная боль, как электрический разряд пронзила все тело ...
Я левша. “Круглый” левша. В обойме шесть патронов, и я шесть раз нажал на спусковой крючок. Обмякшее тело немца навалилось на меня и одновременно из немецких окопов полетели ракеты, пули дробно застучали по обшивке танка. Западня! Правая рука онемела и не шевелилась. Голова налилась чугуном. Все кругом крутилось. Кровь почему-то залила глаза ... Я не буду утомлять читателей своими переживаниями. К тому же я и не помню, как выбирался. Вероятно, мозг целиком переключился на поиски выхода. Уже к середине ночи я подполз к нашим окопам. Меня испуганно окликнул солдат: “... какой Михайлов. Михайлов убит ...” Я полуживым свалился в траншею.
Может быть и остался живым тот немец. Может быть иногда в своей Западной Германии вспоминает промах, не понимая каким образом пистолет оказался у меня в левой руке? А может быть именно благодаря мне он попал в немецкий госпиталь, а не в Сибирский ГУЛАГ, откуда мало кто возвращался? ...
Я молча добрался до своей норы-землянки. Чуть погодя явился испуганный ординарец (к этому времени по Советской армии уже был издан приказ о закреплении за каждым строевым офицером солдата-ординарца). Он помог мне смыть с лица кровь. Принес еду. Правый глаз заплыл и под ним вздулся багрово-синий “фонарь”. Распухла в суставах и сильно ныла правая рука ...
Наутро я обнаружил пропажу вещмешка (все “трофеи”, включая кубанку). Кто-то, услышав о моей смерти, не преминул опередить ординарца. Вор был из нашей роты. ...
Ну и коль скоро я заговорил о фронтовом воровстве, то думаю, самое время отвлечься от собственной персоны и поместить сюда обещанный рассказ про пополнение, поступавшее в нашу дивизию, да и во всю фронтовую пехоту в последние месяцы войны. Чем закончилась танковая история расскажу попозже.
О солдатах 41-года написано много. Я верю в фанатичный героизм некоторых красноармейцев-пограничников. Верю в выцарапанные на бетоне надписи-клятвы, слова-прощания с родными, с друзьями. Вспоминаю всенародный подъем патриотизма и верю, что многие парни, выросшие при советской власти, в определенн условиях предпочитали славную смерть плену. Я верю и преклоняюсь перед их святой преданностью призрачным идеалам братства, равенства и коммунизма, но ...
“Я не знаю зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть не дрожащей рукой
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный покой!
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам - под шумок толковать,
Что пора положить бы конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.
И никто не додумался просто встать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги - это только ступени
В бесконечные пропасти - к недоступной весне!”
А. Вертинский, октябрь 1917
В 1945 году у нас было иначе.
К концу войны Советско-германский фронт растянулся на тысячи длинных, залитых кровью километров. Резервы пехоты у обеих сторон были исчерпаны до дна. На нашем дне оставалась бесформенная масса “белобилетников”, собираемая “ с миру по нитке” тыловыми военкоматами, “зеки” (главным образом уголовники), а также комиссованные раненые, которые жиденьким ручейком постоянно текли в сторону передовой, и по мере возможности (ума и сноровки) застревали в тылах.
Сотни тысяч, а может быть и миллионы украинцев, белорусов, русских, молдаван, мобилизованных в 43-44 гг во время освобождения их родных мест, в значительной мере уже были съедены войной. Аппетиты наших генералов, привыкших побеждать “числом, а не уменьем”, нечем было удовлетворить. Пехотные части таяли на глазах.
И именно в это время, где-то в начале 45-го года у нашей армии появился новый источник живой силы: советские люди - заключенные немецких концлагерей, а также добровольно уехавшие, либо угнанные насильно немцами на работы в Германию.
В марте в нашу дивизию поступили первые группы лагерников из Южногерманских концлагерей Дахау и Маутхаузен. Именно лагерников, а не узников.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?
Дахау и отчасти Маутхаузен были почти исключительно мужскими лагерями - своеобразными “биржами труда”, поставлявшими даровую рабсилу военной промышленности фашистского рейха. Условия жизни в таких лагерях, если судить по скупой советской литературе, были “противоречивы”. Например, так описывает лагерный рацион в Дахау его узник Вали Бикташев:
“Завтрака нет.
Обед - черпак брюквенного супа, когда в нем плавали крупинки картошки.
Вечером - “сытный ужин”: 150 г эрзацхлеба и иногда 30 г сыра или эрзацсыра”.
Но это меньше рациона ленинградского смертника! А ведь узники Дахау должны были в отличие от ленинградцев, выполнять непосильную физическую работу! Очевидно, что-то не то, ибо на такой норме нельзя продержаться и месяца, а в Дахау жили годами. И не только жили. Читаем дальше: “ Артиллерист был прекрасным математиком. Он создал “вечернюю школу”. Подросших в лагере мальчиков обучал алгебре, с кем-то из молодых офицеров решал геометрические задачи на построение”, и еще: “... в этом аду, так сказать в интервалах между поркой и смертью от голода или эпидемии, советские узники устраивали концерты ... В четвертой штубе яблоку негде было упасть... Концерт вел конферансье по прозвищу Ленский” ... и т.д. ( Вали Бекташев. Мы старше своей смерти. Записки узника Дахау. Уфа, 1966). Попробовал бы “прекрасный математик” на таком рационе организовать “вечернюю школу” в блокадном Ленинграде!
Противоречия в описаниях тягот жизни как в фашистских концлагерях, так и в Ленинградской блокаде появляются там, где авторы пытаются создать обобщенный образ среднего блокадника, среднего узника. Таковых не было, а все существовало отдельно: подлость и великая любовь к людям, радость и горе, любовь и ненависть, богатство одних и голодная нищета других. Люди жили на разных ступенях лестниц, часто не пересекающихся и идущих в неведомых направлениях. Где находился автор? Откуда, с какой лестницы он смотрел на окружающую его жизнь? ...
В Дахау, несомненно, существовала категория людей, которые “входили в лагерь через браму (ворота -Б. М.), а выходили через трубу крематория.” Может быть, вероятно, и я в это верю (по крайней мере хочу верить) в Дахау действовали национальные комитеты, комитеты советского подполья и пр.. Но основная масса лагерников знать не знала и слыхом не слыхивала о их существовании. В лагере правили бал различного рода “зеленые” - уголовники, носившие на груди винкели (треугольные нашивки) зеленого цвета. Из них набирались лагерэльтестер, блоэльтестеры, штубовые, арбайтензацы, капо и другая “белая кость”. Именно они контролировали жизнь и деятельность различных групп, группировок, лагерных банд, часто враждовавших между собою, но по возможности обеспечивающих место под солнцем своим членам. Оказаться вне группы (банды) для советского военнопленного, необслуживаемого Красным крестом, было смерти подобно. Одиночки быстро опускались на лагерное дно, теряли облик человеческий, пресмыкались перед всем и вся, рылись на помойках, подбирая там картофельные очистки, объедки с “барского стола” западных (французских, бельгийских и пр.) заключенных и “зеленых”. Тиф, желудочные заболевания ежемесячно отправляли в крематорий тысячи узников. Выживали сильнейшие (подлейшие, беспринципные и пр.).
Именно из них в 44-45 г.г. формировались отряды для строительства немецких оборонительных линий, именно их мы захватывали в плен, именно этот контингент в, основном, поступал из лагерей в советскую пехоту. Не раз в окопах я слушал рассказы солдат, участвовавших в убийствах, ограблениях наших доходяг, либо французских, бельгийских, голландских заключенных, получавших продовольственные и вещевые посылки из дома или от Красного креста. Не раз мне бросались в глаза их звериные поступки по отношению к своим однополчанам, к местным жителям. Меня и тогда поражало полное отсутствие каких-либо моральных запретов и животная жажда жизни у этих людей, легко рассказывающих о “пришитых” ими за пайку хлеба, за “монашку” баланды доходяг. Некоторые наши солдаты жили в Дахау по несколько лет. Произошедшее за эти годы перерождение, вероятно, было необратимым.
А теперь представьте себе, что эти люди (а может быть нелюди) попадают в стрелковый взвод под командование 18-20 летнего парнишки, только что выпущенного с 3-х месячных фронтовых курсов младших лейтенантов (“ванек-взводных”). Он должен поднять их в атаку и повести за собой на верную смерть, либо в лучшем случае - увечье.
Что из этого получалось, расскажу ниже в повествовании о моем ранении в селе Штраден (Австрия). А пока что вновь вернемся в Венгрию под Яко, чтобы кончить затянувшийся рассказ о подбитых немецких танках и отправиться в тыл.
Там, под Яко, началась забытая с Днестра, а для большинства моих пехотных однополчан незнакомая, жизнь в обороне.
В середине марта 45-го года погода в Южной Венгрии стояла премерзкопакостная. Пасмурная хмарь чередовалась с дождями, которые превратили окопы в сплошные слякотные канавы, местами по колено заполненные жидкой не просыхающей грязью. Сушиться бы негде. Опять у солдат завелись вши и пошли чиряки. Но нам было по двадцать.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАНКОВОЙ ИСТОРИИ
После мартовских боев левофланговым соседом 1288 полка стали болгары -братушки”. Соединявший нас ход сообщения сразу же превратился в азартную барахолку. Через нее к нам в обмен на папиросы (а то и автоматы) поступали болгарские сигареты “Загорка” и ... профессионально изготовленные в болгарских походных кузнецах щупы - остро заточенные тонкие металлические палки длиною 1.5-2 метра, предназначенные для поисков “кладов”. Клады - это в спешке зарытое эвакуируемым местным населением различное более или менее ценное имущество (пригодные для отправки в нищую Россию - обувь, одежда, часы и пр.). У болгарской армии, в свое время оккупировавшей Югославскую Македонию, был, вероятно, свой аналог нашего приказа: “Грабь награбленное” и болгары в этом имели опыт. Нам было чему поучиться у своих “младших братьев”.
В окопах роился и набирал силу посылочный ажиотаж, поэтому “клады” мадъярских крестьян были как нельзя кстати.
Поиски кладов - занятие само по себе азартное, хотя и не совсем безопасное. Как раз то, что нужно томящимся от безделья и отсутствия женщин молодым парням.
Как учили “братушки”, местное население чаще всего закапывает клады в дальних углах хлева или отдаленного от домов сарая. Глубина ямы обычно составляет 1,5-2 метра; штыком не прощупать. Сверху клад прикрывается старым навозом, соломой, сеном.
Сараи, расположенные в глубине обороны, солдаты быстро истыркали щупами. Оставалась нейтральная полоса, где немцы устраивали засады. Но любителей поживиться это не останавливало. Были случаи - солдаты не возвращались.
Я не принимал участия в кладоискательстве. Но отнюдь не по моральным или этическим мотивам. Нет. Мне просто хватило танковой истории: еще не зажили ссадины, царапины, ушибы, правая рука плохо поднималась и на ней не спала опухоль с суставов.
Мне посылать было нечего, и с горя я решил сушить сухари для посылки маме.
О том, что меня обокрали и я сушу сухари, стало известно всему батальону. Советский офицер сушит черные сухари! Для солдат-крестьян, призванных из хлеборобной Южной Украины, в этом было что-то противоестественно отталкивающее. Для меня же недавняя память о блокадном сухаре, как вожделенной радости, была жива и вполне нормальна...
Сначала ординарец вместе с котелком супа и каши принес и стыдливо положил в ногах лежанки две буханки хлеба. Потом из тыла пришел Мишка - и вынул из кармана две пары часов - “На!”. Потянулись другие друзья-приятели, не хуже “братушек” научившиеся орудовать щупами. Восьми килограммовая посылка вскоре была заполнена. Помню, не удержался и поверх каких-то тряпок все-таки положил два больших черных сухаря.
Помню также, как я радостный вернулся после сдачи посылки. Около землянки меня дожидался ординарец: “Комбат требует!”.
- Ну вот, начинается! Что может быть? Разжалование в рядовые? Штрафбат? С самыми тягостными предположениями я переступил порог батальонной штабной землянки. Там рядом с комбатом сидел замполит и незнакомый мне доктор.
- На что жалуешься?
- Ни на что (Сейчас заставят поднять правую руку).
- Что, совсем здоровы?
- Хмы ... давай напишем ему нервное истощение. Он у нас в батальоне самый старый - с Днестра ...
Оказалось нечто совершенно невероятное, что не смогли бы выдумать ни Конан Дойль, ни Агата Кристи:
Именно в это время кому-то в далеких верхах в голову пришла бредовая идея организовать в тыловом венгерском городке Бачальмаше на базе фронтового госпиталя офицерский дом отдыха. В наш батальон пришла одна путевка и начальство решило отдать ее мне.
Вот так я закончу длинный рассказ о немецких танках, которые (очевидно, не без участия “сорочки”) были косвенной причиной свалившегося на меня счастья.
БАЧАЛЬМАШ
Согласно сохранившейся “Вещевой книжки офицера Красной армии” на 10 марта 1945 года у меня “было в наличии 10 (десять) предметов”: шинель офицерская с погонами, гимнастерка с погонами, шаровары суконные, натбелье - одна пара, сапоги кирзовые, снаряжение офицерское походное, шапка-ушанка, портянки байковые, жилет меховой, плащ-палатка”. Как видит читатель, собирать в дорогу нечего - все на мне. И я, получив продовольственный и вещевой аттестаты, отбыл в распоряжение...
В двадцати-тридцати километрах от передовой исчезает привычный гул фронта и кончается война. На деревенских улицах мирно кудахчат куры, толстые гусыни прогуливают своих великовозрастных отпрысков, деловито тарахтят пароконные мадъярские повозки. Армейские и фронтовые тылы заняты своими будничными делами, кажется очень далекими от того фронта, где идет война, рвутся снаряды, гибнут люди, где вдоль передовой линии окопов лениво гуляет ожиревшая смерть, где живем мы ...
Крытый шевроле, не дав нам окончательно замерзнуть в пути, часа через четыре лихо затормозил на окраине Бачальмаша у подъезда большого трехэтажного здания. Внутри играла музыка, зеленели фикусы, порхали девушки-медички. Новая жизнь госпиталя то биш офицерского дома отдыха набирала обороты.
Чтобы слушать мои рассказы дальше, читатель должен нарисовать себе картину появления в захолустном провинциальном городке, откуда местные мужчины ушли воевать, целой своры только что спущенных с цепи здоровых молодых кобелей, по много месяцев не видавших женщин... Нарисовали?... Теперь слушайте, что там было в натуре.
В шестиместной палате я поселился последним и в ту же ночь обратил внимание: большинство кроватей (не смотря на существовавший в городе комендантский час), всю ночь тщетно дожидалось своих хозяев Лишь к утру мои новые друзья - приятели через форточки и окна пролезали в палаты и, не раздеваясь, проваливались в пьяный беспробудный сон.
Госпиталь набит сестричками-медичками, а городок - их конкурентками- разновозрастными “модяр кишленд” (венгерками), тщетно дожидающимися своих мужей и суженых с далеких фронтов...
Я совсем не хочу хоть в чем-нибудь опорочить ни медперсонал дома отдыха, ни женщин Бачальмаша. Ни Боже мой! Но,
Что было, то было,
Быльем поросло...
Просто в те дни я вращался в холостом офицерском кругу, внутрь которого добровольно тянулись женщины. Совсем не за деньги, а по зову души и тела. Мы все были молоды, открыты и беззаботно познавали мир.
Женщин было достаточно, а кое для кого даже слишком, ибо вскоре поползли слухи, будто в наше еду подмешивают порошок для снижения излишней потенции. Правда, большинству молодых кобелей все было хоть бы хны.
По ночам в придорожных канавах сладострастно и нахально надрывались лягушки. Им, как и нам было не до войны.
Мы торопились жить.
Естественно, мало кто из нас приходил на завтрак. К обеду подавали сухое вино в больших хрустальных бокалах. Мы сидели за столами, сервированными всевозможными тарелками, тарелочками, ложками, вилками, ножичками. Это было неудобно и хотелось скорее в палату, где кто-нибудь всегда достанет из-под подушки бутылку первача, шматала и хлеб. Офицерские компании не просыхали.
Бачальмаш - тихий городок в левобережной равнинной Венгрии неподалеку от границы с Югославией, проскочил у меня так быстро, что сейчас не могу сообразить сколько дней продолжалась та вакханалия: может быть три, а может быть пол месяца. Неужели все забыл? ... Нет ... В закоулках памяти чуть просматривается полупустой дом. По палатам зримо разливается вечерний сумрак. Все разошлись. У меня все еще ноет плечо. Я сижу в конце коридора и одной рукой подбираю на старинной физгармонии “собачий вальс”. Неслышно подошла дежурная сестричка - худенькая, голубоглазая и белокурая. Она тоже из Ленинграда. Моя ровестница. Ей скучно. Мы неуклюже и нежно вспоминаем школу, город... Девушка по детски скромна и непосредственна ... За разговорами незаметно пролетает пол ночи . Я вернулся в палату, когда там утихала вечерняя попойка. Случайно разговор перескочил на белокурую сестричку. “Эта та самая б...? Да я ее сейчас положу - смело и нагло бросил оказавшийся рядом краснолампасный казак, из тех, что встречались нам под Будапештом.
Когда-то в кармане убитого немецкого офицера я нашел новенький дамский браунинг - заветную игрушку любого мальчишки-офицера. Мы поспорили... На следующий день я расстался с пистолетом...
Сегодня я смотрю на трехлетнего внука Леньку. Ему попало за очередную проделку. Он плачет. Глаза полны слез. Кажется нет на свете большего горя и страдания, чем у него. Я вынимаю из кармана конфету. Мгновение... и рот расплывается в улыбке, ни одной слезинки, глаза светятся радостью... Мое горе в Бачальмаше продолжалось два часа. К тому злополучному для нас времени то ли политгенералы поняли, что вместо благочинного дома отдыха создали офицерский неуправляемый бордель, то ли застопорилось наступление: Бачальмашский вертеп ”приказал долго жить”.
К вечеру вдоль подъезда дома отдыха выстроились заляпанные фронтовой грязью крытые шевроле. Накрапывал дождь. Из распахнутых настежь темных окон уже чужих палат выливался спертый дух холодного табачного дыма и самогонного перегара Я не помню, чтобы нас кто-нибудь провожал. Мы молча увозили с собой девичьи фотографии, адреса, оставляя взамен память мимолетных ночных свиданий и славянскую кровь, которая по сей день, вероятно, течет в жилах некоторых потомков Аттил из Бачальмаша.
При выезде из городка дождь перестал. На западе от края до края сквозь обрывки тяжелых туч кровенел закат. Машины одна за другой выходили на грейдер и набирали скорость. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Ни шуток, ни смеха. Мы знали куда едем ...
И вечный бой. Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль.
И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови.
Закат в крови! Из сердца кровь струится,
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет. Степная кобылица
Несется вскачь!
А. Блок
Разговоров о скором окончании войны я не помню.
В роту я вернулся в начале апреля. До ранения оставались считанные дни, моей недавно начавшейся двадцать первой весны... - дни тяжелейших кровопролитных, но победных боев Красной Армии.
“На каждого убитого немецкого солдата приходится пять наших” (Из передачи телевидения в декабре 90 г.).
Очевидно на такую тему весной сорок пятого года я не рассуждал.
Дивизия в наступлении. Боевые приказы лаконичны: не давать фашистам закрепиться! На плечах отступающего врага врываться в окопы! Уничтожать штыком и прикладом! Только вперед!
Но арьергарды немцев отходят медленно, оставляя коварные засады, минные поля, ловушки, куда сотнями попадают наши плохо обученные солдаты, подгоняемые сзади неумело-торопливыми приказами жадных до чинов генералами.
Немцы, планомерно оставляя хутор за хутором, уходят за “национальный редут” - границу рейха.
Мы последнее время почти не стреляем, а только меняем позиции, копаем окопы и хоронимся от появляющихся то там, то здесь немецких автоматчиков.
Раннее-раннее утро. Ночью прошел совсем летний дождь с грозой. Я иду один то ли по парку, то ли по дубовой роще. На разукрашенной солнечными зайчиками листве еще искрятся прозрачные капли. Беззаботный голосистый щебет не мешает утренней тишине царить в мире. Я смотрю наверх, на яркое небо. Оно все в ажурных переплетениях молодых листьев и веток. Покойно. Радостно. Все как в кино, не хватает только кареты со Штраусом.
Слева вдоль рощи тянется полуразрушенная каменная стена-забор. Я смотрю на карту: как сказали в штабе батальона, надо пройти вдоль забора до конца рощи. Там окопалась пехота. Нам поддерживать ее атаку... Вдруг спотыкаюсь. ... Труп. Под огромным дубом, уткнувшись головой в землю, лежит мокрый уже задубевший солдат с зажатой в руке саперной лопаткой. Невольно пячусь от забора... У соседнего дерева еще труп... Вокруг, чуть ли не под каждым деревом лежали мертвецы, а слева неподвижно, и от этого страшно, смотрит на них молчаливая замшелая стена. Там сидели /или сидят!/ немцы. Они пропустили мимо разведчиков, а когда в рощу вошли пехотинцы, методично в упор расстреляли их.....
Я отполз от стены и окольным путем пришел к намеченному на карте месту. Там никого не было. Роща с птицами и листвой напряженно молчала. Я вернулся в штаб батальона не встретив по дороге ни одной живой души. Комбат отправил донесение в полк, выставили взвод прикрытия, разведчики ушли на поиски пропавших стрелковых рот. Лишь к полудню удалось полностью выяснить обстановку: в немецкую засаду попались солдаты соседнего полка. Наши стрелковые роты, услышав стрельбу в роще, решили, что там ведут бой соседи, прошли стороной и, зайдя в тыл немцам, сами того не зная, заставили их убраться восвояси.
Мы входим в предгорья Австрийских Альп. Пологие склоны холмов сплошь покрыты ухоженными виноградниками. На южных склонах лопнули почки, а кое-где появились первые листочки. На вкус они сладковатые и нестерпимо пахнут оживающей землей...
Немцы закрепились на косогоре. Оттуда слышна вялая и ленивая стрельба. Наша пехота медленно продвигается вперед. Вдвоем с командиром отделения связи мы подходим к богатому хутору. Во дворе разведчики выкатили бочку с вином и пытаются выбить дно. “Отойди!”. Молоденький шустрый лейтенант - мой ровесник вскидывает автомат. Короткая очередь и ... из бочки струйками калибра 8,2 мм на землю льется терпкое темно-красное вино. Все смеются, радостно подставляя котелки, кружки. В доме на столе “жратва”: разбитые банки с вареньем, среди них огрызки солдатских сухарей, куски сала, пустые бутылки из под самогона... Я прохожу в спальню. Там в низких комодах лежит белье. Сбрасываю с себя “споднее” и одеваю все чистое. Что-то теплое бумазейное рву на портянки. Выхожу на двор. Разведчиков уже нет. Вокруг бочки винная лужа. Лишь нижняя пробоина еще еле сочиться. Можно наклонить бочку, но мне не надо. Это сделают тыловые службы. Привычно осматриваю местность. Выбираю дом, наиболее подходящий для наблюдений. Командира отделения посылаю к минометам “тянуть провод”. В доме никого. Хозяева видно убегали впопыхах. На обеденном столе неубранная посуда. В чашках недопитый компот. На кухне аккуратно выстроились банки с консервированными сливами, яблоками. Стеклянные крышки с резиновыми прокладками плотно присосались к банкам. Их приходится отбивать и, чтобы не наглотаться стекол, полбаи варенья выбрасывать на пол. Пробую одну, другую банку. Затем лезу на чердак. Черепица кое-где осыпалась. Выбираю место, обращенное к немцам, аккуратно вынимаю две черепицы на уровне глаз, устраиваю вокруг себя баррикаду из разной рухляди. Одну на другую ставлю тяжелые корзины с настоящим, покрытым слоем красного перца, венгерским салом и колбасами. Потом снизу приношу хлеб, компоты... Жизнь прекрасна... Тепло...Тишина... Лишь где-то привычно глухими далекими раскатами бьет тяжелая артиллерия, да нет-нет и чекнет по крыше шальная пуля. Мне двадцать лет. Здоровье пышет изо всех клеточек. Золотое время! Я отстегиваю правый рукав гимнастерки. Задираю его до локтя. Вся рука обвешена часиками: мужские, маленькие, большие, ходячие, стоячие, золоченные, никелированные... Кто был в пехоте тех дней, тот знает, что часы среди нас были главной престижной ценностью, да у офицеров еще пистолеты. У меня “вальтер”. Из него я на спор с десяти шагов попадаю в дамские ручные часы! Свой “вальтер” я не променяю ни на какой “парабеллум”. Но главное часы...
Связистов нет. Я, любуясь, завожу часики, кручу стрелки. Потом спускаюсь вниз. Там обосновались чьи-то солдаты. “Лейтенант, на.. ” - солдат протягивает мне кружку самогона. А я не хочу. “Так ти хто?” - “С минометной роты.” - “А, самоварщики! В ямi сидить и яму рое!” Солдаты дружно и беззлобно смеются. Я выхожу во двор и уже оттуда слышу, как бывалый солдат говорит собратьям: “Соложен еще, молоко на губах не обсохло, ... а ну, налей!”
Мне не надо затуманивать голову. Тело, само того не осознавая, радуется жизни, свету, солнцу!
Наконец, появляется сержант. За ним, сгорбившись тянет катушку телефонист. На всякий случай я спрашиваю: Нет ли на косогоре наших? - “Еще нет”. Мы начинаем пристрелку целей. Это одиночные деревья, амбары, сараи, изредка брошенные хозяевами хутора.
Умирать в такое время мало кто хочет; и продвижение вперед еле заметно. Вечереет. Поле боя устало замирает. И только торжественно-тихие похоронные костры-свечки над подожженными сенными амбарами, да строчки трассирующих пуль напоминают о войне.
С утра атака. Одна ... другая... , убитые..., раненые... Наконец, немецкий заслон сброшен. Мы уходим вперед.
Пехота тает на глазах. Множатся могильные холмики на равнинах Западной Венгрии, летит горе на крыльях белых похоронок в далекую Россию... Еще два-три боя и от пехоты нашей дивизии опять останутся “рожки до ножки”.
А теперь, дорогой читатель, давай посмотрим как ко всему этому в те дни относились “прославленные советские военначальники”. Почитаем, например, мемуары командира 20-го корпуса генерала Бирюкова.
“Чиковани /заместитель по полит. части корпуса - Б.М./ рассказал, что настроение в наших частях отличное, все рвутся в решительный бой... Беспокоятся, что дивизия так и останется на охране флага, пока другие будут штурмовать Вену”. /Н.И.Бирюков. Трудная наука побеждать. Изд. Мин. Обороны СССР, М., 1968, с.241/.
Далее генерал размышляет: “Передышка, конечно, нужна, однако, не знаю, как мои товарищи, но я подумал: “Как бы не прийти нам в Вену к шапочному разбору””/Там же, с.241/. Обратите внимание, генерал не думает, сколько человеческих жизней будет стоить нам штурм уже обреченной Вены, сколько страданий он - генерал - принесет в деревни и города России, сколько семей пустит по миру, скольких детей оставит сиротами. Нет! Главное, поживиться чем-нибудь в Вене. Зачем знать генералу, что его “шапки” будут густо пропитаны солдатской кровью. Посмотрите на фотографии военных генералов, до пупов увешанных орденами и медалями и прочтите в тех же мемуарах “В конце войны в дивизии оказалось много заслуженных воинов, но не отмеченных никакими наградами. Например, у командира роты старшего лейтенанта Н.Н.Зарянова было шесть красных и желтых нашивок на груди. Шесть ранений, а награды - ни одной!” /стр. 7/.
Как говорится: “ни стыда, ни совести”.
Ну, да Бог с ними, с генералами.
У нас долгожданная для оставшихся в живых весть: Полк отводят на переформировку.
Нас моют, прожаривают. Мы стираем, сушим пропахшую сырым кислым потом одежду, ходим в полный рост, спим раздеваясь, видим женщин...
С тех дней, с той переформировки мне запомнилось одно построение части. И не столько построение, как зачитанный перед строем полка приказ по третьему украинскому фронту /он, очевидно, сохранился в фронтовых архивах за первую половину апреля 1945г/.
Группа солдат аэродромного обслуживания самовольно покинула полевой аэродром. В одном из мадьярских сел солдаты напились, зверски всей командой изнасиловали хозяйку дома, забили в нее кол и еще живую выбросили из окна, а сами продолжали пьянку и стрельбу по собравшимся под окнами мирным жителям.
После того построения, помню, был концерт дивизионной агитбригады. Тощий солдат пел:
Я слушал, а из головы не выходил только что зачитанный приказ: Ну, напились, ну, изнасиловали,... а зачем в живую женщину забивать кол? ... Это не укладывалось в моей еще юношеской голове.
АВСТРИЯ
4 апреля 1945 года Советские войска прорвали “Южный национальный редут” Нацистского рейха и вошли в Австрию. Во что обошелся нам этот прорыв - не знаю. Мы шли вторым эшелоном и австро-венгерскую границу не заметили. О том, что мы уже в Австрии я узнал совершенно случайно. Наш полк проходил походной колонной небольшой уютный и чистенький городок (поселок). Я шел сбоку по панели и обратил внимание на зачем-то вывешенные из многих окон красно-белые тряпки. Одна из них висела на уровне моих глаз. Я остановился. Пощупал: как раз на две портянки, и захватил с собой. На привале, когда я переобувался, подошел парторг и объяснил, что это австрийский флаг. Местные жители вывешивают флаги, выражая тем самым лояльность к Красной Армии.
Южная Австрия запомнилась мне театрально-игрушечной красотой сел и сытым довольством их жителей. Гряды высоких холмов, поросшие густым лиственным лесом, опрятные чистенькие села с неизменным распятием при въезде, часто изрешеченным автоматными очередями наших солдат, обязательный кирпичный костел в центре села, откормленные бюргеры в шортах и богобоязненные католички-австрийки в длиннополых юбках.
Как следует из сохранившейся у меня “сотки” листа L-33-41-Лейбниц , наш полк, пройдя вторым эшелоном по Австрии километров пятьдесят, с ходу вступил в бой только под Штраденом.
ШТРАДЕН - это первый в Австрии не разграбленный населенный пункт, доставшийся нашему полку. До этого мы неделю, а может быть и две находились в тылу и кто как мог свои “трофеи” отправляли посылками по домашним адресам. Поэтому, захватив Штраден, мало кому хотелось уходить отсюда с пустыми вещмешками.
РАНЕНИЕ
15 апреля 1945 года. Пехота закрепилась вдоль западной окраины Штрадена. Грешнов же выбрал позицию нашей минометной роте на восточной - в цветущем яблоневом саду.
Я ушел в пехоту выбирать наблюдательный пункт (НП). Очень хорошо помню большой двухэтажный дом в центре поселка. Весь нижний этаж его занимал универмаг, куда, не гладя на немцев, устремились “паломники” со всех родов войск и тыловых служб - там “трофеи”.
Я с телефонистами дотянул туда провод уже к “шапочному разбору”. Поэтому, немного потолкавшись около разграбленных витрин и прилавков, поднялся на верхний этаж и принялся оборудовать НП. Со стороны немцев совсем близко к поселку подходил лесистый хребет - видимости никакой и стрелять некуда.
Обращенная к немцам комната, где я обосновался, была богато обставлена. Похоже, что в ней еще никто не побывал. Хозяин убегал в спешке. В одном из шкафов мне приглянулась новенькая шинель черного касторового сукна с одним (эсэсовсм) крученым погоном. Померил. Шинель была будто с моего плеча. Телефонист остался налаживать связь, а я, не снимая шинели, спустился вниз в бункер. Мое появление в форме высокого чина “СС” (может быть и генерала) было воспринято солдатами, как сейчас говорят, неоднозначно. Многие с испугом шарахались в сторону, другие инстинктивно принимали почтительную стойку, а, узнав в чем дело, с осуждением отходили в сторону. Мое детское озорство ни у кого не вызвало естественного веселья или даже улыбки. Почти все солдаты в недавнем прошлом имели дело с истинными владельцами подобных шинелей и у каждого было что вспомнить.
Время подходило к обеду. Ординарец из роты принес кастрюлю настоящих кислых щей. На их ядрено-русский запах подошел Васька - командир стрелковой роты - кажется единственный оставшейся в роте офицер,
- Подожди, у меня есть. - Васька ушел за шнапсом, а я поднялся наверх, позвал телефониста. Потом вернулся в бункер, наломал хлеб, достал ложку и в предвкушении вкусной еды совсем забыл о немцах... Но не забыли о нас они.
Сутолока у магазина не прошла даром. Первый тяжелый снаряд ударил в основание цокольного этажа. Дом, стоявший здесь не один десяток, а может быть и сотню лет, вздрогнул и, испустив пыльный дух, весь утонул в густом облаке тонкой белой извести. Реакция солдат была мгновенна и разнообразна. Я же навалился на заветную кастрюлю, стараясь плотно закрыть ее полами генеральской шинели. Второй снаряд угодил в комнату верхнего этажа, где все еще возился телефонист. Как я потом узнал, его буквально разорвало на куски. Но в тот момент было не до него. Немцы били точно прямой наводкой и с близкого расстояния. Вокруг стоял грохот, треск и звон от рвущихся снарядов, ломающихся досок и бьющихся стекол. Выбрав паузу, я выскочил наружу. Дверь из универмага выходила в наш тыл. Около нее толпились люди. Васька с поднятым автоматом открыто стоял на противоположной стороне улицы у каменного забора и короткими очередями вверх, а больше отборным матом встречал бегущих с передовой солдат. Те, наткнувшись на Васькин автомат, поворачивали к нам и исчезали в бункере под домом. Вскоре там набралось человек тридцать - почти вся Васькина рота.
Что было дальше я опять-таки помню в мельчайших подробностях. Вероятно, вся кровь шла в мозг, стимулируя его на поиски оптимального выхода из создавшегося положения.
У входа в универмаг на улице нас осталось человек пять. Все они сейчас стоят передо мной: грузный большой старшина со свертком барахла под мышкой, молоденький щуплый ефрейтор - молдаванин - комсорг роты, коренастый артиллерист-наблюдатель... все мы были либо коммунистами, либо комсомольцами и знали: пехоты впереди нет; после артподготовки немцы придут к бункеру: “Hande hoch!” Под дулами немецких автоматов солдаты выйдут наружу, сдадут оружие и строем вернутся к менее опасной, многим из них хорошо знакомой жизни военнопленного. Коммунисты и комсомольцы будут расстреляны “без суда и следствия”. Никто из нас не сомневался, что среди сидящих в бункере найдутся - и не один, кто прямо покажет пальцем: этот коммунист, этот комсомолец.
Для спасения у нас оставался один выход: точно определить конец артподготовки и, не дожидаясь немцев, убежать к своим.
“Сними шинель - сказал старшина, - а то свои же подстрелят”. Мне было жаль расставаться с такой ценностью. Но “сорочка” рассудила иначе. Я снял, свернул и спрятал шинель за бочку (захвачу с собой).
Немцы продолжали вести артобстрел, но как-то вяло и разбросано. Я решил рискнуть и подался к выходу. И, как всегда бывает: “человек предполагает - Бог располагает”. Шальная мина, пущенная, вероятно, из-за хребта, перелетела наш дом и разорвалась в основании забора, где все еще стоял Васька. Взрывной волной нас отбросило к стенке и обсыпало градом осколков. Первым в глубине прохода закричал старшина. “Добыча” выпала из рук и он обеими руками схватился за глаза. С криком о помощи с перебитой рукой упал комсорг. Артиллерист схватился за живот. Меня же, будто заговоренного от смерти, осколки не тронули. Кто-то выскочил из бункера..., кого-то потащили вниз... Напротив в луже крови лежал Васька. Я бросился к нему и тут же почувствовал, что в сапоге неприятно хлюпает вода. Откуда? Сунул руку за голенище - кровь! Тонкой струйкой кровь текла по ноге. Ранен! Со стороны немцев послышались автоматные очереди - надо бежать! Боль в ногах я почувствовал только у минометных окопов. Солдаты обмыли раны, перевязали их. Правая нога распухла и уже не сгибалась в колене. Меня уложили в набитую сеном повозку и также, как в свое время Юрку Нурка, увезли в батальонную санроту.
 фотокопия справки о ранении |
В санроте раненных было не много. Знакомый капитан, отдав распоряжение о подготовке документов для отправки меня в дивизионный медсанбат, сам принялся осматривать раны. Ноги были все измазаны кровью. Бинты успели присохнуть и отдирались с трудом. Вместе с бинтами капитан пинцетом вытащил из-под кожи несколько осколков. Занятие, вероятно, доставляло ему удовольствие и, нащупав в мясе крупный осколок, сказал:
- Хочешь, я тебе его вырежу. Это пустяк. Рядом стояли сестрички ...
- Давай.
Помню я сидел на стуле то ли в палатке, то ли на улице? Наверное в палатке, хотя в памяти сохранилось небо и мягкая весенняя листва. На глазах сестричек мне пришлось спустить галифе ниже колен... Несколько уколов... Капитан привычным движением, сантиметрах в трех от входного отверстия сделал надрез. Сестра не успевала подавать инструменты, собирать ватным тампоном кровь и она капала на землю. Капитан подключил меня. Я то держал инструмент, то отгонял мух. Наконец, капитан подцепил и вытащил занозистый кусок немецкого железа. - “На!”.
- А остальные осколки - мелочь, сами вылезут наружу, а если и останутся в тебе, то мешать не будут, - напутствовал меня капитан. И действительно, когда после ранения я первый раз пошел в баню, то вытащил из-под кожи около десятка мелких железных заноз. Да и потом в течение нескольких лет нет-нет да и выскочит гнойная болячка на левом боку. Надавишь, а в гнойной капсюле царапает палец железячка. Долго гноился лишь осколок выше лодыжки, от которого остался синий несмываемый уже пятьдесят лет след. Может быть до сих пор сидит во мне железо с заводов Круппа?
Вскоре наши пошли вперед. В санроту потянулись раненные. Медикам и медичкам стало не до меня. И я, улучив момент, еще прихрамывая, залез в кузов полуторки, шедшей на передовую, и был таков. Моего исчезновения, вероятно, никто и не заметил.
В штабе батальона меня встретил молодой высокий и чубатый начальник штаба - Шрамченко. Он еще ходил в капитанских погонах, но был уже майором. Первым делом я спросил о Мишке: “Его в тот же день, что и тебя отправили в госпиталь”.
Мишка Дмитриев, о котором я уже не раз упоминал, появился в нашем батальоне на Днестре чуть позже меня и с небольшими отлучками в госпиталь тащил лямку ответственного за отсутствие в нужный момент связи штаба батальона с пехотными ротами или с полком. Мы тянулись друг к другу, хотя и встречались только в перерывах между боями, обычно радостно приветствуя стандартной фразой: “Ты еще жив?!” На что другой отвечал: “Сначала ты, а потом уж я!”.
15 апреля мы оба оказались правыми. Когда я, уже раненный бежал из универмага, Мишка вблизи штаба батальона проходил мимо дерева, на котором висел автомат, и случайно зацепил его плечом. Автомат упал, ударился тыльной стороной ложа о землю и самопроизвольно выпустил очередь. Пули попали Мишке в левую руку, перебив сухожилья и нервы. Уезжая, он оставил мне адрес: Стерлитамак, Белибеевская, 8. Лишь в марте 1991 года (спасибо газете “Стерлитамакский рабочий”) я получил письмо от его сестры:
“К сожалению, вынуждена вам сообщить, что Михаил умер 28 апреля 1978 года. Смерть у него была тяжелой. Он болел паром левого участка тела. Последние дни жизни был прикован к постели...” - эхо войны.
Шрамченко рассказал и о другом.
Последние несколько дней батальон вел непрерывные бои в залесенных отрогах Штирийских Альп. Потери большие. Убит комбат. Приданная батальону батарея сорокопяток оказалась без офицера с единственной “Прощай Родиной”. В минроте ранен Грешнов, из запаса после госпиталя пришли два новых офицера: один артиллерист, другой пулеметчик. В стрелковых ротах - еще хуже ...
- А ты из сорокопяток стрелял?
- В училище проходили.
- Возвращайся к себе в роту и забирай пушку.
Вот таким образом в батальоне образовалась сборная “пушко-минометная” рота. Я принял командование ею.
Полк на последнем издыхании продолжал наступать. Мы уже давно вклинились в американскую зону оккупации Австрии. Казалось бы, остановись! Подумай о людях. Подожди американцев. Но, нет! Вперед! Вперед! Захватить как можно больше. И пехота лезла на крутые склоны. В лоб! “Пуля - дура, штык - молодец!”
Перед дивизией поставлена задача: зайти с тыла, форсировать Мур, атаковать Санкт-Маргаретхен и ворваться в Вильдон. Дальше наступать на Грац. Взять Грац до прихода американцев!
Это было уже под самый Первомай. Нашему командованию, вероятно, очень хотелось подарить Сталину к празднику Грац - второй по величине после Вены австрийский город.
Откуда мне знать во что обошлась дивизии, фронту эта начальственная прихоть? От тех дней короткого окровавленного пути к Грацу в памяти сохранились лишь внезапные разрывы снарядов в весенних оживающих лесах, молчаливая смерть молодой беззащитной поросли, визг осколков, внезапная непонятная тишина, а за ней истошный мат и не то глухой стон, не то утробный далекий вой: Ура- а - а - а! Ура- а - а - а!
Пехота пошла? Нет? - Нет! Со своего наблюдательного пункта я и без бинокля вижу, как поредевшие серые шинели не дойдя до гребня, молча скатываются вниз, назад.
От нас - минометчиков помощи как от козла молока: мины будто проваливаются в листву раскидистых ясеней, дубов и не уследишь, где они рвутся. А, впрочем, и немцев, зарывшихся в землю по лесным опушкам не видать.
Только пехота. Только кровью!
Наконец, измотанные остатки стрелковых рот все-таки закрепляются на гребне. Минометы меняют позиции. Пушку на руках по корявой разбитой колее затаскиваем на очередной гребень. Еще километр ... два ... Новые ориентиры ... цели. Горят дома. Корчатся в огне пробудившиеся к жизни деревья. Медленно сползают вниз по разбитым лесным дорогам тяжело груженные горем санитарные телеги. Еще... Еще... Вон за той горой должна открыться широкая долина Мура...
Но подымать в атаку уже некого и некому. В те первомайские солнечные по летнему теплые дни наш полк выдохся. Окопаться! Занять оборону!
Наконец-то. Слава Богу! Еще раз пронесло. Мы, живые устало и радостно смотрим друг на друга. Сколько нас осталось? Кого нет? Из штаба пришел слух: нас будут сменять гвардейцы и штрафники. Грац надо взять до прихода американцев. А пока - копать!
Весна. Молодость. День-два, и мы уже совсем другие. Все забыто и наши молодые глаза совсем иначе смотрят вокруг. Благодатные дни!
Полк прочно оседлал гребень хребта к северу от Штрадена. Наш второй батальон занял позиции на западном склоне хребта между селами Ваасен и Крусдорф.
Минометная рота обосновалась в небольшом бауэровском хуторе. Я поселился в комнате окнами на немцев. Солдаты в задней половине дома. Во дворе за сараями установили минометы. Окоп для сорокопятки оборудовали чуть поодаль около бани, замаскировав пушку копной прошлогоднего сена, пристреляли мельницу в Ваасене. Семья бауэра, как вскоре оказалась, хоть и покинула родной дом, но от добра своего отказываться не собиралась. Уже на следующий день ни свет, ни заря на дворе нашего дома появились две дородные молодухи - австриячки, дочери хозяина. Из окна я обратил внимание на солдат, буквально прилипших к австрийским madchen. “Медхены”, игриво отбиваясь от солдат, широко улыбались и беспечно болтали с ними, как с давними знакомыми. Помню, позавидовал солдатам, свободно разговаривавшим по-немецки.
При моем появлении настырные молодухи слегка поумолкли, а потом вновь распустили языки: “Разве могут русские воевать? Они ж все ленивые. Отец взял в хозяйство двух арбайтеров, так они только спали да ели. Никакого проку. На себя не зарабатывали!”
В хлеву замычала корова. Одна из австриячек, что помоложе, привычно достала подойник и вскоре появилась из хлева с молоком. Солдаты с батальонной кухни принесли нашу еду, хлеб и только все сели за стол, как из полка пришли автоматчики и к общему неудовольствию прогнали непрошеных посетительниц. Вечером солдат и меня допрашивали в СМЕРШ. Там решили, что австриячки - шпионки.
Мы остались без женского общества. Но все равно жизнь совсем мирная и молодая била ключом. Всего несколько дней оставалось до 8 мая, а происшествий и воспоминаний - уйма. Казалось бы нужен минимум месяц, чтобы столько натворить, но мы торопились.
В тот же день, когда прогнали наших медхен, я нашел клад, обратив внимание на слабо утоптанную землю у порога дома: щуп звякнул о стекло. С глубины 30-40 см мы извлекли несколько бутылок первача-кальвадоса, деревянную шкатулку с завернутыми в тряпку часами, медными позолоченными кольцами и другой дешевой бижутерией, какие-то тряпки.
Кальвадос выпили. Показалось мало. Ротный писарь - бывший директор Балтинского спиртзавода, что на “щирой Украiне”, вызвался организовать производство более вкусного и крепкого зелья.
Частной инициативы и энергии у солдат в обороне хоть отбавляй. И уже на вторую ночь к бане, стоявшей около нашей пушки, двое кастрированных меланхоликов-быков приволокли огромную телегу с бочками сидра (виноград в тех местах не разводят). В бане появился фирменный самогонный аппарат. К утру мне на пробу доставили бутылку еще теплого первача.
Переводить сидр на кальвадос - дело не хитрое, и вскоре ночные бани задымили по всей линии советско-германского фронта (по крайней мере на нашем участке). По полку последовал строжайший приказ, запрещающий самогоноварение. Во втором батальоне негласное исключение было предоставлено только мне, как единственному непьющему офицеру. Гордый таким доверием начальства, я разделил роту на две части. Одна дежурила у минометов, другая ... ночью гнала самогон и пила, а днем пила, горланила песни и спала. Бутылки самогона стояли у меня в комнате в кованном сундуке (наподобие наших русских деревенских). Я раздавал их по записям и телефонным звонкам сверху, естественно, не забывая друзей.
Надоенное австриячками парное молоко солдатам понравилось. Нашлись специалисты... Наши коровы сами по утру спускались вниз к реке на нейтральную полосу и паслись там, не признавая линии фронта. Ни немцы, ни мы их не стреляли. В полдень наши коровы шли доиться к нам, фашистские - к немцам.
В общем в начале мая 1945 года в Австрии к югу от Граца шла не война, а черт-те что!
Ко всему прочему, вскоре немецкие части, стоявшие против нас, были заменены полуразложившимися мадьярами, а боеспособные подразделения вермахта ушли на север, где наши правые соседи наконец-то прорвали фронт и в американской зоне оккупации штурмовали Грац. Командованию оставался последний шанс получить очередную звезду, очередной просвет на погоны... Нам же лезть на хорошо укрепленные горные склоны, где сидит хоть и деморализованный, но все же враг, было полным безрассудством. Начальство рвало и метало.
А тем временем полковые разведчи связались с мадьярами и протянули телефонный кабель прямо на КП командира мадьярского батальона. Начались переговоры о сдаче в плен. Появилась возможность без потерь открыть фронт. Мадьяры вроде бы и соглашались (особенно солдаты), но боязнь Сибири и многолетняя вполне обоснованная пропаганда делали свое дело.
Стрельба на передовой практически прекратилась. Хорошо помню совсем летний солнечный день шестого мая. Я возвращался из штаба батальона в роскошном подрессоренном фаэтоне. Породистый каурой масти рысак легко бежал по мягкой полевой дороге вдоль опушки леса на виду у фашистов. Все кругом беззаботно дышало летом и покоем. Вдруг ни с того, ни с сего по фаэтону полоснул длинной злобной очередью крупнокалиберный пулемет. У мадьяров таких пулеметов не было. Подбитый рысак взвился на дыбы и прянул в сторону. Я вылетел из сидения в придорожные кусты. Ездовой, запутавшись в шлейках и постромках, с облучка свалился под задние ноги коня. Фаэтон, конь, ездовой, полетели под откос. Я же весь перецарапанный, с синяками застрял в ветках огромного куста. Пулемет еще некоторое время продолжал прицельно бить по фаэтону. Потом все также внезапно стихло. Быстротечная история с фаэтоном произошла на виду у всего батальона. И каково было удивление солдат, когда я, чуть прихрамывая, как ни в чем не бывало появился на позиции!
Это было началом.
Оказывается немцы, разнюхав предполагаемую измену мадьяр, в ночь на 6 мая сняли их с передовой. Перед нами заняли позиции остатки какой-то недобитой эсэсовской дивизии и власовцы. Им терять нечего!
Дальше тянуть резину было нельзя и вечером в штабе батальона нам зачитали приказ о “решительном наступлении”. Предстоял бой. Бой бессмысленный, заранее обреченный на неудачу. Но - надо! Надо кровью пехоты опередить американцев, не спеша подходивших с запада к правому берегу Мура.
ЗАЧЕМ? Мы не спрашивали - нам не говорили...
С тех дней у меня сохранился оригинал “совершенно секретного” произведения майора Шрамченко, к тому времени ставшем начальником штаба 1288 сп.
сов. Секретно
Экз. 7
Таблица
сигналов взаимодействия
на период проведения разведки боем 7.5.45 г.
Телефон | Радио | Световые | ||
1. | Начало артиллерийского налета | Буря | 999 | 3 красные ракеты |
2. | Занял исходное положение | Звезда | ||
3. | Начало атаки Р.О. | Ураган | 111 | 2 красные ракеты |
4. | Противник начал отход | Заря | 222 | 1 красная 1 белая ракеты |
5. | Разведотряд вышел на рубеж Крусдорф-Ваасен | Море | 888 | серия красных ракет |
6. | Противник оказывает сопротивление из района (координаты) | Дождь | 333 | 1 белая ракета в сторону цели |
7. | Частям перейти к преследованию противника | Ветер | 555 | серия белых ракет |
Начальник штаба 1288 сп.
майор /Шрамченко/
6.5.45г.
К сожалению, на следующий день все пошло через “пень-колоду”. Полковые разведчики с утра напоролись на минное поле и еле унесли ноги. Естественно никто никаких ракет не посылал и тщательно разработанная Шрамченко операция провалилась.
КОНЕЦ ВОЙНЫ
Вечером того же 7 мая 1945 года в штаб батальона нагрянуло начальство. Сегодня, через пятьдесят лет пытаюсь вспомнить, какими же они были, эти часы? Помню. Хорошо помню, и не могу поверить: разве могло быть так? Было.
В 2 часа 30 минут 7 мая генерал Йодль по поручению преемника Гитлера гросс-адмирала Деница “от имени германского главного командования подписал условия капитуляции ” (А.М.Самсонов, Крах фашистской агрессии 1939 - 1945. Наука, М., 1980, 727 с.).
В тот же день “в 12 часов 45 минут имперский министр граф Шверин фон Крозинг объявил немецкому народу о безоговорочной капитуляции Германии” (А.М.Самсонов, стр.687).
Но 7-го и 8-го мая в моем близком окружении никто ничего об этом не знал: СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ! ВПЕРЕД НА ЗАПАД! УБЕЙ НЕМЦА!!! ....
В штабной землянке обычный мат, табачный дым, угрозы трибуналом за срыв наступления... Приказ: утром 8 мая после артподготовки - ВПЕРЕД!
Утро 8 мая 1945 года.
Спать в ту короткую майскую ночь не пришлось. Как только чуть стемнело, обозные быки, перевалив хребет, затащили на позиции две подводы мин и снаряды к пушке. Не успели мы разгрузить снарядные ящики и ввинтить в мины взрыватели, как на мельнице уже закричали первые петухи. Услышав их, забрезжил ранний рассвет. Тишина... Я тормошу солдат, в полудреме сидящих у минометов. Сейчас начнется!...
Откуда-то сбоку, перелетев хребет, появилось игрушечное эхо далекого выстрела. За ним в еще сонном небе нехотя прошипела мина. Разрыв!...
Началось! По мельнице, по крайним домам Ваасена, по Курсдорфу ударили тяжелые пролковые минометы. За ними - приданная полку артиллерия и, наконец, наши “самовары”. Мельница утонула в пыли и дыму. Минут сорок уже взаправдашное эхо взад-вперед каталось по долине, наводя страх и ужас на откормленных бауэровских коров и прочую живность. Немцы не отвечали. За артподготовкой пехота вышла из окопов молча без стрельбы. Вскоре поступило донесение: батальон форсировал речку и оседлал дорогу Ваасен - Курсдорф. Мы перенесли огонь вглубь обороны немцев. Пришел приказ менять позиции в район мельницы. Я послал связного за лошадьми и быками. Все шло по плану, вплоть до разноцветных ракет. Но, как недавно сказала Тэтчер: “бесплатный сыр бывает только в мышеловке”.
Внезапно, замолкшая было пойма взорвалась пулеметной стрельбой. Немцы, выйдя двумя группами из Курсдорфа и Ваасена, отрезали нашу пехоту от реки и ударили ей в тыл. Между нами и немцами - голый склон и никого. Перед бауэровскими домами я выставляю боевое охранение, посылаю связного в штаб батальона. Ждем...
Танки!... Танки!... Этот панический крик застал нас врасплох. Где танки? Какие танки?! Я бросился к пушке. Никаких танков. Вокруг над всем полем стоит сплошной гул. С обеих сторон бьет далекая тяжелая артиллерия. Куда бьет - сама не знает. Потери от нее минимальные. Одна польза - наводить страх на слабонервных. На голом склоне, в пойме речки, на другой ее стороне внезапно появляются облачки пыли, будто Гулливер-невидимка идет и наступает на “жабьи бани”.
Про танки кричали солдаты ни весть как появившиеся с передовой. Прицелом-полубиноклем я, отпустив стопор, шарю по дороге: пусто... пусто... рядом с мельницей что-то дернулось. Танк! Его темно-серая башня чуть возвышается над развалившейся копной сена. Охотничий азарт охватил тело. Только бы не промахнуться:
- Давай подкалиберный!
Обе руки, как на учебных стрельбах, цепко впились в поворотные рукоятки. Под правой ладонью упрямо пузырится деревянная кнопка спуска. Глазницу плотно облегает резиновый наглазник окуляра. Огонь! Одновременно с выстрелом я отбрасываю голову назад и снова прижимаюсь к окуляру прицела. Танковая башня поворачивается и вот ее увеличенная во много раз пушка смотрит прямо на меня. Я ловлю башню в перекрестие. Чуть выше. Огонь!...
Мне казалось (да и сейчас кажется), что я видел яркую вспышку, выскочившую из орудия немецкого танка. А может быть и нет. Оттолкнувшись обеими ногами от станины, я головой вниз нырнул в боковой окоп одновременно с разрывом немецкого снаряда...
9 мая 1945 года.
Я проснулся (а может быть очнулся) от визгливых женских криков. Они назойливо били по темени. Голова гудела, вокруг пахло рвотой. Я лежал раздетый на простыне под пикейным одеялом. Все тело было будто не мое. Открывать глаза не хотелось, но в конце концов пришлось. Огромная медсанбатовская палатка человек на тридцать. Посередине около выхода в окружении медсестер стоял медсанбатовский горбоносый врач-капитан. Он размахивал руками и широко открывал рот - наверное кричал. Сестры прыгали и смеялись. На меня никто не обращал внимания. От всего этого, помню, захотелось домой, к маме.
Потом меня снова начало рвать. Наконец, пришла сестра, привычно подставила таз, прокричала в ухо: “Кончилась война!” и ушла радоваться. Хотелось пить, но сестры куда-то пропали. На кроватях молчали тяжело раненные и только на соседней койке в бреду умирал солдат...
Который час? Рука, недавно увешанная часиками, перевязана и пуста. Через бинты кое-где просочилась кровь. Кровь запеклась в правом ухе и на подушке. Под тонким одеялом холодно, но боль в колене не позволяет свернуться калачиком. Плохо.
К вечеру поднялась температура, начался малярийный озноб... Помню женщину-врача, уколы, горький вкус хины...
Судя по всему в медсанбате я пробыл не долго - дней пять-шесть. Как только поднялся на еще ватные ноги, залез в кузов машины и был таков... На прощание врач, взглянув в правое ухо, причмокнул и сказал: “Ничего, до свадьбы зарастет, слышать будешь, доживешь до старости - вспомнишь”. Дожил. Вспомнил. Уже год как ухо практически не слышит.
Наш полк воевал до 11 мая, после чего началась массовая сдача немцев в плен.
Опубликовано с разрешения автора. Публикация - Баир Иринчеев |