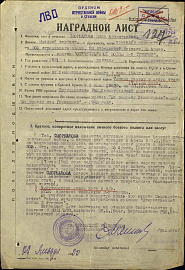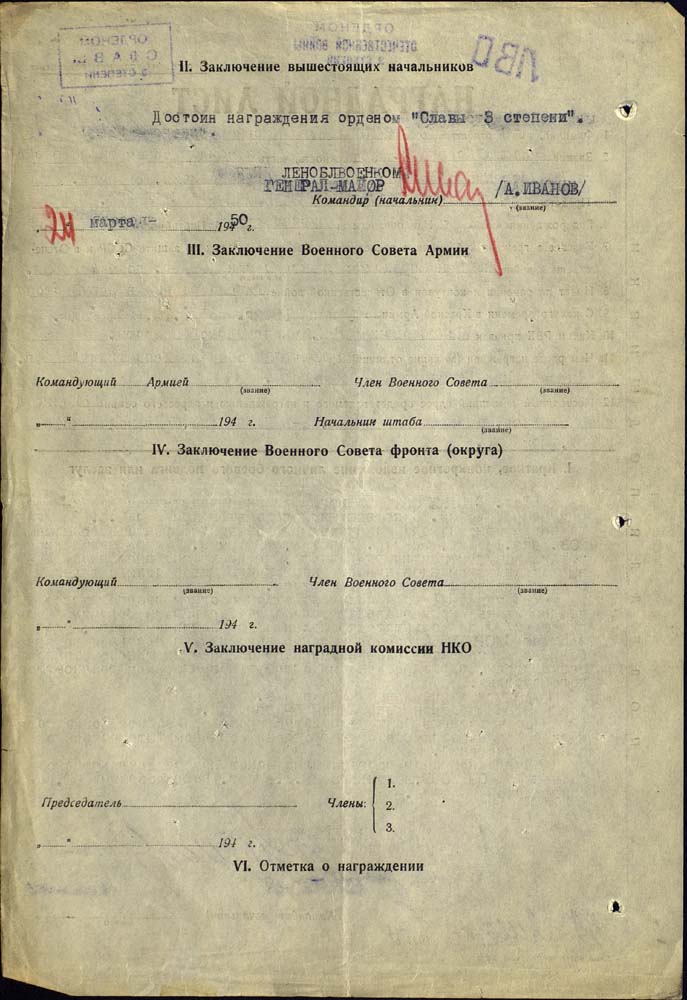До начала войны я работала на авиационном заводе, производящем детали для самолетов. 21 июня 1941 года у меня случился приступ аппендицита, и меня срочно положили в больницу. 22 июня, когда началась война, меня так же срочно выписали, поскольку госпиталю нужно было освобождать места для раненых. Я продолжила работать на заводе, но где-то в июле у меня случился новый приступ, и меня снова положили в госпиталь. Оперировали сначала под местным, а затем под общим наркозом, причем общего наркоза дали столько, что потом семь часов откачивали. Наш завод в это время начал эвакуироваться из Ленинграда. Меня бы тоже эвакуировали, но я в это время была в больнице, поэтому осталась в Блокаде, и до июня 1942 года работала в консультации. Блокаду просто тяжело вспоминать... Я думаю, что все же Бог есть, что он меня сберег в эту зиму. Один раз пришлось мне с двоюродной сестрой ехать через весь Ленинград карточки отоваривать, на нынешний Московский проспект. А тогда немцы уже свои орудия поставили, и по южной части города чуть ли не прямой наводкой били. Рядом с нами по улице шла супружеская пара и везла на тачке какое-то тряпье. Мы только услышали, что летит на нас, свистит. Упали, недалеко громыхнуло, мы поднялись – ни супружеской пары, ни коляски. Что с ними стало? Взрывной волной куда-то сдуло? Или убежали? Непонятно… В другой раз я стояла в очереди у магазина на Новосамсоньевской, магазин был закрыт на обед. И тут как раз налет. Все к двери магазина прижались, никто не уходит. Мне кирпичом по спине заехало – в соседний дом было прямое попадание авиабомбы, и кирпичи полетели во все стороны. Ещё я однажды ехала в трамвае к Финляндскому вокзалу, переехали Литейный мост, и бомбежка началась. Трамвай остановился, и кондуктор говорит: «Если кто хочет, выходите и в убежище». А мне надо на Финляндский вокзал, пройти осталось сто метров. Я вышла из трамвая и пошла. И надо же было такому случиться, что бомба прямо в трамвай попала! Такой же случай был и с моей мамой.
Сада или огорода у нас не было. Но нам удалось достаточно много родственников спасти от голодной смерти. Мама работала на 5-й мармеладно-шоколадной фабрике, где делали халву, мармелад, и так далее. Там в качестве сырья были очищенные семечки подсолнуха. Так мама эти семечки по горсточке в карман клала, на проходной охраннице отсыпала чуть-чуть, и та ее пропускала. Дома эти семечки пропускали через мясорубку, варили из этой кашицы суп и кормили всех родственников, кому могли помочь. Благодаря этим семечкам мы выжили. Кота нашего съели… Крапива была милое дело, вкусные щи из неё были.
У нас тут в Парголово на холме была дача, там жил профессор по фамилии Штернберг. Он на даче убивал людей, варил студень, и потом продавал. Его сгубило то, что соседи видели, что к нему заходили люди, и не выходили. Милиция стала дом обыскивать, и в подвале нашли большое количество студня из человеческого мяса. Профессор этот при обыске покончил с собой – шприцом ввел себе яд. С тех пор этот дом прозвали «дача людоеда». Не знаю, сохранился этот дом сейчас или нет.
Меня два раза тоже чуть не съели, - то есть чуть не убили на мясо. Я до войны была очень румяная, даже уксус пила, чтобы побледнее быть. Как-то раз я шла из города с работы, к Парголово. Уже темно, и мне навстречу двое мужчин идут. Мимо меня проходят, и говорят: «на котлеты хороша». Я сначала даже не поняла, о каких котлетах они говорят и из кого эти котлеты собираются делать. Эти двое мимо прошли. Тут до меня дошло, что эти двое только что сказали. Обернулась, а они за мной! Я как припустилась бежать! Я хорошо бегала еще в школе. В первый же дом я забарабанила изо всех сил в дверь, хозяева спрашивают: «Кто там?» - «Открывайте скорее!» Они дверь открыли, меня впустили, я им: «Закрывайте!» Хозяин запер дверь, и я у этих людей очень долго сидела, потому что те два злодея все никак не уходили, все крутились под окнами. Потом хозяин дома пошел меня проводить. Это был первый случай.
Второй случай был в 1942 году. Я пошла за водой к колодцу, а там очередь, народа много. Колодец у нас на горе был. Я стою в очереди с одним ведром. Мне соседи и говорят: «Нина, а что ж ты только с одним ведром в такую даль пришла?» - «Да у меня второе ведро потекло, вот и хожу с одним». Тут ко мне подходит мужчина незнакомый, и говорит: «У тебя ведро потекло? Так ты приходи ко мне, 19-й дом по Выборгскому шоссе, я тебе его запаяю». Я обрадовалась, говорю: «Хорошо, сейчас принесу», - «Нет, сейчас рано, ты вечером, часов в восемь ко мне приходи с ведром», - «Хорошо, приду». Я знала этот 19-й дом: на первом этаже хозяйственный магазин, а на втором живут. Я знала жильцов со второго этажа, и спросила у этого мужика: «Где ты там живешь? Куда приходить?» - «В подвале я живу. Туда приходи». Время подходит, я собираюсь с ведром уходить, мама меня спрашивает: «Ты куда?» - «Да я в 19-й дом, ведро запаять», - «Дура! Ты что, не слышала, что там убивают?» Потом я поспрашивала людей в деревне, и действительно, такая молва в деревне была.
Вот так было. Когда после войны по телевизору или радио звучала песня «Священная война», то я сразу – в плач. Не могу слез сдержать. Все это – Блокада, война, обстрелы, ранение – все это сразу вспоминается… И плакат «Родина-мать зовет»… Так я стараюсь все это забыть, не думать об этом, но как услышу или увижу эти два символа из сорок первого года – сразу плачу. Только в последнее время полегче стало. Столько времени уже с войны прошло…
В армию я попала только в июне 1942 года, да и тогда я могла отказаться от этого. Мне пришло три повестки, и три раза мне давали отсрочку на восстановление после операции, но капитан, начальник военкомата в Парголово, мне все время говорил: «Все равно я тебя заберу. Ты такая боевая, почему бы тебе не повоевать?» Почему он назвал меня боевой? Потому что мы жили недалеко от военкомата, и как-то раз над Парголово разгорелся воздушный бой. Я встала на улице, рот разинув, и смотрела на то, как самолеты в небе бьются. Вокруг осколки летят, все по щелям попрятались, а мне же интересно посмотреть! Капитан вышел из блиндажа военкомата (они тогда уже под землей располагались), говорит: «Что ты тут стоишь? А ну давай быстро отсюда!» Я в ответ: «Так мне интересно посмотреть на бой», - «Ах, интересно посмотреть на бой? Надо бы тебя тогда на фронт отправить. Там такие смелые нужны» Я говорю ему: «Да пожалуйста, забирайте». В это время как раз шла мобилизация девушек. Военкомат прислал мне одну повестку – врач дала мне отсрочку. Вторая повестка пришла – опять отсрочку дали. Третья повестка пришла, и снова врач не отпустила меня в армию. Когда я получила последнюю повестку, я сама уже пришла в военкомат, и говорю: «Забирайте меня в армию!» - «Ну вот, давно бы так!»
Сначала я попала в Сертолово, в автороту. Надо сказать, что до войны, на заводе, я была очень активная в оборонных кружках, да и в техникуме до завода этим занималась. Так что стреляла я хорошо и трехлинейную винтовку знала прекрасно. У меня был значок «Ворошиловский стрелок», ну и «ГТО» в придачу. Командир со всеми проводит занятия по винтовке, а мне что там делать? Я и так все знаю! Командир роты был армянин. Заместитель по политчасти отсутствовал, уехал куда-то. Командир этот меня как-то раз вызвал, начал ко мне приставать: «Почему вы на меня не обращаете внимания?» - «А почему я на вас должна обращать внимание?», - достаточно грубо ответила я ему. Слово за слово, он меня рассердил, и я ему выпалила: «Я вас ненавижу!» После этого меня отправили на передовую, за грубость к командиру. Солдаты мне говорят: «Все, собирайся. Троих солдат на фронт отправляют, и тебя над ними старшей поставили». Мы отправились на фронт пешком. Я иду, и конечно, мне страшно стало – девчонка, 20 лет всего мне исполнилось, и на фронт! Мужики говорят: «Не бойся, дочка, мы от тебя не убежим, доведем до фронта». Мы пришли на передовую, в 8-й полк НКВД, позже ставший 203-м стрелковым полком. Как раз в то время прибыло много девушек по мобилизации - и вологодских, и ленинградских. И поскольку я винтовку знала, меня поставили с ними заниматься строевой подготовкой.
После меня перевели в минометную роту: сначала наводчицей батальонного миномета, - а потом я стала командиром расчета. Звание у меня было сержант. У меня было четыре бойца – девушка-наводчица, заряжающий и два подносчика. Никакой специальной подготовки у меня не было – в 82-миллиметровом миномете только прицел сложный, а все остальное элементарно. Но если вы мне сейчас этот миномет дадите, то я ничего не вспомню – как и какой угол я определяла, уровень… Тогда, я конечно, только все вычисления делала, и как наводчица наводила миномет. Никаких особых вьюков для миномета у нас не было, все просто таскали на себе. Стреляла я только по приказу, но никаких лимитов на использование боекомплекта я не помню. Траншеи были оборудованы прекрасно, миномет было вообще не видно. Поскольку я была в минометной роте, я не слышала прозвища «самоварщики», которое на фронте давали минометчикам – сами себя мы так не стали бы называть.
Одевалась я в обычную солдатскую форму, форменные юбки появились позднее. Зимой мы все были в основном в шинелях, ватников было мало. Ватных штанов не было. Ватник, ватные штаны и маскхалат мне выдавали только когда я шла на нейтралку за финнами охотиться. Каску я тоже всегда носила в таких случаях. А так – простая солдатская форма: пилотка, гимнастерка.
Как у нас можно было мыться? Зимой снегом обтирались и мылись. Летом иногда было такое – жарко, воды нет. Тогда, если от колеса на дороге оставалась колея или след от копыта лошади, наполненные водой, то делали так – зачерпывали ладонью, отгоняли головастиков немного, а эту коричневую воду, почти жижу, пили. И не болели. Каждое утро нам обязательно выдавали кружку отвара хвои. За весь период на фронте я была в бане только один раз. Нынешняя жизнь в этом плане, конечно, поражает. Как вспомню, в каких условиях на фронте мы жили, спали и ели!.. На морозе в одной шинели были, - и никто не болел. У нас была отдельная женская землянка, жили мы в ней впятером. Спали в землянках на деревянных нарах, на которые был накидан лапник. Плащ-палатка служила простыней, а накрывались шинелью. В этой связи вспоминается анекдот тех времен: «Сынок, ты что себе на фронте под себя подстилаешь?» - «Шинель, бабушка», - «А что в голову кладешь?» - «Да шинель, бабушка», - «А чем, сынок, накрываешься», - «Да шинелью, бабушка» - «А в чем ходишь?» - «Да в шинели, бабушка», - «Сынок, так сколько же у тебя шинелей?!» - «Да одна, бабушка». У нас на всю землянку была одна подушка, да и то я умудрилась ее прострелить – стала чистить винтовку, и она выстрелила: оказалась, она была заряжена.
Снабжение было хоть и скудное, но все же не как у гражданских в Блокаду. Тогда просто нечего было есть, а тут в армии хоть кашу какую-то давали, потом американская колбаса была. С едой все было нормально – пшенка, «строевая», как мы ее называли. Водку я пила только когда было какое-то задание, когда страшно. А так просто себе спирт во фляжку сливала про запас.
Один раз я со своим минометом схулиганила: пришел комполка со своей девушкой, или ППЖ. Она осталась на улице, а комполка зашел ко мне в землянку, и говорит: «Я привел нового бойца, покажи ей, как минометы стреляют, ознакомь с обстановкой» Я вышла, а там Вера стоит, моя знакомая! Спрашиваю: «Хочешь посмотреть, как мы тут стреляем?» - «Да», - «Ну ладно, пошли!» Собрала я своих ребят, пошли на позицию. И тут я решила над ней подшутить. Это было в апреле, земля мокрая, вода везде. Когда миномет стреляет, вся эта грязь и вода из-под плиты летит фонтаном. Я ей сказала встать точно в том месте, куда все это полетит, и скомандовала: «Беглый огонь!» Она не знала, что закрывать: прическу, лицо, форму. Я дала три выстрела. Она на меня заорала: «Зачем ты это сделала?» Я подумала, что от гауптвахты мне не отвертеться, но комполка мне ни слова не сказал.
Иногда стрелять приходилось много, а иногда за целый день вообще не стреляли. Мой муж, когда с разведгруппой отходил от финнов, иногда просил заградительный огонь, - и тогда мы много стреляли. Или когда боевое охранение просило огонь, отсечь группу финнов – тоже приходилось стрелять.
Женщинам очень тяжело в армии было. Меня часто посылали на истребление финнов, в качестве снайпера. Выдавали снайперскую винтовку с оптическим прицелом, белый маскхалат, - и вперед. Летом маскхалаты не выдавали. Вот это было занятие малоприятное. Все время на передовой, все время с солдатами, даже в туалет не сходить. Весной или осенью в траншеях вода. Один раз шли по траншеям, залитым водой, и я говорю: «Давайте выползем на бруствер, и по верху поползем, а то невозможно просто! Мне еще полдня на земле лежать!» Только поползли по брустверу – «кукушка»: «Бах! Бах!» Спустились обратно, в воду. Прошли немного, я думаю: «Наверное, “кукушка” нас потеряла уже. Давайте опять выползем!» Выползли наверх, и опять «кукушка» по нам бьет. Опять по колено в воде. Опять выползли наверх, и тут солдат, который за мной полз, вдруг орет мне: «Стой! Не двигайся!» Я сначала не поняла, в чем дело, а потом смотрю – передо мной мины. Чуть не задела. Пришлось опять в ход сообщения спускаться и брести в воде до боевого охранения. В боевом охранении в землянке сидели солдаты из 22-го УРа. Они к нам хорошо относились, всегда пускали обсушиться, давали сухие портянки. Я там переобувалась и ползла дальше, залегала на нейтралке, и наблюдала за финнами. На обратном пути я забирала у них свои подсушенные портянки и переобувалась.
Первое время было нужно понаблюдать, когда они на завтрак идут, когда караулы разводят – узнать их распорядок дня. Иногда идет – я его каску вижу. Целюсь, выстрел, - и мимо! А финн прячется, и лопатку саперную выставит из окопа – промазала, мол! А если попадешь (и не однажды такое было), никто не машет лопаткой из окопа, тишина на той стороне. Личный счет снайпера я не вела, иногда выставляли вместе со мной наблюдателя, смотреть, попала или нет. Мне как-то не особо интересно было. Говорили, что попадала и убивала, а сколько – я сама счет не вела. Приятного мало, когда надо на нейтралке без движения несколько часов лежать. Иногда после выстрела я переползала на другое место, иногда оставалась на том же месте – ведь не знаешь, заметили тебя после выстрела или нет. Может, поползешь на другое место, и тут тебя обнаружат?
Линия фронта была стабильная, и от нечего делать и наши, и финны часто кричали друг другу что-нибудь – пропаганду, или просто переругивались. Мой муж был командиром полковой разведки, и финны ему орали: «Ну, Смаркалов, если ты нам попадешься, ремни на спине будем у тебя резать! Не суйся к нам!» Финны же наших в плен тоже брали, и перебежчики русские у них были… Поэтому финны знали фамилии наших командиров, и напрямую к ним обращались в своей агитации.
К политрукам у нас тогда хорошо относились. Политическая подготовка, да и все прочее – это же было наше все! Как же без этого? Надо было кому-то этим заниматься! Не было у нас такого в мыслях, что политруки в тылу отсиживаются, пока мы кровь проливаем. А с особистами мне вообще не пришлось иметь дела на войне.
Однажды было такое: я вхожу в землянку комбата, а там в углу за плащ-палаткой сидела девушка, я даже не знаю, или финка или наша – вела по рации пропаганду по-фински. Она как раз передавала свою агитацию, а я тихонько говорила с комбатом. А ужин уже прошел! В этот момент в землянку вошел солдат, который в карауле стоял, и говорит громко: «Ребята, пожрать мне оставили?» Ему все орут: «Тише!» Но поздно уже было. На следующий вечер финны нам кричат из своих окопов: «Рюсся, вы своим солдатам пожрать-то оставляйте!» Мы потом долго смеялись. Конечно, финны не все по-русски говорили, но нам кричали на нашем языке.
Незадолго до моего ранения произошел вот такой эпизод, - как предупреждение мне. В 6 часов утра по нам финны открыли огонь из минометов и орудий. Били они по нам очень сильно, поставили дымовую завесу, и от меня потребовали открыть ответный огонь. Я побежала к своему миномету, а мой миномет разобран для чистки! Побежала к другому – а там командир расчета в разведку ушел. Били по нам сильно, осколки летели рядом, но только один осколок царапнул мне левую ногу. Это было как будто предупреждение, что я потеряю ногу. И верно, потом меня ранило в эту же ногу. Слава Богу, что вообще не убило, а только пятку разворотило!
Это случилось 17 мая 1943 года на высоте Мертуть, когда я получила приказ подавить финские огневые точки, бьющие по нашим позициям. Я только открыла огонь, пару мин выпустила, и тут нас накрыло. Они в нас попали, когда я командовала: «Огонь!» Среди моих солдат не было никого, кто понимал бы что-то в медицине. Жгут надо было наложить выше колена, а они наложили ниже, в результате кровотечение они не остановили. Вынесли меня на плащ-палатке до КП батальона, и пока они меня донесли, я уже в луже крови была. Дальше – больше. Вызвали для меня машину, чтобы в полковую медсанчасть везти, а ее все нет и нет. Повезли меня на повозке, запряженной лошадью, и только по пути встретилась машина. Привезли в полковую санчасть, а там комполка стоит, замкомполка. Первый вопрос командира полка: «Задание выполнила?» Я в ответ: «Снимите жгут!» Его же можно только 45 минут держать, а он у меня был уже больше часа! Он опять: «Задание выполнила?» В результате, я потеряла сознание, и уже не помню, как жгут снимали, как рану обрабатывали. Очнулась я только в медсанбате. Так как рана была засыпана торфом (торф, в отличие от песка, из раны не вымыть), мне ампутировали ногу. Привели меня в чувство только когда надо было делать операцию по ампутации. На встречах после войны я нашему бывшему комполка напоминала об этом эпизоде – ветераны нашей дивизии часто собирались в Ленинграде. Писарь нашего полка после войны стал директором ресторана «Восток» и всех нас туда приглашал.
Наградили меня за этот бой только в 1951 году, орденом Отечественной Войны 2-й степени. После этого ранения я полтора года провела в госпиталях, мне сделали пять операций. Казалось бы, надо просто ногу отрезать и все, - так нет! В полковой санчасти мне ногу ампутировали и повязку наложили. Тогда они еще по-простому делали операции, просто отрезали конечность, и все. Это уже в 1944 году стали по Пирогову делать, поднимать кожу, затем культю этой же кожей оборачивать и зашивать. А тогда, в 1943 году, мне просто отрезали ступню, напихали туда тампонов и перевязали. Это все пропиталось кровью, присохло к ране, и когда мне стали в полевом госпитале все это снимать, чтобы новую перевязку сделать – вы не поверите – я одному санитару рукав халата оторвала от боли, второму руку стиснула так, что остались синяки. То ли они новый тампон положили в рану, то ли старый забыли, но что-то в ране оставили. Потом меня эвакуировали в Ленинград, и оттуда через Вахруши в Киров.
До Кирова мы добрались только через месяц, и у меня открылся свищ. Поднялась температура. Хирург сделал операцию под местным наркозом. Я чувствовала, что он там что-то долго-долго скоблил в ране. Через какое-то время опять свищ, новая операция, уже под общим наркозом. Я у хирурга стащила свою историю болезни со стола, и прочитала, что у меня, оказывается, марля вросла в мышечные ткани, и поэтому он там так долго скоблил. Марля там уже вся сгнила. Он опять отскоблил все не до конца, и поэтому опять заражение пошло. Тот хирург меня в четвертый раз на операцию положил. Перед четвертой операцией приехала моя мама, и на этого хирурга страшно накричала: «Сколько можно мою дочь резать?» Вообще, у нас в госпитале он всем по несколько раз делал операции. Поскольку моя мама там подняла шум, он вроде бы в четвертый раз удалил зараженные ткани окончательно, но малую берцовую кость не вынул. Как позже выяснилось, под наркозом во время операции я страшно ругала хирурга. Через какое-то время тот же хирург оперировал девушку, раненную в голову, у нее осколок был в мозгу. Так вместо того, чтобы осколок вытащить, этот хирург его туда в мозг вдавил, и она тут же умерла. Врач-терапевт сделала хирургу замечание, то есть сказала: «Что Вы делаете?!! Вы же ее убили!» Всего разговора между ними я не знаю, но на утро проснулись – хирурга нет, старшей сестры нет, сестры-хозяйки тоже нет. Они втроем сбежали. Оказывается, что этот хирург был вредитель, поэтому он все время мне заражение продлевал, и всех остальных тоже так ужасно оперировал!
Я не носила длинные волосы, но и не совсем короткие волосы были. Мы, девчонки, друг другу помогали, волосы расчесывали друг другу, заплетали. Когда меня ранили, и я была в госпитале в Ленинграде, вышло постановление: если женщина раненая сама не может ухаживать за своими волосами, то тогда ее обривали наголо, чтобы насекомые не заводились. Так что в Кирове мы уже знали: если девчонку раненую привозят обстриженную, то значит, она из Ленинграда.
После этого нас эвакуировали дальше, в город Коминтерн. В том госпитале профессора меня посмотрели, и сказали, что нужна еще одна операция на ноге, и что больше общего наркоза давать мне нельзя. А во время общего наркоза мне Смерть снилась, - такая, как ее в книгах рисуют, худющая, - и говорила мне: «Ты сейчас умрешь!» Я протестовала изо всех сил, просыпалась и спрашивала всех: «Я уже умерла?» Все эти общие наркозы мне сильно посадили сердце, и один профессор заметил: «Дочка, лет пять жизни эти наркозы у тебя точно отняли». Когда я теперь лежу в больнице и мимо меня проводят практикантов, врач им всегда говорит: «Послушайте сердце этой больной». Я настолько наркозом наглоталась за войну, что когда эфиром у зубного в 70-е годы промывали полость рта, я сразу отключалась.
На последнюю, пятую операцию, мне дали спинно-мозговой наркоз, в позвоночник всадили иглу, и я перестала ноги свои чувствовать. Что стол деревянный, что ноги – на ощупь одно и то же. А операционная большая, на соседнем столе раненой девушке на бедре делают операцию. Хирург ей мясо режет, как на кухне филе свиное. Отрезал ей кусок, и так же небрежно, как на кухне кошке куски мяса на пол бросают, кинул кусок бедра этой девушки в таз. Мне аж поплохело от такого зрелища! Я отвернулась, и не стала больше смотреть. Перед моими ногами ширмочку поставили, и я сама не видела, что и как мне делали. Я настояла на том, чтобы вынули малую берцовую кость, чтобы была возможность ходить. Неделю после операции я должна была лежать на спине, без движения, что было достаточно сложно.
Муж мой после того, как я по ранению ушла из дивизии, два раза еще был ранен, и один раз в штрафбат угодил, за невыполнение боевого задания. Это случилось как раз тогда, когда я лежала в полевом госпитале. Он меня навестил два раза, и на третий раз сказал только, что придет теперь нескоро. Про штрафбат не обмолвился ни словом. Сказал только, что будет сильно занят боевой подготовкой, и все. Потом мне моя подруга прислала письмо в госпиталь: «Твой Ваня там же, где его заместитель Зуев» А Зуев как раз в штрафном батальоне был. Зуев туда отправился за то, что не привел «языка». Мой муж тоже туда попал за несколько неудачных поисков – один раз его разведгруппа взяла «языка», но пока тащили, его убили – приволокли, а он уже мертвый. Второй, третий раз сходили безуспешно, - и все, в штрафбат. Там Ваню ранило, и после этого он вернулся, попал в лыжный батальон. После его ранения он написал моей двоюродной сестре, та пришла к нему в медсанбат в гости. Он спросил мой адрес, и стал почти каждый день писать мне письма. Врет, но все равно пишет. Девчонки в госпитале надо мной даже смеялись, если мне не было письма.
Мы с мужем познакомились вскоре после того, как я на фронт попала, - в июле 1942 года, наверное. Тогда командир взвода разведки был другой, и я пришла к командиру разведки то ли за данными, то ли еще за чем. Смотрю, а там уже другой командир сидит. Мне интересно стало. Потом мы с ним еще на выходе из землянки строевой части столкнулись. Я поднималась наверх, а он бежал вниз, и своим спортивным значком в темноте он поцарапал мне нос. Я не видела, кто это, и отругала его за это. Через несколько дней после этого случая мы познакомились уже в нормальной обстановке. Поженились мы с мужем в конце войны, и 56 лет с ним вместе прожили. Ни одна пара фронтовиков, кого я знаю, так долго вместе не прожила. Наш комполка, Николай Авдеевич, в 1942 и в 1943 году был против фронтовой свадьбы, так что когда мой муж пришел просить нам свадьбу и отпуск на пару дней, он сказал: «Да ладно тебе, Смаркалов, ты ею поиграешься, и бросишь. А если с ней что случится, если ранит ее, то тем более бросишь». Муж ответил: «Не хотите брак регистрировать – и не надо. Так проживем». На фронте, значит, мы были в незарегистрированном браке. Когда меня ранило, муж как раз был то ли на задании, то ли тренировался с бойцами. То есть его в полку не было. Ему только вечером сказали, что меня ранили и увезли. Он сразу пошел к комполка, и говорит: «Отпустите меня, Нину в медсанбат проведать», - «Мне только что доложили, что ей ногу ампутировали», - «Ну, тем более надо ее проведать», - «Нет, ты туда не пойдешь. А что, ты разве не собираешься ее бросать? Она тебе без ноги нужна?» Мой муж ответил: «Я интересуюсь не ногой, а человеком. Бросать я ее не собираюсь. У меня, кроме нее, никого нет». И сдержал свое слово. В первый раз он меня проведать в полевой госпиталь с разведчиками пришел – командиру полка сказал, что ушел с взводом на тренировку, а сам ко мне пришел со всей своей командой. Вот такой у меня муж был. Его весь полк или Ваней, или Ванечкой называл. Его и в полку все любили, и после войны все ветераны его прекрасно помнили. Я нисколько не жалею, что связала с ним свою жизнь.
Все мы, девушки-фронтовички, на фронте держались вместе, - да и после фронта, после войны, тоже. И долго-долго дружили, даже до последнего времени, пока все, - царствие им небесное, - не поумирали. Мало девушек-фронтовичек осталось сейчас в живых. Из нашего полка только я осталась, да писарь Зинаида Васильева, - но она уже не ходит, все время дома сидит. Даже сейчас, когда все наши офицеры и солдаты почти поумирали, их жены, кто живы еще, до сих пор с нами дружат…
Вот такая моя история. Всего один год я провела на фронте и после этого полтора года в госпиталях.
| Интервью: | Б. Иринчеев |
| Лит.обработка: | С. Анисимов |