Я родилась в Минске 29-го декабря 1928 года.
Пару слов, пожалуйста, о корнях вашей семьи, довоенной жизни.
Нас было всего трое – отец, мама и я. Папа у меня белорус из деревни Дайнова Минской области. Он всей душой принял революцию и в семнадцать лет вступил в партизаны. Там он видно хорошо проявил себя, потому что его направили в знаменитое Кремлевское училище. Но он там недолго проучился. Мама мне объяснила, что он стеснялся своего скромного образования, у него за плечами была только церковно-приходская школа, и попросил перевести его в другое училище.
А мама у меня из семьи сталевара из Днепродзержинска. Когда в 1921 году разразился страшный голод, семья собралась, и поехала к бабушке в Быхов. Но дорогой они заразились брюшным тифом, и на полпути их ссадили с поезда и поместили в тифозный барак. Вскоре ее мать и две сестры умерли, и мама в свои пятнадцать лет осталась одна… Все их вещи изъяли и сожгли еще при поступлении, и при выписке из больницы ей выдали только больничную сорочку и полбулки хлеба. На билет денег не было и она одинокая, полураздетая, босая пошла по шпалам… А питалась только тем, что ей давали рабочие-путейцы встреченные по дороге. Так она и пришла к бабушке…
Пожила у нее года два, а после смерти бабушки осталась совсем одна. Но к ней в домик попросилась жить молодая семья, и она взялась нянчить их маленького ребенка. Люди оказались хорошие, добрые, что сами ели, тем и ее кормили. И к ним часто приходил друг, молодой, красивый командир - мой папа. Так они и познакомились.
Папа был военнослужащим, поэтому детство моё прошло на колесах – его всё время переводили с места на место. Жили и в Белоруссии, и на Украине, и в России. Но все эти переезды тяжело давались маме, со временем у неё пошатнулось здоровье, и папа решил уволиться в запас. Папа всегда был на хорошем счету, поэтому командование пошло ему на встречу и в 1939 году он вышел в запас. Встал вопрос – где жить? Вначале недолго пожили в Бекетовке под Сталинградом, но потом родители решили переехать в Днепродзержинск.
Мама стала работать кассиром на вагонном заводе, а папа работал на «Дзержинке» (знаменитый «Днепровский металлургический комбинат имени Ф.Э.Дзержинского» - прим.Н.Ч), кантовщиком что ли. А жили мы на Первомайской улице, 60. Выкупили у хозяина дома крохотную квартирку: комната, кухня и коридорчик. Вот в этой квартире нас и застала война.
 |
Родители – Мария Нестеровна и Константин Иванович |
Голод 1932-33 годов помните?
Непосредственно мы не голодали, всё-таки семьи военнослужащих обеспечивали централизованно. Но голод в Фастове, папа тогда там служил, конечно, был, но насколько я знаю, люди там не умирали. Именно там я пошла в 1-й класс, и хорошо помню, как на большой перемене после 2-го урока нас кормили. Сделали такую отгородку, куда приезжала кухня, и вот там детям выдавали хлеб и по тарелке супа. Дети подбегали и кричали: «Целушку мне! Целушку!», горбушку т.е. И я это тоже кричала, не понимая смысла.
Там же в Фастове папа впервые написал прошение об увольнении, и ему предложили два года отработать председателем колхоза. Это где-то 34-й год был, самая голодовка, и как раз массово проводили коллективизацию. Вот это я уже хорошо помню.
Весной мы уехали в деревню. Названия не вспомню, но совсем близко от Фастова. Папа начал принимать хозяйство, открыли бурты с картошкой, но она оказалась замёрзшей. Тогда он всех колхозников собрал и предложил: «Давайте переберем её. Мороженную пустим на крахмал, хорошую - на семена, а пищевую - раздадим на трудодни». И вот это простое решение как-то обрадовало людей и сразу дало ему необходимый авторитет. Дело пошло, и за два года колхоз поднялся, люди ожили. Помню, что за успехи руководство премировало колхоз племенной свиноматкой. А в пруду, на который мы ходили купаться, развели рыбу и на трудодни стали выдавать и рыбу. В общем, колхоз стал передовым и папу за успешную работу наградили велосипедом.
Репрессии 1936-38 годов вашей семьи как-то коснулись?
Нет, но уже потом я поняла, что в это время родители жили в постоянном страхе… Потому что несколько наших знакомых было арестовано.
Мы тогда жили в Черемхово под Иркутском, там в это время строился завод №328 что ли. (Судя по всему здесь имеется ввиду стройка завода химических источников тока № 389 в Свирске – прим.Н.Ч.) Начальником строительства был некто Лиссовский, жена которого была родной сестрой Троцкого. У них был сын Вова, Володька, с которым мы вместе бегали. Хороший мальчик, воспитанный. И когда Лиссовского пришли арестовывать, а он был заслуженный коммунист, имел много наград, так он вышел с пистолетом на крыльцо, и предупредил чекистов: «Куда надо я сам пойду, но если только пальцем ко мне притронетесь - застрелюсь!» Сам сел в машину и его увезли… Вот это я знаю.
А у моей подружки – Анечки Набережной отец работал инженером на строительстве этого завода. Когда мы у них играли, её мама угощала нас вкуснейшим чаем со сливками. И мне запомнилось, что как-то мы опять у неё играли, а тут её папа пришёл: «Ну, Анечка, где твоя подружка? Сейчас будем чай со сливками пить!» Увидел меня и спрашивает: «Чего ты такая печальная?» А у меня была такая большая кукла, у которой глаза сами открывались, закрывались, и во время игры мы её уронили, и глаза выпали. Аня отвечает: «У её куклы глазки отвалились!» Он стал её чинить, а уже когда стемнело, на руках отнёс меня домой. А на второй день Аня мне рассказывает: «Папу ночью арестовали…» Но чем в итоге закончилось, я не знаю. В общем, время было тревожное, и когда на нашей улице останавливалась машина и гудела, родители не спали…
Многие ветераны рассказывают, что в последние предвоенные годы жизнь улучшалась прямо на глазах.
Я бы не сказала, что жизнь так уж улучшилась, скорей это наше сознание улучшалось. Из детей мы превращались в подростков, и восприятие мира, конечно, становилось другим. Да и репрессии к тому времени прекратились, к людям уже по-другому относились.
Но я помню, что во время войны с Финляндией начались перебои с хлебом. Чтобы купить хлеб маме приходилось ночью вставать и идти занимать очередь. А утром ведь на работу… Но потом нам всем сказали пошить по два мешочка и подписать их. И наши общественники приносили в одном булку хлеба, а пустой забирали. Без очереди, без ничего.
Так что жили пусть и тяжело, но как-то умели радоваться жизни. Я прекрасно помню, как еще в Фастове, в те голодные годы на праздники нас, детей, сажали в автобусы или грузовые машины со скамейками и возили с транспарантами по городу. Сами полуголодные, но как же нам было весело… И мечтали не о чём-то обыденном, а о высоком. Я, например, мечтала стать капитаном дальнего плавания, и мои друзья считали, что я обязательно им стану, а они будут моими помошниками.
Что-то говорило о том, что приближается война?
Какие-то слухи о грядущей войне стали ходить ещё во время войны с финнами. Ничего конкретного, тем более что с Германией, но какой-то дух прямо витал в воздухе. Все дети постоянно играли в войну, а в пионерских лагерях вожатые организовывали военные игры. Помню, в Черемхово очень интересно играли. На майки нашивали номера и прятали знамя или пионерский галстук в лесу.
А уже перед самой войной к нам приехал муж папиной сестры, он воевал в финскую, и после ранения у него на одной руке осталось всего два пальца. Так он нам рассказывал про «линию Маннергейма».
Как вы узнали, что началась война?
Когда объявили по радио, некоторые решили, что это не всерьёз. Как так, кто решится напасть?! Ведь мы такие непобедимые! Как в песне поётся - «… и танки наши быстры, и наши люди мужества полны…»
У меня же по правде сказать были какие-то смешанные чувства. С одной стороны понимала, что война это большое горе для народа, а с другой радость, оттого что можно подвиг какой-то совершить. Я ведь читала очень много книг о войне, о разных героях, подвигах. И воспитание было такое – не для себя, а от себя…
Но уже когда прошли первые бомбежки, и когда соседний дом разбомбили, а у нас волной вырвало все окна и двери, вот тут мы уже поняли, что это всерьёз…
Мы собирались эвакуироваться на Урал вместе с маминым вагонным заводом. Даже вещи уже были сложены, но маму всё задерживали на заводе, потому что нужно было сделать окончательный расчёт. А потом папа вдруг нам объявил – «Мы никуда не едем!» Как потом оказалось, его вызвали в военкомат и сообщили, что ему нужно остаться для работы в подполье. Но он нам, конечно, тогда ничего этого не сказал. И только потом я узнала, что мы с папой состояли в одной организации, только я в другой группе.
Как в город вошли немцы?
Немцы пришли уже 23-го августа. Причём не с запада, откуда их ждали, а со стороны Днепропетровска. Большой паники в городе не было, но некоторые люди стали грабить магазины. Помню, как на дороге лежал мешок сахара, видно кто-то слишком нагрузился и по дороге бросил.
А еще за несколько дней стали взрывать заводы, в том числе взорвали водокачку, и в результате весь город остался без воды. За ней приходилось ходить к бассейну за десять километров от нас. Я ходила туда с коромыслом. Вешала на него два ведра и ещё одно умудрялась нести в руке. Ведь очень далеко же ходить. И то ли накануне, а может даже в тот же день мы с моей подружкой Пашей пошли за водой. Когда уже возвращались, спускались по Банному спуску, а он очень крутой, мы упирались, чтобы не расплескать. До середины дошли, тут навстречу какой-то раненый командир на красивой лошади: «Девочки, как мне до переправы добраться?» Объяснили ему, а лошадь храпит, видно воды хочет. Я предложила: «Может, напоить?» - «Нет, девочки, я её на переправе напою. А вы будьте осторожны, немцы уже в городе!»
Когда Широкую улицу заняли до нас дошли слухи, что там немцы расстреляли мужчин и юношей. Там у питомника был ров с речушкой, и их прямо на берегу поставили и расстреляли… Но мы как-то с недоверием отнеслись. Потом стали подходить к нашей улице.
А у нас в парке стояла артиллерийская часть, и мы с Пашей побежали туда. Решили так - если они ещё тут, то мы вместе с ними и уйдём. Прибегаем туда, они уже все собирались, запрягали лошадей. Подходим к командиру: «Мы идём вместе с вами!» Он начал нас отговаривать: «Девочки, вас уже мамы, наверное, ищут!» - «Нет, мы пойдём с вами!» Тогда он решил схитрить. Сказал что-то своим солдатам, и они принесли нам в гимнастерках несколько флаконов одеколона, какой-то веер: «Девочки, смотрите, что мы вам дарим! Отнесите подарки домой и возвращайтесь!» Побежали домой, а тут уже и мама навстречу с ремнём…
Прибежали к Паше, их дом стоял во дворе нашего. А ещё до этого в каждом дворе вырыли щели. Их чем-то накрывали, маскировали, и прятались в них во время бомбежек. А у них окно выходило во двор, и смотрим, а там человек шесть наших солдатиков. Говорю Паше: «Если что, будем их перевязывать!» А тут уже и немцы идут по нашей Первомайской улице. Солдатики кинулись за сараи, а один начал отстреливаться. Стоит и стреляет. Немцы и по тем вдогонку, и по нему. А потом у него видно патроны кончились, достал гранату и хотел её бросить, но он уже ранен был, и когда отвел руку назад, сил бросить не хватило и граната по инерции полетела прямо нам в окно… Ударилась о подоконник, взрывом окно вырвало и такой едкий запах пошел…
Упали с Пашей на пол, и она говорит: «Давай в погреб спрячемся!» Тут как раз из него вылезает её брат. Мальчик лет пятнадцати: «Девчонки, как солдату поможем?» - «Так он ведь погиб…»
Тут опять выскакивает моя мама с ремнем: «Быстро в убежище!» Втроём заскочили туда, закрыли люк над собой, но вскоре услышали крики: «Хальт! Хальт!» Люк открывается, а там немцы: «Выходи!»
В убежище находилось и человек десять мужчин, в основном пожилые, деды, но первыми пошли женщины. Чтобы не сразу расстреляли, а хоть начали разбираться. За женщинами мужчины, и только после них вышли уже мы. Но как вышли, мужчин сразу отделили, построили в шеренгу, а женщин с детьми в другую. Всех мужчин кого собрали, человек сорок-пятьдесят, посадили в подвал молочного магазина. И сразу всех предупредили, если убьют хоть одного немца, то всех этих заложников немедленно расстреляют. В итоге продержали их там дней четыре-пять, а потом отпустили. Просто повезло, потому что расстреливали ужасно…
У нас в Романково жил один знакомый, который прекрасно знал немецкий язык. Кажется, он в I-ю Мировую побывал в немецком плену, там языку и научился. И когда их вывели из убежища, все вышли, немец ему приказывает: «Принеси воды!» А он отвечает на немецком: «Хорошо, у нас в колодце очень вкусная вода!» Только повернулся и пошел к колодцу, как тот ему в спину выстрелил… Вот так мы сразу почувствовали, что такое оккупация…
А вечером мама пошла в сарай за углём. Заходит, а там сидят те самые шесть солдатиков, и просят её: «Не выдавайте, пожалуйста, а то нас расстреляют! А ночью мы уйдём, будем пробираться к своим». Мама пришла домой, набрала каких-то папиных рубашек, кое-как их одела. И ночью они ушли, но чем закончилось, не знаю.
Какое первое впечатление осталось от немцев?
Вы знаете, мы же привыкли, что нам пропаганда рисовала фашистов как зверей, а тут пришли те же самые мальчишки, чуть ли не наши ровесники. Ведь к нам первыми пришли отборные войска, эсэсовцы, а они же самая молодежь. Насколько я знаю, воспитанники из детдомов, которым хорошенько промыли мозги. И с виду они были не озлобленные, наоборот, с добродушными лицами. Просто выполняли всё как мясорубка. Крутишь, и она всё подряд мелет…
 |
Площадь Днепродзержинска перед городским театром во время оккупации. (1942 г.) |
К вам в дом они заходили?
В первый что ли день и зашли. По дому особо не рыскали, из вещей ничего не брали. Но как раз перед их приходом мама напекла немного оладьев: «Садись доченька, покушай, а потом и папе отнесешь!» Но только напекла, заходят трое немцев: «О, матка!» На меня показывают: «Цурка?», в смысле дочка. – «Да!» На оладьи показывают: «Вкусно?» - «Да!» – «Можно попробовать?» И что мама могла ответить? - «Пробуйте!» А они взяли и всё съели. - «Вот и поужинали…» Вроде это как-то и вежливо, попросили, но смертью от них пахло. Чуть что не так сделаем и всё…
Ещё в город пришли итальянцы, у них были каски с перьями. Были у нас и венгерские части, причем не в форме, а вроде как в национальных костюмах. У них такие лаптики и белые штаны, мы говорили – подштанники. Но я их видела только в городе, когда они по проспекту Пелина проходили, а близко нет. Я подумала, господи, словно на какой-то маскарад вырядились. Может и поэтому, но мне как-то и не было страшно. И вскоре произошел такой случай.
У нас по улице вели колонну пленных. Но это была уже поздняя осень, и после проливных дождей дороги превратились в сплошное месиво. Тут ещё морозы ударили как никогда рано, и земля замерзла в уродливых буграх и кочках. Немцы шли, кутаясь в шарфы и шинели, но было видно, что их это не спасало. А на наших было просто невозможно смотреть… Измученные, истерзанные, голодные, они брели из последних сил, стараясь не упасть. Многие разутые, босые. Некоторые сняли гимнастерки и обернули ими ноги, но и это не спасало. За колонной на снегу оставался сплошной кровавый след…
Люди стали бросать в колонну у кого что было: калоши, ботинки, тряпки, шарфы. Бросились выносить из домов хоть что-то из продуктов, но немцы не разрешали передавать. А я оказалась там с большим куском хлеба, и не чувствуя страха, пошла прямо к колонне. Я и не отдавала себе отчет, что делаю. Даже не поняла сразу, из-за чего вдруг стало так тихо. А люди просто замерли в ожидании выстрела… Успела передать хлеб первому попавшемуся пленному: он дрожащими руками схватил его, и опасаясь что не успеет, давясь и кашляя стал судорожно глотать… Конвоир закричал: «Хальт!», но тут мама подскочила и оттащила меня от колонны. Вот тут конвой решил покончить с милосердной миссией и дал автоматную очередь в воздух. Люди отхлынули, а пленные продолжили свой мученический путь…
Многие из тех, кому довелось пережить оккупацию, вспоминают, что в первые дни оккупации немцы устраивали акции устрашения. Обычно вешали кого-нибудь из коммунистов.
В начале оккупации я такого не помню, но в зиму на 42-й год произошел такой случай. Зима выдалась очень суровая, и немцы объявили сбор теплых вещей. Хочешь, не хочешь, а сдать обязан. Найдут, что не сдал, не пожалеют…
Собранные вещи сносили на вагонный завод, а сортировать и грузить их набрали подростков 14-16 лет. И один из этих мальчиков взял и переобулся. Свои рваные там оставил, а хорошие надел. Но на выходе его засекли и забрали в гестапо. Потом вывели в парк, там уже стояла виселица.
Поставили на эшафот, надели ему эти ботинки на шею, и табличку с надписью по-украински: «Я вкрав німецькі речи». Наделю петлю на его тонкую детскую шею, а он казалось, и не понимал, что происходит. У меня это всё до сих пор перед глазами… Окинул взглядом толпу людей и неожиданно громко, жалобно позвал: «Мама…» Тут полицай ударом ноги выбил табурет, тело парнишки судорожно рванулось и … о чудо - верёвка оборвалась. Все на мгновение оцепенели, и тут же из толпы вырвался вздох облегчения. Люди обрадовались: «Бог защитил дитя, не допустил греха!» Паренек с минуту, наверное, полежал, пришел в себя, и вдруг вскочил и побежал. Но полицаи бросились за ним, догнали и привели обратно. Я помню, что из толпы раздались голоса: «Два раза не вешают!» А какая-то немолодая женщина молила: «Родимые, накажите его как-нибудь по-другому, он же дитя неразумное!» Люди надеялись на чудо, но оно не случилось… И дня три, наверное, он провисел в назидание другим…
Вы знали, как немцы поступают с евреями?
Конечно, мы видели, что евреев обязали носить на рукавах повязку «JUDE». Если кого ловили без неё, сразу убивали. Могли подойти на улице, и по лицу ударить, и всё что угодно…
А евреи в Днепродзержинске тогда жили в основном на Старой почте. Там, например, жил один папин знакомый, прекрасный сапожник. Как-то папа у него пошил хромовые сапоги и не уставал ими восхищаться: «Это не сапоги, а перчатки!» Такое удовольствие было их носить. Совсем не натирали, но так облегали, что ноги в них никогда не промокали.
И как-то папа сказал нам: «Поедем к Мише что ли, навестим его!» Мы-то с мамой думали, он просто хочет его навестить, а оказывается, папа уже знал, что назавтра всех евреев будут вывозить оттуда. И когда пришли, папа ему это сообщил, и насколько я знаю, они до утра быстренько собрались, и растворились в темноте.
А тех, кто остался, немцы предупредили: «Мы вас перевезём в другое место. Возьмите с собой только ценные вещи!» Но вывезли их на станцию Баглей, там такой котлован на пустыре, и расстреляли… Об этом сразу стало известно, да немцы это и не скрывали. Там потом и коммунистов расстреливали и подпольщиков. По 200-300 человек за один раз…
Вы должны были где-то встать на учет?
В здании 3-й школы на проспекте Пелина немцы организовали биржу труда, и вся молодёжь была обязана там зарегистрироваться. Никто не верил никаким советским документам – обязан зарегистрироваться и точка. Я тоже там зарегистрировалась, но я была помладше и просто числилась. А вот из тех, кто постарше, немцы отбирали здоровых ребят и девушек для отправки на работу в Германию. Начиналось это, правда, на добровольной основе. И некоторые, из числа любителей посмотреть мир, поехали добровольно. Но попадали там неизвестно куда…
У меня была знакомая ровесница, мы с ней в одной школе учились. Верочка, а фамилия Велимбия что ли. У неё был брат Ваня, года на три-четыре постарше. Очень красивый, и сама она просто красавица. Из интеллигентной семьи, музыке обучалась, в общем, развитая была девочка. Так они с братом добровольно уехали ещё в 42-м. Но где-то в 43-м уже вернулись. Я её случайно встретила на улице вскоре после войны и спросила: «Верочка, а как вам удалось уехать?» - «Лучше и не спрашивай… Мы в таком аду побывали, что даже врагу не пожелаю…» Вроде их не преследовали, но как они смогли вернуться, я не представляю. Мало ли что там могло быть. Но я знаю и таких, которые добровольно поехали в Германию, а сейчас получают пособия как пострадавшие. Помню, одна уезжала, села к немцу сзади на мотоцикл, как настоящая немецкая б… А потом такие возвращались и замаскировались, вроде как в рабстве там были.
А знаю и обратный случай. В доме с Пашей жила такая Маня. Она была постарше меня года на два, а её сестра года с 23-го. Но отец у них был безногий инвалид, и чтобы хоть как-то прокормить семью ей пришлось устроиться санитаркой в немецкий госпиталь. Вот её я не виню, потому что ну так сложились обстоятельства, что другой возможности прокормить себя и родных у неё просто не было. А перед уходом немцев её кто-то настращал: «Если ты останешься, то тебя посадят!» И она уехала с немцами… Но по дороге её где-то там арестовали, и посадили года на три. Свой срок она отработала на Донбассе в шахтах. Потом вернулась, стала работать у нас на заводе, квартиру однокомнатную получила, но замуж так и не вышла. Считай тоже искалеченная войной судьба…
Хоть от кого-то из них слышали, что в Германии им было хорошо?
Может, так кто-то и думал, но вслух никто об этом не говорил. Но я знаю, что некоторые попривозили оттуда чемоданы дорогих вещей.
Чем вы занимались во время оккупации? В школе, например, учились?
Школа работала только в самом начале оккупации. В октябре, наверное, набрали 7-8-9-е классы. Но до войны я училась в 1-й школе, которая считалась самой лучшей в городе. В центре города, лучше всех оборудована. Но в её здании немцы обустроили комендатуру и нас перевели в здание 2-й школы, возле больницы. А там батареи лопнули, и была такая ужасная холодина, что мы по полу как по льду катались.
Но по новой программе учиться и не хотелось. Да и чему могли научить учителя, которые вместо привычного «Здравствуйте, дети!», должны были нас поприветствовать по-новому: «Хайль Гитлер!» А мы же дети ещё совсем были и старались показать своё неуважение и даже ненависть к оккупантам. В ответ всякие глупости кричали: «Хам Гитлер!» или «Гав Гитлер!» Они, конечно, молчат, делают вид, что не понимают. Так что никому это не нужно было и вскоре немцы школы закрыли.
А как вы жили в материальном плане? Родители где-то работали?
Папа по заданию подпольной организации устроился в охрану на свой завод. У их группы была главная задача - чтобы немцы не смогли запустить ни один цех комбината. Только они там что-то наладят, как подпольщики сразу демонтируют. Там, наверное, ему что-то платили или паёк давали, я уже и не помню. Но жили в основном чем? У папы был фотоаппарат, так они с мамой ходили по деревням и фотографировали в обмен за какие-то продукты: кусок сала, банка сметаны. А попутно смотрели и собирали информацию. Где, что, как?
Или же просто какие-то вещи на продукты меняли. У мамы, например, было две шубы, так их за бесценок обменяли на картошку. Даже на месяц не хватило.
К работе в подпольной организации вас папа привлёк?
Нет, не папа. Однажды к папе зашел его знакомый – Василий Лукьянов. Он часто бывал у нас и раньше, но беседовать с ним мне как-то не приходилось. А тут папы дома не оказалось, и мне пришлось занять гостя беседой. Вначале разговор не особенно клеился, но потом мы перешли к волновавшей меня теме. Понимаете, я не только выглядела старше своих тринадцати лет, но и думала совсем по-взрослому. Я мечтала вести борьбу с оккупантами, но даже поговорить на эту тему ни с кем не могла. И вот когда в разговоре мы заговорили о сложившемся положении, я прямо-таки взорвалась. Сказала Васе, что не осталось больше настоящих комсомольцев, что страх парализовал всех и что стыдно смотреть на покорные рожи тех, кто еще недавно казался честным человеком. Много дерзостей и глупостей наговорила, но Вася мне не мешал. Мало того, я увидела, что эти слова он с болью принимает и в свой адрес, и от этого ещё больше завелась.
Когда, наконец, я замолчала, Вася сказал: «Не горячись! Я знаю, что ты честная девушка и тебя ни кнутом, ни рублем не сломишь. Если хочешь продолжить разговор, приходи к нам в гости на Красноармейскую». И вы знаете, эти простые слова меня поразили и заставили прислушаться к себе. Он назвал меня – Девушка, т.е. подчеркнул, что я уже не девочка, а взрослая. Во мне сразу что-то созрело, даже мысли пошли как-то плавно. И конечно, поняла, что неспроста Вася зовёт меня в гости. Ну, не на чашку же чая. Но теперь мне казалось, что я показала себя очень глупой и где-то даже ненормальной психопаткой, поэтому дала себе слово отныне держать себя в руках.
Когда пришла к ним в гости, там оказалось много народу. Вася, его жена Тоня, сёстры Надя, Вера, Лида. В углу мама сидит, что-то штопает. Раньше бывая в их семье я не чувствовала никакой робости, а тут вдруг почувствовала, что все эти люди смотрят на меня как-то по новому. Словно впервые увидели. Да и мне они казались новыми и страшно интересными людьми.
После пришёл высокий, худой парень, подал мне руку: «Василий», и только потом я узнала, что это был Страшнов. И видимо его ждали, потому что все сразу оживились, начали смеяться и болтать всякий вздор. Но это было настолько отвлеченно, что меня настигло разочарование, и я решила уйти. Как вдруг Страшнов сам стал со всеми прощаться и спросил меня: «Валя, сколько тебе лет?» Это был самый больной для меня вопрос. Я снова покраснела, но храбро солгала: «Скоро будет шестнадцать!» Все как будто обрадовались, заулыбались, а Страшнов ещё раз посмотрел мне в глаза и коротко сказал: «Хорошая девочка!» С тех пор я часто стала бывать у Лукьяновых и незаметно для себя вошла в подпольную группу. Мне стали давать какие-то задания.
Например, вести агитацию среди тех, кто уезжал на работу в Германию. На станции выходили прямо к вагонам: «Ребята, мы сейчас охрану отвлечем, а вы разбегайтесь!» Но мало кто решался, потому что вполне могли и застрелить.
Но чаще всего задания были связаны с листовками. Их нужно было написать и распространить. Обычно меня вызывали к Лукьяновым, у них был радиоприемник, давали информацию на словах, и мы от руки писали листовки и где-то расклеивали. На столбах, на стенах. Помню, как-то с подружкой прошлись по проспекту, и то я её закрою, она клеит, то наоборот. Где удобно, там и клеили.
Такие поручения сменялись одно другим, и со временем меня стали посылать с листовками даже за пределы города. И вы знаете, мысли об опасности меня не преследовали. Я себе представляла, будто я пионерка в школе, и выполняю обычное комсомольское поручение. И уже только потом пришло ощущение того, насколько опасным делом мы занимаемся.
Помню, как-то ранним летом мне поручили поехать в Николаевку, это на левом берегу Днепра. Дали адрес брата и сестры, оба чуть постарше меня, чтобы через них связаться с их комсоргом и выявить, сколько там надежных ребят, чтобы привлечь их к работе.
Поехала туда, встретилась, поговорила, переночевала у них, но видимо немцам стало что-то известно. Часов в семь утра этот парень повёз меня на лодке через Днепр, смотрим, а на берегу уже все оцеплено: и полицаи стоят, и немцы. Он спрашивает: «Валя, что будем делать?» - «Я не знаю!» - «У тебя что-нибудь есть с собой?» - «Может, листовки ещё остались». – «Где они?» - «Под вишнями!» А они мне такую корзиночку вишни набрали, я её на коленях держу. - «Бросай корзинку за борт!» А я так хотела маму вишней порадовать: «Нет, вишню жалко! Неужели станут высыпать?» - «Ну, смотри…»
Подплываем, но там же много лодок, и всех нас окружают. Там одна группа стоит и проверяет, подальше другая, третья. Спрашивают нас: «Кто такие?» - «Вот ездила за вишней до тёти своей. А что такое?» - «Нам нужно одного человека найти». – «Кого, девочку или мальчика?» Они смеются: «Девочку нам надо, девочку!» То ли шутят, то ли нет, пойди, пойми.
Тут подходит ко мне совсем молодой парень: «Валя Гулякевич?» - «Да». – «Пойдем со мной!» Полицаи его спрашивают: «Ты её забираешь?» - «Да, забираю!» Идём, спрашиваю его: «Куда ты меня ведешь?» - «Прежде всего, будем знакомы. Меня зовут Яша Беленький. Мой дядька работает начальником комендатуры, - что-то в таком роде. – И если нам кто-то встретится, ты идёшь со мной». Один раз его спросили, и он ответил: «Эта девочка со мной!» Вот так он меня оттуда вывел, довёл до самого дома и признался: «Валя, ты мне давно очень нравишься!» И потом то носовой платочек вышитый пришлёт, то открыточку. Они до сих пор у меня где-то лежат.
Вы упомянули, что писали листовки от руки. А не боялись, что вас по почерку найдут?
Нет. Обычный ведь школьный почерк, кто там найдёт? Но, конечно, печатная машинка была нужна. Да вот где её взять? Но еще больше была нужна машинка с немецким шрифтом, чтобы можно было подделывать немецкие документы. И вскоре было решено украсть подходящую машинку из комендатуры на Банном спуске. Почему оттуда, потому что эта комендатура слабо охранялась. На ночь там оставался всего один охранник. Это важное задание поручили организовать мне. Потому что я и сама была боевая, и у меня было много знакомых ребят.
Но ведь украсть может далеко не каждый. Даже смелый, но не имеющий сноровки человек мог сорвать дело. Первая кандидатура сомнению не подвергалась - Петя Поддубный. Это был соседский парень лет девятнадцати. Высокого роста, хорошо сложён, голубые глаза под густыми бровями, тёмный волос гладко зачесан. Но главное – характер. И Петя и Володя Когут это были такие ребята, которые улицу знали, и улица их знала. Если прямо сказать, хулиганы, но порядочные люди. Напрасно не ударят, слабого защитят, в своём роде Робин Гуды. Не какая-то шушера, которую щёлкнешь по лбу и они тебе сразу всё расскажут. Они могли и подраться и отстоять, одним словом – настоящие советские ребята.
Хотя признаться поначалу Петя мне не понравился. Показался хулиганистым и несерьёзным. Но как-то он увидел у меня в руках книгу «Вера Фигнер» и попросил рассказать содержание. К моему удивлению наша беседа о книге вышла серьёзной и заставила меня переменить мнение о нём. Под его внешней бесшабашностью я увидела серьёзные мысли и целеустремлённость. Оказалось, что мы очень хорошо понимаем друг друга, нам легко беседовать, и наши беседы доставляют обоюдное удовольствие. И как-то я ему открылась, сказала, что он может использовать свою энергию более полезно.
А вторым решила взять Феликса Следзинского. Когда мы переехали жить в Днепродзержинск, среди наших соседей оказалась семья Следзинских, которые стали нам добрыми друзьями. Мама – тётя Руня, Алина - девочка младше меня на год и Феликс, с которым я особенно сдружилась. Он был 1924 г.р., высокого роста, русоволосый, несколько мешковат, но, пожалуй, даже что и красивый. Феликс прекрасно рисовал, был начитан, но при этом немногословен. Хороший и верный друг, которому можно было смело доверять. А отец у них работал инженером на заводе «имени Дзержинского», но ещё до войны его арестовали как «врага народа». Когда мы сдружились, Феликс мне рассказывал, как это произошло. Когда за отцом пришли, он бросился к нему: «Папочка, ты же не враг народа!» - «Нет, сынок, это враги народа меня забирают». Это были его последние слова…
Вас кто-то проинструктировал, как к ребятам подойти, как предложить?
Нет. Сказали только: «У тебя много знакомых ребят, но ты подбери двоих. Хороших, боевых. Нам интеллигентных мальчиков не надо, а нужны боевые, сорвиголовы. Которые могут и украсть, и в зубы дать». Предполагалось, видимо, что я выберу тех, кого хорошо знаю и полностью доверяю. А они же были влюблены в меня, и мне достаточно было просто сказать: «Надо помочь, сделать то-то и то-то». И никаких сомнений я у них не увидела.
В итоге на задание пошли вчетвером. Гасана Карабагирова нам дали от организации, Петя, Феликс и я. Решили сделать так. Ребята должны были украсть машинку, и мне передать. Если бы их заметили, они должны были отвлечь на себя внимание, чтобы я через разбитые дома успела выйти на нашу Первомайскую улицу. Ведь с наступлением темноты начинался комендантский час, и хождение по улицам было строжайше запрещено. На наше счастье всё прошло относительно удачно.
Когда мы вышли к старой почте, к нам подошел парень невысокого роста. В темноте я разглядела лицо с узким разрезом глаз, это и был Карабагиров. Меня поставили внутри развалин близ стоящего дома и велели стоять и не показываться, что бы ни происходило. В случае неудачи мне нужно было доложить, как всё произошло. А при благополучном исходе я должна была принять машинку и встретиться с Петро в условленном месте.
Ребята ушли на свои позиции и стали ждать подходящего момента. Ждали не больше часа, но он мне показался вечностью. Казалось, вся ночь пройдёт, а мы ничего не сделаем.
Наконец Петя выждал момент и лёгкой тенью, как ночная птица скользнул за спиной часового. Помню, что в этот момент сердце в моей груди бешено заколотилось, и каждый удар отдавался в висках. Прошло время, и Петя должен был уже вернуться, но как назло взошла луна и к тому же часовой прислонился к дереву, причем лицом к площадке, откуда мы ждали появления Петра. Напряжению моему не было предела…
Вдруг в стороне послышалось какое-то кряхтение, часовой сразу насторожился, вскинул оружие и крикнул: «Хальт!» Но тут с противоположной стороны послышался детский крик. Я узнала голос Феликса. Часовой обернулся в ту сторону, и в это время Петя ловко скользнул в сторону развалин. Пока часовой сообразил, он уже оказался возле меня. Чем-то больно толкнул меня в грудь, я невольно схватилась, и в руках у меня оказалась пишущая машинка. А Петя сразу же метнулся от развалин в противоположную сторону, пересёк улицу, и на освещенном месте даже специально замедлился, чтобы часовой его заметил. Когда раздался выстрел, он уже перемахнул через забор.
Я не знала, что с моими друзьями, но точно знала, что доставить машинку нужно любой ценой. С тяжелой ношей с трудом выбралась из развалин с противоположной стороны и через дворы благополучно добралась до места встречи. А Петя пришёл только под самое утро. Брюки на нём были изорваны, по пути он наскочил на собаку, но с довольной улыбкой на лице. Отпустив пару шуток, он бережно взял у меня машинку, и только тут я почувствовала как одеревенели мои руки, как устала и замерзла за ночь… Но зато я была по-настоящему счастлива. Задание выполнено, и друзья остались невредимы…
Благодаря этой машинке десятки людей получили новые документы. Уже потом я узнала, что Тамара Дуракова, которая работала переводчицей на переправе в речном порту, печатала на украденных бланках справки. Но её потом тоже арестовали и отправили в концлагерь.
За успешное выполнение этого задания Петю приняли в подпольщики. Стали давать новые задания, и каждое из них он выполнял добросовестно. Часто мы работали в паре. Если меня отправляли с листовками в кинотеатр, то Петро следовал за мной неотлучно, и с ним я чувствовала себя как за каменной стеной.
Вы многих подпольщиков знали?
В организации я знала человек десять-двенадцать. Знала Лукьяновых, Страшнова, ведь они меня и в организацию принимали и в Комсомол. Я ведь во время оккупации в него вступила.
Как-то Страшнов меня спросил: «Валя, что ты думаешь насчёт вступления в Комсомол?» В этом вопросе я услышала одновременно и доверие, и вознаграждение, и чувству, охватившему меня, не было предела.
Меня принимали 20-го июня 1942 года. Обстановка была очень скромная. Полутёмная комната с едва мерцающей коптилкой, но сколько же торжественности было в моей душе, как радостно билось сердце. За столом пять человек: Лида и Вася Лукьяновы, Василий Страшнов, Полина Светальская, Владимир Рыбенцов. Меня тепло поздравили, и помню, кто-то сказал: «Ты, Валя, счастливая! В такое время вступаешь в Комсомол. Таких комсомольцев наше будущее поколение никогда не забудет!» Мой комсомольский билет, некоторые документы и папины награды сейчас хранятся в музее Днепродзержинска.
А не знаете, сколько всего людей входило в подпольную организацию? Чем занимались, какие были успехи?
Насколько я знаю, на момент освобождения в организации состояло около ста пятидесяти человек. Конечно, я и в оккупации слышала о каких-то акциях, и после войны что-то узнавала, но полной картины до сих пор не имею.
А то, что сама участвовала, так я этим никогда не козыряла и свой вклад не преувеличиваю. Я не стреляла, не взрывала, просто делала, что могла. А то есть некоторые, что начали приписывать себе какие-то геройства. Знаю одну женщину, которая любит рассказывать: «Я убила одного немца, везла его на санках…» Но я точно знаю, что это ложь! У нас было одно геройство – что не струсили и держали себя достойно. Что не продались, что не стали сотрудничать, не гуляли с немцами, как некоторые… Главой городской управы немцы назначили некоего Самойленко, так он себе жену выбрал, и такую пышную свадьбу сыграли, что вы. Так что некоторые такой путь выбрали, а наши ребята и эшелоны под откос пускали, и за два года так и не дали запустить «Дзержинку». Хоть немцы и били, и грозили, и всё, но днём вроде все работают нормально, а запустить не могут. Зато после освобождения меньше чем за месяц запустили комбинат и дали электричество.
(На сайте www.molodguard.ru есть статья о деятельности подпольной организации Днепродзержинска: «В Днепродзержинске для работы в подполье было оставлено 32 коммуниста во главе с подпольным горкомом КП(б)У в составе: К. Ф. Ляудис (секретарь), И.М.Тюрин, Ф.Ф.Бендер и С.Я.Щербина.
Деятельность подпольщиков началась в крайне тяжелых условиях. Заняв Днепродзержинск 25 августа 1941 года, гитлеровцы сразу же развернули массовый кровавый террор. Только в первый день оккупации за то, что кто-то убил немецкого офицера, в городе было расстреляно 200 первых попавшихся на глаза фашистам людей. В последующие дни были проведены облавы. Около 500 мужчин из задержанных гитлеровцы отправили в концлагеря. По городу развернулась массовая охота за коммунистами, комсомольцами и беспартийными активистами. Ежедневно происходили аресты и казни. Однако подпольный горком партии сразу начал свою работу. Были подобраны явочные квартиры, установлены пароли и шифры. На заседании в конце октября 1941 года горком принял решение: а) распределить оставшихся коммунистов по участкам города и заводам; б) выяснить, какие практические меры принимают гитлеровцы для восстановления заводов. За И.М.Тюриным была закреплена работа в городе и на цементном заводе, за Ф.Ф.Бендером - в селе Романково и на ГРЭС, за С.Я.Щербиной - на коксохимическом заводе, за И.Ф.Ляудисом - в транспортном и мартеновском цехах металлургического завода «имени Дзержинского» и на вагоностроительном заводе.
Подпольный горком партии имел три радиоприемника и пишущую машинку. Это позволило быстро организовать приём и выпуск сводок Совинформбюро, а также листовок, составленных на местном материале. Подпольщики вели и устную пропаганду. 6-го января 1942 года немецкое командование и городская управа опубликовали «воззвание» к населению о сдаче белья и тёплой одежды для немецких солдат. По сути это был приказ. В воззвании определялся срок исполнения – 11 января. Подпольный горком партии поручил Л.Д.Корнецкому, И.Ф.Ляудису, Ф.Ф.Бендеру и С.Я.Щербине подобрать нужных людей и сорвать план фашистов. В результате затея оккупантов не удалась. Был назначен новый срок - не позднее 15 января. Но саботаж продолжался. На заборах и домах появились надписи: «Тот, кто сдаст теплую одежду, является врагом своей Родины, своего отца, сына, брата, сестры, сражающихся на фронте с немецкими фашистами». Четыре раза гитлеровцы назначали сроки сдачи тёплых вещей, но население и не думало выполнять их приказы. Тогда гестаповцы произвели репрессии: было арестовано 20 коммунистов. В их числе оказался член подпольного горкома партии С.Я.Щербина. Он стойко перенес пытки и 15 февраля 1942 года погиб от рук фашистских палачей.
5-го февраля 1942 года оккупанты объявили о «добровольном» наборе рабочей силы для Германии. Они на все лады трубили о благах, которые ждут молодежь в стране «арийской культуры». Подпольный горком партии разоблачил ложь фашистов. Подпольщики собрали письма юношей и девушек, угнанных в Германию, и рассказывали всем о германском «рае». Письма передавались из рук в руки. В результате фашистская пропагандистская затея была сорвана.
Большое значение придавал подпольный горком партии разоблачению пособников оккупантов - украинских буржуазных националистов. Один из подпольщиков специально собрал сведения об их предательской деятельности. Горком выпустил листовки, в которых раскрывалось подлинное лицо националистов.
Большие усилия предпринял подпольный горком партии, чтобы сорвать попытки оккупантов восстановить и использовать промышленность Днепродзержинска. Вслед за гитлеровскими войсками в город прибыли представители фирмы «Гюттенверке» и других немецких монополий.
В первую очередь был намечен пуск цементного завода, продукция которого нужна была гитлеровцам для строительства оборонительных сооружений. Но они сразу же натолкнулись на упорное сопротивление организованных подпольщиками рабочих. Эффективность саботажа подкреплялась действиями подпольщиков. Работавшая в химической лаборатории завода комсомолка Г.С.Терещенко низкокачественный цемент маркировала как цемент высшего и среднего качества. Главный механик завода И.В.Лихачев и техник-плановик Давыдов возглавили группу рабочих, которые разрезали приводные ремни, транспортные ленты, а затем бесконечно их ремонтировали. На сложные агрегаты Лихачев ставил неквалифицированных рабочих, вместе с Давыдовым срывал предупредительный ремонт оборудования, вносил неразбериху в паспортизацию продукции. В результате массового саботажа и диверсий работа на заводе, который до войны давал тысячу тонн цемента в сутки, при оккупантах еле-еле теплилась.
Когда оккупанты задумали пустить мартеновский цех № 2 на металлургическом заводе «имени Дзержинского», подпольный горком партии призвал рабочих сорвать восстановительные работы. Организацию диверсий и саботажа горком поручил механику цеха И.К.Шиманскому и бригадиру слесарей В.Я.Становому. Они делали всё, чтобы максимально затянуть дело. Аналогичное положение было и в листопрокатном цехе. Здесь по заданию горкома саботаж организовал электромеханик Дедышко. Он тоже затягивал ремонт и установку моторов, в результате цех, намеченный к пуску в январе 1942 года, начал работать только в марте 1943 года. Но и после восстановления цехи из-за массового саботажа практически не дали продукции.
Для руководства комсомольско-молодежными организациями горкомом ЛКСМУ была оставлена группа комсомольцев: Л.Е.Лукьянова, В.Т.Страшнов, П.И.Каплина, В.Н.Жировой. Все они вошли в состав подпольного комитета комсомола, секретарем которого была Л.Е.Лукьянова.
Свою деятельность комитет комсомола начал с того, что мобилизовал население, в первую очередь молодежь, на оказание помощи оставшимся в городе раненым бойцам и командирам Красной Армии. Около 200 советских воинов под разными предлогами были размещены в городской больнице и на частных квартирах. Всем им была оказана медицинская помощь. По мере выздоровления комитет комсомола снабжал воинов документами, одеждой, помогал им переправляться на восток. Вот что пишет о деятельности днепродзержинских комсомольцев спасенный ими командир Красной Армии А.П.Сольский: «... комсомольцы уделяли максимум внимания и заботы о воинах Красной Армии, которые по случаю ранения остались на оккупированной территории. Все уходившие из больницы были снабжены справками и одеждой для перехода линии фронта. Раненым, оставшимся на продолжительное лечение в больнице, оказывалась надлежащая врачебная, материальная и моральная поддержка».
Многие комсомольцы выполняли задания по приобретению документов, диверсиям и т.д. Так, работавшая в управлении металлургического завода К.В.Горбенко доставала различные бланки и удостоверения. Возглавлявшаяся В.А.Рыбниковым комсомольско-молодежная группа на вагоностроительном заводе «имени газеты «Правда» организовала молодежь завода на массовый саботаж: работы велись так, что через 40-45 часов отремонтированные вагоны снова приходили в негодность. Члены группы, работавшие на находившихся на заводе немецких складах обмундирования, обливали одежду кислотой, вкладывали в карманы листовки и карикатуры» - http://www.molodguard.ru/heroes85.htm).
Когда на весь мир прогремела история про «Молодую гвардию» из Краснодона, вы не проводили параллели на свой счет? Ведь, по сути, у вас очень похожие истории.
Ну, у них более романтично, что ли получалось, а у нас более просто. Обыкновенные поступки совершали. Хотя, может, если их по-другому рассказать, то и они в ином свете будут выглядеть.
Когда я в интернете искал информацию про ваших товарищей, то наткнулся на рассказ про футбольный матч с немцами, аналогичный знаменитому киевскому «матчу-смерти», в котором участвовал и Пётр Поддубный.
Про такой матч я никогда ничего не слышала. Думаю это вымысел автора.
Когда вас арестовали?
Первая волна арестов прошла ещё в феврале 43-го. Были арестованы Лукьянов, Страшнов, Рыбенцев, другие ребята, и в том числе и Поддубный. Но вскоре нам стало известно – Пётр сбежал. Я тут же получила задание от Лиды Лукьяновой – во что бы то ни стало связаться с Поддубным. Большого труда мне это не стоило.
Однажды вечером Феликс вызвал меня во двор: «Тебя хочет видеть Петро!» Не передать с каким волнением и радостью я встретилась с ним. Прежде всего, он сообщил мне, что в гестапо есть предатель, который знает многих и опознаёт их на очных ставках. Но кто он, Петя не знал: «Мужчина. Говорят из военнопленных». Мы ведь занималась ещё и тем, что помогали бежать военнопленным. Этим в основном ребята занимались, а мы им помогали лечиться. Ведь они больные все были. У кого чесотка, у кого, что. Например, нам на квартиру периодически приводили людей. Но они не постоянно жили, такого не было. А придут, переночуют и уходят. Какие-то документы им выправляли. И видимо среди таких беглых оказался и внедренный немецкий агент. А может и не агент, а просто человек попался, не выдержал пыток и выдал, кого знал. Но факт тот, что до сих пор точно не известно, кто же всё-таки предатель…
И ещё Петя попросил меня достать ему новые документы и держать его на связи с группой. С тех пор мы стали встречаться, но как прежде вместе уже не работали. Он боялся, что его опознают и тем самым он погубит и меня. Насколько я знаю, он прятался где-то на левом берегу Днепра. В Куриловке что ли. Там и задания выполнял.
А меня арестовали 5-го мая. Наша квартира считалась конспиративной и к отцу «в гости» приходили наши боевые товарищи. И накануне, 4-го мая вечером, часов в десять, к нам пришли… У нас как раз «гостили» Феликс Следзинский, Володя Когут, кто-то ещё, в общем, человек шесть вместе с папой, и арестовали. А на меня как-то не обратили внимание. Во время обыска ничего криминального не нашли, но помимо прочих бумаг они нашли и забрали с собой записки Петра ко мне. В них не было ничего особенного, но следователь ими заинтересовался и утром за мной пришли…
Часов в шесть я проснулась, мамы нет. Уже побежала куда-то. Смотрю, подоконники с цветами немного запылились, стала их протирать. Вдруг у меня падает один вазон с цветами и разбивается. Нагнулась собрать осколки с землей, тут сзади голос: «Гулякевич?» Оборачиваюсь, стоит немец и два полицая. - «Да!» - «Собирайся, пойдешь с нами!» Тут и мама забегает в квартиру: «Что такое?!»
Повели меня через весь город. Специально, наверное, чтобы люди видели.
О чём вы в тот момент думали?
Вы знаете, страха особенного не было, скорее какая-то тревога – что же будет? А чтобы я сильно испугалась – нет. Скорее чувство стыда, вроде как ведут преступника по городу. Тем более девочка.
Первый раз меня вызвали на допрос на второй день. Допрашивал следователь Карнаух, украинец. У него вызвала интерес записка Поддубного ко мне: «Кто этот Петро, что просит выйти в 7 часов к калитке?» Я хоть и молодая совсем была, но как-то сразу поняла, что врать здесь не нужно. Назвать кого-то другого значит впутать невиновного человека в неприятности, тем более это очень легко проверить. Поэтому мой ответ удивил Карнауха: «Поддубный». От неожиданности у него даже глаза чуть на лоб не полезли. Мы-то оба знали, что он бежал из гестапо и находился в розыске. Опомнившись, он с удивлением спросил: «И где же он сейчас?» И я также с удивлением спокойно ответила: «Не знаю… Может быть дома?» Карнаух сощурил глаза и язвительно процедил: «Геройство проявляешь?!» И повернувшись к полицаю, зло выкрикнул: «Принеси наши инструменты! Пусть они ей помогут понять, куда она попала!» И не успела я сообразить, как передо мной оказались эти «инструменты»: шомпол, резиновая палка, шланги, плети.
Передо мной поставили стул и приказали лечь на него. Я удивилась, как можно на него лечь?! Вдруг неожиданный удар в затылок и я уже лежу на стуле животом. Посыпались удары чем-то тяжелым и мягким…
Когда меня подняли, я без притворства плакала и не старалась успокоиться. Приняла вид испуганной и ничего не понимающей слабенькой девочки, как-то инстинктивно почувствовала в этом свою защиту. И видно у меня это получилось, потому что следователь спросил: «Знаешь ли за что тебя сейчас били?» - «Видно сказала что-то не так, поэтому буду молчать!» Карнаух смотрел на меня с интересом и, смягчившись, сказал: «Бить тебя больше не будут, но ты должна рассказать всю правду о Поддубном!» - «Я бы могла рассказать, да боюсь, вы отцу передадите, а от него мне влетит не меньше чем от вас!» - «Обещаю, что ничего твоему отцу не расскажу!»
Не меняя испуганного вида, я начала рассказывать ему свою «сокровенную тайну»: «С Петей мы познакомились на танцах, но мои родители категорически запретили дружить с ним. Папа пообещал, что снимет мне голову, если только увидит с ним. Поэтому мы стали встречаться тайно. Петя вызывал меня или через девочек или вот такой запиской». – «Когда и кто передал тебе эту записку?» - «Эту записку я получила давно, уже больше месяца, наверное. Петя сам положил её в наше условленное место над дверью сарая. Но мы с ним тогда немного поссорились, и он больше не хочет со мной встречаться». Я видела, что Карнаух очень пристально наблюдает за мной, но по некоторым репликам со стороны полицаев поняла, что мой рассказ кажется им правдоподобным. Да я и сама в тот момент верила в него безоглядно. Наконец допрос закончился, и меня отвели в 12-ю камеру.
Девушки что там сидели сразу забросали меня вопросами: «Кто я? За что арестована? Что слышно на свободе?» Но вдруг низенькая блондинка остановила всех: «Оставьте её, дайте прийти в себя!» Бережно усадила меня в уголок, прямо на голый пол. Ведь кроме параши и ведра с водой никакой мебели в камере не было. Даже табурета. Причём, камера крохотная, в ней даже 9 квадратных метров не было, 2,5 на 3 метра, наверное, и если бы стояли нары, то поместилось бы всего два-три человека. А так в пустой помещалось шесть-семь девушек. Поэтому на полу и кушали, и сидели, и спали. Стелили прямо на голый пол у кого что было. Мне мама потом передала маленькую подушечку и фланелевое одеялко, вот и вся постель… Но я же там летом сидела, а как зимой, даже не представляю.
Помню, прикрыла глаза и стала соображать. Вела себя как будто неплохо и вроде бы даже Карнаух поверил мне. На последующих допросах ничего нового не добавляла, держалась той же линии – мол, наивная, легкомысленная девчонка, влюблённая в Поддубного, но не имеющая никакого понятия о его подпольной работе. И мне вроде верили. Правда, как-то вызвали в коридор, и начальник тюрьмы Пуль сообщил мне, что отныне я буду собирать грязную посуду, которую арестованные выставляли после еды из камер. Догадаться, что за мной будет вестись слежка, даже мне было не трудно. Поэтому при встрече с товарищами мы держались как незнакомые, и только изредка ребята, словно заигрывая с незнакомой девушкой, отпускали мне комплименты. Я расценивала их как сигнал, что держу себя правильно, и мои друзья одобряют меня.
Так прошло месяца два, а потом наступил трагический день. Днём мне передали записку: «Валя, Петя в тюрьме!» А вечером открыли камеру, заходит Пуль и говорит мне: «Твоего жениха поймали!» Но я уверена, он сам пришел, чтобы меня освободили. Я попросила: «Дайте мне его увидеть! Я его так люблю, может, хоть в последний раз увижу!» Но нам и так хотели устроить очную ставку.
Пуль послал за ним одного из полицаев, я однажды случайно слышала его фамилию – Тягниродно. Пока за ним ходили, я всё думала, что же делать? Ведь мы никак не договаривались на этот случай. И как подвели, я сразу из камеры к нему на шею кинулась: «Петя, мы же всё равно любим друг друга! Я на тебя совсем не обижаюсь, что ты ко мне долго не приходил». На нас посыпались удары, меня стали отрывать от него, но я быстренько-быстренько на словах всё-таки успела дать ему понять, что якобы мы просто влюбленные. Он улыбнулся, значит, всё понял. И только тут я увидела, что они с ним сделали… Весь избитый, в крови, беззубый, и какой-то опухший, словно водой налитой… Его спросили: «Она помогала тебе в работе?» Он с улыбкой на разбитых губах ответил: «Виноват я только в том, что сбежал с тюрьмы, а больше ни в чём своей вины не вижу. И помогать мне не в чем, да и люблю я её, чтобы рисковать ею». – «Ты ей записки писал!» - «Так я её на встречи вызывал». В общем, наши показания в принципе совпадали, но нас всё равно не выпустили. Но Петя вскоре опять сбежал, а я просидела в тюрьме почти до самого освобождения.
Сколько в общей сложности?
Надо считать. Днепродзержинск был освобожден 25-го октября 1943 года, недели две перед этим я была в бегах и пряталась, ещё месяц пролежала в больнице, значит, находилась в тюрьме с 5-го мая по середину сентября.
Расскажите, пожалуйста, подробно про тюрьму. Всё-таки сейчас мало кто может рассказать какого это, четыре месяца отсидеть в гестапо.
Что вас интересует?
Как часто, например, допрашивали?
За всё время меня таскали на допросы раз десять, наверное. Не больше.
И всякий раз били?
Конечно. Но один раз сильно, другой раз не очень. Передышку давали… Но меня, наверное, выручало то, что я была очень молодая. А может, и жалели, но вряд ли. Однажды хорошенько избили, а в камере же ничего нет, ни кроватей, ни лежаков, прямо на полу спали. Так эта блондинка – Марыся, положила меня прямо под батарею. Потому что с неё вода капала, а у меня вся спина прямо горела, платье всё иссечено… Нагайкой наверное, били, но разве там станешь смотреть? А как всё стало заживать, опять на допрос…
И не сочтите мои слова за пустое хвастовство, но у меня тогда даже и мысли такой не было – как я кого-то могу выдать? Ведь я воспитана на такой литературе, что честь это превыше всего. Поэтому я даже не боялась, что могу сознаться. Всё возможно, заплакать, зарыдать, но только не предать!
Как бы вы современной молодежи объяснили, как вы, 14-летняя девушка умудрялись переносить побои?
Вы знаете, меня родители в детстве почти не били, и я вообще не знала, что такое сильные побои. Но, собственно говоря, это первый удар очень сильно чувствуешь, второй, а потом уже как-то тупеешь. И когда ты первый раз это перенёс, и страху не поддался, то тебя уже тяжелее сломать. Это как укол – в первый раз страшно, а если каждый день, то уже сам руку подставляешь. И нужно понимать, что это можно пережить, а вот если ты сломаешься, то тебя обязательно добьют. Сломленные уже не живут… Но главное, конечно – идея! Если она есть, и настоящая, то за неё можно перетерпеть очень многое.
А пытки применялись?
Нет, насколько я знаю, в нашей тюрьме их не применяли. В этом плане нам, конечно, крупно повезло. У нас только били, но зато очень хорошо умели это делать.
И чем вы занимались целыми днями?
Ничем. Всё время сидели в камере и разговаривали. Даже книг не имели, поэтому развлекались только разговорами. Каждый рассказывал какие-то свои истории. Причем, старались смешные рассказывать, какие-то анекдоты, потому что если ты по настроению не нытик, а бодрый, оптимистичный, то всё это и самому легче переносить, и людям легче. Кто-то что-то смешное расскажет. Даже придумали какую-то игру, что если проиграешь, то будешь или петь или танцевать. Да, представьте себе, что даже танцевали в этой камере. И песни пели.
Это же сейчас музыки избыток, а тогда каждый, кто умел играть или петь очень ценился. Ребята знали, что я хорошо пою, и частенько кричали из своих камер: «Двенадцатая! Двенадцатая!» Но потолки в камерах высокие – 3-х метровые, и вот мне ставили парашу, я на нее становилась и еще подтягивалась, чтобы быть на уровне с окошком, и пела погромче.
Какие песни пели?
«Трембита», «Мама», (напевает):
«Я не умру, меня не похоронят,
и доживу до солнечного дня,
но и тогда не выходи навстречу,
ты все равно не узнаешь меня»…
Украинскую песню: «Тёмна ночка зори скрыла…», одним словом, песни тех времен. И полицаи тоже слушали, но когда видели, что кто-то идет, так начинали стучать в двери: «А ну прекратить, а то в холодную запрем!» А «холодная» – это камера метр в ширину, метр в длину, и стены там настолько холодные, что к ним не прислонишься. На дворе хоть и жарко, а в ней темно и холодно, и только стоять можно. Ни сесть, ни лечь и темнота… Даже дверной глазок – прозурка, и тот закрыт. В «холодной» я всего один раз побывала, и мне показалось, что очень долго. Потом слышу, бряцают, открыли камеру: «Будешь ещё?» - «Не буду!» - «Ладно, иди!»
 |
С мамой (1943 г.) |
Со стороны полицаев какое-то чувство симпатии, сострадания встречали?
Полицаи все были молодые ребята, а как они могут относиться к симпатичной девчонке? Но никто из них не позволял себе даже ущипнуть меня. Мама меня воспитывала очень строго. Это сейчас женщину назвать сексуальной, то делают ей комплимент. А в наше время если бы такое сказали, то я бы два дня плакала, за такой «комплимент»… Так что если человек себя ведет достойно, то это ценят даже враги.
Как-то мне мама передала хлеб, кувшин с кислым молоком и письмецо: «Доченька, я так за тебя переживаю…» А я в ответ передала записку: «Не так страшен черт, как его малюют!» Так мама чуть не сомлела, когда его прочитала. Потом она мне выговаривала: «Как ты могла через полицейского такое передать?! Он же читал, я сама видела. И сказал мне: «Пусть она не делает этого!»
А кормили, кстати, как?
Давали только обед. В каждой камере у всех были свои миски и ложки. Открывается дверь: «Выходи баланду получать!» В коридоре стоит бак, вся камера выходит, остальные по своим сидят. Подходишь с миской, дают по поварешке, по кусочку хлеба и обратно в камеру. Так раз в сутки и всё. Но, конечно, родные умудрялись что-то передавать. Тюремное начальство на это закрывало глаза – им тоже неинтересно, чтобы в камерах люди умирали. Но ничего роскошного, конечно, не передавали. Хоть кашу какую-то, хоть хлеба кусок. А многим вообще ничего не передавали.
Прогулки?
Один раз в сутки. Каждый день в камере дежурили два человека. В их обязанности входило: как все поедят, выставить все миски, чтобы помыть. И утром вынести парашу. Когда парашу выносят, все выходят на прогулку и пять минут ходят по кругу по маленькому дворику. Ни травиночки, ничего, небо только и увидишь… Меня в мае арестовали, как раз вишни и абрикосы расцвели. А потом мне ребята умудрились передать веточку акации. Как же она пахла… Поэтому я и сейчас очень люблю запах цветущей акации.
С кем-то из девушек сблизились за это время?
Мы с Марыськой прямо подружились, она очень много внимания мне уделяла. Даже как-то восторгалась мной. Помогала во всём, и словом и делом. Когда меня принесли сильно избитую, она меня и под батарею уложила, и сама мне раны смачивала. Одним словом, оберегала, словно старшая сестра. Мы ведь умывались как? В углу ведро воды стояло, вот по кружке воды взяли и над парашей умылись. Но я-то совсем молодая была, пятачок умыла и свободна, а вот женщинам постарше туго приходилось. Когда эти женские дела начинались, Марыська меня обнимала: «Валечка, давай твою головочку отвернём!»
Но уж на что мы с ней сдружились, но даже с ней, мы не вели откровенных разговоров. Понимали, что в нашем положении доверять до конца нельзя никому. Я, например, по сути так и не знаю про Марысю ничего: откуда она, кто такая, как её фамилия, и даже не поняла, за что её арестовали? Она ведь не местная была, её откуда-то привезли. Вроде из Польши, потому что в её речи было много польских слов. При мне её вызывали на допросы, но ненадолго и не били. Видимо уже ждали какого-то решения. Но я подозревала что она или полячка или даже еврейка, хоть она и блондинка была. Но крашеная или нет, не знаю. Я тогда в косметике совсем не разбиралась. Так ничего про неё и не знаю. Осталась ли жива?..
И не только мы, все так осторожно себя вели. По фамилии я знала, например, только одну соседку. Шевцова что ли, как-то так. Как потом оказалось, она тоже входила в нашу подпольную организацию. Но она почему-то сразу после освобождения уехала в Сибирь. И когда я о ней спрашивала, мне сказали, что вроде как на неё думали, что это она выдавала. А она немного смахивала на евреечку, и когда мы вместе сидели, я думала, что её по этой причине арестовали.
А вы понимали, что среди соседок может оказаться «подсадная утка»?
Понимали, поэтому и осторожничали так. Однажды произошёл такой случай.
Изредка группу заключённых выводили на работу в 12-й совхоз, уж не знаю, что они там делали. И как-то объявили: «12-я камера – на работу! Гулякевич остаётся!»
Я осталась одна, вдруг открывается дверь и заходит пожилая женщина. Не знаю почему, но она мне сразу не понравилась. И сразу со слезами ко мне: «Ой, моя девочка, а тебя-то за что арестовали?» - «Да, ничего особенного. Пустяки. Поздно возвращалась». Я ведь никому в камере не говорила, за что меня взяли. И тут она говорит: «А я попалась из-за людей, которые свою шкуру спасают, а чужой не жалеют. Но я себя в обиду не дам, нет! Есть у меня один секретец-то, вот только не знаю, как поступить. Вижу, ты девка надежная, могу тебе доверить. Только не выдай старую!» Я кивнула и она продолжила: «Понимаешь, три дня назад арестовали моего квартиранта – Василия Лукьянова. Но после обыска я нашла у него бумажку - списочек небольшой с фамилиями. Я-то его припрятала, но как думаешь, рассказать мне о нём или не надо?» Я постаралась не подать виду, какое волнение охватило меня. Но, во-первых, я точно знала, что Вася не жил у этой тетки, а во-вторых, сразу поняла, что он бы никогда не стал хранить подобного списка. Это же готовый смертный приговор для всех! Но я задумалась, откуда им стала известна фамилия Лукьянова? – «Да ты, милая, меня не слышишь?» Но с ней мне всё было ясно – это провокатор: «Как не слышать? Правильное дело ты задумала! И награду получишь приличную. Сколько обещали?» Ласковая до этого тётушка, сразу как-то холодно посмотрела на меня: «Ты знаешь, тут где-то сидит Валя, а фамилия Гулякевич что ли». Смотрю на неё, она же меня не знает: «А что, вам кто-то про неё рассказывал?» - «Так вешать её завтра будут. Там уже виселица в парке готовая…» Но я виду не подала: «Нет, не знаю такой!» В общем, до самого вечера она со мной просидела, всё пыталась вызвать на откровенность, и только перед приходом наших её увели и больше я её никогда не видела. Но я, конечно, была взволнована и поделилась с Марыськой: «Ты знаешь, а мне и не скучно было. Так и так… Она мне сказала, что для меня уже виселица готова. Как думаешь?» - «Это враньё, не верь ей! Это провокатора к тебе подсылали!»
В тюрьме у вас случались моменты отчаяния?
По правде сказать, именно в тюрьме во мне появилось чувство взрослой ответственности. Не то подростковое бесшабашное ухарство, а именно взрослое. Когда чувствуешь, что за твоей спиной стоят другие ребята и никак нельзя их подвести. Сама, например, поняла, что вообще никому доверять нельзя. Я же вам говорю, что даже с Марысечкой мы так до конца и не открылись друг другу.
Но я вам скажу, что после того как фронт покатился в обратную сторону, особенно после Сталинграда, то сами немцы поняли, что возможно за свои поступки им придется вскоре ответить. Поэтому в каких-то моментах с их стороны чувствовалось небольшое послабление. Зато у нас тонус наоборот, намного повысился. Мы намного увереннее стали, даже начали немножко наглеть.
А у вас, кстати, в начале войны, когда фронт так стремительно катился на восток, не было момента, когда бы вы подумали, ну все, война проиграна?
Вы знаете, я в тот момент еще не соображала толком, проиграем или выиграем. У меня тогда еще как-то не возникло серьезного понимания момента. Было какое-то такое детское романтичное отношение, вроде как школьная игра, в которую мы играли… А вот когда вплотную соприкоснулись с кровью, когда там убили, там расстреляли, сразу поняли, что это уже не шуточки. Притом, поняли, что война войной, но если мы будем себя вести как дохлые цыплята, то добром это не кончится.
А люди как-то обсуждали неудачи начального периода войны?
Тогда было одно убеждение - все неудачи оттого, что наш бывший союзник так вероломно на нас напал. А те пленные, которым мы помогли бежать, рассказывали нам, что многое было сделано преднамеренно. Несколько ребят было прямо с границы - пограничники, так они рассказывали, что к началу войны граница была фактически разоружена. Не было ни бензина для транспорта, ни вооружений сколько нужно. И если бы только один такое говорил, а если все хором одно и то же?! Но ведь об этом и говорить нельзя было вслух. Один военнопленный, причем командир, например, рассказывал: «Дали мне отпуск перед самой войной и говорят – бери семью и езжай на курорт! Я говорю, мне еще дела нужно доделать. Нет, приказ - езжай!» И вот так очень много отправили командного состава, кого в отпуск, кого на учебу, и оголили границы. И только пока опомнились, пока собрались…
Что для вас было самым страшным в тюрьме?
Если слышим, что ночью ворота открылись, и машина заехала, значит, сейчас начнут ходить по камерам и называть фамилии. Забирать людей на расстрел… Мы уже знали, что людей на расстрел увозят только ночью. Всегда, как услышим сигнал и что машина заезжает во двор, Марыська прижимается ко мне, обнимает, и ждём, назовут или нет наши фамилии… Из нашей камеры так забрали одного или двух человек… Я не знаю за что их арестовали, скорее всего поймали на воровстве. Например, на кухне работали и своровали продукты – за это немцы сразу расстреливали.
Ваш отец тоже сидел в тюрьме или его куда-то отправили?
Нет, папа тоже всё время сидел в этой тюрьме. Я знала где, мне сообщили. Даже видела его во время дежурства. Повезло, что у нас дома ничего подозрительного не нашли, и ему с ребятами ничего конкретного предъявить не могли. Видимо арестовали просто по подозрению. Но их и допрашивали и били, конечно. А потом мы с папой вместе сбежали.
Как вам это удалось?
Там получилась целая история.
Если можно, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Где-то в начале сентября меня на допросе хорошенько избили. И не просто избили, а еще и голову проломили. Сзади ударили, я и не видела чем, думаю, что табуретом. Очнулась уже только в камере. Жутко болели голова, спина, плечи. Все спали, и только Марыся прикладывала к моей голове мокрые компрессы. Заметив, что я открыла глаза, она склонилась надо мной и радостно зашептала: «Сестра моя кохана, денькую матер Боску, ты жиешь!» Почувствовав облегчение, что я не одна и рядом подруга, то ли уснула, то ли провалилась в забытьё. Несколько дней меня не трогали, я отлежалась и окрепла до такой степени, что смогла вместе со всеми выходить на прогулки.
Однажды утром нашу камеру вывели на прогулку, но во дворе против обыкновения оказалось многолюдно. В углу двора стояло несколько десятков мужчин, и среди них я заметила своего отца. Увидев, что я его заметила, папа поднял руку, сжал кулак и поднял большой палец, мол, всё будет хорошо. В этот момент к нам подошли Пуль, Геллерфорт - начальник городского гестапо, переводчик и ещё какие-то незнакомые немцы. А как раз перед этим у нас прошёл слух, будто нашу тюрьму должен посетить какой-то большой начальник, который и решит кого куда. Кого оставить для дальнейших допросов, кого в Германию, а кого на расстрел… Все они смотрели на меня, на мою разбитую голову перевязанную грязными окровавленными тряпками и о чём-то переговаривались. И в этот момент у меня словно непроизвольно вырвалась фраза: «Герр Пуль, я хочу к папе!»
Тут надо признаться, что Пуль относился ко мне с симпатией, потому что я была похожа на его дочку. Когда он меня в первый раз увидел, долго и пристально всматривался в моё лицо, а потом грустно так сказал: «Эта девочка очень похожа на мою дочь!» И только так меня и называл - «Моя цурка». Когда, например, проводил осмотр камер, и полицейские открывали нашу, он всегда говорил так: «Ну и где есть моя цурка?» Он мог немного объясняться по-русски, потому что был вроде как не немец, а поляк. Так у нас говорили во всяком случае. Но я думаю, что, скорее всего он был немец из Польши. Фольксдойче. Он был постарше, чем Геллерфорт, немного полноватый, белёсый, и на вид скорее даже добродушный. Он меня и не бил никогда и перед Геллерфортом выставлял безобидным ребенком, который оказался там по детской глупости. А бил только Карнаух со своими подручными полицаями.
И когда я это сказала, Пуль так посмотрел на меня, потом на папу, немного поколебался и все-таки разрешил: «Гулякевич, становись!» Я бросилась в толпу мужчин и прижалась к моему родному и любимому папочке…
Нашу группу погрузили в грузовые машины и повезли в 12-й совхоз. И хотя дорога там недальняя – 18 километров, но в пути мне стало очень плохо. Сильно тошнило, рвало, жутко разболелась голова, но зато рядом был папа.
В совхозе всех разместили в каком-то бараке, а нас с папой отдельно. Там ведь все мужики и только я единственная девушка, тем более больная. Утром выводят на работу, а мне плохо. Несколько дней меня не трогали, позволили отлежаться, но я понимала, что папе приходится работать за двоих.
За эти два-три дня я пришла в себя, подкопила сил и вечером папа меня спросил: «Нельзя упускать такую возможность, надо бежать! Но хватит ли у тебя сил?» - «Хватит…»
У папы уже был готов план, мы только обсудили детали и ночью сбежали. Понадеялись, что нас хватятся только на утренней проверке, а до этого времени мы успеем дойти до города. И в принципе всё так и получилось. Только-только начинался рассвет, а мы уже подошли к нашему дому.
Папа осторожно постучал в окно, и спустя мгновения я увидела лицо мамы. Она на миг замерла, потом закрыла лицо руками и бросилась открывать дверь. Я слышала, как родители что-то быстро обсуждали, потом папа обнял нас, и сказал: «Мне нужно ненадолго уйти. Во всём слушайся маму и самостоятельно ничего не предпринимай! Ничего не бойся, я рядом!» С этими словами он ушёл.
Несколько минут мы просидели с мамой молча, как вдруг в коридоре заскрипели половицы, дверь приоткрылась и показалась голова тёти Руни. И первое что она спросила: «Как там Фелик?» Я как смогла, постаралась её обнадёжить: «Думаю, что его скоро выпустят. На очных ставках его никто не признал, а сам он держится молодцом». Так потом и получилось. Доносов на него не поступало, очные ставки ничего не показали, к тому же он был сыном репрессированного, мне кажется, это было немаловажно.
Мама и тётя Руня смотрели друг на друга о чём-то думая. Тётя Руня первая прервала молчание: «Валю надо немедленно перевести в нашу квартиру!» Мама лишь рукой махнула: «Ты с ума сошла! Да они в твоей квартире обыск сделают не хуже нашего!» - «Ну и пусть делают. Всё равно ничего не найдут!» Мы с недоумением посмотрели на неё, и она объяснила, в чём дело. Всё оказалось просто. Оказывается, под нашей общей верандой было свободное пространство до земли высотой в 60-70 сантиметров, и там они хранили картошку. Старые доски веранды не вызывали подозрений, но со стороны их квартиры несколько из них были аккуратно пропилены, и в этот незаметный проём свободно пролезал Феликс.
Едва меня там закрыли, как во дворе послышался шум подъехавшей машины. Вначале немцы обыскали нашу квартиру, потом Следзинских. Я слышала, как двигали мебель, грозные фразы на немецком. Особенно много голосов слышалось с веранды, и среди них робкие фразы тёти Руни и мамы: «Мой муж и дочь в тюрьме! Они не виновны!» Потом кто-то попрыгал на шатких досках, и вдруг что-то тяжелое рухнуло на пол. Вслед голос тёти Руни, которая перемежала немецкие и польские слова: «Пожалуйста, врача! У неё больное сердце!»
Наконец немцы ушли, наказав тёте Руне немедленно сообщить в жандармерию, если кто-то из нас объявится. Сосед-фельдшер привел маму в чувство, дал сердечных капель.
Несколько дней я провела в этом убежище. Всё время лежала там на маминой шубе и только на ночь поднималась в квартиру. Еще раз или два к нам опять приходили с обыском, но всё обошлось.
Возможно, в этом убежище я бы пряталась до самого освобождения, но у меня сильно болела голова, рана загноилась, к тому же по всей голове высыпали гнойнички, а из-за вшей был невыносимый зуд. Тогда же не было пенициллина, а даже красный стрептоцид было не достать. Видя мои страдания, родители посовещались и решили, что единственный выход – положить меня в больницу, где хирургом работала Лидия Ильинична Гаврилова, которая очень много помогала подпольной организации.
Папа договорился с товарищами, и поздно вечером за мной приехала «скорая помощь» - больничная повозка с красным крестом на боку. Меня положили, накрыли какой-то дерюжкой, мама села рядом.
Помню, едем, тишина кругом… Подъехали ближе к полуночи, ворота сразу открылись, Лидия Ильинична ждала уже прямо на пороге. Глянула на меня: «Валечка, ты?!» Я же в одно время была в группе добровольцев, которая всячески помогала ей в больнице. Мы и бинты стирали, и полы мыли, и судна выносили, чего только не делали, лишь бы наши раненые ребята быстрее вылечились, а потом помогали переправить их через Днепр. И оказавшись в ее руках, я как-то сразу успокоилась и поверила, что она моё спасение.
Меня тут же в операционную, повязку сняли, и провели операцию. Как Лидия Ильинична мне потом рассказывала, рану она хорошенько прочистила, но чтобы меня сразу опять не забрали в тюрьму, она специально не закрыла пару сосудов и даже отрезала кусочек кожи, чтобы рана подольше не затягивалась.
А для персонала больницы решили представить, что я с трамвая упала. Но кто-то всё-таки донёс. Утром Лидия Ильинична склонилась надо мной и прошептала: «Геллерфорт и Пуль уже в больнице. Сейчас они в палате у Грушевского, но скоро зайдут и к тебе. Молчи, не разговаривай и делай вид, что никого не узнаёшь!»
Вскоре они действительно вошли, я слышала, как они обменялись несколькими фразами по-немецки. Но вид у меня был настолько живописный: косы отрезаны, повязка и подушка все в крови, я сама вроде как в беспамятстве из-за потери крови, что даже они меня пожалели. Пуль с каким-то сожалением в голосе сказал: «Мы ведь хотели вас с отцом в Германию отправить, а теперь…» А Геллерфорт даже указал на подушку, мол, замените на чистую. Я же всё время изображала, что ничего не понимаю…
Лидия Ильинична вроде убедила их, что со мной все серьёзно: пробита голова, тяжёлый ушиб мозга, поэтому поправлюсь я нескоро, и Геллерфорт разрешил оставить меня в больнице. Под охраной, естественно. В коридоре круглосуточно дежурили два охранника. Там же со мной ещё один парень лежал, моряк по фамилии Грушевский, так ему ампутировали ногу. Она была просто прострелена, и её можно было лечить, но жандармы приказали врачам: «Нужно отрезать, чтобы знал, как бегать!»
Не могу сейчас вспомнить, как долго я пробыла в больнице. С месяц, наверное. Рана затянулась, гнойнички сошли, помытые волосы снова стали мягкими и блестящими. Только радоваться мне было нечему. Ведь всех, кто там лежал под охраной, должны были либо вывезти обратно в тюрьму, либо в Германию, либо расстрелять. Но Лидия Ильинична и тут меня спасла. Она добилась, чтобы на медкомиссии меня комиссовали по 1-й группе инвалидности, а такую рабсилу в Германию не отправляли.
Освободить меня не освободили, но в это время фронт подошёл совсем близко, уже была отчетливо слышна орудийная канонада, всем уже стало не до нас, и я из больницы сбежала.
Но немцы объявили тотальную эвакуацию, всё население города под угрозой расстрела, обязано было уехать. По городу начались облавы на мужчин и молодёжь. Немцы вместе с полицаями обшаривали дома, чердаки, сараи, словом искали везде, где можно спрятаться, поэтому папа на сутки укрыл меня в подвале какого-то разбомбленного дома. От него самого мало что осталось, но зато под ним сохранился большущий подвал, в котором собралось человек двадцать. Все кроме меня мужчины.
А потом мы с неделю, наверное, прятались в нашем сарае. Но у нас же собралась большая компания: мой отец, мама, я, Феликс Следзинский с мамой и 12-летней сестрой Алиной, соседский парень Цесик – Вячеслав Пеликан, да ещё бабушка. Это была мама двоюродного брата моей мамы. Она должна была уехать с его семьей в эвакуацию на Урал, но буквально за три-четыре дня до отъезда, попала под трамвай и ей ампутировали ногу. В таком состоянии ее забрать, конечно, никак не могли, а родители уже знали, что никуда не едут, и пообещали дяде Мише, что заберут ее к нам. Всю войну она жила с нами, и, несмотря на свое увечье, старалась работать наравне со всеми. Готовила, иногда даже стирала. Мы ее любили как родную, и когда она вернулась в свою семью, очень по ней скучали.
В общем, в квартирах всем оставаться было небезопасно, поэтому решили поступить так. У нас во дворе два сарая стояли рядом, так в одном заложили двери, замазали их, а изнутри между ними снизу проделали лаз, и замаскировали его – поставили на это место свиное корыто. Получилось такое небольшое изолированное помещение, кинули на пол кожух, тулуп, старую мамину шубу, подушки и вот там мы лежали впятером: Фелик, Алина, Цесик, папа и я. А наши мамы сидели дома, и вечером приносили нам поесть.
Но потом папа решил, что лучше нам будет перебраться в дом. Навесили на двери большой замок, а изнутри закрыли ставни. Сидели взаперти и только в щели наблюдали за тем, что творится на улице. В последние дни перед освобождением город словно вымер. Только патрули ходили по улицам, а все люди попрятались по своим норам.
А в доме поступили так. Окно из нашей спальни выходило на улицу, а комната из квартиры Следзинских осталась без окна. Так дверь загородили гардеробом, и из нашей спальни под полом проделали туда лазейку, и если возникала малейшая опасность, все сразу переходили туда. В нашей квартире оставались только тётя Руня, мама и бабушка. Бывало, немцы к дому подойдут, замок потрогают, хорошо окна не трогали, но вроде как никого нет. Бабушка стоит возле окна, молится, а мама и тётя Руня стоят на страже.
А было несколько раз, что немцы заходили в квартиру тёти Руни, ходят по ней, стучат, а мы все лежим в этой глухой спальне. Но что интересно, у нас же ещё и собака была. Папе до войны кто-то подарил щенка северной лайки, и Лимус всё это время с нами пережил. Удивительно умный был пёс, понимал буквально всё, что мы ему говорили. Представляете, мы ему приказали «Молчи!» и он ни разу не гавкнул, не заскулил. А ведь из-за него мы все могли погибнуть.
На крайний случай у нас было приготовлено оружие: два топора, ломик, всё это стояло в кухне возле двери. Сдаваться не было никакого смысла, всё равно расстреляют… Я даже не знаю, может, у папы и было нормальное оружие, но мама его умоляла: «Пожалуйста, только не стреляй!» А уже потом мне Цесик признался: «Валя, я тебе не говорил, но у меня был пистолет. Я хотел тебя освободить, но не мог придумать как». Вот так мы там прятались, пока не услышали на улице русскую речь: «Ставь пулемет сюда! Заводи машину!» Вышли все, тут и объятия, и слёзы…
Ещё что запомнилось. Город только-только освободили, первый красный флаг повесили на исполкоме, но ещё ни райкомы, ни горком и не сформированы были, а Горком комсомола под руководством Лиды Лукьяновой уже стал работать.
И буквально сразу все кто мог, приступили к работе. Стали расчищать улицы от развалин. А комбинат, который немцы за два года так и не смогли запустить, запустили буквально за месяц. (Выдержка из «Википедии» - «Днепродзержинск был освобожден 25-го октября 1943 года и уже на 26-й день после этого была проведена первая плавка на Днепровском металлургическом комбинате»). Заработали цеха, дали электричество, в домах появился свет. Мы же при немцах всё время без электричества жили. Делали карбидные лампы – засыпали карбид в гильзу от снаряда, вставляли фитиль, и он горел синим-синим пламенем. Но от него исходил настолько удушливый запах, что если долго горит, голова начинает болеть. Кое у кого были керосиновые лампы, но обычно у всех – коптилки. Наливали постное масло в блюдечко, кусочек бинта или тряпочка, поджигали и вот при них сидели.
Папу буквально на второй-третий день после освобождения призвали в армию, его как специалиста направили в понтонную часть, а мы с мамой пошли работать на её вагонный завод.
Мама пошла на своё прежнее место, на неё еще и карточную систему повесили, а меня вначале назначили главным библиотекарем завода. Я получила лошадь, подводу, и должна была по всему городу собирать литературу, которая принадлежала заводу. Ездила по всяким архивам и сверяла штампики, но вскоре меня вызвали в Горком Комсомола: «Направляем тебя в школу комсомольских работников при ЦК Компартии Украины, там готовят секретарей райкомов Комсомола для освобожденных районов». Выдали две головки сыра, две булки хлеба и привет. Это было числа 20-го декабря 1943 года.
Приехала в Ворошиловград, а там первое время после освобождения секретарём Обкома партии был сам Ковпак. Тут как раз Новый год, и мы с ребятами решили пойти в Обком на торжественный вечер. Приходим, а нас не пускают. Там же празднично всё, а мы одеты кто во что. Я, например, в папиных сапогах 42-го размера. И нам эти ковпаковские ребята говорят: «Нет, переоденьтесь и приходите!» Мы тогда пошли до Ковпака: «Это что ж такое?! И при немцах нам жизни не было, и теперь нет места?!» Им, конечно, устроили большую взбучку.
Стали учиться, но нас посадили на очень жёсткий паек – на день выдавали всего по 200 граммов хлеба и всего раз в день кормили. Обычно бульон непонятно из чего сваренный, заправленный комбижиром, половинка солёного помидора и немного пшена… Но и это только если попадет, а так одна юшка.
А официантом был маленький такой старичок, мне он тогда казался вообще дедушкой, хотя ему было лет пятьдесят пять всего, так бывало он ко мне подойдёт: «Деточка, тебе мало совсем?» Сходит, принесет ложку этой гущи… Всё-таки тогда люди были добрые, какая-то сплочённость была, и помогали друг другу гораздо больше чем теперь… Сейчас каждый сам по себе и даже соседи друг друга не знают, а раньше столы выносили во двор. Сядут, песни поют, а сейчас какая-то скука у людей. Каждый ищет что-то плохое в другом, я не понимаю этого… Особенно жалко детей, потому что они больше воспитываются не родителями, а телевизором. Ведь если отец и мать занимаются, то они передают часть себя. А если телевизор, то дети вырастают чужими…
Как сложились судьбы ваших товарищей по подпольной организации?
Лида и Вася Лукьяновы всего пару лет назад умерли. Петя Поддубный погиб при освобождении города. Перед этим он пришёл к нам, и я ему предложила: «Оставайся у нас, будем вместе прятаться!» Но он отказался: «Нет, не могу. Я не уверен, что за мной нет слежки». На Баглее осталось неубранным кукурузное поле, и он со своей мамой решил прятаться там. Прямо посреди кукурузы сделали себе шалаш. Но как-то он там отдыхал, мать дежурила, и вдруг по полю немцы идут. Она заскочила к нему, может, если она этого не сделала, они бы и прошли мимо, а так она закричала: «Петя, немцы!» А он спросонья выскочил, бросился бежать по кукурузе, и его застрелили…
А Феликс погиб на фронте. Его сразу призвали, а вскоре пришла похоронка… (По данным ОБД-Мемориал стрелок 236-й стрелковой дивизии красноармеец Следзинский Феликс Алфридович 1925 г.р. погиб в бою 02.02.44 у с.Константиновка Софиевского района Днепропетровской области. Похоронен в с.Новоподольское. Извещение отправлено матери - Розе Ивановне по адресу Днепродзержинск, ул.Первомайская, 27).
Володя Когут тоже сидел в гестапо, но на фронт его не взяли. Он был отличный электрик и на заводе ему сразу дали «бронь». Если не ошибаюсь, он умер в 80-х годах.
А с Лидией Ильиничной мы совершенно случайно встретились спустя много лет, хотя обе жили в Днепродзержинске. Когда мой старший сын учился в 8-м классе, то на тренировке в баскетбольной секции он полез доставать мяч, который где-то там застрял, прыгнул с высоты и порвал коленную связку. Это случилось как раз перед концом 2-й четверти, а он хорошо учился, и заявил мне: «В больницу не лягу!» Но время проходит, а нога всё пухнет и пухнет, и понимаю, что ему необходимо показаться врачу. Привела его в травматологическое отделение больницы. Нам говорят: «Подождите, врач сейчас придёт!» Выходит, а это Лидия Ильинична... Она увидела меня: «Валя! Гулякевич Валя!» - «Лидия Ильинична, я ведь вас столько вспоминаю!» - «Валечка, у меня такая светлая память о тебе!» Она Серёжу сразу взяла, вылечила, и вот так мы сошлись и подружились. До самой её смерти дружили, и даже когда мы переехали из Днепродзержинска в Щёлкино, несколько раз к нам туда приезжала. Она прожила больше 90 лет… Насколько я знаю, ей тоже медаль «За боевые заслуги» вручили. (В мемуарах Грушевого К.С. «Тогда в сорок первом…» в главе «Подполье действует» есть такой абзац: «Одной из самых активных помощниц подпольного горкома партии в период оккупации стала врач 3-й городской больницы Лидия Ильинична Гаврилова. Она спасала раненых советских воинов, которые, попав в окружение, очутились на оккупированной территории, избавляла молодежь, намеченную к отправке в Германию, от каторжного труда в «тысячелетнем рейхе»: сотни юношей и девушек получили подписанные Лидией Ильиничной справки о заразных или тяжелых, неизлечимых болезнях» - прим.Н.Ч.)
Вас наградили медалью?
Да, вскоре после войны мне вручили медаль «За боевые заслуги». А в 1985 году у нас всем бывшим подпольщикам вручили ордена «Отечественной войны» 2-й степени, а мне, видимо из-за ранения, 1-й степени.
А вам что-нибудь известно о судьбе немцев и их приспешников? Того же Пуля, Геллерфорта, Самойленко, Карнауха, который вас избивал.
Этого Карнауха и его подручных я никогда больше не видела, но вроде бы их арестовали и судили. Уже точно и не вспомню. Правда, странное дело. Вскоре после освобождения всех бывших подпольщиков вызывали в отделение МГБ, чтобы мы рассказали, все что знаем. В том числе вызвали и меня. И мне тогда сказали, что все архивы гестапо захвачены, и что по протоколам допросов я заслуживаю полного доверия.
А спустя много лет мне потребовалось оформить все документы, и вдруг выяснилось, что я числюсь только как подпольщица, а как заключённая нет. На это якобы вообще нет никаких документов: «Архивы не сохранились!» А я точно знаю, что все тюремные архивы были захвачены. Ну, вот куда они потом делись?
Про Пуля и Самойленко я никогда больше не слышала, а вот про Геллерфорта знаю. В 1946 году в Киеве прошел большой процесс, на котором были осуждены нацистские преступники, которые особо «отличились» на Украине. Среди них оказался и Геллерфорт. Наши ребята, Вася Лукьянов и Тамара Дуракова ездили на этот процесс и выступали на нём свидетелями. Насколько я помню, по итогам процесса все подсудимые были осуждены и повешены.
В интернете я нашел небольшой материал об этом процессе и хотел бы вас попросить, чтобы вы его прокомментировали.
Шеф каменского гестапо.
В 1946 году, пока в Нюрнберге шел длительный международный судебный процесс, в нескольких советских городах состоялись свои локальные «нюрнберги» – показательные суды над захваченными в плен гитлеровцами.
В Киевском Доме Красной Армии с 17 по 28 января 1946 года перед трибуналом Киевского Военного округа предстали 15 гитлеровцев, среди которых был Вильгельм Геллерфорт – бывший начальник гестапо в оккупированном Днепродзержинске. Свидетелями против Геллерфорта выступили Воловская Ванда Антоновна, Огурцов Павел Минаевич, Дуракова Тамара Устиновна, Пайкерт Иоганн.
На суде обершарфюрер СД Геллерфорт сообщил о себе следующее: «Геллерфорт Вильгельм, 1908 г.р. Место проживания - г. Гельзенкирхен. Немец, окончил народную и полицейскую школы. Беспартийный. Фельдфебель. Взят в плен 5-го сентября 1944 года около Франкштадта в Румынии».
Из протокола допроса подсудимого Геллерфорта
Прокурор Кульчицкий: Скажите, подсудимый, когда вы прибыли на Украину и в составе какой части?
Геллерфорт: Я прибыл на Украину в Днепропетровск в конце июня 1942 года в составе команды, которая была организована в Берлине. В документе, который мне дали, было указано, что меня откомандировывают в штаб начальника полиции СС полковника Никкельса для представления интересов полиции безопасности, т.е. уполномоченным СД.
Прокурор: Что вы делали в Днепродзержинском районе?
Геллерфорт: Там я выполнял поставленные передо мной задачи. За всё время было арестовано 300 человек, среди них партизаны, коммунисты, убийцы и воры. Все политические происшествия, касающиеся партизан и коммунистов, как и тяжелые случаи убийств и краж, передавались в ведение СД, то есть, мне. Частично эти люди допрашивались раньше, частично нет. Если они были допрошены, я соответствующие дела направлял в Днепропетровск, и уже штурмбанфюрер Мульде выносил приговор. Из Днепропетровска дела возвращались уже с резолюциями: частично смертные приговоры, частично трудовые лагеря, но были случаи и освобождения из-под стражи. Если набиралась группа в 10-15 человек, я их вместе с делами отправлял в Днепропетровск.
Прокурор: Вы имели своих тайных агентов?
Геллерфорт: Да, я имел 11 тайных агентов и через них собирал все материалы. Все организационные вопросы были возложены на меня. Это: доставка автомашин, сообщения о выполнении приговоров в Днепропетровске, заявки на команду и так далее.
Прокурор: Каким образом вы производили аресты коммунистов?
Геллерфорт: Это относится к мероприятиям 1943 года. Это было в июне или июле, когда я получил копию телеграммы доктора Томаса и штурмбанфюрера Мульде о том, что в определенное время нужно будет провести операцию под лозунгом «Молния». Были распределены команды, состоящие из 2-3 немецких и нескольких украинских полицейских, и им были даны грузовые автомашины. На основании имеющихся списков эти команды ездили в отдельные районы города и арестовывали коммунистов. Их было 250-300 человек. Я организовал их регистрацию. На станции Тритузная стояли 3-4 вагона, в которые их погрузили и отправили в Днепропетровск, в рабочий лагерь безопасности. Это было превентивное мероприятие, т.к. в случае отступления эти коммунисты могли участвовать в партизанском движении.
Показания отдельных свидетелей
Тамара Дуракова: Я была в подполье, а служила переводчицей в отделе водной трассы. 25 января 1943 года часов в 5 вечера в отдел водной трассы пришёл Геллерфорт со своим переводчиком Робертом и собакой. Они предварительно спросили у сотрудников мою фамилию, узнали, почему я знаю немецкий язык, и сказали мне, что я арестована.
Прокурор: Подсудимый Геллерфорт, вы знаете свидетеля Дуракову? Вы ее избивали?
Геллерфорт: Да, я знаю ее, и приказывал бить ее.
Дуракова: В этот вечер Геллерфорт меня долго допрашивал у себя в кабинете. Он говорил мне, что если я расскажу подробно об организации и о связи с Казимиром Ляудес (глава подполья Днепродзержинска), с членами подпольной организации, я буду помилована. На следующий день Геллерфорт снова допрашивал меня, но я продолжала все отрицать. Он приказал отвести меня в тюрьму. В продолжение недели он ежедневно меня допрашивал по 2-3-4 часа, но я все отрицала.
Однажды вечером меня вызвали на допрос. Геллерфорт приказал Роберту позвать двух агентов. Меня положили на диван; один из агентов держал руки, Роберт - ноги, а Геллерфорт поднял платье и стал меня сечь плетью со свинцовым наконечником. Сначала я считала и насчитала 35 ударов, а потом потеряла сознание. (По словам Тамары Дураковой, она находилась в заключении четыре с половиной месяца и после ежедневных допросов не проронила ни слова – авт.А.С.)
В моей камере была еще Светальская Полина Кирилловна, подпольщица, ей было 58 лет. Ее избивали так сильно, что вносили в камеру совершенно без сознания, всю окровавленную, в синих рубцах, и после этого на протяжении нескольких часов приводили ее в сознание. По ее словам, ее били Геллерфорт и Роберт.
10 июня, примерно в 2 часа ночи, по тюрьме вдруг включили свет и забегали дежурные: стали кричать, чтобы мы вставали и одевались. Дверь нашей камеры открыл начальник тюрьмы Пуль. Недалеко от него стоял Геллерфорт с автоматом в руках. Пуль вызвал Светальскую и других в количестве 27 человек и увел их. На следующее утро привезли одежду этих людей…
В конце июня начались аресты. Тюрьма переполнилась, и в камерах стало так тесно, что негде было сесть. В начале августа нас отправили в лагерь на Игрень. Но в это время уже чувствовалось приближение Красной Армии и 23-го сентября нас переправили на правый берег Днепра, а 27-го под строгим конвоем усадили в вагоны-клетки и отправили в Германию. Меня отправили в лагерь Освенцим, куда я прибыла в начале сентября 1943 года. Там были ужасные условия; не знаю, как выжила.
Речь прокурора
Главный обвинитель – генерал-майор юстиции Александр Чепцов: «На скамье подсудимых держит ответ перед советским судом бывший начальник СД в Днепродзержинском районе подсудимый Геллерфорт. Свидетели Огурцов и Дуракова воспроизводят картину страшных пыток, которые применял Геллерфорт. Огурцов показал, что в кабинете Геллерфорта его подвесили примерно в сантиметрах 60-70 от пола. Геллерфорт избивал его нагайкой до тех пор, пока он не потерял сознание, тогда его отвязали и отлили водой. Затем переводчик Роберт вывел его в другой кабинет; там его положили на диван, и Геллерфорт избивал его резиновым шлангом набитым песком, шомполом, нагайкой и дубовой ножкой от стула. «Избил он меня до такого состояния, - говорит Огурцов, - что я был похож на кусок окровавленного мяса». Таким допросам Огурцов подвергался семь раз. И хотя Геллерфорт ничего не добился от Огурцова и Дураковой, тем не менее, они были заключены в лагерь смерти Освенцим».
Последнее слово подсудимых
Геллерфорт: Своими показаниями я не хочу снять полностью с себя вину, а хочу только говорить о смягчающих обстоятельствах. Я стал полицейским чиновником в 1927 году во время демократической власти. В 1933 году на смену пришла новая власть. В партию я не был принят. И позже я не имел этого намерения, потому что вовремя понял предательскую политику Гитлера. В связи с этим я с 1935 года не имел повышения в чинах, и потому сейчас, после 18 лет службы, нахожусь в самом последнем и самом маленьком чине полиции. В полиции безопасности мое звание обершарфюрера – это звание фельдфебеля.
Хотя я прибыл на Украину только в июле 1942 года, однако я знаю, что все те приказы о способах уничтожения еврейского населения, о массовых расстрелах - это вовсе не преувеличение. Я посвятил свою службу только охране и безопасности города, железной дороги, мостов и прочих объектов. Без особых на то оснований мною никто не был задержан, и в сомнительных случаях я решал вопрос в пользу задержанного человека. Название начальника СД ко мне не подходит, потому что я нахожусь в самом последнем чине полиции, и мне никто не подчинялся. Число арестованных и расстрелянных людей относится в равной мере, как ко мне, так и к моему товарищу по работе Дрейвингу.
По прибытии в Днепродзержинск я сразу же отпустил 40 человек, которые были арестованы «шубсполицией», обвиненных якобы в том, что они находились в связи с партизанами; но так как это было не доказано, я их отпустил. Эти показания мог бы подтвердить свидетель Пайкерт. Затем я велел не вешать 10 девушек, которые были приговорены к повешению за совершенные ими кражи. Затем я отпустил еврея Герасимова, который был арестован городским комиссаром и должен был быть повешен. Кроме того, 21 октября 1943 года я получил приказ от моего начальника Мульде о том, что перед отступлением наших войск я должен расстрелять 70 человек заключенных. Я этого не сделал, несмотря на то, что у меня было достаточно времени для того, чтобы совершить этот акт. Кроме того, 12 или 14 человек, которые были приговорены к расстрелу, я посадил в камеру, из которой они потом сбежали. Все мною сказанное может быть подтверждено свидетелями; вот, например, свидетель Пайкерт тоже мог бы подтвердить это.
Я должен признаться в том, что за полтора года моей службы в Днепродзержинске я арестовал примерно 500-600 человек. Соответствует действительности также тот факт, что в январе 1943 года я велел арестовать примерно 50-60 человек партизан, из которых большая часть была позже расстреляна. Однако следует заметить, что не все они были расстреляны. Благодаря тому, что я уменьшил степень их виновности, они остались в живых, как, например, Дуракова, Воловская, Огурцов. Хотя и об этих лицах мне было известно, что они принадлежали к партизанскому отряду, и доказательства этому были. Но я это скрыл и не из симпатии к партизанам, а просто из человеческих чувств, потому что общеизвестно, что лица, принадлежащие к партизанскому движению, должны были быть расстреляны и уничтожены по приказанию СД. Отправка людей в лагерь Освенцим не была преднамеренной, я не знал, куда их отправят. Я ничего не мог предпринять самостоятельно, а действовал только на основании указаний и, конечно, не мог отдавать приказы о расстрелах.
40 человек, которые мною были расстреляны, слагаются из следующих отдельных групп: была расстреляна группа партизан, примерно 18-20 человек. Затем была расстреляна группа партизан в 5-7 человек, а остальные обвинялись в кражах и убийствах. В первом случае у 18 или 20 человек, которые были расстреляны, было найдено оружие, гранаты, а у врача Тарасовой был найден яд, которым она должна была отравить пищу на кухне. Вторая группа из 5–7 человек имела миномет и все необходимое снаряжение и боеприпасы. В других единичных случаях речь шла о кражах и убийствах. Арестованные мною две женщины, мать и дочь, обвинялись в совершении убийства. Расстрел этих женщин производил сам Дрейвинг. Я помогал только закапывать. Других случаев расстрелов при мне не было.
Я не расстреливал ни женщин, ни детей, ни стариков, и мною не были сожжены села и другие места. Я не принимал участия в расстрелах евреев, в ограблении населения, в карательных экспедициях. Показания, которые я давал, и которые мог бы подтвердить Пайкерт, находятся в явном противоречии с показаниями трех свидетелей, которые здесь выступали. Но сам факт, что три свидетеля, которые обвинялись в принадлежности к партизанскому движению, сейчас пришли живыми на суд, доказывает, что я не так уж много убивал и расстреливал.
Я признаю, что по распоряжению моего начальства дал распоряжение избивать Дуракову. Но никакого кнута со свинцовым наконечником у меня не было, и вообще самое большее я давал 10 ударов, а не так, как она говорила – 35.
Показания свидетеля Огурцова совершенно неправдоподобны; я никогда его не допрашивал и не избивал. В моей комнате никогда не подвешивали людей, на потолке даже не было крюка для этого. И вообще технически, как это указывал свидетель, так подвесить человека невозможно. Я сомневаюсь также в актах, которые находятся в деле, потому что комната, в которой я работал, еще и сейчас цела и невредима, и поэтому это можно было бы проверить. Я глубоко сожалею, что выполнял распоряжения моего начальства и о своих действиях, и прошу смягчить приговор...»
 |
Трукенброд, Шеер и Хейниш во время оглашения приговора Киевского «Нюрнберга» |
Приговор:
Главный обвинитель – генерал-майор юстиции Александр Чепцов – в своей речи потребовал смертной казни для всех подсудимых. В отношении обершарфюрера СД Геллерфорта было сказано:
«Геллерфорт Вильгельм, состоя в должности начальника СД Днепродзержинского района Днепропетровской области с июля 1942 года по октябрь 1943 года, арестовал несколько сот мирных граждан, из которых часть была расстреляна, а часть направлена в концентрационные лагеря в Германию. В начале 1943 года Геллерфорт арестовал 96 коммунистов и комсомольцев, а в конце мая того же года арестовал около 300 коммунистов; впоследствии почти все они были истреблены. 10 июня 1943 года Геллерфорт произвел расстрел 27 советских граждан, содержащихся в тюрьме. В сентябре 1943 года Геллерфорт расстрелял двух арестованных женщин. На допросах Геллерфорт подвергал арестованных нечеловеческим пыткам и истязаниям».
Выступление главного обвинителя «Киевского Нюрнберга» транслировалось по городскому радио и вызвало шумное одобрение киевлян. В окончательном вердикте трибунала лишь троим из пятнадцати, самым младшим по званиям, виселицу заменили длительными каторжными работами – по 15 и 20 лет. Остальных двенадцать, в том числе, и бывшего шефа Каменского гестапо Вильгельма Геллерфорта, приговорили к высшей мере наказания.
В день казни 29-го января 1946 года площадь и прилегающая часть Крещатика, лежавшего тогда в руинах, были запружены народом. Любопытные забрались даже на крыши. Виселица состояла из шести секций, по две петли в каждой. Под эшафот подогнали грузовики с открытыми платформами, на которых стояли осужденные со связанными за спиной руками. Им накинули петли на шеи. Затем прозвучала команда, и машины отъехали…
Во время приведения приговора в исполнение веревка на шее тучного подполковника Георга Труккенброда оборвалась. Нашли новую веревку и осужденного вновь повесили.
P.S. Уголовное дело «Киевского Нюрнберга» в 22 томах хранится в Москве в Центральном архиве ФСБ Российской Федерации.
Александр Слоневский,
член Национального общества краеведов Украины
http://sobitie.com.ua/istoriya-dneprodzerzhinska/shef-kamenskogo-gestapo)
 |
Приговор приведен в исполнение |
Моё мнение, что последнее слово Геллерфорта процентов на 85 правдиво. Всё-таки я считаю, что он жестокостью особо не отличался. У него и внешность была скорее интеллигентного человека: худощавый, очень высокого роста. И девушка, кстати, у него была из местных. Боюсь ошибиться, но вроде как артистка, а звали Ляля и фамилия вроде как Шевченко. И тоже очень высокая. В то время даже мой рост – 168 считался высоким, а она ещё на полголовы выше. Вроде бы она вместе с ним и уехала.
Но я что хочу сказать. Вы просто поймите, что даже мы, те, кто лично пережил это, варился в этой кухне, сами очень многого не знали. Ведь после освобождения такая интенсивная жизнь началась. Каждый день мы решали какие-то проблемы, много чем занимались, и у нас просто не было времени и сил, чтобы обсуждать то, что было вчера.
Помню, например, как в центре Днепродзержинска мы восстанавливали памятник Прометею, разрушенный немцами. Это же был главный символ свободы в нашем городе, и когда немцы пришли, они сам памятник сбросили, а постамент разрушили. Но ребята памятник спрятали, и после освобождения было решено его восстановить силами комсомольцев. И не в рабочее время этим занимались, всем хватало основной работы, а организовывали специальные субботники, воскресники. Становились цепочкой, и передавали в ведёрках раствор бетона. И перезахоронили к памятнику наших погибших подпольщиков, про которых мы знали, где они похоронены. Петю Поддубного тоже туда перезахоронили и Гасан Карабагиров там лежит… А фамилии их вывели золотом. Вот я не перестаю удивляться. Сейчас чтобы хоть что-то сделать такие деньги заламывают, а у нас всё это комсомольцы делали бесплатно. И понятия даже не имели про деньги. Нам так было радостно, когда памятник опять установили, что радовались, кричали «Ура», и целовались от счастья. Так что некогда было обсуждать оккупацию и узнавать, куда фашисты подевались. Такая жизнь пошла… А в плане продовольствия даже хуже чем в оккупацию. Горько признавать, но это так. Чтобы вы лучше понимали, какое это было время, расскажу такой случай.
 |
Имена подпольщиков на памятнике Прометею |
У меня была подруга Броня, она работала начальником военного стола у нас на заводе. И как-то она ко мне приходит вся в слезах: «Ты знаешь, мы подыхаем…» - «Что случилось?!» И рассказывает… Оказывается за хлебом послали ее младшую сестру, девочку совсем, и у нее эти карточки то ли кто-то отобрал, то ли она их потеряла. В общем, пришла вся в слезах… А там же на целую семью: на Броню, на сестру, на маму. Ладно, день ещё как-то можно прожить, ну два, но кушать-то надо. Спрашиваю: «И что вы ели?» - «А ничего…» - «Господи, да как же так можно?! Возьми мою карточку! А я что-нибудь придумаю». Дала ей свои карточки, а сама пошла к замдиректора Брунусову. Он меня хорошо знал, я в то время уже была комсоргом главной конторы и полускатного цеха: «Вы знаете, надо Броне как-то помочь! У них такая ситуация…» - «И как мы им поможем?» - «Может, какие-то дополнительные талоны можно им выдать? Ведь люди погибают! Ребенок маленький, мать больная, надо же что-то придумать!» Он Броню вызвал: «Пиши заявление, что-нибудь придумаем!» - «А вы сделайте Вале Гулякевич!» - «А Валя причём? Она приходила, за тебя просила!» - «Так она же мне свою карточку отдала, и сама без хлеба сидит!» - «Да что ж она делает, наша Валя!» Как-то организовал отдельные талоны по 500 граммов на каждый день. А я как назло сильно заболела ангиной и ещё на работе почувствовала себя очень плохо.
Зашла в комитет комсомола, а секретарь Вася Чаюн смотрит на меня: «Валя, ты больная что ли?» Взял меня за лоб: «Так ты же горишь вся! Сиди тут!», и сам побежал куда-то. А я уже в таком состоянии была, что решила пойти домой. Вышла и пошла, но не как обычно, а напрямик. А там снегу столько намело, что еле выбралась…
Пришла домой, а родители как раз уехали в Белоруссию. Нас же с папой, когда арестовали, мама бегала к нам в тюрьму, и последнее что у нас оставалось, она меняла, чтобы хоть что-то передать нам. И когда наши пришли, мы остались гол как сокол. Поэтому они решили поехать к папиному брату в Барановичи, чтобы хоть что-то из продуктов раздобыть.
Открываю, наш Лимус сидит замерзший, голодный… Кое-как печку растопила. Хотела попить, а вода в ведре замерзла. Хотела отбить кусок льда, ничего не получается. Тогда прикрыла дверь в комнату, чтобы хоть не так дуло, легла на диван, и шубой маминой накрылась.
Потом слышу, кто-то ходит по квартире, и не могу понять кто. И вообще не пойму, где я, что со мной… Потом слышу кто-то кричит: «Валя! Валечка!» Смотрю, Броня стоит, я обрадовалась: «Как хорошо, что ты пришла, я так замёрзла…» - «Валечка, там Чаюн всех поднял, тебя ищут! А я побежала к тебе – может, ты дома? Погоди, сейчас я растоплю печку и нагрею воды!» - «Броня, ни дров, ни угля нет. Я уже неделю ничего не топлю – нечем…» Тут она заплакала: «Валечка, ты только полежи, я сейчас!», и убежала. Минут через тридцать прибегает, принесла ведёрко с углем и длинные щепочки: «Вот мы сейчас!» Растопила плиту докрасна, ведро воды растопила, водичкой тёплой меня напоила. В квартире стало тепло, и только тут я почувствовала, что вся горю. А утром она мне говорит: «Валечка, мне же на работу надо. Но я предупрежу, что ты заболела, и врача тебе вызову». – «Не надо, я уже скоро поднимусь!» Она ушла, а я лежу, сил совсем нет… И часа в три слышу, калитка скрипит, и кто-то наши ворота открывает.
Тут Броня забегает и парень один из полускатного цеха, Коля Булай. - «Валечка, мы тебе привезли уголь и дрова! Бурнусов как узнал, в деревообделочный цех позвонил, и попросил насыпать полподводы деревянных обрезков и полподводы угля из нашей котельной!» Растопили, как следует, а вечером пришли наши ребята с завода. Кто принес картофелину, кто пол яблока, кто кусочек сахара. Всё это на стол выкладывают, я смотрю, боже мой, как хорошо, что они у меня есть…
Потом вдруг кто-то мелькнул мимо окон. Броня успела заметить: «Вроде какая-то женщина с узлом». Тут двери открываются, мамочка моя заходит… Да как увидела, что я лежу на диване, вся горю… «Доченька, что случилось?!» - «Это мои друзья пришли меня навестить». Броня маме все рассказала, а она говорит: «Ну, это наш папочка. У нас папочка точно такой же!» И это действительно было так. Гостеприимство, сочувствие, стремление помочь в беде, поделиться, если надо последним – это был девиз нашей семьи. Мои родители были и остались для меня как самый главный «жизненный путеводитель».
Мама привезла из Белоруссии сушеных грибов, пшеницы немножко, картошки ведра полтора. Так она приготовила кастрюлю картошки с грибами, кусочек сала туда порезала: «Дети, а ну все садитесь кушать!» Какие все мы были счастливые, не передать... Все маму благодарили, целовали…
А потом этот Коля умер прямо возле станка. У него было сильнейшее истощение, а он всё скрывал и не жаловался. Начались отёки, и в один день сел возле станка и умер… А ему всего лет семнадцать было…
- (муж): Да, народ тогда был не такой как сейчас…
- Нет, Миша, и сейчас народ такой. Народ есть народ, просто время не такое… А тогда в людях чувствовалась ответственность не только за себя, но и за своего друга, за своего товарища. Ведь не могло быть такого, чтобы я пришла к Бурнусову с Брониной ситуацией и чтобы он мне ответил: «Это ваши проблемы! Башкой своей нужно думать, что делаете!» Сейчас бы точно так ответили, а тогда даже и в помине не могло такого быть. Тогда и радости и проблемы были общие. В то время если женщина родила ребёнка без мужа, то это не её проблема, а общая. Всего коллектива, в котором она работала. Все понемногу скидывались, помогали, чем могли.
Мой муж служил в армии до 50-го года и не захватил, не пережил всего этого. Да, им тоже было тяжело, но в армии их хотя бы более-менее кормили. А мы то что?! В столовой на работе поешь, а домой придёшь и нет ничего… Собачке только хоть что-то от своего пайка оставишь, принесёшь. Но как-то раз пришла домой, а мой Лимус лежит, вытянулся на снегу. Я к нему, а он уже всё…
Лимус ел всё то, что ели и мы. Я получала 500 граммов хлеба, но карточку свою сдала в столовую, когда мне там было готовить? А в столовой мои продукты в общий котел и давали поесть. Так я там пообедаю, а хлеб таял во рту будто мороженое. Наверное, потому, что выделялось столько слюны. Очень голодно было, и всё-таки я отрывала от себя что-то и для собачки. Но я его отпускала, и Лимус ходил свободно, искал чего бы поесть. Помню, такой случай.
Как-то мама с тётей Руней сидят: «Постирать бы надо, а мыла нет ни кусочка. Можно было бы самим сделать. Каустика то есть, но были бы хоть какие-то кости». Потом я ушла, а когда вернулась, дома чем-то воняет, а мама смеётся: «Варили сегодня с тётей Руней мыло». – «Как? Из чего?!» - «Только ты ушла, смотрим, Лимус задом наперед что-то тащит. Посмотрели – баранья голова… Мы её в котел, каустик добавили и сварили». Это мыло получилось тёмно-серого цвета. Сейчас какой только косметики нет, а мы таким мылом умывались и ничего. Мне уже восемьдесят пять лет, но у меня такое лицо, на мои годы хорошо. Так что даже собаки такой жизни не выдерживали… И люди были на грани. Вспоминаю такой случай.
Однажды когда я работала внештатным инструктором райкома комсомола, у нас было назначено заседание. Человек двадцать собралось. А уже стали ребята из армии возвращаться, и у нас был один Ваня, который после ранения в ногу хромал. Он опаздывал, и решили начать без него. Только начали, тут он заходит и ему наш руководитель Мглинцева – очень честный и порядочный человек, говорит: «Иван, ну до каких же пор ты будешь опаздывать?» А он отвечает: «Ну, товарищ комсомольский руководитель. Исты так хотілося. Та колы ж ми наїмося?..» (Да когда же мы наедимся?) – «Садись и не дурачься!» Так буквально через неделю его арестовали и мы так и не узнали, что, как… А ведь он не просто ветеран, а инвалид войны. Да и что он такого сказал? Но он это с таким натиском сказал… И мы её спрашивали: «Ирина Григорьевна, да куда же наш Иван делся?» - «Я кругом всех спрашиваю, добиваюсь, чтобы хоть сказали где он. Может, мы чем-нибудь ему поможем». Как в воду канул… Только соседи сказали, что его ночью забрали. Значит, из наших кто-то донёс… Вот так вот жили…
В таком случае хочу спросить о вашем отношении к Сталину.
Я вам откровенно скажу. У меня родители были убеждённые атеисты, правда, мы всегда отмечали и Пасху, и Рождество, и крестили они меня, но тогда при детях было не принято выражать своё мнение, потому что ребенок есть ребенок, он может на улице что-то повторить, что услышал дома, поэтому я никогда не слышала, чтобы они дурно отзывались о Сталине. И поэтому Сталин для меня был идеал. Песни о нём пели, и никто не думал, что это от Сталина исходило, когда кого-то арестовывали. И, по сути, так и было – предавали те, с кем ты общался. Ведь некоторым даже задания такие давали: «Выяви пять-шесть человек, которые плохо настроены к советской власти, правительству!» Но это в основном до войны было.
А когда война началась, у нас дома был портрет Сталина, небольшой такой, так я его брала и говорила: «Дорогой дядечка Сталин, я буду биться за тебя, сколько у меня сил хватит!» Как будто клятву давала.
И потом всю войну слушали голос Левитана, и считали Сталина самым мудрым. Недаром он держался с Рузвельтом и Черчиллем наравне, а не как сейчас, унижают… В кого мы превратились, если не можем всем гуртом защитить свою Родину?! Каждый сам по себе, и нет той сплочённости и доверия…
Правда, я вам скажу, что и в начале войны не было такой сплочённости. Люди вроде как колебались: нет бензина, патронов, за кого мы будем воевать? За вот эту шашву, которая такое вытворяет?! И только когда война хорошенько клюнула, люди поняли, что кто бы там наверху не сидел, но немцы наши враги и они нам не помогут. А сейчас никто не понимает, что мы должны быть вместе с Россией и другими республиками, что нам не нужно было разделяться. Наша сила была в нашем единстве! А сейчас нас разъединили и ещё указывают, кому, что и как делать… И мало того, что нас вот так разорвали, так еще и изнутри стравливают…
А случай с этим Иваном не заставил вас задуматься?
Да разве я подумала тогда на Сталина? Ведь были всякие Ежовы, Берии, и у них была такая работа, и с них это спрашивалось. Но то, что все эти окружающие подхалимы вводили в заблуждение Сталина, это совершенно очевидно…
Вот, например, когда Горбачев издал антиалкогольный указ, то разве он приказывал – «вырубайте виноградники»? Это всякие холуи и подхалимы ему так удружили. Но и он где-то смалодушничал. Конечно, перестройка нужна была, но не в таком виде. Я вначале была за перестройку, но что получилось? Это просто оккупация какая-то… Кто-то нас оккупировал и ограничивает во всем. И не только в материальном плане, но и в моральном. Даже слово «товарищ» под запретом, господа теперь кругом. А у нас считалось, что господин это тот, кто живет за чужой счет. Господин и рабы…
Как вы узнали о Победе?
И стреляли, и кричали, но не особенно организованно всё было. Но к параду в городе еще заранее готовились, поэтому хорошо провели. А я радовалась, и в то же время мне не верилось – неужели Победа? В армии понятно, там бои закончились, и все хотели домой. Но мы-то работали. У нас ни выходных не было, одни только черновые рабочие дни, да субботники с воскресниками. У меня на руках все костяшки были сбиты. У нас вагоносборочный цех отставал, так мы постоянно ходили туда болтить вагоны. Берешь ключ, зажимаешь, но если он соскочит, то по пальцам… Про мозоли и не говорю… Только чуть освободишься от своей прямой работы, сразу идёшь в цех. Не было такого, чтобы мы праздно проводили время. Победа?! Ну и слава богу, повозвращаются наши мужики, включатся в работу и нам полегче будет.
Но что обидно. Год-два с нами ещё считались. Но хоть ты и был подпольщик, но всё же был на оккупированной территории, и не только мы, но и ковпаковские ребята, все переживали одно и то же. Был на оккупированной территории – тебе минус. Неважно чем занимался. А если ты на Урале пусть и не сытно кушал, но хоть жизнью не рисковал. Мы же и голодно жили, да всё время под дулом ходили. И мы же остались виноваты, как будто это по нашей вине немцы оказались здесь. И будто не боролись с ними…
И ещё такой момент. Во время оккупации руководство подполья решило сделать у нас конспиративную квартиру. Но на Первомайской мы жили в доме барачного типа, а там квартиры были распределены тонюсенькой стеночкой, от соседей ничего не утаишь, поэтому папу попросили сменить место жительства. И в конце декабря 41-го мы нашу квартирку продали и купили квартиру в отдельном домике по адресу Рабочий поселок, 5. В доме было две квартиры, одна наша, а вторая пустовала, и это было очень удобно для встреч. А у того, кто продал нам, оказывается, был сын, такого же возраста что и я. И когда с Урала люди начали возвращаться из эвакуации, приезжает в начале 45-го один дяденька. Приходит на эту квартиру, где мы жили и говорит: «Тут жила моя сестра с мужем и сыном, где она?» - «Она умерла, а муж после её смерти продал нам квартиру». – «А как он мог продать, если квартира была записана на неё?» - «Всё официально оформили!», при немцах ведь тоже нотариусы работали. Он поехал, разыскал где-то своего племянника, вернулся с ним и подал на нас в суд. И ничего не помогло, у нас забрали эту квартиру. Вася Лукьянов выступал свидетелем, дал справку, для каких целей мы приобрели квартиру, но и на это не обратили внимание. В общем, остались мы без квартиры и переехали в общежитие. В бараки…
Ладно, мы хоть здоровые, а ведь сколько инвалидов войны оказалось на обочине жизни. Сколько их на улицах тогда попрошайничало… Бывало подъедет безногий на фанерке: «Дружок, прибей меня, мне так невыносимо жить… Прибей, а то я сам даже этого не могу сделать…» Помню, как-то мы с мужем шли по улице, и к нам подкатился один на тачке: «Слушай, парень, посмотри на меня, я ж такой как ты годами, а уже вот кто... Дай на бутылку, я хоть горе моё залью…» Столько их было, а о них никто и не думал… Сейчас хоть небольшая пенсия, но есть, а тогда и её не было. И только потом писатель Смирнов поднял эту тему, и расшевелил муравейник. Но сколько же было искалеченных судеб… И я чему еще удивляюсь.
Сейчас пары так легко расстаются, рушат семьи, нас же совсем по-другому воспитывали. Знаете, после войны очень много женщин осталось одинокими. Но каждой хотелось какой-то защиты, хотя бы духовной, чтобы рядом был человек, который о тебе думает, любит. Так многие женщины, молодые, красивые, образованные шли в госпиталя, где лежали безнадежные калеки: без рук, без ног, слепые и забирали таких домой. А потом слышишь, поют, хохочут. Главное – они вдвоём! Есть рядом друг, который тебя не предаст. Это очень важно!
Помню, у нас по соседству жила женщина, Рая её звали. Так она участвовала в художественной самодеятельности и ходила танцевать по госпиталям перед ранеными. И в одном из них она полюбила такого инвалида. После ранения в позвоночник он совсем не ходил, только лежал. Я даже не знаю, мог ли он сидеть. И она его из госпиталя забрала к себе. Они под нами жили, их спальня находилась прямо под моей, а он всё время курил, и через щели дым попадал ко мне. И вот он целыми днями играл на гитаре и пел…
Но он оказывается, не написал домой, что остался жив, и когда Рая об этом узнала, она как-то раздобыла адрес, и написала его матери. И та ей ответила: «Если привезешь его к нам, всю жизнь тебе будем благодарны!» И она увезла его домой. Куда-то на Урал. Уж как она его повезла, не знаю. Только перед отъездом зашла, даёт мне гитару: «Вася, попросил передать тебе, чтобы ты училась. Ты хорошо поёшь!» Вот такая наша жизнь…
Всякое, конечно, случалось, но соседи становились почти родственниками.
 |
С товарищами. (1949 г.) |
А вы, кстати, не знаете, судьбы ваших одноклассников? Сколько из них воевало, сколько погибло?
Кто погиб, кто, что я не знаю, потому что только двоих из них встречала. У нас учился такой Игорь Котенёв. У него самого мама учительница была, но он какой-то неуравновешенный был, хулиганистый, вечно срывал уроки, поэтому его постоянно переводили из одной школы в другую. И вот когда его перевели в наш класс, на одном уроке ему говорят: «Садись за первую парту! Будешь тут сидеть на виду у учителя!» А он так встал и, показывая на меня, говорит: «Если она сядет, то и я сяду!» Ребята, конечно, в смех: «Игорь влюбился!», а он всем кулаком только погрозил. И учительница была вынуждена посадить меня с ним. Но он как-то мне поддался, стал себя спокойно вести, у меня даже какая-то гордость появилась, что я положительно воздействую на него. И уже после войны я его как-то встретила. Идет по улице, хмельной, раскачивается. Я приостановилась, он на меня посмотрел: «О-о-о, Гулякевич… А я вот видишь какой стал? Вот я такой и есть…» Но я пошла мимо, не стала с ним пьяным общаться…
У нас ведь выпивать совсем не было принято. Помню, в 43-м мы отмечали мой день рождения. Мама сделала немного голубцов и сварила немного компота. Так мы его наливали в бокалы, и воображали, будто пьём вино. А молодежь тогда водку не пила. Вот когда стали возвращаться калеки с фронта, тогда сильный алкоголизм развился. Пили и мужики и женщины…
А до этого встречала Хлопотина Костю. Рослый такой парень, правда, учился средне, но все к нему неплохо относились. Так ещё при немцах, я как-то с ребятами шла по проспекту Пелина. Проходили мимо комендатуры, вдруг навстречу Хлопотин: «Валя, это ты?!» Обнялись, разговариваем, он успел рассказать, что только переболел тифом, поэтому и подстрижен так коротко. И тут идут немцы. Идут и будто нас не замечают. И получилось так, что его немец толкнул, а он не успел разобраться, возмутился, немцы взвились: «Ах, так! Ферфлюхте!», и один как ударил его в лицо… Костя пошатнулся, мы его подхватили, отвели в сторонку. А они ругаются по своему, этот кулаком машет… Вот такие случаи бывали.
Как вы сейчас к немцам относитесь?
Если вникнуть чисто по-человечески, то какой выбор был у немца, которого отправили на фронт? Если дезертировать, так его же свои расстреляют. Вот и приходилось воевать. Но ведь и немцы все были разные. Для примера могу рассказать вам такой эпизод.
Когда арестовали папу и ребят, то у нас во дворе, не знаю зачем, стояла грузовая машина. И когда папу с ребятами выводили, то из нее как раз вышло несколько немцев. И как их увели, они вернулись и сказали маме: «Матка, дочку нужно спасать! Утром её заберут!» - «Как же я её спасу?» И тут они предложили: «Утром в 4 часа утра мы её посадим в машину и вывезем из города!» Мама опешила: «Мне нужно подумать!» Рассказала мне, но я категорически отказалась: «Нет, мама! Разве ты рискнешь отдать меня немцам?! А ты знаешь, какая им мысль по дороге придёт?» Правда, я до сих пор не знаю, то ли у них действительно был благородный мотив меня выручить, то ли еще что… Во всяком случае, за всё время оккупации никто из немцев на меня не покушался, хотя мама за меня очень боялась. Но я убеждена, если ведёшь себя достойно, то и к тебе относятся порядочно. Так что и немцы были разные, да и наши разве все ангелы?
Я убеждённый интернационалист и по настоящее время убеждена, что человек с человеческой душой, какой бы он ни был нации, не позволит нанести вред другому человеку. Поэтому когда немцы были оккупантами, мы их ненавидели, но когда они стали пленными, мне чисто по-человечески было больно смотреть на них. Эти изможденные лица, эти страдальческие глаза… Помню, думала глядя на них - ведь у него тоже есть мать, которая льёт по нему слезы...
Как сложилась ваша послевоенная жизнь?
Так получилось, что я стала работать по партийной линии. Окончила комсомольскую школу, потом партийную, университет марксизма-ленинизма. Но зарплата всегда была скромная и я когда посчитала, какую пенсию буду получать, то решила переквалифицироваться в бухгалтера. Прошла обучение, стала работать и на пенсию вышла с должности старшего бухгалтера приднепровского химзавода. Меня уговаривали остаться, но я уже сильно болела, поэтому дальше работать не стала. Не смогла просто. Ведь сколько приступов было, даже на работу скорую вызывали. Сколько по больницам лежала… До того плохо было, думала, не переживу.
Мне ведь ещё давно дали 1-ю группу инвалидности, но ее нужно каждые полгода подтверждать, а мне было стыдно. Я не отмечалась нигде, потому что и училась, и работала, тут как раз Смирнов поднял тему войны и меня приглашают в военкомат. Вручают орден «Отечественной войны» и говорят: «Вот вам временное удостоверение, пользуйтесь льготами!» Но мне даже как-то стыдно было, до этого всё бескорыстно делали, а тут вроде как выгоду извлекаем. Ведь денег за общественную работу я в жизни ни копейки не получила. Даже и в уме не держала никогда. Сейчас за каждый шаг требуют платить, а я удивляюсь, почему же я никогда не думала, что мне не платят?..
А в Крым мы переехали уже на пенсии, в 88-м году и никогда не жалели. Только тут я отошла от всех своих болячек. Нормально стала дышать.
Большая у вас семья?
С Михаилом Фомичом мы познакомились в 1950 году, а уже в январе 51-го поженились. Оба наших сына стали офицерами – они с детства мечтали стать защитниками Родины, как их родители. Есть четыре внука и шесть правнуков.
 |
В кругу семьи |
Какими же качествами должен был обладать мужчина, чтобы покорить такую женщину как Вы?
Это сегодня молодежь ищет женихов-невест побогаче, пореспектабельнее, а у нашего поколения были другие ценности. Ценились дружба, любовь, верность. Вот и я мечтала, что у меня будет порядочный муж, чтобы мне за него не стыдно было, чтобы любил меня. И мне не важно было, что когда мы познакомились, Михаил Фомич не имел ни образования, ни специальности, а из приданого имел только чемодан с книгами. Он меня другим покорил - чистотой помыслов, поведения. Чувствовалось, что это человек, который никогда не предаст. А знаете, как мы интересно познакомились?
И как же?
Накануне судьбоносной встречи мне словно пушкинской Татьяне приснился чудной сон. Большой взъерошенный медведь протягивал мне лапу, показывая занозу, а я пыталась ее вынуть, все время повторяя: «Миша, подожди!» Утром пересказала сон маме, она еще посмеялась: «Вот приведешь какого-нибудь Мишу в дом!», и ее слова оказались пророческими.
Буквально на следующий день я встретила на улице своего знакомого, который, как оказалось, ждал своего нового друга. Подходит парень, протягивает руку и негромко говорит: «Миша». Мне сразу вспомнился недавний сон, но все-таки посчитала это простым совпадением. Стали общаться, вместе гуляли, пока через несколько месяцев я не заметила, что Юра с Мишей друг с другом почти не разговаривают. Тут же решила прекратить эти «свидания втроем» и попросила больше меня не провожать. Юра послушался, а спокойный, рассудительный Миша догнал меня у самого дома, признался в любви и попросил стать его женой. От неожиданности я, обычно такая бойкая, даже не нашлась, что ответить и быстро убежала к себе.
А на следующий день Миша пришел с родителями – свататься. И вот уже 64 года счастливо живем…
(Муж – Михаил Фомич): Это сказка какая-то. Я ведь Валю впервые еще до войны увидел, и она мне сразу запомнилась – высокая, стройная, в венгерке, на голове тюбетейка. И всякий раз, когда встречал, прямо любовался. Но стеснительный был, даже и не мыслил подойти и познакомиться. Даже как звать не знал.
А когда нас познакомили, я пригляделся, так эта же та самая девочка, которая мне так нравилась… Я и обрадовался, и смутился.
 |
С мужем – Михаилом Фомичем. (2010 г.) |
При слове война, что сразу вспоминается?
Какая-то обида в душе. Не то, что неправильно жили, нет. А за тех стариков, которые сейчас стали совсем беззащитными. Ведь сколько ветеранов живет даже не в бедности. В нищете! Детей или нет или не имеют возможности помогать. И я в совете ветеранов предложила: «Давайте за каждым ветераном войны закрепим одного-двух инвалидов, которые уже не ходят. Не надо ходить, но пусть им звонят каждый день: «Как ты сегодня себя чувствуешь? Может скорую надо вызвать? Может что-то нужно купить или принести?» Я не понимаю, почему такие элементарные вещи до сих пор не организованы…
Война вам сейчас снится?
Нет. И уже не помню, снилась ли раньше. Понимаете, я её как-то постаралась исключить из своего сознания. Потому что особенно в первое время после войны смеялись над женщинами с наградами. И ППЖ обзывали, и «рамами» в вульгарном смысле… Но никто ж не знает, как и что с тобой было. В особенности эти женщины легкого поведения, и вообще те, которые лёгкую жизнь прожили. С презрением даже каким-то относятся к тем, кто в почете, в авторитете. Бывало, возвращаюсь домой после работы, меня аж качает от усталости, а во дворе сидят бабки: «Так вы же коммунисты, вам же больше всех надо…» Понимаете?! И, кстати, тогда, когда меня арестовали и повели через город, мама бежит рядом с нами, плачет: «Валечка, дочечка! Как же так? Ты ж смотри там, языком лишнего не говори…», мол, не огрызайся. А там одна бабка сидела: «Видно вашей дочечке больше всех надо! Куда она там влезла, в партизаны? Вот так ей и надо!» И сейчас вот такие же люди опять на высоте. Тогда они не переборчивые были, повыходили замуж, причем по расчету, а не по любви. Жили в достатке. А я и работала, и на общественной работе, а приду домой, а там три мужика, их и накормить и обстирать нужно. Тяжело было, чего скрывать, но со всем сама справлялась. Даже у мужа помощи не просила – гордая была. Вот такая жизнь…
А сейчас в автобус зайдешь, водитель даже не стесняется: «Как же вы льготчики уже надоели…» Всякие аферисты с чужими наградами едут, и им ничего, а я показываю удостоверение, и меня вот так вот. Обидно…
Как-то поехала в Багерово. На обратном пути села, и водитель, молодой парень, татарин видно, потому что с акцентом говорил, спрашивает: «А ти чего там сидишь, не берешь билет?» - «А у меня льготный проезд». – «Если льготный проезд, то и ехала бы на этом проезде!» Я его спрашиваю: «Почему вы так со мной разговариваете?» А он мне говорит: «Если ты еще будешь разговаривать, я остановлю автобус и высажу тебя!» Я возмутилась: «Ты не смотри, что я уже пожилой человек, но я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали! Я тебе так высажу, что тебя самого высадят!» - «Я тут хозяин, а не ты!» Записала его номер, думала пожаловаться, а потом какая-то душевная лень одолела. Разве я одна такая?.. И я вам так еще скажу.
Когда СССР распался, я всё никак не могла поверить, что Советского Союза больше нет и что это навсегда. Это сейчас мы кое-как стали жить, а тогда люди с высшим образованием ходили по помойкам и собирали бутылки. Что творилось, не передать… Так вот в это время у меня появилось то же самое ощущение, что и в войну – оккупация… Хотя мы в войну даже слова такого не знали, но понимали, что это что-то временное, что просто нужно собраться и всё это пережить. Кто-то, конечно, шёл на службу к немцам, но в основном люди понимали, что это временно, что это надо пережить, перетерпеть, надо побороться, и многое зависит от того, как мы сами себя поведём. Поэтому и в тюрьме у меня была даже не надежда, а твердая уверенность – скоро весь этот ужас закончится. А сейчас у меня такой уверенности нет…
| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |
Автор сердечно благодарит Юрия Трифонова за большую помощь при создании интервью.
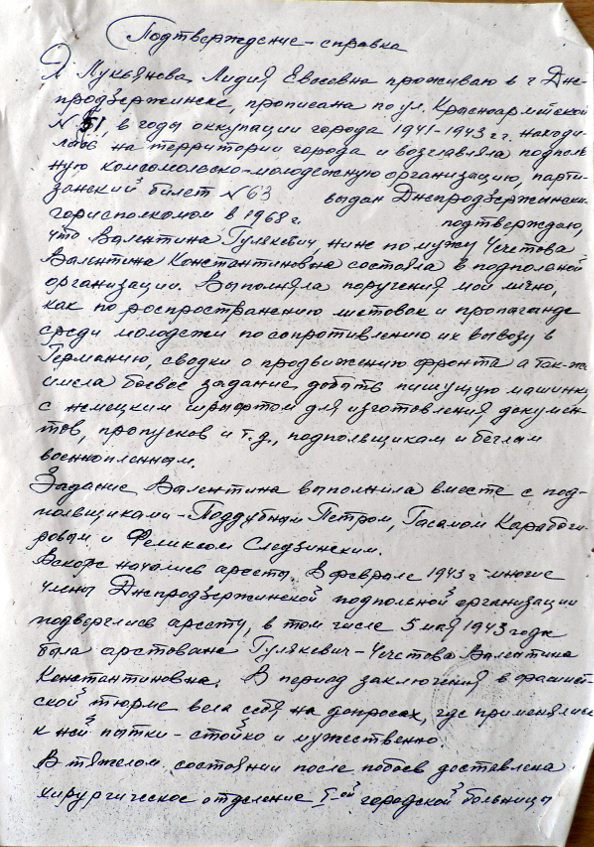 |
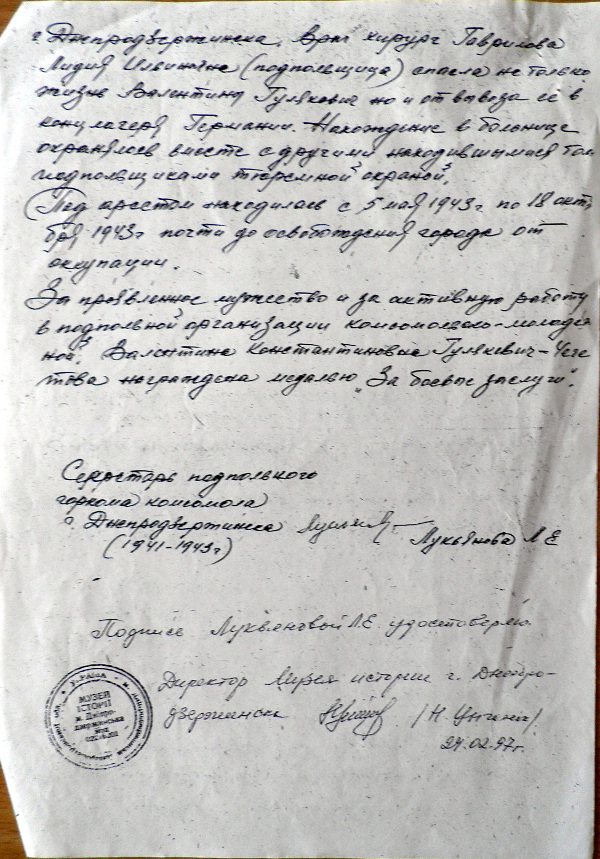 |
Справка от Лукьяновой |






