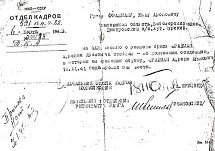А.Ф. - Родился в 1922 году в белорусском городе Орша. Мой отец, инвалид 1-й Мировой Войны, до революции занимался мелкой торговлей, и Советская власть за этот "грех" дала ему и всей нашей семье статус "лишенцев", мы были лишены избирательных прав и считались в какой-то степени "изгоями". Когда зимой снегом засыпало железнодорожные пути, то представители властей ходили только по домам "лишенцев" и выгоняли всех на очистку рельсов от снега, а остальных граждан не трогали. Отец с изуродованной на войне правой рукой, на которой не хватало трех пальцев, стал "грабарем", землекопом, каждое утро вставал в 5 часов, запрягал лошадь в телегу, копал и возил песок на строительство дороги. Отец был малограмотным человеком, очень далеким от политики, он все время только искал возможность где бы заработать на кусок хлеба для своей семьи. К Советской власти и к коммунистам отец относился без особых симпатий, но когда я в 1938 году вступил в комсомол, он промолчал.
Мы жили в Железнодорожном районе Орши, рядом со станцией.
Я учился в средней школе, играл на мандолине в струнном оркестре в ж/д клубе имени Кирова, и помню, как до войны к нам на репетиции вместе с женой приходил Константин Заслонов, будущий знаменитый герой-партизан. Мой старший брат Лева поступил в Харькове в художественное училище, там уже училась в техникуме моя старшая сестра Фаня. После окончания 7 классов белорусской школы я тоже хотел уехать в Харьков, мечтал, как и брат, стать художником, я неплохо рисовал, но Лева меня отговорил: "Нельзя сейчас оставить родителей одних, кто-то должен помогать отцу. Закончи сначала десятилетку, потом станешь инженером", и я остался в Орше, пошел учиться дальше, в 8-й класс русской школы.
Брата в 1939 году призвали на кадровую службу в Красную Армию, он попал в авиацию, стрелком - радистом на бомбардировщик, служил в литовском Шауляе и в самом начале войны был тяжело ранен в обе ноги, эвакуирован в Витебский госпиталь, уже оттуда попал в Ферганский госпиталь, в котором пролежал целый год и вышел из госпиталя инвалидом на костылях, комиссованным из армии. После войны брат вернулся к своей профессии художника и умер от рака в 1978 году.Старшая сестра Фаня в начале войны успела эвакуироваться из Орши вместе с родителями в тыл страны, а ее муж, шофер Фейгин, вернулся с фронта инвалидом-костыльником… Повестку на призыв в армию я получил во время школьного выпускного экзамена по математике, стою у доски, решаю задачу, вдруг открывается дверь в класс: "Фрайман, срочно в военкомат!". Мне дали временное удостоверение на призыв, я не имел права покидать Оршу и поступать в какое- либо учебное заведение. Призвали меня 16-го октября 1940 года и привезли в ЛВО, в Порхов, в 3-ую танковую дивизию, в 6-й мотострелковый полк.. Как имеющий среднее образование я был зачислен в дивизионную "школу младших лейтенантов", другими словами - в течение двух лет мы несли обычную армейскую службу пехотинца-мотострелка и, вместе с тем, осваивали программу командирского обучения "на командира взвода", а при увольнении со службы нам присваивалось звание младших лейтенантов запаса.
Г.К. - Где Вас застало известие о начале войны?
А.Ф. - Мы находились в летних лагерях в районе Струги Красные. У нас был прекрасный командир, великолепный и душевный человек, старший лейтенант Ушаков, и вечером 21-го июня он был назначен дежурным по лагерным сборам. Мы попросили его дать нам возможность сходить в кино, и Ушаков сказал: "Даю вам слово, что сегодня по тревоге поднимать не стану". Но ночью ему пришлось свое слово нарушить, нас подняли по тревоге, меня еще с двумя бойцами послали на усиление караула при гауптвахте сборов. В 11-00 утра мы пошли с котелками на кухню за обедом, а нам красноармейцы говорят: "Вы что так шляетесь? Вы что, еще не слышали? Война началась!". Вскоре, уже в июле, нас перебросили под Ленинград.
Шли своим ходом, как тогда говорили - "пять дней пехом, один день мехом", пока по дороге нас не подобрала автоколонна, и на машинах мы прибыли в Красногвардейск ( Гатчину).
Местные жители кидали нам в машины коробки с папиросами "Звездочка", в каждой по 25 пачек папирос, тогда я впервые закурил. Рядом с нами расположились курсанты Ленинградского пехотного училища имени Кирова и через какое-то время нас построили и объявили приказ. Сказали, что немцы рядом с городом высадили десант, численностью примерно до роты, и вместе с курсантами мы должны атаковать и уничтожить немецких десантников. Это было моим первым боевым крещением. Мы пошли в атаку, было страшно в первый раз бежать навстречу смерти, в первый раз стрелять по живым людям во вражеской форме. Но бой сложился для нас удачно, немецкий десант был истреблен полностью. Здесь же в лесу из нашей "дивизионной школы" отобрали 20 человек, в том числе и меня, и отправили в Ленинград, где в течение четырех дней мы проходили интенсивную подготовку по программе: "Действия командиров стрелковых взводов в наступлении и в обороне ", потом нас отправили в Пушкино, который беспрерывно бомбили, дальше нашу команду гоняли, то на станцию Левашово, то в Стрельну, пока в августе нас не вернули в Питер, где на проспекте Карла Маркса №65 находился запасной полк. Здесь мы получили звания младших лейтенантов и нас распределили по частям.
Я попал в 281-ю СД, в 1062-й стрелковый полк, в 1-й стрелковый батальон на должность командира взвода. Принял под командование взвод из 29 младших командиров и красноармейцев. Полк тогда стоял под Колпино, затем нас перебросили в Парголово, потом еще куда-то, сейчас мне уже трудно вспомнить детально все наши перемещения. В начале ноября дивизия из "блокадного мешка" была переброшена самолетами по воздуху и по воде через Ладогу на Волховский фронт, где наш 1062-й СП и соседний 1064-й СП ждала бесславная гибель и плен через какие-то считанные недели после переброски на новый фронт.
Г.К. - Что пришлось испытать летом и осенью 1941 года на Ленфронте?
А.Ф. - Еще раз повторюсь, дивизию перебрасывали с места на место, сначала были бои в районе Тешково и Левашово, потом опять Колпино, затем мы стояли на плацдарме под Ораниенбаумом, то нас готовили к высадке на "Невский пятачо". Все в памяти перемешалось в бесконечные переброски и неудачные бои. В октябре начался голод на передовой, мы получали всего по 400-500 грамм хлеба на сутки и от голодухи некоторые уже с трудом передвигали ноги. Один раз, когда кончились патроны, мы поднялись в штыковую атаку навстречу немцам, но немцы не приняли штыкового боя и отошли назад. Это, наверное, после уничтожения немецкого десанта в июле сорок первого года, второе светлое воспоминание о боях на Ленфронте, а все остальное, что происходило с нами в те дни…, довольно грустная история…
Мы все время отступали или неудачно ходили в атаки, среди бойцов ходили слухи, что немцы так близко подошли к городу только из-за предательства начальника штаба ЛВО, который, якобы, перелетел к немцам со всеми картами и дислокацией укрепрайонов…
В начале ноября поступил очередной приказ на передислокацию. Я был командиром 1-го взвода в 1-й роте, и мой взвод шел впереди батальонной колонны. Прошли километров пятнадцать, выбились из сил, и тут появился на коне наш командир батальона капитан Подопригора и стал орать на нас: "Давай! Быстрее! Вашу мать - перемать! Что плететесь, как дохлые клячи!? Вас машины ждать не будут!". И тут мой ротный, местный, бывший оружейный мастер из Питера, вдруг заметил: "Куда мы идем? Это же окраина Ленинграда!".
Прошли еще вперед и оказались на летном поле, где нас ждали транспортные самолеты, вроде похожие на "дугласы". Каждому взводу приказали садиться на "свой", указанный начальством, самолет. Мы залезли в "транспортник", а там пол устлан красной ковровой дорожкой.
Вышел летчик и сказал мне: "Прикажи своим бойцам, чтобы приготовили котелки". Бойцы обрадовались, подумали, что нас сейчас будут кормить горячим, а летчик всего лишь имел в виду, что если кого начнет рвать, "выворачивать" в воздухе, так что б рвали в котелки, а не на пол. Где-то пятого ноября мы уже вступили в бой на Волховском фронте, где дивизия собиралась по частям, по мере переброски из кольца блокады. Это происходило в районе железной дороги Кириши - Мга и Погостья
Г.К. - Что происходило с Вами и Вашими бойцами на Волховском фронте?
А.Ф. - Сначала все было совсем неплохо. Мы атаковали деревню Плюсы, захватили ее, вышли близко к участку железной дороги и заняли станцию. Мне объявили, что я представлен за эти бои к ордену Красной Звезды. Потом нам приказали оставить станцию и отходить через лес.
Мой взвод отходил последним. Один из моих бойцов, уже немолодой, выбился из сил, сел на снег и сказал: "Не могу больше идти". По уставу я должен был застрелить его на месте, но я не стал этого делать. Молча, развернулся и пошел вслед за своими красноармейцами.
Полк занял новые позиции. Но через несколько дней мы оказались в "мешке", нас почти полностью окружили, для прохода в свой тыл оставалась только одна лесная дорога.
У нас подходили к концу боеприпасы, закончилось продовольствие, мы несколько дней фактически ничего не ели, и один раз нам с самолетов ПО-2 стали сбрасывать мешки с черными сухарями, но когда стали делить сухари среди бойцов, то каждому досталось от силы по два сухаря. Многие красноармейцы от голода и безысходности уже были близки к деморализации. Моя рота стояла на стыке 1062 и 1064 полков и, за два дня до того как все для нас закончилось, нам придали для атаки два танка: КВ и Т-34, но ничего из этой атаки не вышло.
Четырнадцатого числа ко мне в землянку пришел лейтенант-танкист, сказал, что в поле за нами видел двух жеребят, и мы с ним пошли и пристрелили их, чтобы кониной накормить бойцов.
Мне было жалко стрелять в животных, поверьте, что человека в немецкой форме было убивать легче, чем этих несчастных жеребят.
Бойцы хоть успели в последний раз поесть, перед тем как нас всех взяли в плен.
Вдруг исчез весь комсостав от командиров рот и выше, они бросили своих солдат в окружении. Куда-то "испарился" и мой ротный Мельников. Только взводные лейтенанты остались на позициях, а штабы полков, включая штаб нашего 1062 СП под командованием майора Зорина, еще до этого находились вне кольца окружения… Мы понимали, что приближается трагическая развязка. У нас на винтовку оставалось по пять патронов и одна неполная лента на пулемет "максим", который был у меня во взводе. Приказ на отход или на прорыв нам никто не отдавал, и никто не предпринимал попыток прорваться к нам на помощь.
Просто некому было приказывать, командиры нас бросили!.. Нас "сдали", предали...
Ночью ко мне снова пришел лейтенант-танкист и сказал: "Послушай меня, взводный. Садись на один из моих танков, мы уходим отсюда. Завтра нам всем здесь будет крышка", и когда я ответил ему, что не могу бросить своих бойцов, что совесть пока не потерял, то танкист произнес: "Ты еще пожалеешь об этом. Завтра немцы будут здесь"… Танки в темноте ушли через лес на восток, а утром, пятнадцатого числа, на нас пошли немцы. Их было много, гораздо больше чем было нас. Шли они медленно, а когда огонь с нашей стороны ослаб, то немцы поднялись в полный рост, а с трех сторон по нам непрерывно били из всех стволов. Немцы, скорее всего, знали от перебежчиков, что у нас боеприпасы на исходе. Я со связным и с помкомвзвода старшим сержантом Гайдуковым находился в копне сена, мы отстреливались, пока еще были патроны, а потом заклинило пулемет, а Гайдукова ранило пулей в плечо. Рядом было деревенская банька, я успел крикнуть Гайдукову, чтобы он уходил, спрятался в ней, а потом опять посмотрел на поле боя и мне стало страшно, такое ощущение что волосы дыбом встали… Вся наша линия обороны замолчала, патроны у всех закончились, а немцы стояли в полусотне метров от наших окопах и кричали, что-то вроде "Русские! Сдавайтесь!". Никто не бросался на немцев в штыки...
Стало тихо, стрельба прекратилась… И тогда бойцы стали вылезать из траншей и стояли толпой, в большинстве своем, не поднимая руки вверх. Остатки двух полков, свыше 800 человек попали в плен в это проклятое утро. Немцы приказали всем сбросить оружие в кучу и построиться в несколько шеренг. Было еще светло, когда немцы приказали: "Юде и коммунисты, выходи из строя!". Меня как током ударило, в одно мгновение вся моя жизнь промелькнула перед глазами, лица родных. Я уже сделал движение вперед, как мой командир отделения, кадровый сержант Ткач, схватил меня рукой и не дал мне выйти из строя. Он сорвал с меня петлицы с "кубиками" и произнес: "Лейтенант, не выходи"… Вышло всего человек тридцать, их сразу повели в сторону, а нас погнали в лощину, посадили в снег, на лютом холоде. Когда нас гнали, то я увидел, как на снегу лежит без движения еще живой, только весь в крови, мой товарищ, командир взвода из соседней роты, молдавский еврей Миша Цимбал. У меня с собой был комсомольский билет, мой дневник, который я вел все последние годы, а в кармане шинели граната-"лимонка". Я прекрасно осознавал весь ужас своего положения, решил было подорвать себя гранатой, но вокруг сидели мои однополчане и я не хотел, чтобы кого-то из них задело осколками, да и у самого не хватало духа себя убить. Мне было всего девятнадцать лет и так хотелось жить… И тогда я стал осторожно и незаметно зарывать гранату и документы в снег подо мной.
Через какое-то время ко мне подошел немец, танкист с эмблемой войск СС, и приказал жестом снять валенки. Я отдал ему свои валенки и когда немец ушел, то перочинным ножиком отрезал куски от полы своей шинели и замотал ступни в эти куски. Но утром этот немец снова пришел в лощину, где нас держали на морозе, и бросил мне рваные ботинки, примерно 46-го размера, пожалел меня, видимо. И когда нас погнали на запад то эти ботинки мне жутко, до самых костей натерли ноги, я не мог идти, и за это меня могли спокойно пристрелить как раненого или отстающего немецкие конвоиры, но Ткач и другой мой боец, грузин Миша Беридзе, подхватили меня за плечи и тащили на себе…Почти сутки мы просидели в лощине, а потом нам приказали подняться и погнали в сторону от передовой. Наших раненых повезли на санях. В первую ночь нас загнали на ночевку в здание школы, набили в нее пленных, как селедку в бочку, я с трудом пробрался на чердак. Но на следующий день немцы остановили нашу колонну в лесу и на глазах у всей колонны расстреляли всех наших раненых, всех тех, кто не мог быстро идти. Среди них был боец, раненый в лицо, с разорванным пулей ртом и комком кровавых бинтов прикрывавших рану. Когда он понял, что его тоже расстреляют, то он смотрел так страшно и пронзительно на нас, …в его глазах было столько боли и мольбы о пощаде…, но чем мы могли ему помочь… Колонна пошла дальше и тут немцы-конвоиры стали пристреливать всех отстающих и ослабших. Выстрелы звучали один за другим, каждый раз мы невольно вздрагивали, за нашей спиной оставались трупы однополчан. Нас пригнали на станцию Чудово, погрузили в "товарняк", по 90-100 человек в каждый вагон и куда-то повезли. Выгрузили возле Пскова, и снова начался "марш смерти" до ближайшего концлагеря, и снова немцы добивали выстрелами всех падающих и обессилевших в нашей колонне…
Г.К. - В какой концлагерь попала Ваша группа?
А.Ф. - Возле Пскова находились два больших концлагеря: Кресты и Пески, но тогда нас бросили в третий, в номерной. В этом лагере были собраны несколько тысяч военнопленных.
Здесь мне пришлось каким-то чудом пережить зиму сорок первого года и умудриться остаться в живых до марта сорок второго, пока меня не выдали немцам, как еврея. Жуткий лагерь. Повальный мор. Деревянные бараки, в которых не топили даже в самую лютую стужу.
Полчища вшей, разъедающих кожу до невыносимого зуда. Постоянные побои лагерной полиции и расстрелы пленных немецкими охранниками. Предательство на каждом шагу, выдача за дополнительную пайку немцам на расправу евреев, коммунистов и командиров.
В день выдавали на человека по 100 грамм эрзац-хлеба из опилок и по черпаку гнилой баланды. Люди в буквальном смысле пачками умирали, "как мухи", от голода, дошло до того, что в одном бараке обезумевшие пленные стали есть мясо с трупов. За лишнюю пайку хлеба или за несколько мерзлых картошин могли спокойно убить прямо в бараке, многие от голода потеряли человеческий облик, некоторые сходили с ума, грызли свои ремни и обувь.
Каждый день из лагеря похоронная команда вывозила хоронить в глубоких ямах на лагерное кладбище по 100-150 трупов и вместе с мертвыми сбрасывали в могильные рвы еще еле живых военнопленных, еще подающих какие-то признаки жизни безнадежных доходяг, но на смену тысячам умерших пленных немцы каждую неделю пригоняли новые жертвы.
Г.К. - Кто Вас выдал немцам?
А.Ф. - Начался сыпной тиф и немцы всех пленных погнали на санобработку, на дезинфекцию, где лагерные парикмахеры сбривали все волосы с тела, а потом санитары квачом с дезраствором проводили по паху и подмышкам. Нас заставили раздеться догола и тут один из парикмахеров, заметив, что я обрезанный, громко крикнул: "Ты же жид!" (в лагере я выдавал себя за русского, назвался рядовым красноармейцем Аркадием Фроловым, родом из Орши, и думал, что смогу обмануть немцев и их пособников, так как не был брюнетом и внешне не имел ярко выраженных семитских черт лица). Уже через десять минут туда пришел комендант лагеря, достал пистолет, и, тыча мне стволом в спину, повел меня в деревянный барак, на проверку к доктору, чтобы достоверно определить, еврей я или нет. Я подумал, что теперь все равно помирать, развернулся к немцу лицом и сказал: "Их бин юде" ("Я еврей"). И тогда комендант набросился на меня и избил до полусмерти, выбил передние зубы, сломал нос, а когда я упал от ударов, он продолжал меня пинать ногами, пока я не потерял сознание… Очнулся я уже в бараке, куда меня притащили мои товарищи. Утром на общем построении лагеря комендант увидел меня стоящим в строю, приказал меня вывести из шеренги, нарисовать краской на моей шинели желтые шестиконечные звезды и поставить меня у ворот, возле лагерной проходной, чтобы все видели, что пойман еврей.
Я стоял так под охраной до вечера и каждую минуту ожидал выстрела, который меня прикончит. А потом появился пожилой охранник с автоматом и приказал мне: "Ком! Форвертс!".
Он повел меня за "колючку" в сторону лагерного кладбища, на расстрел. Мы медленно шли и я стал говорить ему, что мне всего девятнадцать лет, что я еще совсем молодой и хочу жить, что у меня родители-инвалиды, и мне нельзя так безвестно погибнуть. Говорил что-то еще и еще, конечно, ни на что не надеясь, ведь чудес на свете не бывает, и было ясно, что через какие-нибудь пятьдесят шагов закончится моя жизнь.
Это немец немного понимал по-русски, так как в Первую Мировую Войну он был у нас в плену в Сибири. Я обернулся и увидел, что у немца по лицу текут слезы, но он смахнул их рукой и сказал мне по-немецки: "Мне тебя жаль, но приказ есть приказ"… Мы уже прошли лагерное кладбище, а немец все тянул с выстрелом.
Неподалеку была железнодорожная станция и в ожидании погрузки в эшелон на снегу сидели сотни военнопленных, и тут у меня мелькнула мысль, вот бы затеряться среди них, чтобы никто не нашел. И тогда я обернулся к охраннику и сказал ему это напрямую: "Дай мне спрятаться среди них". Немец остановился, потом ответил: "Стой здесь и жди меня". Он подошел к четырем немцам-конвоирам, стоявшим отдельно кучкой, о чем-то с ними поговорил, потом вернулся ко мне и сказал: "Я с ними договорился. Тебя возьмут в этот эшелон. Только шинель свою выбрось прямо здесь", …а потом добавил: "Меня зовут Фриц Хайденфельдер. Запомнил? Фриц Хайденфельдер" и, я, сам не веря, что все это происходит со мной наяву, сказал немцу -"Спасибо! Всю жизнь тебя буду помнить! Всю жизнь!". Я, действительно, каждый день вспоминаю его с огромной благодарностью, за то, что рискуя собой, он подарил мне жизнь…
Я сбросил шинель с нарисованными шестиконечными звездами и остался в одном ватнике, он подвел меня к группе пленных и посадил меня среди них на снег. Хайденфельдер пошел в сторону нашего лагеря, потом остановился, дал выстрел в воздух и снова двинулся к лагерю…
И тут подошел эшелон, и немцы стали загонять пленных в вагоны. Один из пленных, стоящий рядом со мной, сказал мне, что зовут его Алексеем, а фамилия его - Гедле, что он из Ленинграда, по национальности англичанин, и что в Питере его семья жила еще до революции. Нас привезли в "Большой лагерь", в Пески, но положение военнопленных было здесь не менее ужасным, чем в моем предыдущем лагере. Здесь были собраны свыше тридцати тысяч наших военнопленных. Кормежка в Песках ничем не отличалась от "первого лагеря", та же одна буханка эрзац-хлеба с древесными опилками на десять человек и одна поварешка баланды в день, да такой вонючей, что не дай Бог вам узнать вкус этой баланды. В марте снова началась эпидемия сыпного и брюшного тифа. Смертность в "Большом лагере" была просто дикой, похоронная команда не успевала хоронить умерших, а в наш лагерь и в Кресты все время везли новые большие партии пленных с Волховского фронта. Конвейер смерти. Но ко всем моим бедам, лагерная полиция, составленная в основном из украинцев-предателей, которых здесь называли "сержантами", постоянно искала среди пленных евреев и бывших политруков, и когда я увидел среди полицаев своего бывшего сослуживца по "школе младших лейтенантов", поляка по имени Антон, то я понимал, что если он меня заметит среди пленных, то сразу узнает и выдаст немцам на расправу. А выявленных среди пленных евреев ждала лютая смерть: могли окунуть в холодную воду, а потом поставить голым на весь день на мороз, пока насмерть не замерзнешь, в другой раз выданного предателем-полицаем еврея-красноармейца привязали веревкой к машине и так на машине кругами таскали его по земле, а немцы смотрели на его муки и смеялись. Самой быстрой смертью для военнопленного - еврея в этом лагере была одна - если на него охранники натравливали собак, которые моментально загрызали жертву насмерть.
Нет бы просто расстрелять "пойманного жида", но обычно немцы убивали долго, наслаждаясь мучениями. У нас был один в бараке, выдавал себя за прибалта по имени Людвиг, но кто-то на него донес, и Людвига повели на проверку в санчасть, где в отдельном вагончике сидел немецкий доктор, который сразу определил - "Юде!". Когда Людвига выводили из вагончика, он бросился на колючую проволоку, по которой шел ток высокого напряжения. Выбрал для себя легкую смерть… Многие из пленных не выдерживали и сами сводили счеты с жизнью, уже не имея сил выдерживать голод, побои и издевательства. У меня товарищ, Володя Стаханов, молодой русский парень, кадровый красноармеец, тоже бросился на проволоку, он не мог больше выдерживать весь этот кошмар, настоящий ад, и немец с вышки его застрелил…
И я уже ни на что не надеялся, доходил до предела истощения, и понимая, что мои дни сочтены, что из этого лагеря нет никакой возможности сбежать и терять мне уже нечего, решил рискнуть.
Г.К. - Что решили предпринять ?
А.Ф. - Немцы на утреннем лагерном построении приказали: "Автомеханики, выйти из строя!". И хоть я никогда не имел дела с автотехникой, но тут подумал, будь что будет, хоть на часок бы за пределы лагеря попасть, а там пусть расстреливают, и тоже вышел из строя. Попасть в рабочую команду - было единственным шансом выжить, не умереть от голода, ведь там можно было раздобыть кусок хлеба, местные жители иногда подбрасывали хлеб, помогали нам, и все пленные об этом знали… Нас, 200 человек, построили в колонну и под конвоем повели из лагеря в Псков. Здесь, на берегу реки Великой, размещались немецкие фронтовые автомастерские, и нашу рабочую команду пригнали сюда в качестве рабов, подсобной силы. На территории мастерских, частично размещенных в пустых церквях, был создан "малый лагерь", огороженный двумя рядами колючей проволоки, по которой пустили ток. В рабочей команде этих автомастерских я провел с весны 1942 года до начала осени 1944 года, пока не удалось сбежать… Нас было двести человек в бараках за "колючкой", еще рота охраны-конвоя, примерно из 40-45 немцев, и немецкие технари, личный состав мастерских - человек 150-170, размещенные в благоустроенных казармах. Нас поместили в барак в котором были трехэтажные нары, голые доски, а внизу стояли бочки, в которых дневальные разогревали воду. Каждый день в 6-30 утра нас выгоняли на работу в мастерские и гаражи, и когда в первый день меня привели в гараж, где рядами стояли разбитые и сломанные автомашины, то я подумал, что меня сейчас моментально "расколят". Я же ничего в ремонте и устройстве машин не понимал. Но все обошлось, немцы не доверяли нам ремонт, а только показывали рукой или кивком головы: "Дай это, принеси то…", нас использовали как подсобных рабочих, и, таким образом, я мог скрыть, что ничего не знаю в этой профессии. Кроме того у немцев здесь были столярные мастерские, пила-"циркулярка", слесарная мастерская, и прочее хозяйство, у нас первое время не было своего "рабочего места", не было постоянного прикрепления, каждый день могли поставить работать в другой мастерской или гараже, и это дало мне возможность потихоньку разобраться в инструменте и прочем, так что со временем никто не заподозрил во мне человека очень далекого от профессии автомеханика.
Г.К. - Как относились немцы, военнослужащие автомастерских, к военнопленным из рабочей команды? Как кормили пленных в "малом лагере"? Как выживали "рабы Третьего рейха"?
А.Ф. - Условно можно разделить условия нашей жизни в рабочей команде на два периода. Первый - до осени сорок третьего года. Второй - в последующие месяцы. До осени сорок третьего года наше питание мало отличилась от обычного концлагерного - тот же мизерный паек: хлеб из опилок и поганая помойная баланда из отбросов. Каждое утро, когда нас выгоняли на работу из барака, на выходе нас избивали охранники, а на рабочих местах мы получали пинки и тумаки от немцев-ремонтников. Нас не считали за людей, для них мы были "тупое быдло", "русские свиньи", рабы, они к скоту относились лучше, чем к нам. Но ранней осенью сорок третьего года нас построили, и седая немка-переводчица огласила "приказ фюрера" об изменении отношения к военнопленным в лучшую сторону. Мы сразу не поверили, что такое произойдет и что режим нашего содержания будет смягчен, но на самом деле, вдруг, иногда нам стали давать непромытую требуху, еще в дерьме, и добавили в рацион питания нечищеного проса, которое организм не принимал. Хлеба стали давать чуть больше, а в начале сорок четвертого года нам несколько раз дали пористый сыр с червями, и этот сыр мы разрезали поровну на куски, растапливали его на печке и ели, вместе с зажарившимися червями.
Нам после этого приказа дали постельное белье, которое меняли раз в десять дней.
Армейская форма за годы плена, за исключением шинелей, полностью на нас истлела, и немцы уже не препятствовали тому, что мы находили гражданские лохмотья и переодевались в "цивильную одежду". Мы сразу смекнули, что немцы пошли на послабления в режиме нашего содержания только потому, что уже сотни тысяч немцев после Сталинграда и Курской дуги оказались в нашем плену, и немцы боятся, что наши начнут мстить за массовое уничтожение, голодомор и расстрелы пленных красноармейцев в первый год войны.
Но самой главной переменой было то, что нас перестали избивать, а особо зверствовавшего в измывательствах над пленными немца по имени Эрих, который бил нас березовой палкой, после жалобы кого-то из гражданских сотрудников автомастерских, отправили на передовую, а потом сами немцы нам показывали газету, в которой сообщалось о том, что этот Эрих погиб на "Восточном фронте"… А вот как мы выживали в рабочей команде до осени сорок третьего - это отдельный разговор. Никто из немцев-ремонтников нас из жалости не подкармливал и сигаретами не угощал, наоборот, когда один раз нас послали перебирать картошку на складе, на окраине Пскова, так при проверке у нас нашли по несколько картошин у каждого, которые мы хотели пронести в свой барак, и за это мы были нещадно, жестоко избиты. Хорошо хоть перед этим, на складе мы успели тайком сырой картошки без соли поесть… Иногда нас заставляли убирать в немецких комнатах, в казарме, мыть полы или топить печки, и немцы специально оставляли на видном месте сигареты или кусок хлеба, так они нас проверяли, своруем мы их или нет…
Большим везением считалось попасть мыть котлы на кухню, где работал наш пленный Мусатов, или колоть дрова для кухни, ведь за это могли дать лишний кусок хлеба. Но не дай бог, если кто-то из пленных взял тайком хоть одну сигарету в немецкой казарме или на рабочем месте в гаражах, за это били смертным боем… С немцами-ремонтниками никаких человеческих отношений у нас так и не возникло, было несколько человек среди них, которые относились к нам с видимым сочувствием и тайком могли даже дать сигарету, но в "первый период" они все нас били. Вроде не эсэсовцы, а обычные немецкие рабочие, мастеровые люди в военной форме, небось до прихода Гитлера к власти за коммуниста Тельмана голосовали на выборах, а все же не сдерживались, били нас, "унтерменшей", "бессловесных и бесправных рабов"…
Но был один странный немец, который по вечерам приходил в наш барак играть в карты, и даже как-то сказал, что его жена была еврейка, но он сказал в прошедшем времени, "была", и о ее судьбе можно было даже не догадываться… Иногда мы находили что-то съестное в машинах, которые пригоняли с фронта на ремонт, мой товарищ-"семейник" Лебедев, работавший в столярной мастерской, делал деревянные шкатулки с соломкой, и немцы за них ему давали немного хлеба, который он приносил в нашу "семью". Я, когда работал в слесарной мастерской, с одним товарищем стал делать кольца, "перстни" из бронзовых трубок, под "золото", и я выбивал на них узоры, чеканил. За такие кольца немцы также нам давали хлеб. Один раз я даже вспомнил свои "таланты художника", на листе бумаги нарисовал портрет Гитлера и немец-"работяга" дал мне за этот портрет несколько картофелин. Каждый пленный пытался раздобыть для себя и своих товарищей что-то съестное, все это шло "в общий котел" и поровну делилось в "семье", каждый подобранный с земли окурок, каждая крошка хлеба, щепотка махорки или гнилая кочерыжка от капусты. Одиночке, "одному на льдине", было не выжить, все пленные осознанно собирались в свои группы, в "семьи", где каждый доверял другому и поддерживал своего товарища по плену. В моей группе нас было трое: Владимир Михайлович Лебедев из Горького, он был постарше меня, с 1915 г.р., второй - гомельчанин Вася Шубинок, и я, назвавшийся в "малом лагере" русским Аркадием Ефремовым.
Что стоит заметить особо, так это тот факт, что те из пленных, кому посчастливилось пережить в лагерях страшную зиму сорок первого года, в рабочей команде уже не умирали от голода, так как организм у всех выживших как бы "перестроился", приспособился к постоянному голоду, и человек тянул дальше на мизерной пайке. Умирали от болезней, последствий дистрофии, погибали во время расстрельных акций, но голод стал частью жизни, к нему мы адаптировались. Некоторые рылись в помойке, в немецких отбросах, но в рабочей команде в сорок третьем году уже никто зеленую траву с земли или дохлых крыс не ел… Наше поведение тоже изменилось, пленные снова стали следить за собой, бить вшей, регулярно мыться и бриться, старались иметь сносный внешний вид. В сорок четвертом году я за десять паек хлеба, которые отдавал через день, выменял у другого пленного найденную им где-то скрипку, и спрятал ее. И когда нас перевели в Сувалки, где рабочий лагерь при автомастерских разместился на берегу реки, то немцы несколько раз разрешили мне и еще одному пленному, у которого была гитара, стоять у колючей проволоки, играть на инструментах русские песни, за что нам прохожие из местных кидали за проволоку куски хлеба, табак или какой-нибудь овощ.
Плен, помимо многого другого и страшного, научил нас еще одной истине: если будешь с апатией, инертно ждать, что тебе Господь или немцы жрать дадут - то точно подохнешь, надо добывать еду, искать ее, только так, возможно, и выживешь.
Г.К. - А между пленными в рабочей команде, какие были взаимоотношения?
Были ли попытки организовать общий побег или лагерное подполье?
А.Ф. - В лагере зимой сорок первого года люди быстро умирали от голода, расстрелов и болезней, и в тех условиях крепкой дружбы с товарищами по несчастью никто не успевал завести. В рабочей команде, где жизнь пленного уже не измерялась считанными днями, люди стали присматриваться друг к другу, выбирая себе надежных товарищей, на которых можно положиться и которым можно доверять. Ткач и Беридзе из моего взвода, спасшие мне жизнь, остались погибать в "первом лагере", и в рабочей команде я стал подбирать себе новых товарищей. Сначала возле меня ошивался один брянский, Петр Шиленков, но он был скользкий и ненадежный тип, и я его опасался, а потом сдружился с Лебедевым и Шубенком, и вместе с ними бедовал весь плен и с ними бежал из лагеря, был пойман и дождался освобождения.
Три года мы были как одна братская семья, но даже своим друзьям я никогда не признавался. что я еврей по национальности и имею звания младшего лейтенанта. Еврей в концлагере для военнопленных - это верная смерть, а имеющих командирские звания немцы "фильтровали" и отправляли в специальные офицерские лагеря, где выжить тоже было сложно.
Взаимоотношения между пленными в рабочей команде отличались от обычного лагеря, поскольку в раб.команде у всех появился шанс выжить, но все равно, друг с другом сводили счеты и убивали за любую мелочь, при каждой возможности, поэтому пленные держались своими группами - "семьями" и лишнего не говорили.
Помню, как на моих глазах один пленный, Вершинин, человек невысокого роста, заколол ударом ножа в сердце пленного Севастьянова, парня почти двухметрового роста, и никто особо не лез, не интересовался, за что он его убил, и немцы, кстати, тоже не стали "рыть землю".
Если в обычном концлагере для военнопленных кто-то в бараке говорил, что он по своей воле, сам перешел, перебежал к немцам, то его другие пленные убивали той же ночью, а в рабочей команде такого не было, здесь уже потенциальные предатели вслух заявляли о своем желании служить у немцев, и их все сторонились, но не трогали. Поэтому, в обычном лагере немцы держали перебежчиков в отдельных бараках, на добавочном пайке.
Когда из рабочей команды мастерских стали набирать предателей в РОА и в полицейские украинские батальоны, то немало украинцев из нашей команды сами пошли и добровольно записались в предатели, но был один русский, по фамилии Губанов, работавший на пиле-циркулярке, которого из-за русской фамилии не взяли в украинскую полицию, так он все время бегал к немцам, скулил и заявлял им, что он украинец и его настоящая фамилия - Губенко. Других украинцев набирали в полицаи фактически силой, порой даже не спрашивая их согласия. Но не все "хохлы" шли в полицаи, у меня был одно время напарник по работе, украинец из Сум, Иван Хвесун, так он не пошел на службу к врагу. Был у нас в рабочей команде еще один тип, которого немцы "вычислили", кто-то его выдал, что он бывший милиционер, имевший командирское звание. Его немцы арестовали и куда-то увезли, мы подумали, что его точно расстреляют, за то, что скрыл в плен свое звание, а потом мы увидели этого милиционера живым…, во "власовской" форме. Приходили набирать добровольцев и в Кавказский или Туркестанский легион, но у нас в команде кавказских или среднеазиатских нацменов почти не было, запомнился только один, Алиев из Баку, так он на службу к немцам не пошел.
К нам несколько раз во фронтовые автомастерские приходили "власовские" агитаторы, но за отказ идти в армию к этому предателю Власову, нам ничего не было, обошлось без репрессий. Обычный немецкий "ленивый" мордобой продолжался, и не более того.
Подпольной организации в рабочей команде не было, никто не занимался подготовкой общего побега или восстания. Люди помалкивали, опасались стукачей-провокаторов, которых в плену хватало с лихвой. Плен всех научил осторожности. Бежать на волю из "малого лагеря" было очень сложно, рабочая зона (автомастерские) сильно охранялась, лагерь был обнесен рядами проволоки, пулеметные вышки с охраной, иногда по проволоке пускали ток, и пленные все время находились на виду у конвоиров или у немцев-авторемонтников. В запретную зону зайдешь - охрана стреляла сразу, без предупреждения. Вечером нас строили, пересчитывали по головам и загоняли за "колючку" в бараки, поэтому, решиться на смертельный риск и бежать - могли немногие. Все побеги из нашей рабочей команды были совершены малыми группами, не более трех человек, или одиночками. Первый побег предприняла группа авторемонтников: Витя Фурман, горьковчанин (как мне кажется, он был "скрытым евреем"), и два его товарища.
Немцы им доверяли обкатку отремонтированных машин, и как-то они втроем "нарезали круги" по двору мастерских на только что отремонтированном "опель-кадете" (не помню точно, как называлась эта машина, с открытым верхом, похожая на "виллис"), и тут заметили, что на какое-то мгновение немцы оставили ворота открытыми, а шлагбаум был поднят. И тогда Фурман рванул "с круга" за ворота. Немцы сразу спохватились, часовые открыли стрельбу вслед, но куда там. Потом немцы нам сказали, что бежавших догнали и все три беглеца пойманы и расстреляны на окраине Пскова, но мы им не поверили, тем более машину назад в мастерские они не привезли. Другой раз попытался бежать ленинградец Крючков, тоже из рабочей "зоны". Крючков до этого прикидывался "контуженым придурком", работал только на погрузке, и охрана на него серьезного внимания не обращала. Как-то Крючков поднял с земли доску и пошел с ней прямо через ворота, немцы в первую минуту даже не обернулись ему вслед, наверное, подумали, может его унтер-офицер или мастер послали по делу. Но ему не повезло. Крючкова потом поймали и привезли живым в наш "малый лагерь" обратно, как-то он смог от немцев отбрехаться.
Наша "тройка" - Лебедев, Шубенок и я, к побегу готовилась долго, и когда вроде все было готово, наш лагерь и фронтовые автомастерские немцы перебросили в Ригу, а еще через месяц в Сувалки, где никто про партизан в окрестностях этого города не слышал. Мы решили ждать момента, когда фронт подойдет поближе, и в середине 1944 года наш побег удался. Мы пробирались к линии фронта, а навстречу нам валом шли "беженцы" и отступающие немецкие части из ближнего тыла, и тут мы попали в облаву и были схвачены. Нам удалось выдать себя за "ост-рабочих" трудившихся на деревообработке, на лесопильном заводе, и в этой суматохе, нас, вместе с другими "беженцами от орды коммунистов" посадили под охраной в эшелон и привезли в Мариенбург, где всех прогнали через "фильтрацию". Но у нас уже была готова "железная легенда", мы "ост-рабочие", бежали от "красных коммуняк", на нас была гражданская одежда, а отсутствие "аусвайсов" было списано на спешку при бегстве. И тогда нас троих отправили на работу в подсобное хозяйство к владельцу магазина, мы имели право на свободное перемещение, а потом нас вывезли в немецкий город Гревесмюль, где мы работали батраками на хуторе в хозяйстве у местного бауэра, имевшего огромное стадо коров.
Третьего мая сорок пятого года немцы с хутора поехали отвозить молоко в город, и вернувшись, рассказали нам, что весь город завален трупами эсэсовцев. Тогда мы втроем сами пошли в Гревесмюль, куда уже вошли американские армейские части.
Г.К. - Какие настроения были среди пленных в "малом лагере"?
А.Ф. - Антинемецкие, антиукраинские, антисемитские и антисталинские. Объясню по порядку. Немцев мы ненавидели, как своих мучителей и убийц, как жестоких зверей и захватчиков-оккупантов. Это понятно, само собой. С определенного момента мы в рабочей команде уже знали настоящее положение на фронтах и были уверены, что немцев разгромят, и когда немцы объявили траур по 6-й Армии Паулюса, мы чувствовали гордость за Красную Армию, но свои эмоции, конечно, внешне контролировали, так как кругом были немцы и стукачи...
Антисталинские настроения наиболее ярко проявились тогда, когда немцы нам объявили, что Сталин заявил: "У нас нет пленных, у нас есть предатели".
И так многие из пленных, которые были постарше меня лет на десять, еще до войны ненавидели Сталина с его колхозами, репрессиями и Беломорканалами, но после этого заявления "вождя народов" большинство из наших в лагере уже проклинало его вслух…
Антиукраинские настроения были вызваны тем фактом, что украинцы массово шли на службу к немцам и в полицейские батальоны, и во многих концлагерях, например, в таких как Пески и Кресты, лагерная полиция состояла на 80% из украинцев.
Их считали за "поголовно продажную нацию"…
Антисемитские настроения среди пленных появились благодаря непрерывной планомерной немецкой юдофобской пропаганде и потому что "крайние" в любой ситуации всегда оказывались евреи, а немцы и "власовские" агитаторы все время пытались внушить пленным, что проклятая война началась из -за евреев, которые все "проклятые жиды-коммунисты".
Г.К. - Больше трех лет в плену. Постоянных страх разоблачения.
После того как Вас спас немец-конвоир, были еще эпизоды, когда казалось что все, конец, сейчас немцы обнаружат, что Вы еврей и тогда смерть неизбежна?
А.Ф. - Летом нас немцы гнали мыться "в баню", купаться в реке Великой. Я заходил в воду и хотел одного - утопиться, потому что не мог уже выдерживать этот постоянный страх разоблачения. "Голый среди волков"… Но человеку противоестественно самому себя убить, если он, конечно, не японский самурай-камикадзе. Я не смог покончить самоубийством, не стал топиться, решил, что буду сражаться за жизнь до самого конца. Один раз Лебедев приходит в барак и говорит: "Аркаша, а знаешь что про тебя сегодня в мастерской говорили? Что ты умный, прямо как еврей!" - "Кто это сказал?" - "Подоряк", и тогда я рванул в отдельный барак в котором находился этот Подоряк. Матерясь, я сразу врезал Подоряку в рожу, потом бил его и кричал, как ошпаренный кипятком: "Ах ты жидяра! Сука поганая! Жид!".
С трудом другие пленные оттащили меня от лежащего на земле в крови Подоряка, и спрашивают: "Ефремов! Хватит! Что случилось?" - "Да этот гад, сам жидовская морда, и меня решил жидом выставить!". Когда я вернулся в свой барак, то меня всего трясло, я только в бараке понял, что сейчас кричал и что сделал…
В "малом лагере", кроме меня, как я подозреваю, скрывалось еще два еврея, по крайней мере внешность у них была с заметными семитскими чертами, а у одного и фамилия "намекала"на еврейскую национальность. Это Витя Фурман, про которого я уже рассказал, и, возможно, еще один, Миша Шилов, который один раз при мне обратился к немцу, используя слова из идиша, но то ли немец его пожалел, то ли еще что-то, немец сделал вид, что ничего не заметил.
Я весь плен тщательно скрывал, что понимаю и говорю по-немецки.
Но один раз я был на самой грани провала. Мы уже были в лагере в Сувалках. Я стоял и брился осколком стекла, и тут один из пленных мне говорит: "Аркаша, там у проволоки женщина стоит, ищет земляков из Орши, и я сказал, что сейчас ей земляка приведу!". У меня в эту секунду дрогнула рука, и стеклом я глубоко порезал скулу. Пошла кровь, я схватил кусок газеты, приложил к порезу и направился к колючей проволоке. Стоит у "колючки" незнакомая женщина среднего возраста, стали мы с ней разговаривать, она сказала, что жила в Орше рядом с вокзалом, (там же где и я), и спросила: "А вы на какой улице жили?" - "На Молокова" - "Ой, у меня подруга возле вас, на Якуба Колоса жила! А вот она идет. Женя, иди к нам, здесь земляк с соседней улицы!". И к проволоке подходит Женя Купава, моя бывшая вожатая в школе, с младшим братом которой, с Витькой Купавой я дружил до войны, и она, Женя, неоднократно бывала в нашем доме, хорошо знала меня и всю мою семью!..
Но она меня в первые секунды не узнала. Я обмер, стою, ни жив, ни мертв, стараюсь куском газеты уже не кровоточащий порез, а все лицо прикрыть. Все внутри меня дрожит.
Возле меня стали собираться другие пленные, я развернулся к ним и сказал: "Ну дайте хоть спокойно с землячкой поговорить!", они разошлись, ушла и вторая женщина, и я с этой Женей остался наедине. Решил рискнуть и спросить про свою девушку, с которой дружил до армии.
И когда я спросил Женю: "А как там Виктория Харкевич? Жива?!", то тогда она поняла кто стоит перед ней и от изумления прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Потом сказала: "Про ваших ничего не знаю. Многие успели уехать на восток до прихода немцев, но три тысячи ваших немцы еще в сорок первом году расстреляли у станции Восточной. Но где твои…, не знаю, только дом ваш сгорел дотла…"… Эти две женщины из Орши работали в Сувалках на кухне у немцев при воинской части, и мимо нашего лагеря они шли к реке за водой…
Не выдала меня Женя Купава… После войны я не встречал ее в Орше…
Скрывал свою национальность как мог, иначе в плену было нельзя. Даже своему лучшим друзьям Лебедеву и Шубенку, я сказал об этом в последний наш день в Германии, когда меня отправляли с офицерским эшелоном бывших военнопленных на госпроверку, а они оставались ждать, когда будут отправлять из нашего пересыльного пункта эшелон с рядовым и сержантским составом. Сели втроем, выпили шнапса "на дорожку", и стали обмениваться адресами. Лебедев диктует свой - "Горький, улица Пискунова", а потом я говорю - "Витебская область, город Орша, улица Молокова№17, но сейчас наш дом сгорел, мне землячка сказала…", и тут я вижу как Лебедев пишет дальше мою фамилию "Ефремов", и говорю ему - "Не торопись. Я тебе фамилию по буквам продиктую. Пиши по одной. Ф..Р..А..Й..М..А..Н…". Он посмотрел на меня, все понял, потом бросился обнимать и заплакал: "Аркаша… Как ты смог это столько выдержать!"...
Г.К. - Известный историк Арон Шнеер, автор книги "Плен", досконально изучивший по архивным документам и свидетельствам выживших, судьбу евреев, красноармейцев и командиров РККА в плену, в своей книге написал, что если не считать тех евреев, кто попал в плен к финнам и румынам, а учитывать только тех, кто попал в плен именно к немцам, то получается, что из евреев в немецком плену, выжил только один человек из каждых пятидесяти попавших в плен… Это те кто не был расстрелян на месте, сразу на поле боя или по прибытию в лагерь, те, кто смог скрыть в неволе свою национальность и каким-то чудом дожить до освобождения из лагеря. И еще примерно 2.500 - 3.000 тысячи военнопленных красноармейцев и офицеров, евреев по национальности, смогли сбежать из лагерей к партизанам.
У меня есть несколько интервью с такими людьми, и все они рассказывают, что на государственной проверке-"фильтрации" проверяющие "особисты" не хотели сразу поверить в такой невероятный факт, что еврей выжил в немецком плену.
А как сложилась проверка для Вас ? Каким оказался Ваш путь на Родину, после освобождения из немецкой неволи?
А.Ф. - Когда американцы заняли район Гревесмюля, то все бывшие советские граждане: военнопленные, "ост"-рабочие, и другие, были собраны в лагерь для беженцев, подлежащих репатриации. Американцы сразу давали всем свободу и не охраняли этот лагерь репатриантов, в отличие от англичан, которые по рассказам освобожденных пленных в лагерях сразу меняли перебитую немецкую охрану на свою, и ограничивали передвижение бывших узников, так как уже хорошо знали, что будет, если измученные издевательствами, голодом, каторжным трудом и постоянной смертельной опасностью, получившие свободу бывшие военнопленные начнут мстить немцам. У нас все было иначе, представитель американского командования нам прямо заявил: "После того что немцы сделали с вами, мы не будем никому и ничему препятствовать, хотите - убивайте, хотите - берите их имущество. Мы не вмешиваемся. Немцы должны понести кару!". И многие наши сбились в группы и устроили немцам в округе настоящий кошмар, но уже через несколько дней все страсти улеглись… Бывших военнослужащих Красной Армии американцы стали собирать в отдельных бараках, где пленные сами занялись самоуправлением, были созданы батальоны комсостава, батальоны для рядового и сержантского состава.
Кормили нас американцы отменно, как на убой, и почти каждый день в лагерь на 3-4 "доджах" прибывали агитаторы, представители американской военной администрации, которые призывали нас остаться на Западе, оформляли документы на выезд в Америку, обещали немалую сумму подъемных денег и устройство на работу в США. Они нам говорили: "В России вас всех ждет - или расстрел за измену, или лагеря НКВД в Сибири, ничем не лучше немецких. Одумайтесь! Сталин вам никогда не простит плена! Мы предлагаем вам свободную жизнь в свободной стране!", и многие из "ост-рабочих" и немалая часть из бывших военнопленных записывались у американцев на оформление выезда. Но большинство решило возвращаться в СССР, мы верили, что с нами честно разберутся, ведь мы попали в плен в бою, а не переметнулись добровольно на сторону противника. В июне в лагерь зачастили представители из Советской зоны оккупации, по повадкам и поведению - то ли политруки, то ли "смершевцы", они выступали с призывами, раздавали листовки и нам все время говорили: "Родина ждет! Родина все простила! Вы не видели своих родных и друзей долгие четыре года, а они ждут вас! Ничего не бойтесь!".
У меня, как и у многих, были минутные колебания, но я верил, что кто-то из моей семьи, возможно, остался живым, и чувствовал себя обязанным вернуться и попытаться найти их.
В принципе, все пленные из западных оккупационных зон в Союз возвращались добровольно, заранее будучи готовыми к любому повороту, даже самому трагическому, в своей судьбе.
Но когда нас на автобусах перевезли через мост на Эльбе, и мы оказались у своих, то многие искренне радовались, что мы возвращаемся на Родину. Наша группа была сформирована только из бывших офицеров, свыше пятисот человек, и для нас был выделен эшелон, старшим в эшелоне был назначен подполковник из пленных, и что особо следует отметить - без какого-либо конвоя и без решеток на вагонах мы поехали на восток. 26/7/1945, в день солнечного затмения, мы остановились на станции Перово под Москвой, а потом, через день, поезд встал на запасных путях Киевского вокзала. Нас встретили представители военной комендатуры, отвели весь наш "батальон" под огромный навес позади вокзала, и сказали, что здесь мы будем ждать дальнейшей отправки, кормить нас будут в столовой вокзала, а спать будем здесь, на деревянных настилах. Мы остались на вокзале, свободными людьми, без конвоя, предоставлены сами себе - иди куда хочешь, но одна незадача, все мы были без денег и документов. Наш старший по эшелону, подполковник, оказался москвичом, он пошел искать свою семью, вернулся вечером на вокзал вместе со своей женой и сыном, и сказал нам, что он остается в Москве, проверку вместе с нами проходить не будет. Оказывается, что все это время он числился в погибших, и даже не знал, что он произведен в полковники и посмертно награжден. Он пожелал нам быстрой проверки и возвращения по домам. На следующий день весь наш "батальон" разбрелся по Москве, у многих в столице были еще довоенные друзья или знакомые, нам только сказали, что к десяти часам вечера мы обязаны вернуться на поверку. Я со своим товарищем Васей Жебелем пошел на площадь перед Белорусским вокзалом, где стояла будка "Мосгорсправки", заполнил бланки на поиск адреса своих двоюродных брата и сестры Полины и Гриши Фейгиных, еще до войны живших в столице, но когда я вернулся за ответом, то мне ответили, что таких людей в московской адресной книге нет. Тогда я заполнил другой бланк, запрос на Грекову-Яглейко Зинаиду Николаевну, нашу бывшую соседку по Оршу, с которой наша семья всегда дружила.
Она жила в Москве с начала тридцатых годов, а ее сын Женя, мой одногодок и друг, оставался с бабушкой в Орше, пока мать не забрала сына в Москву, где Женя умер при трагических обстоятельствах. Ее мать Анна Захаровна и сестра Лиза (муж которой Вася Гусаков был оклеветан и расстрелян НКВД в 1937 году) оставались в Орше. Года за два до моего призыва в армию, Зинаида была на родине, навещала мать в Орше, и все время звала нас к себе погостить. Я решил найти ее, надеясь, что может она знает что-нибудь про моих родителей. И через час в "Справке" мне выдали адрес - Бутырский вал, дом № 51. Мы с Васей пошли по полученному адресу, по дороге я на Тишинском рынке продал с себя рубашку и на эти деньги купил бутылку вина, чтобы не идти с пустыми руками. Приходим, нашли Зинаиду Николаевну, а она меня не узнает, все-таки семь лет прошло с нашей последней встречи. Спрашиваю ее: "Как Лиза? Как Анна Захаровна? Живы ли? Как Витя, сын Елизаветы Николаевны?", на что мне Яглейко отвечает: "Откуда вы знаете мою семью? Я вас впервые вижу… Сейчас так по Москве многих обворовывают, приходят в дома, представляются земляками или фронтовыми товарищами, а потом грабят… Кто вы такие?". И я ее спросил: "Зинаида Николаевна, вы в Орше в последний раз когда были?"…, и тут она пристально на меня посмотрела: "Ольтенька, это ты?! Живой?!" -"Представьте себе" (меня в детстве все на улице и дома звали "Ольца" или "Ольтенька"), и тогда Яглейко бросилась меня обнимать: "Да что же мы тут стоим?! Проходите в комнату. Я с твоими родителями переписываюсь! Они живы. Живут в Чкалове, улица Орловская. И Фаня, сестра твоя жива, недавно мальчика родила, Фимой назвали. И Лева жив". Она оставила нас ненадолго в комнате и куда-то ушла, вернулась минут через пятнадцать и сказала: "Я твоим телеграмму дала. Вот копия". Я читаю текст отправленной телеграммы: "Ольтенька жив-здоров, выглядит хорошо, в Москве проездом. Подробности письмом". Вечером того же дня я написал родителям первое с начала войны письмо, эпиграфом стали чуть исправленные слова из стихотворения Симонова - "Ждите меня, и я вернусь…"… В Москве наш "офицерский батальон" бывших военнопленных провел шесть дней, а потом подали вагоны, и мы поехали в Башкирию, где на территории Южно-Уральского ВО, на станции Алкино, находилась 12-я запасная учебная дивизии. Нас пешим ходом отправили в проверочный лагерь, что находился в восемнадцати километрах от Алкино. Нас разместили в бараках и объявили, что наша проверка идет по трем категориям: 1-я категория - "не имеет вины перед Родиной, не запятнан в связях и сотрудничестве с врагом". 2-я категория - "лагерные полицаи на службе у немцев". 3-я категория - "власовцы" и прочие, все те кто носил немецкую армейскую форму и брал оружие в руки. Моя государственная проверка длилась почти три месяца.
Г.К. - Про государственную проверку можно поподробнее рассказать?
А.Ф. - Нас разместили в бараках, а проверку мы проходили в землянках, где сидели офицеры "СМЕРШа". Наш эшелон прибыл из американской зоны оккупации и, в принципе, "смершевцы" понимали, что те пленные, у кого был грехи перед Советской Родиной, остались на Западе.
Тем более, по дороге от границы СССР и до самой Башкирии поезд шел без охраны, и кто хотел, мог спокойно скрыться в дороге или во время долгой стоянки в Москве, а наш "батальон" прибыл фактически в полном составе. Каждый ждал вызова в землянку к "особистам". Мое "дело" проверял офицер в звании капитана, который обращался ко мне корректно, ни разу не бил и не угрожал, только очень подробно выяснял, что происходило со мной в период плена, записывал фамилии всех свидетелей, которые могут подтвердить, где я был Фроловым, где Ефремовым, что делал в плену, спрашивали фамилии тех, кто стал предателем и пошел к немцам на службу, и так далее. Довольно спокойно разговаривал, тем более у меня на все его вопросы были четкие ответы. На проверке только один раз какой-то лейтенант, оформлявший документы на демобилизацию резко спросил: "Что это за фамилия у тебя? Ты что, немец?" - "Нет, я еврей. Я что, на своей земле тоже свою фамилию должен скрывать?"…От момента окончания проверки до объявления окончательного решения о конкретной дальнейшей судьбе каждого из нас проходило где-то недели полторы-две. Списки пленных, прошедших проверку, вывешивались в лагере на "Доске объявлений", с указанием категории. Тех, кто попал под 2-ю и 3-ю категорию, забирали от нас. Вообще, наша проверка была довольно мягкой, поскольку дело было уже во второй половине 1945 года. Случись эта проверка в 1944 году, то мы все бы, скопом, пошли бы "искупать кровью вину за плен" в штурмовые офицерские батальоны, но война закончилась, поэтому среди нас "особисты" искали настоящих предателей, а уже не "шили дела" на всех. И подневольный каторжный труд в рабочих командах, на шахтах и на заводах, уже не ставился пленным в вину, как "измена и пособничество врагу", иначе надо было бы 90 % процентов выживших в плену военнопленных сажать в лагеря. Пока мы ожидали окончательное решение по нашей проверке, нам послали на уборку картофеля и строительство домов из самана в одну из деревень, где бывших офицеров разместили на постой по крестьянским дворам. Я попал в один дом вместе с товарищами Плахотным и Рыжим. Вот тут нам кто-то из местных кричал: "Изменники!". Но настоящих изменников среди нас почти не было. Был один курьезный в какой-то степени случай, что бывший пленный, зайдя в землянку на первый допрос, увидел красное знамя возле стены, и вдруг щелкнул по-немецки каблуками, выкинул одну руку вверх и прокричал: "Хайль Гитлер!". Его сразу арестовали и увезли от нас. Был у меня в эшелоне приятель, пожилой человек, звали Иваном Афанасьевичем, так он прошел проверку только по 2-й категории и был отправлен на спецпоселение, принудительные работы. От него в лагерь даже пришло одно письмо из грузинского города Поти, но дальнейшей его судьбы я не знаю…
Еще одна, и возможно, важная деталь. У следователей на столе лежали альбомы с фотографиями предателей, нам показывали эти фото, вдруг кого-то узнаем, кого-то из них помним по плену. Когда моя проверка закончилась, я ждал больше десяти дней, пока вывесят списки с моей фамилией, каждое утро подходил к спискам, но себя в них не находил. Тогда я пошел в землянку к этому капитану-"смершевцу" и спросил, что со мной решили. Капитан удивился: "Да вроде с тобой все в порядке, наверное, забыли в списки внести". Через пару дней смотрю "Фрайман - 1-я категория", и я пошел в штаб оформлять документы на демобилизацию, так как мы уже знали, что бывших в плену офицеров в армейских рядах не оставляют. Мне было восстановлено звание "младший лейтенант", выдана офицерская зарплата "за звание" за все три месяца, что я находился на проверке, всего 1.500 рублей. Нам, прошедшим проверку и восстановленным в званиях, выдали армейскую форму, офицерские погоны, но сапог не дали, домой мы ехали в обмотках, так что сразу было видно, что это офицеры после плена. Каждый из нас получил запечатанный сургучом пакет, который мы не имели права вскрыть и должны были передать в военкоматы по месту призыва. Кроме этого пакета нам не дали никаких документов или справок. И литер на проезд нам был выписан только - "по месту призыва". Со мной вместе из лагеря освобождались еще два человека. Мы прошли 18 километров от проверочного лагеря до станции Алкино, стоим на перроне, ждем поезда на запад. И тут подходит пассажирский поезд "Владивосток - Москва". Но двери в вагоны закрыты. Кто-то из местных железнодорожников нам сказал: "Чего вы ждете, что вам мягкие вагоны подадут? Садитесь на подножку, иначе здесь долго куковать будете!". Поезд тронулся, я схватился голыми руками за поручни, проводница нас видела, но впустить в вагон отказалась. А холодно уже было, конец октября, пока до Чешмы доехали, я чуть насмерть не замерз. А Чешма была тогда "знаменитой станцией", даже поговорка такая была - "Деньги есть - Уфа гуляем, денег нет - Чешма сидим". Здесь проводница за 500 рублей "с носа" сжалилась и запустила нас в тамбур, а еще через пару часов пустила погреться на сидячие места в плацкартном вагоне. Где-то в Рузаевке я увидел на соседних путях поезд, идущий на Харьков, пересел в него, надеясь в Харькове найти своих родных. Но, как позже выяснилось, они не вернулись из эвакуации. В Чкалов мне было запрещено ехать, и на "перекладных", на попутных "товарняках", на угольных платформах, я стал добираться до Белоруссии.
В Оршу прибыл ранним утром и не узнал свой родной город. Многое было разбито, разрушено. От вокзала до города было три километра. На месте нашего сгоревшего дома лежали только глыбы снега, и я пошел дальше, к дому своего дяди. Иду через проходной двор, подхожу к калитке и вижу, как отец с дядей запрягают лошадь в телегу. Меня от волнения стало трясти, ноги вперед не идут, слова вымолвить не могу… Как-то выдавил из себя, произнес: "Папа!", отец обернулся и не заметил меня. Я только через минуту смог побороть волнение и снова промолвить: "Папа!", и тут мой дядя Ейна закричал отцу: "Арье! Это Фроим вернулся!". Отец бросился в дом с криком: "Фроим вернулся!", и вся моя семья: мама, папа, брат на костылях, сестра с мужем, все выбежали мне навстречу. Мы стояли и плакали. Трое нас ушло на фронт из семьи, я, брат и шурин, и вот мы стоим: двое фронтовых калек на костылях, и я, третий, на всю жизнь искалеченный пленом… Брат Лева мне сказал: "Ты хоть шапку сними, а то на себя совсем не похож"… Так я вернулся домой…
Г.К. - Когда в 1948 году "органы" стали сажать бывших пленных, Вас эта волна репрессий не затронула?
А.Ф. - Вызвали в 1948 году в КГБ по повестке. Я думал, что заберут и посадят, уже все знали что по стране пошла массовая "посадка" за плен, давали 58-ую статью, срок-"червонец". И в Орше уже "взяли" несколько человек из бывших пленных, которые давно прошли госпроверку после плена или партизанства, и ни каких грехов за душой или вины перед Советской властью не имели. Я даже не знал, брать с собой сразу "сидор" с теплыми вещами, но почему-то надеялся, что может быть обойдется и не посадят, подумал, что иначе бы арестовали на заводе или дома, а не вызывали бы по повестке. Посомневался, а потом решил, что вещей с собой брать не буду. Но ничего хорошего я от этого вызова не ждал. Жена сказала: "Я пойду с тобой", и когда мы пришли в гор. отдел КГБ, то вызвавший меня майор Жиленков моей жене сказал: "Что, пришла своего проводить в далекие края?", а она ему ответила: "Нет, я жду когда мы домой вместе пойдем". Он только усмехнулся. Завели меня к нему на допрос, и часа четыре всю подноготную с меня выпытывали. Потом Жиленков пошел в другой кабинет, с кем-то посовещался, и меня… отпустили домой… Я не скрывал на заводе, что был в плену, но пока Сталин не помер, я знал, что меня могут посадить по 58-й статье в любой момент, так как бывшие пленные считались изгоями. Это уже позже, когда писатель Смирнов, автор "Брестской крепости", встал на защиту бывших пленных, когда появился фильм "Балтийское небо", то отношение к нам изменилось в лучшую сторону. А до этого… Никого не интересовало, что до плена я честно воевал на передовой четыре месяца, командовал стрелковым взводом, ходил в атаки, стрелял во врага и рисковал своей жизнью, а в плен попал, когда оказался в безвыходной ситуации, без патронов, в полном окружении вместе с другими бойцами, которых предало и оставило на погибель собственное командование. Любая тыловая и штабная шваль, которая и одного дня не была на передовой, которая не знала, что такое окружение в сорок первом году и что нам пришлось вынести в немецких лагерях, так вся эта шваль после войны засела во всех кабинетах в советских и партийных органах и смотрела на нас, на бывших пленных, с издевкой и презрением. Я даже боялся написать письмо Лебедеву и Шубенку, опасаясь, что письмо товарища по плену может их "подставить", боялся искать Ткача и Беридзе, потому что знал, что я, "клейменный пленом", могу им навредить… Один раз на своем заводе я увидел человека, как две капли воды похожего на одного пленного, который в сорок первом году умирал на моих глазах в "Большом лагере", и я тогда подкармливал его кусочками хлеба, стараясь спасти его или хотя бы продлить ему жизнь. И я не решился подойти к этому человеку и спросить, был ли он в плену, в этом лагере, или нет…
Г.К. - Семьдесят лет прошло уже с сорок первого года. Как к немцам сейчас относитесь? Простили им все за давностью лет или нет?
А.Ф. - Я еще тогда немцам многое простил, поскольку среди них оказался человек по имени Фриц Хайденфельдер… В войну немцы не делились на "хороших и плохих", вся немецкая нация, с ног до самой макушки, запачкалась в крови невинных жертв, или запятнала себя поддержкой Гитлера и прочей нацистской и эсэсовской сволочи…
Простил ли я лично немцам, спрашиваете?...
Через два дня после того как я вернулся в Оршу с госпроверки, утром, когда все родные пошли на работу, а я остался дома (еще не успел встать на учет в военкомате и начать искать работу), вдруг в дверь постучали. Я открываю, стоят на пороге два пленных немца и просят хлеба - "Брот". Пленные немцы работали в Орше на восстановлении разрушенной железной дороги, и местное лагерное начальство разрешало расконвоированным немцам ходить по домам и просить кусок хлеба, как милостыню. Я отдал им полбуханки хлеба, весь хлеб, который был в доме, и сказал, кто я по национальности, и с какого света на днях домой вернулся.
Немцы начали наперебой говорить, что они не убивали евреев, не трогали пленных, и, вообще, не хотели служить Гитлеру, а потом один из них сказал: "Не давайте нам ничего, вы не должны нам помогать, после всего что вам пришлось пережить".
Но я просто представил себя на их месте… И мне их стало жаль…
| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |