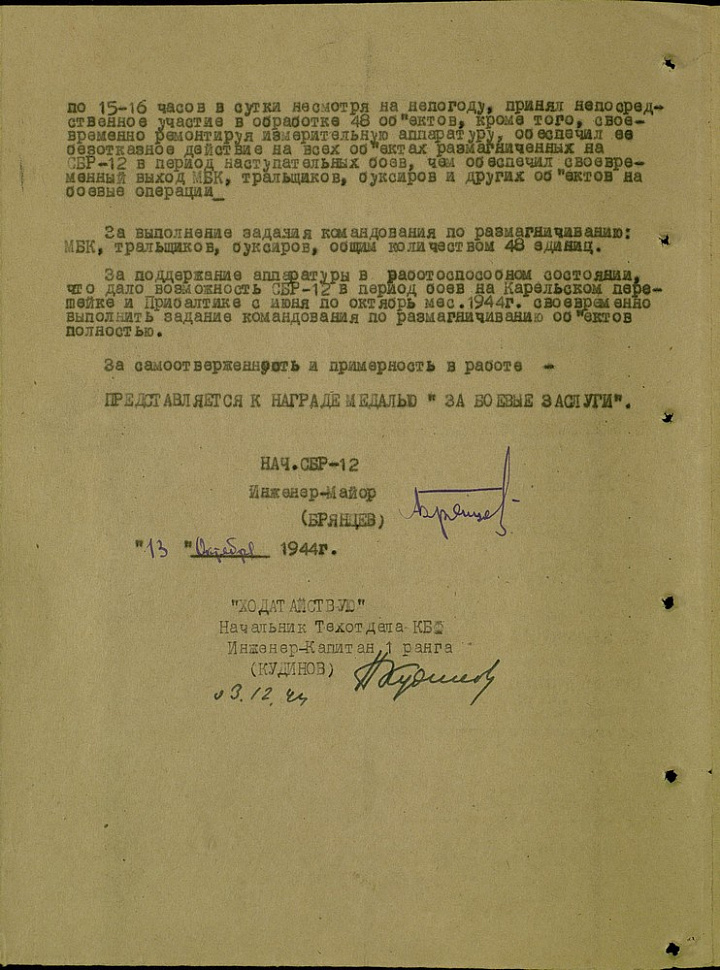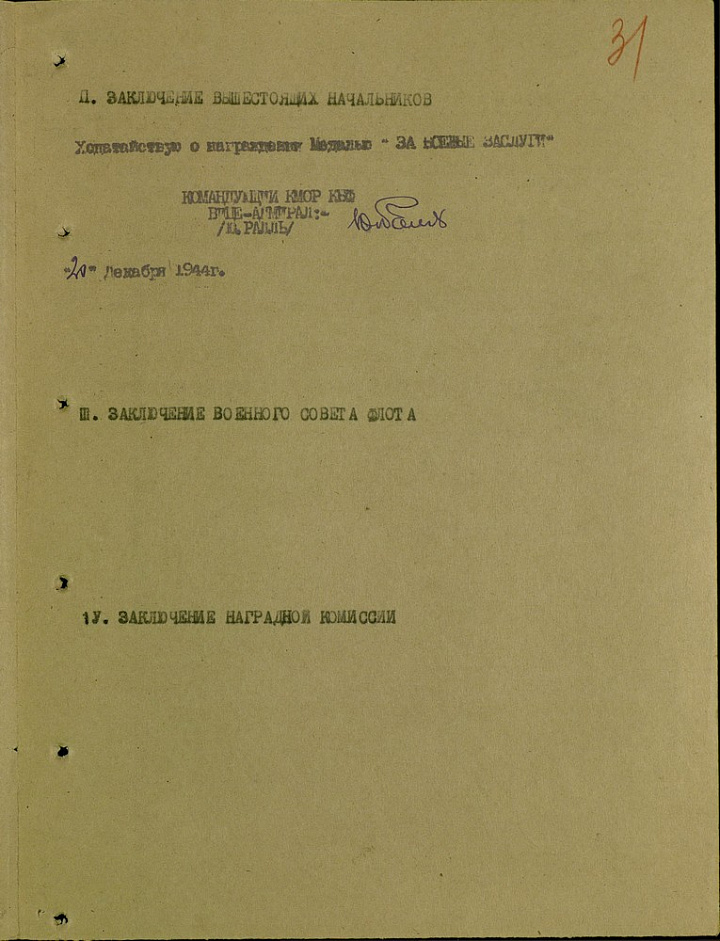Родился я 1 января 1923 года. На Ханко я попал следующим образом. В Ленинграде у нас не было своей площади, и мы скитались по стране. В Ленинграде у моего отца была тетя, и мы там на птичьих правах жили. Поэтому отец выискивал разные возможности - где бы давали квартиру, и где бы зарплата была повыше. И на Севере мы жили, и на Невдубстрое. И вот у отца появилась возможность, и он завербовался на Ханко в 1940 году, вольнонаемным, хотя он был командиром запаса. И вот они с моим младшим братом уехали туда, а его жена, приходившаяся нам с братом мачехой, осталась с больной матерью. А в сороковом году, в октябре месяце, и я к ним приехал туда. Помню, как на турбоэлектроходе "Молотов" я плыл, однотипном со "Сталиным". Прекрасный турбоэлектроход.
Мы там жили мужским союзом - у нас был домик финский, очень удобный для жилья, сад фруктовый, я помню, туда даже зайцы прибегали и кору обгладывали зимой. Я там учился в десятом классе, брат был в восьмом. И вот перед Новым 41-м годом отец подал заявление в кадры Военно-морского флота. Он в годы Гражданской войны был в Сибири командиром интернационального батальона, и одна шпала у него была. Его вызвали в Таллинн и он уехал, а мы с братом остались вдвоем. Надо было учиться и самим себя обслуживать - и готовить себе, и стирать, и дрова пилить - у нас с братом никого не было. Когда война началась, отца не было на Ханко.
Первый день 22 июня я помню хорошо. День был солнечный, ясный. Наш домик стоял на окраине Ханко у какой-то батареи, мы еще оттуда продукты получали. Я не знаю, что за батарея была - дальнобойная, что ли? У меня было назначено свидание с девушкой на 12 часов, а в час было объявлено о начале войны. Конечно, девушка не пришла. Это просто как факт, интересная подробность. И в шесть часов вечера был налет на Ханко немецких самолетов. Помню как сейчас - все небо в белых зонтиках разрывов. Пух! Пух! И слышу, шлеп! Шлеп! Осколки от снарядов зенитных падают. Я говорю Феде: "Пойдем в дом, не дай Бог, зашибет". Вот так этот день в памяти остался. И в то же день, сразу же, как была объявлена война, была эвакуация. В порту стоял турбоэлектроход "Сталин", грузили семьи военнослужащих. Помню, что и чемоданы летели в воду с трапа… Народ у нас такой, по-всякому бывало. И вот турбоэлектроход ушел. А что же нам делать? Я думаю так: надо будет брата отправить в Ленинград или в Таллинн, а самому остаться. Я в школе был секретарь комсомольской организации. Вообще мы патриотами росли, защита Родины действительно была священным долгом, не просто написано.
В деле отправкимладшего брата помогли знакомые отца, Щелмецкие. По-моему, это было шестого числа, корабли уже все ушли, какие были. Остался только плавучий кран. И вот на этом плавучем кране Федю эвакуировали - его и еще несколько человек. И кран ушел. Куда он ушел - я тогда не знал. Я остался один. Я пришел в отдел кадров 8й отдельной стрелковой бригады, и говорю: так и так, Я остался один, направьте меня служить. Меня направили в 821 подвижной полевой госпиталь - он стоял в лесу, их из города перевели быстро. А первого числа был первый бой, когда финны хотели захватить Ханко с ходу. Там грохотало. А Ханко - это полуостров, девятнадцать на двенадцать.
Мне объяснили, как идти, и я пошел. Я пришел туда по проселочной дорожке, доложил. Повели меня в каптерку, переодели, переобули - выдали армейскую форму, и началась моя жизнь в госпитале. В наряды ставили, стоял часовым. Один раз на ночное дежурство попал к раненым. Там был военфельдшер Ахмедов дежурным, а я был с ним, санитаром. Известное дело - подать, принести, попить, унести. Вот так всю ночь и пробегали. Раненые - кто спит, кто не спит, кому больно, кто кричит. Вот так продежурил. А потом меня определили в другое место. При этом госпитале были прикомандированы машины, на которых раненых возили. И их нужно было заправлять бензином, маслом, вести учет ГСМ. Меня и Володю Ласкина меня туда определили. Там была еще небольшая электростанция, нас туда еще посылали помогать. Вот в этом в основном моя служба на Ханко заключалась.
Потом в октябре уже мы ходили в патрули на побережье. Боялись, что финны высадятся на южном берегу, где мы находились. Еще такая деталь: тут недалеко от госпиталя стояла одна из веток ж.д. батарей, которой командовал Шперев, тогда он был старший лейтенант. Их задача была контрбатарейная борьба - когда начинали обстреливать аэродром, они должны были сразу же накрывать точки огневые. Они отстреляют и уедут, а финны сразу начинали бить по этой точке. И эти финские снаряды залетали к нам на территорию.
Жили мы в бараке летнем. Кровати были двухъярусные. Спали мы не раздеваясь, с винтовками рядом. На случай тревоги - все рядом. Что еще было там? Писал я письма в Ленинград.
Когда Таллинн взяли, отец попал в Кронштадт, и там служил. А брат мой, когда его кран повез, тоже в Кронштадт попал. В Ленинграде уже блокада была, но мы о ней ничего не знали. Я вел переписку с моей девушкой, какие-то слова цензура, может, и вычеркивала, сейчас не помню. Но о блокаде мы ничего не знали, абсолютно. Вспоминаю еще момент, когда мне нужно было зачем-то вернуться в город. И я помню, что когда я шел по улицам Ханко, у меня под ногами хрустели стекла. Еще помню, что когда брата собирал, думал, что ему дать с собой? Два чемодана, а чем их набить? Помню, дал ему белья с собой. А вся библиотека наша замечательная - отец любил собирать книги, и патефон с пластинками - все это осталось там.
Наступил день после первого июля, когда финны еще раз стали наступать. Мы были в курсе дела, как шли бои, у нас и комиссар был, и замполитрука. Маннергейм выпустил листовки, которые нам сбросили с самолета, в которой было "храбрые гангутцы, сдавайтесь, мы вам обеспечим хорошую жизнь и т. д." В политотделе при участии Михаила Дудина состряпали такое письмо, типа ответа запорожцев турецкому султану. Там с непристойными словами ответ был. Вот такая вещь. Газета выходила у нас, так что в этом отношении все было нормально у нас.
Когда Таллинн взяли, уже отпала необходимость в таком большом гарнизоне на Ханко. И обсуждали два варианта эвакуации - один через Финляндию, а второй морем. Через Финляндию - нужно было изготовить столько-то тысяч пар лыж. Ну хорошо, лыжи изготовят, а потом что? Идти через Финляндию, страну, где тебя каждый ненавидит? Это что же будет? Всех перебьют! Так что остался один вариант - морем. Но еще думали, что будем зимовать - землянки вырыли хорошие, в три наката. Но тут пришел приказ об эвакуации. Один батальон сняли в октябре, а нас в ноябре - в начале ноября пришел минзаг "Урал" и нас туда погрузили. Минзаг стоял на рейде. Там в порту мне запомнилось - все, что можно было грузить -грузили, а что можно топить - топили. И мне запомнилось, как они целый паровоз в воду загнали. Так что машины и прочее - это все мелочи.
Погрузить-то нас погрузили, а тральщиков нет. Без тральщиков идти - равносильно самоубийству. Там же мины были как клецки в супе. Нас снова выгрузили, мы вернулись в землянки, и мы там порядка трех недель ждали. Потом 22 ноября нас подняли по тревоге, мы опять в порт, на шлюпках погрузились, и 22 ноября в ночь ушли. На том же минзаге. Перед этим, после того, как взяли Таллинн, наши гарнизоны были на Даго, и на других островах - Их оттуда на катерах к нам эвакуировали, вместе с эстонцами мобилизованными. Я это знаю потому, что у нас в госпитале были девчонки эстонские - прибыли тоже. И позже, когда война уже кончилась, женились на этих девчонках наши.
Пришли на минзаг, погрузились в трюм. Там большое помещение для груов. мы вместе с ранеными туда. Трап идет, и один люк - вот и все сообщение с внешним миром. Идем, идем, ничего не видим, ничего не слышим. И на подходе к Гогланду - удар в борт, и еще что-то, как нам показалось. Раненые вообще народ мнительный, паника поднялась, они все к трапу кинулись. А я у самого борта, что я, их от люка оттаскивать буду? Думаю: "Будь что будет". А оказалось, что это мы мину параваном срезали, и еще бортом какую-то банку задели. Так что все обошлось, все успокоились. Подошли к Гогланду, и там мы стояли двое суток. Идти можно было только ночью - днем бы нас разбомбили мгновенно. На подходе к Кронштадту я стоял на палубе, охранял ящики с продовольствием. Нас немцы обстреляли из Петергофа, но слава Богу, не попали. И вот мы идем в город, надо входить в Неву. Я помню: громады зданий и темные глазницы окон. Темно, ничего не видно. Как будто это какой-то скелет, а не город. Потом рассвело, нас ввели в Неву, встали около моста лейтенанта Шмидта, у набережной Красного Флота. И тут меня встретил отец - представляете, какая радость? Вот так закончилась моя эпопея с Ханко.
Потом наш госпиталь поместили на Международном проспекте напротив Технологического института, там артиллерийское училище. Там еще какая-то часть была. Мы стояли в этом артиллерийском училище до марта, наверное. 8-ю бригаду переформировали в 163-ю стрелковую дивизию, командовал ей генерал Симоняк…Голодно было, страшно просто. Мы приехали, вроде бы не голодные, там питались нормально, не чувствовали никакого голода. 300 грамм хлеба. Ленинградцам прибавили, как только Дорогу Жизни открыли, и нам, солдатам, тоже 300 грамм. Вот эти триста грамм и два раза в день похлебка какая-то. И все. Утром давали этот хлеб - буханку делят на несколько частей, потом один отворачивается, и говорит, кому доля. Так что независимо получалось, кому чуть-чуть больше, кому чуть меньше. И что хочешь, то с этим хлебом и делай. Я делил эту пайку пополам - половину съедал утром, половину - вечером.
Спали мы на полу. Я с Володей Ласкиным спал - мой дружок, он меня постарше был на пару лет. Цыганистый парень такой был, уже проживший трудовую жизнь. Зубы у него плохие были, но он такой был, неунывающий. Как спали? Плащ-палатка на пол, шинель, под головы противогазы, на себя вторую плащ-палатку, и вторую шинель. Так и спали. А когда нас привезли, нас сразу же отправили в Александро-Невскую Лавру, где был пункт по дезинфекции. Там мы проходили процедуры, и одежду пропарили. Но поскольку спали мы на полу и голодали изрядно, завелись у нас вши. Обовшивели все. Вши эти несчастные были у нас месяца два, наверное, пока нас в Парголово не перевели. Помню один момент хорошо - в баню нас повели, еще баня работала, это был конец декабря вроде бы. Баня на какой-то Красноармейской была. Зал здоровый, лампочек несколько висит. И нам говорят: вы здесь мойтесь, а там, в том углу, моются женщины, туда не смотреть и не ходить! А мы ребята тогда еще здоровые были. Ну что, ничего не поделаешь. Помылись и ушли. Еще помню - довелось мне на хлебозавод ездить с еще одним парнишкой. Поехали ночью, погрузились. А там пахнет все-таки хлебом, хотя хлеб, конечно, не такой как сейчас - там чего только не было намешано, только соломы не было. Думали: "вот сейчас поедим там хлебушка!" И что вы думаете? Как приехали, так и уехали. Только понюхали и все. Очень строго было с хлебом. Мы тоже стояли в нарядах, машину охраняли. Холодно, декабрь уже! Как одевались? Ватные штаны, телогрейки, потом полушубок, потом тулуп, валенки, и винтовка - как Дед Мороз, бродишь туда-сюда. И все мысли - только о том, как бы и чего поесть. Видения всякие были - колбасы, окорока.
Как-то раз поехал я к своим - к мачехе и брату, я его и не видел с того момента, как он с Ханко приехал. Они жили в Удельной, в двухэтажном доме деревянном - никаких удобств там не было - ни водопровода, ничего. Тогда трамваи еще вроде ходили. У меня в вещмешке была буханка хлеба, тушенка, сгущенка. Приехал я туда, мы с братом обнялись - Господи! И подумалось: "Боже мой, в последний раз вижу" Вот такое предчувствие было. Потом отец приехал. У нас был пир. А брат перед этим лежал в больнице. Боже мой. А что в больнице - отваром макаронным его кормили, вот и все. Худющий. Они еще карточки потеряли - только отец их вытащил. Потом я ушел - надо было в госпиталь возвращаться. А мачеха моя с младшим братом эвакуировались по Дороге Жизни и уехали на Северный Кавказ, в Армавир. И там мой брат, которому было шестнадцать лет, простудился. И скончался в шестнадцать лет. Это все блокада подорвала. Вот так не стало у меня брата. Я об этом узнал только в марте, когда мы уже в Парголово переехали. Дивизия и госпиталь. Там та же самая жизнь началась с чего? Приехали, в Парголово вдоль дороги три или два дома стоят деревянные, и нам их отдали. Первым делом вынесли оттуда покойников. А девушки грели воду и шпарили все помещения - полы, потолки. Хоронить их было некуда, земля промерзшая, и мы их просто складывали в лесу, пока земля не оттаяла. Опять наряды, наряды пошли. Дивизия тогда почти не воевала, финны не шли дальше. До Сестры дошли, и остановились. Не хотели или не могли - не знаю. Но много больных у нас было очень, я помню.
К лету мы помогали сестрам стирать бинты и скручивать, после обработки. А так наряды только были - охрана объектов и складов. И как-то раз я помню я стоял звездной ночью в наряде и видел налет самолетов на Ленинград. Как это было страшно! Все гудит, горит. Переживал очень. Молодой, а переживал. Что еще запомнилось? У нас один солдат, шофер Висина, украинец, стоял на посту у продсклада. И черт его угораздил туда залезть, не совладал с собой. Он там взял хлеб, масло, сгущенку, тушенку… Потом это все открылось. А время было жестокое - трибунал, и нас всех свободных от нарядов собрали на поляне, в два ряда выстроили. Выкопана была уже могила. Пришел командир батальона, комиссар, привели этого Висину, "особняк" был. Зачитали приговор трибунала: за то-то и то-то - к расстрелу. Особняк достал пистолет, приставил ему к затылку - раз! Потом он упал, и особняк ему еще в голову - два! Вот так кончилась его жизнь - за буханку хлеба…
Стояли мы там не так долго, это 23я Армия была. Потом нас перекинули на левый берег Невы. Это был август-сентябрь 42 года, у реки Усть-Тосно. Это была операция - по прорыву или не по прорыву, их же несколько было, этих попыток. Тут медсанбату предстояла большая работа, потому что когда начались бои, раненых было очень много. Очень много. Машины приходили буквально одна за одной. Нам нужно было с носилками их разгружать, нести в сортировочную к сестрам. Но комиссар у нас оказался все-таки ничего мужик, так будем говорить. Он видит, что мы уже все на пределе, подзывает в свою палатку: "Ребята, идите сюда" Мы вошли, как сейчас помню - там стол, чайник, чашки какие-то. Он говорит: "ребята, выпейте, закусите, вам полегче будет". Там у него не то водка, не то спирт был, и бутерброды. Мы выпили, съели, и дальше пошли работать. Как допинг такой был для нас, хороший. Так вот он поддержал нас. Но раненых было очень много. Что еще? Война войной, а жизнь жизнью. Там же молодые ребята, молодые девчонки, ну вы же понимаете. Там на пригорке был навес такой сделан, и сено в нем лежало. И под вечерок туда парнишки с девчонками забирались. А комиссар не дремал. Он с палкой ходил - прихрамывал немного, и палкой им грозил: "А ну вылезайте оттуда, черти! Вон!" В нашей медсанбате было много еще девчонок из Красного Креста, худющих таких, обглоданных, можно сказать. Одна из этих девчонок патефон с собой привезла. И танцы устроила! Мы раз потанцевали - ну чего в этом такого, господи? А второй раз комиссар запретил: "Вы что это тут? Война идет, а вы тут танцы-шманцы?" Но хоть раз потанцевали. А я танцевал неплохо, и одна девчонка на меня там неровно дышала. Ну да ладно, это все прошло.
В Усть-Тосненской операции наш полк 342й (на Ханко он был 219й) весь расколотили. Меня после этой операции откомандировали в комендантский взвод при штабе дивизии, и я с медсанбатом распрощался. После медсанбата комендантский взвод - это типа как хозвзвод - обеспечение штаба дивизии. Охрана, дрова и чтобы все, чтобы было готово. Вот такая служба. Помню, что перед прорывом блокады мы стояли в Новосаратовской колонии. Надо топить печи, а дров нет! Поэтому вылавливали из Невы бревна, а они как каменные! Двое точили пилу, а остальные пилили.
В этом взводе я прослужил примерно до апреля 1943 года. Непосредственного участия в прорыве блокады мы не предпринимали. Но однажды командный пункт Симоняка оказался в опасности. Когда немцы выходили из Шлиссельбурга и нас посадили на машину, и мы отправились на охрану этого КП. Один пулемет у нас был, заняли круговую оборну Когда немцы пошли, мы по ним огонь открыли, но они скорее сами удирали тогда, так что не стали атаковать. Вот это был единственный пожалуй случай. Правда, командира взвода наградили орденом Красной Звезды, а пулеметчику дали медаль "За Отвагу". После этого, в апреле меня перевели в 192й гвардейский стрелковый полк в третью роту автоматчиков.
Там я попал во взвод старшего сержанта Лисицкого, а командиром роты был лейтенант Караулов. И в составе этой роты я принимал участие в боях под деревней Арбузово - это бывший Невский Пятачок. Полоса по берегу была наша, а 8я ГРЭС была у немцев, и нам нужно было взять это Арбузово. Интересно, что до войны, в 1933 году я с отцом жил как раз в этих местах, на Невдубстрое, 8я ГРЭС. Там были бетонные корпуса, а за ними деревянные - и там мы жили. И десять лет спустя мне пришлось в тех же местах воевать. А там же торфяники, болота. Мы с братом там ходили морошку собирать - ляжешь, наешься ягоды и смотришь небо. А тут такой контраст. Тут же не морошка, а бомбы и прочее.
Наступление начиналось 22 июля, до этого мы были в резерве, строили гати в болоте для сорокапяток. Ночью строили, щиты эти носили. И помню такой момент: там было поле, наши тут, а немцы в двухстах метрах, и туман стоит. Ракеты осветительные немцы пускают - как только одна погаснет, сразу вторая взлетает. Тишина стоит предрассветная. И вдруг стон такой: "помогите! Помогите!" Все боятся туда лезть. А стон приближается - человек полз. И приполз - белый, как бумага. Там рота штрафников проводила разведку боем. Ему ногу оторвало миной, не знаю, как он с ней справился - ремнем перетянул, наверное. И первыми словами его были: "Дайте закурить, ребята!". Не знаю, что с ним было дальше. Нас отвели.
А когда началась артподготовка, мы были в роли наблюдателей, потому что стояли в резерве. И мы видели, как Катюши по ним заканчивали. Потом были еще другие, одиночного огня, толстые, другого калибра - как поросенок летел один, прямо с упаковочным ящиком. Когда Катюши били, мы видели, как далеко-далеко клубы дыма и что только там не взлетало. Вот такое зрелище было. И вечером мы сменили одну из наших частей на передке. Идем по траншеям, куда идем? Непонятно, темно уже. Потом утром разобрались. Привели нас, перед нами лесок редкий, насыпь - копать окопы там невозможно, вода. И немцы пошли в атаку. Причем сначала они выпустили гранатометчиков - у них гранаты на длинной палке были. У них здоровые ребята были - видно было, близко, людей разглядеть можно. Но у нас взвод автоматчиков, у всех автоматы, два Максима - огонь открыли такой, что ни одна граната до нас не долетела.
Перед боями меня избрали комсоргом роты и назначили связным командира роты, но я свои обязанности не выполнял. Не знаю, почему так получилось, но я все равно был рядовым, как все. И меня послали во фланговое охранение роты. Там траншеи вырыты, натыканы дощечки, и на них "Минен!" готическим шрифтом. Значит, с фланга у нас все спокойно, надо фронт охранять. А там на пригорке стоял танк подбитый немецкий. И как только начинало смеркаться, немецкие танкисты к нему подползали и начинали стрелять по этой траншее. В первый вечер ничего не случилось. Напарник у меня был Володя Ульмахер, как сейчас помню. Еврейчик, но уже два раза раненый. Снайпер. Снайперская винтовка и автомат у него были. Мы в стенках траншеи углубления сделали, чтобы хоть как-то туда втиснуться. Ночью сна никакого не было. Один стоя, почти без сна. И на следующий день под вечер опять начали стрелять эти танкисты из своей пушки. И теперь уже точно по нас. Потому что сначала недолет, потом перелет, а потом бац! Огонь, песок летит. Траншея была песчаная. Я глаза протираю - слава Богу, не задело. Смотрю: а где Володька? Нет его. Винтовка стоит, а его нет. Разнесло его, прямое попадание. Потом пришли сменять нас, я его винтовку взял, донес. А перед этим я еще зашел под навес, где раненые ждали эвакуации. Там было человек пять-шесть раненых. И через полчаса туда мина попала. Представляете? Во второй раз я остался живой. Еще помню, пить страшно хотелось, это июль месяц, жара! Водка - сколько хочешь, у меня фляга была целая! Но водку я не пил, отдавал ребятам. А пить страшно хочется. Шли по дороге, лужа с водой, и рядом немец убитый лежит. И чтобы воды выпить, надо было на него облокотиться. Так и пришлось сделать, хоть немножко этой воды попить. А какая это была вода? Но тогда молодые были, все как через фильтр проходило.
Мы трое суток были на этом участке, как нам говорили - под Мгу. Вывели нас на Арбузово, и дали нам поспать. Там в исходном районе для наступления было несколько землянок, мы туда забрались, и как провалились. Рядом стояла батарея минометов 120 мм, они как пушки стреляют. Ничего не слышали. Потом нас буквально за ноги вытаскивали сержанты: "хватит спать! Все!" И в это время пролетел самолет, типа У-2, и листовки сбросил. Самолет вроде наш был, так как по нему никто не стрелял. Листовки падают как снег. Я тоже одну взял почитать. Там портрет, генерал-лейтенант в очках - оказывается, это был Власов, и написано: "Гвардейцы! Переходите на нашу сторону, в Освободительную Армию, будем вместе бить врага". И тут же пропуск. Но тут же появились замполиты, и у кого были, отобрали эти листовки. Я хотел одну оставить для памяти, но никак не получилось. Кто бы пошел, я не знаю. Я не пошел бы к Власову в любом случае. А для истории сохранить хотелось.
Перебросили нас на берег к Арбузово, и мне говорят: "утром пойдешь в разведку с лейтенантом" Я, еще один боец, и младший лейтенант. Утро, рано, тишина. Птички чирикают - какая тут война?? Даже не подумаешь, что война. Мы собрались втроем и пошли. Там была траншея вдоль Невы, и дальше нейтральная полоса. На ней еще одна траншея. Идем, проходим передовое охранение. Там лежат ребята за бронещитками - тогда впервые в нашей дивизии бронещитки опробовали. Ну, говорят, ни пуха. Ответили: "к черту" и пошли. А там ход сообщения к немецким траншеям, и мы идем по нему. По нему нельзя было идти в полный рост, только согнувшись. Дымком потянуло - немецкие повара проснулись. Я сначала даже не знал, что нам нужно в разведке делать. Нужно было просто побросать в немцев гранаты. Мы и покидали гранаты. Тут что началось! Такой грохот поднялся! Пушки, минометы, а эта траншея пристреляна! Ну, что нам делать? Мы вроде все сделали, что надо было. Наверное, мы мировой рекорд поставили по бегу. Когда от смерти бежишь, не думаешь об этом. Добежали до нашей траншеи, обернулись - а лейтенанта нет. Что делать? А там грохочет! Так и ушли мы без него. Доложили командиру. А в 12 часов дня пошли в атаку. Перед этим увидел комсорга батальона в траншее, он был с белой повязкой на голове. Говорит: "Варгин! Ты еще жив?" Вот такие потери были.
Поднялись в атаку на это Арбузово. Я гранату бросал в немца, а тот в меня из пистолета. В общем, ранил он меня. Течет кровь, руку он мне прострелил. Так обычно шли в атаку пригибаясь, а как меня ранило, я пошел обратно в полный рост, не прячась. Медсестра меня перевязала, говорит: "ну ты сам дойдешь, там у ГЭС полянка, и там медсанбат". Я и пошел. Иду, день, каска у меня на голове, жарко уже. Дохожу до перекрестка, и тут начал Ишак работать - вжжжж, вжжжж. А мне так до этого хотелось каску снять, но что-то удерживало. Бац, бац, бац! Разрывы пошли, и мне осколок по каске - щелк! Но не пробил, по касательной пошел. Снял бы каску - не знаю, был ли бы этот разговор сейчас.
Дошел до медсанбата, а там девчонки: "Да это же наш!" Не забыли. Перевязали, отправили в Ленинград. Потом в госпитале был.
После ранения я служил на флоте. Перебрался я в первый балтийский флотский экипаж. Когда распределяли, попал я на СКР-12, на службу размагничивания кораблей. Войну закончил в Таллинне.
Интервью с Варгиным В.Н., подготовленное другими авторами
|
Интервью: Баир Иринчеев |