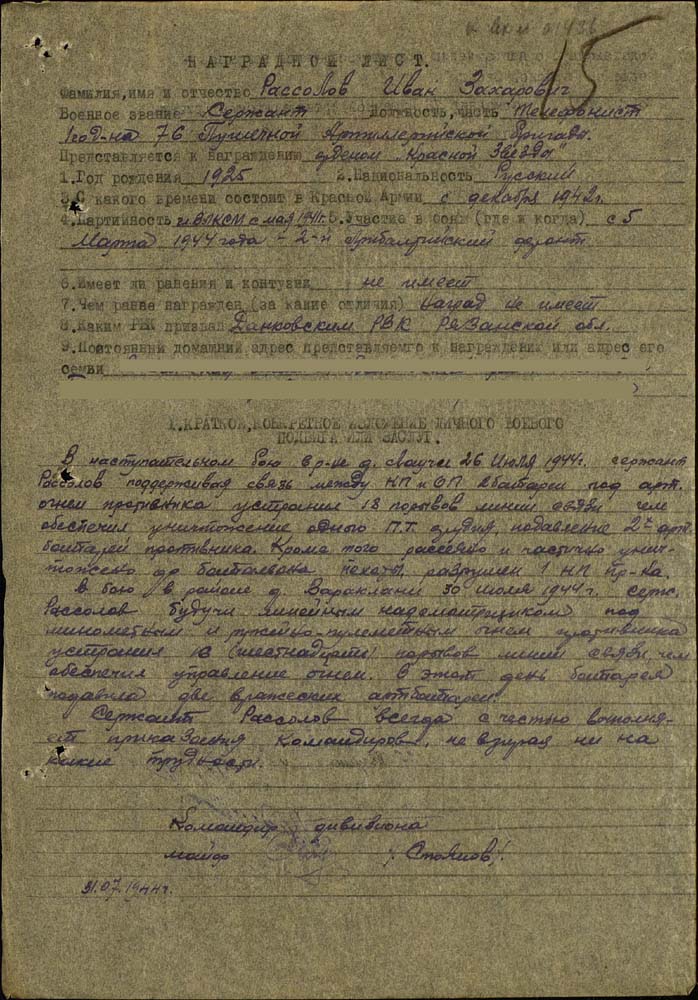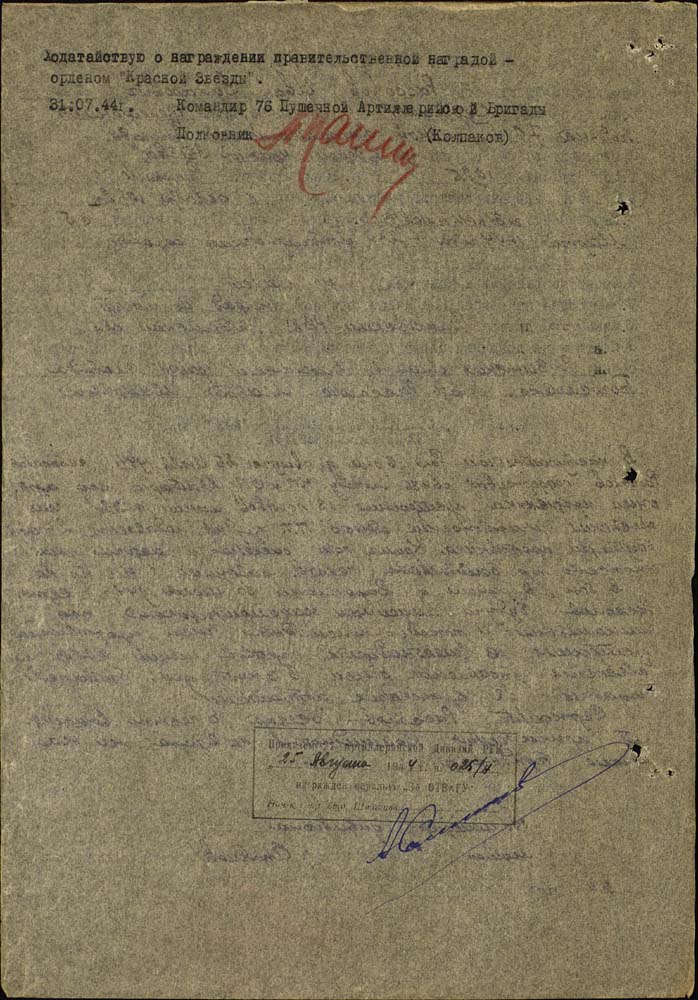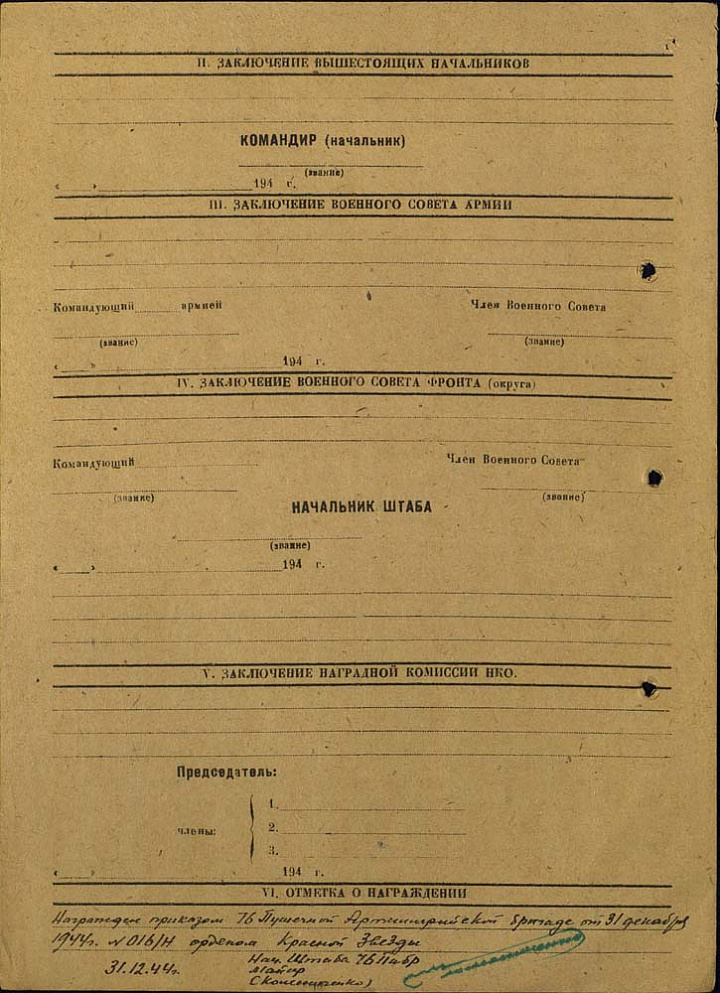Родился 23 июля 1925 года в слободе Богословка Данковского района Воронежской (ныне — Липецкой) области. В декабре 1942 года был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке помощником командира взвода в артиллерийском полку. В марте 1943 года попал на фронт. Воевал разведчиком, командиром взвода, связистом в составе 76-й пушечной артиллерийской бригады 27-й артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования (10-я гвардейская Армия, Северо-Западный, 2-й Прибалтийский, Ленинградский фронты). В 1950 году демобилизовался.
Награды: Орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
- Во время войны у меня, значит, такая история получилась. Сначала был Северо-Западный фронт, на котором я воевал. Потом я воевал на 2-м Прибалтийском фронте, который в основном проходил через Калининскую область, Великие Луки, - вот там были какие-то районы, через которые мы проходили. Вот мы были, например, в Первомайском районе. Я сейчас уже и не помню, где именно там мы проходили. После войны, помню, мы, ветераны, посещали эти места. Нас вышла встречать одна комсомолка, блондинка. Смотрю: она держит скатерть, а на ней - хлеб с солью. «Кто-нибудь есть, который здесь были в колхозе — секретарь парторганизации или кто там?» - спрашиваю, помню, я ее. «Да, - говорят мне.. А что?» Я говорю: «Где? Покажите.» Мне показали на старушку, которая там сидела. Я говорю: «Вот и передайте хлеб-соль.» Понимаете, шли ветераны не просто так в этот район, а вспоминать былые времена. И вот эта старушка видела, сколько нас погибло там, и она имела большее к этим событиям отношение. И она взяла хлеб с солью и говорит нам: «Здравствуйте, дорогие! Ой, я не знаю, что сказать. Мне приятно вас видеть.» Она говорила просто, без всяких прелестей. Но она, как говориться, видела наши действия: знала, сколько там нас погибло. А это было дело весной. Поля были окровавлены. И потом закончили мы боевые действия в Латвии. У меня, значит, так было. Я воевал разведчиком, потом - связистом. После войны я писал историю нашей дивизии, про ребят, которые в ней воевали. Командовал дивизией генерал-майор артиллерии Харламов. У меня сохранились письма, которые писал мне генерал Харламов. Потом жена его, вдова, писала. Она здесь была у меня и отдыхала, когда я жил в Тойла. Награжден я был за боевые действия во время войны медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Вот орден Отечественной войны — это послевоенная награда, его после войны уже всем участникам войны вручали. А я был, как уже сказал, в связи, был в разведке. Есть фотография, которую подписывал мне генерал Харламов. Она находилась в городе Краснокамске, в пионерской дружине имени Харламова. Там он писал на своей фотокарточке: «Отважному разведчику, верному боевому другу Ивану Захаровичу Рассолову от генерала Харламова.» И подпись стояла. Но ведь я не сразу попал на фронт. Меня сначала, как призвали в армию, направили на Дальний Восток, а уже оттуда я был направлен на передовую.
- Иван Захарович, я думаю, что о вашем фронтовом пути мы еще поговорим. Но для начала расскажите о том, откуда вы родом, где родились, и так далее.
- Место рождения у меня так звучит: город Данков, Липецкая область. Но сперва это Воронежская была область. Во время войны числился наш город в Рязанской области. А сейчас город Данков в составе Липецкой области находится. Это — южнее Москвы. Отец у меня был в Империалистическую войну, как она называлась. Он был там, на этой войне, бомбардиром-наводчиком миномета. Он умер в 1944 году в возрасте 73 лет. Он не воевал в Великой Отечественной войне по возрасту. Ну мать домохозяйкой была. Нас было восемь человек детей у нее: четыре сына, четыре дочери. Из сыновей, значит, так было. Я — самый младший: родился в 1925 году. Был второй брат, который потом, во время войны, под городом Белостоком погиб. Но на самом деле пропал без вести он. А Николай я не знаю, воевал он в каком месте, это — старший брат. И был еще старше меня брат Петр, вот тот, который, значит, пропал без вести. Я писал во Псковский архив. Мне ответили: «Сведений нигде нет.» Я знаю, что его призвали в армию, но с другого района. Его девушка после войны обращалась ко мне, чтоб я нашел могилу. Я снова писал. Но все бесполезно было. Ну вот так мы, значит, и жили. Отец мой все время сельским хозяйством занимался. Был он крестьянин. А мать домохозяйка была: потому что шесть детей было у нее на руках. Дом был такой у нас, значит. Одна половина дома была кирпичная, вторая — так с бревен сделана. Был коридор, который у крестьян сенями назывался. Крыша была соломенная.
Но ясно дело, какая в деревне в то время была жизнь. Ну сарай большой был из камня у нас. Корова была, лошадь была. Ну вот и потом, кроме этого, две овечки было, по-моему, тогда у нас. Ну а потом, когда колхозы пошли, старший брат тогда в колхоз не пошел. Второй брат, которого Петром-то звали, в колхоз записался, а меня заставил работать, потому что кушать надо было что-то, и он работал в каменном карьере. Вот этот брат второй, и передо мной который постарше был, - вот эти два моих брата и были. Я очень их любил, это трудолюбивые, честные люди были. Хотя у старшего брата манеры такие странные были. Помогал он пасти соседу быка колхозного и носил его за канат. Но все равно что-то не то было у нас с ним. У него были свои взгляды на жизнь, которые не совпадали с нашими.
- А как коллективизации относились?
- Ну я должен был учиться в школе, а я ходил в колхоз и там работал. Значит, там по сельскому хозяйству помогал там. Но там, в колхозе, как к нам относились? Там было так: хочешь — не хочешь, а все равно относиться будешь к колхозу. Вопрос в том, что в колхозе не будут спрашивать: почему ты не работаешь? Там будут требовать с тебя того, что ты должен работать. Там такая вещь у нас получилась, что брат работал смазчиком, потом помощником машиниста, а после и механиком работал.
- А раскулачивание у вас проводилось?
- А нас не кулачили, потому что у нас ничего не было такого, за что нас можно было бы раскулачить, так как мы к беднякам относились. А так-то кулачили людей. Я их фамилии забыл уже, этих раскулаченных-то. А нас, значит, кулачить нечего было. Наоборот, нашей семье помогали: так называемые местные сельсоветы нам помогали. Как это было? К примеру, перед войной меня направили в ремесленное училище в Москву учиться. А так как нам еще помогали эти сельсоветы? Мне, допустим, когда меня учиться в Москву направляли, давали обувь и одежду. Так что о коллективизации могу сказать следующее: то время что было, то и было. Нельзя сказать, что там, в колхозах, значит, относились как-то не так. А потом, когда война началась в 1941 году, я находился в Москве тогда. Мы тушили тогда на крышах зажигательные бомбы, которые немцы тогда сбрасывали. Там же такая вещь, например, была. Были на крышах домов специальные длинные клещи, и была бочка с водой. И мы ч помощью этого зажигательные бомбы как раз и тушили. Мы боялись этих бомб. Ведь немец когда бросал бомбы зажигательные, это все горело. И это надо было схватить и в воду бросить. Но я две штуки за свою жизнь утопил тогда в воде с бочкой. А так они прожигали и, значит, все на крышах, и из-за этого пожар получался. Тогда прорвалось, по-моему, в Москву в июле месяце 18-22 немецких самолета где-то. А были эти аэростаты, которые надувались воздухом. Они нас охраняли, чтоб на нас не наступали так немцы.
А потом, тогда же, я заболел и поехал на родину. Приехал на родину к себе, значит. Но сначала я в больнице лежал. Я лежал в Москве в Красносельской больнице, место это называлось Сокольники. Ну там железная дорога была занята что-то, как сейчас помню. Так что я по болезни эвакуировался. А потом, значит, прибыл в город Челябинск. И там получилась такая вещь. Ко мне один тип привязался, что у меня нет документов. А я ж подросток был. Но все обошлось. Был такой майор Дронов — начальник всеобуча. Он был раньше где-то в кавалерии. А в кавалерии команды так подавались: «Мерным шагом маа-ааааарш!» А меня, когда я в Челябинск прибыл, направили оттуда ближе к Смоленску: поскольку немец туда наступал, нас отправили туда рыть окопы. Там давали нам немножко муки. Говорили: «Сами варите.» А где мне было варить, если я был больной? И когда он прибыл туда, этот майор Дронов посмотрел на меня так и спросил: «Вы откуда?» Я ему объяснил, что да и как. Ну и он тогда сказал своим, значит: «Вы что, человека хотите угробить? Нельзя этого делать. У него не то что документов. Видно, в каком он состоянии. Так что я его отсюда от вас забираю.» Ну оттуда взял он меня и направил меня тогда в Данковскую школу механиков. Я кончал ее по профилю комбайнера-тракториста. А после у него был назначен помощником командира взвода всеобуча. Так что помогал я вот этому майору Дронову, значит. Там у него на всеобуче собиралось со всего нашего города сколько-то людей. То есть, было так, что не то что я там был один. Он организовывал подготовку там людей для фронта.
- А ваши обязанности какими были как у помощника командира взвода?
- Какие мои обязанности были как у помощника командира взвода? Ну занятия проходили, значит, так. Допустим, был командир отделения, а был помощник этого командира взвода. Он, к примеру, противогазы должен был подготовить. Ну у нас все как по-настоящему там проходило. Моя задача была такая: чтобы всем все были обеспечены. А сам, значит, командир взвода проводил тогда уже все свои занятия на всем готовом.
- Долго работали?
- Ну а там потом после получилась такая вещь, что проработал я до декабря месяца в совхозе. «Данковский сын», - так назывался этот колхоз. Проработал там, значит, я сколько-то на тракторе, потом работал на комбайне. А там в сокхозе, помню, была девушка такая — Некрасова Валя, которую директор совхоза не хотел принимать в комсомол. А я был там секретарем комсомольской организации в этом совхозе. А директор вот почему ее не принимал. Там получилось так, что дождь пошел. Она в батистовой кофточке была. Куда она стала бы работать-то так? Там надо снопы было бросать в приемную камеру. Она под дождь попала. А знаете, повторюсь, каково работать в батистовой кофточке? Я ей сказал: «Уходи в контору. Нечего тут тебе делать.» И она ушла. И вот, значит, так это дело представили: некомсомольский поступок, она не достойна быть принятой в комсомол за это. Давидов был такой, - тот, который не хотел ее принимать. Но ее приняли все же в комсомол. Я все равно настоял на этом, сказал: «Надо предупреждать!» У меня было так, что правдивость я всегда старался защищать. Я ее защитил, и ее приняли. А перед этим она кассиром работала. И познакомился я с ней так. Приехал, значит, я получать зарплату. Но у меня же как было? Я тогда комбайн тащил на тракторе. То есть, получалось, что трактор-то работает, а я тащу комбайн: потому что я по участкам иду с комбайном. Ведь в совхозе я был и комбайнер, и тракторист. А эта Валя сидела с подругой и чем-то просто болтала. Я им и говорю: «Вы знаете, отпустите меня, а потом уж говорите, сколько вам влезет. Вы видите: там работает машина.» Она, эта Валя, сказала еще мне тогда: «Во, гроза совхозная появилась.» Так вот, когда ее должны были в комсомольскую организацию принимать, она думала, что я буду против того выступать, чтоб ее принимали. А когда начало все это обсуждаться, то я, наоборот, настоял, чтоб ее приняли в комсомол. И проголосовали все всё равно большинством, чтоб ее приняли. И мы когда пошли после этого вместе, она мне и сказала: «А почему так-то? Мы же тогда поссорились.» Я говорю: «Ты не путай одно с другим. Мы пошли не то что чем попало заниматься, а принимать в комсомол. А тогда я повел себя так, потому что вы обязаны отпустить меня и тогда разговаривать.» Мы с ней после этого случая подружились. После она меня провожала так на фронт. Причем, что характерно, там одежду брали, но не возвращали... И получилась такая вещь. Я был одет в самую худшую одежду. Почему? Потому что одежду не возвращали, и она бы не подошла. Проводила она, значит, меня. И кончилось тем, что она часто писала мне письма. Меня направили сначала не на фронт, а на Дальний Восток: в 1120-й был артиллерийский полк.
- Немного прерву вас. Как воспринимали поражения Красной Армии в 1941 году, еще до призыва в армию?
- Видите ли, вопрос какой? Временами были сомнения. В смысле какие сомнения? Были сомнения такого содержания: что такую территорию захватил, все важные учреждения промышленности так захватил. Когда я ехал по Сибири, она голая была. Потому что я ехал с Дальнего Востока, зная, что такое Сибирь. Но одно, Илья скажу: как-то я ссылался в своих мыслях на то, что когда-то и Кутузов сдавал Москву. Вот тоже думал: сдаст ли Сталин Москву или нет немецкому командованию?
- А вы добровольцем в армию отправились?
- Да, добровольцем. Но если бы я бы и не отправился, потом, через несколько месяцев, меня бы все равно призвали в армию. А я пошел добровольцем в армию. На меня бронь была. Но меня все равно призвали. Потом прошло какое-то время. Я в армии часто стал получать письма от Вали. А моим командиром был один нацмен, капитан. Он увидел, что я письма постоянно получаю, и мне на это и говорит: «Как так? Зачем так? Один и тот же почерк, один и тот же адрес? И так часто письма? Что, сорока на хвосте приносит?» А это же Валя все мне писала. Где бы я не находился, так всюду приходили письма. Я ему объяснял: «Хорошую девушку надо беречь.» А потом прошло какое-то время, года полтора, и она умерла. А к концу 1943 года я уже на фронт, кстати, попал. Но там вот еще какая вещь получилась. Я писал рапорт, чтобы меня на фронт направили. А ведь я служил на Дальнем Востоке, где японцы всякие дела делали. Меня тогда вызвали в КГБ и стали там мне говорить о том, что я пытаюсь оголить дальневосточную границу. Вы понимаете, какие у людей были замашки: чтобы где-нибудь кого-нибудь найти и обвинить? Я объяснил тогда: у меня ни дедушка, ни бабушка контрреволюцией не занимались, можете меня не пугать. Но факт остается фактом: такой вот, значит, разговор у меня был особистом. Миронов тогда был командиром полка. Я ему объяснил всю ситуацию. Он мне тогда сказал: «Если ты действительно так хочешь попасть на фронт...» Я говорю ему: «Видите, в чем дело. Может, я увижу отца. Он у меня больной. Может, меня отпустят, и я как-нибудь увижу...» И так я попал на фронт. А тот особист, может быть, меня запугать хотел.
Кстати, в отношении Вали вот что еще хотелось бы сказать. Валя — это первая моя любовь, которая меня провожала и которую, как помните, принимали в комсомол тогда. И вот тоже ведь как не везет! Она тоже умерла, как и моя жена. Причем я получал письма. Потом смотрю: нет-нет-нет. И вот ее подруга Лида, бухгалтером которая работала, написала, это было на фронте, во время войны: «Ванюша, милый, извини, но я не могла выдержать и часть писем я прочла. Без слез я не могла. Но Валя-то умерла.» И когда кончилась война, я поехал туда, на кладбище ездил, был на могиле этой Вали. Но там у меня родственники на кладбище были похоронены. А было у нее двустороннее воспаление легких. Эту историю нашей любви можно описывать. Понимаете, были в моей жизни приключения всякие разные: и хорошие, и плохое, все было. Ну и получилось так, что в первый раз, когда ее провожал, я ее поцеловал в губы. А так мы как дети бегали. Мне все хотелось к ней прислониться, но боялся, что могу как-то ее обидеть. А когда я ее провожал, я сказал: «Валя, можно я тебя поцелую?» «Придем в вагон, - сказала она мне, - я тебя сама поцелую.» И поцеловала. А другие рядом шли курсанты. Мы были сфотографированы. Четыре мы порвали фото, а по одной мы оставили себе. Она написала на моем фото: «Нас может разлучить только смерть. Валя.» Я написал: «Ваня.» И если бы фотокарточки сохранились! И получилось так. Когда приехал, узнал, что, оказывается, Валя свое слово сдержала до последнего вздоха. Когда она чувствовала, что при смерти, было вот какое-то совпадение! Вот с этой Валей и с этой Женей, с моей женщиной, которая умерла здесь в Кохтла-Ярве. И когда ей плохо сделалось, этой Вале-то, она и говорит: «Мама! В сумочке фото, я с Ваней сфотографирована. Положи пожалуйста в гроб это фото.» Мать только провозгласила: «Не говори глупости. Какой гроб, когда ты должна жить и жить?» Последний вздох. Когда я приехал, Клара, которая с ней дружила, рассказывала. Говорила, переживала, что так у меня. Причем что характерно, когда мы прощались, я ей сказал: «Валя, я еду не на прогулку!» Она мне только ответила: «Если ты приедешь с руками, с ногами, чтоб с тобой не было, только сохрани руки, ноги и голову, я всегда твоя. Но если приедешь так без рук, без ног, пойми, голубчик, мне трудно тебя бросить, но я не смогу так быть счастлива.» Что характерно: она не врала. А зачем парень ей без ног был нужен?
- А кем на Дальнем Востоке служили? Что представляла из себя там ваша служба?
- Я там тоже был помощником командира взвода. Мне сержанта присвоили. Служба проходила так у меня. Там были пехотинцы, а я был в артиллерийском полку. Ко мне как помощнику командиру взвода прислали одних узбеков. По-русски они плохо понимали. Понимаете? Это зимой дело было, потому что меня призвали-то в декабре, а декабрь — это был зимний месяц. И как у помкомвзвода ничего не получалось у меня. Командир взвода сидел в офицерском домике, а я с полным взводом занимался все время. А там так, допустим, занятия проводились. Давалась команда: «Направление — впереди стоящее дерево. Направляющий — Манзакиров. Взвод — влево, тот-то - вправо. Цепь!» Надо было орать, а не говорить эти команды. И они как-то служили. Вот я не знал, как это делать, но я хотел, чтобы взвод мой не отстающим был.
- То есть, недисциплинированные были люди в вашем подчинении?
- Нет, никто не был там у меня дисциплинированным. А люди так хорошие они были все. Вот я, например, не знал, что такое на их языке обозначает слово уртак. Я думал, что это что-то плохое. А оно имело значение совсем наоборот. Это было плохо, конечно. Ведь когда нет знаний языка, нет знания и людей. Ну а потом кончилось все это у меня вот чем. Был у меня во взводе Юсупов, который хорошо знал русский язык. Я вышел тогда, построил взвод и заявил: «Команда будет давать Юсупов». Юсупов в такой ситуации начинает показывать, как надо расходиться. Юсупов потом же выстраивает взвод. И кончилось все тем, что взвод занял в полку первое место. Я не надрывался, все это благодаря Юсупову. Вопрос вот в чем: надо знать язык, поддерживать общение, а если ты этого не знаешь - то очень трудно тебе будет.
- Японцы делали провокации?
- Делали. На посты же там стояли. Под землей были склады с оружием. Но я продолжу говорить о том, о чем только что говорил... В общем, там получилась такая вещь, что мой взвод занял первое место в полку. Я был в таком восторге от этого! И все это - благодаря Юсупову. А получилось это у меня вот каким образом. Вижу, что сидят-разговаривают в казарме узбеки. Говорят: «Уртак Семенов.» Я говорю: «Что такое уртак?» И подумал, что они Семенова каким-то нехорошим словом обозвали. А Семенов — это был командир роты. Я подумал, значит, что они своим командирам клички дают. В другом взвод помощником командира взвода был Лобов такой. Он враждебно относился к подчиненным. Но это так, к слову. И когда подошел один ко мне солдат оттуда, из казармы, я ему и говорю: «Манзакиров? Почему воротничок расстегнут?» Он отвечает: «Моя сидит.» Я говорю: «Сидит или стоит, вы должны в форме находиться. Что вы хотели сказать про Семенова?» Он опять мне повторяет: «Уртак — Семенов.» Я говорю: «Два наряда вне очереди, идите вокруг, убирайте казармы с снегом.» Он пошел. Ну потом я спрашиваю у одного: «Что такое уртак?» Он мне объяснил: «Ваш товарищ, а мой — уртак. За что два наряда-то?» Тогда я вышел на улицу. Там было холодно. Говорю этому Манзакирову: иди так уже. И после этого случая я, наоборот, стал лучше относиться к ним, к узбекам. Почему? Потому что во взаимоотношении человеческий фактор когда присутствует, это хорошо, — они тоже чувствовали ведь, какое отношение к ним было. Ну и когда прибыл с ними, с узбеками с этими, на фронт, это были исключительные хорошие ребята.
- А провокации, стало быть, были?
- Откровенно говоря, не следует думать, что служба на Дальнем Востоке — это совсем далеко от фронта было. Ведь меня вначале на Дальний-то Восток и направили. Был там артиллерийский полк. Командиром полка был полковник Миронов тогда. Я был трактористом в этом полку тогда. Учения были. Ну и там такая картина была. Находился с часовым. А там вот эти комары были. Притом артиллерийские склады там под землей находились. На поверхности там мало какие склады были. Ну и представляете, какая вещь получилась? Там разводящим был не то Каримов, не то кто-то, но точно знаю, что нацмен. Придурок, откровенно скажу. Его многие хотели вообще так пристрелить. Он создавал провокации. Но впоследствии со мной такой был случай. Я стою. Комары кусают, лезут. Я прислонился. Потом представляли, что я заснул на посту. Понимаете, иногда людям хочется что-нибудь представить иначе, чем это на самом деле было. И потом что получилось? Ни с того ни с сего я вижу огоньки. А там было такое, что на других местах они, японцы, лезли, создавали провокации япошки эти. Понимаете? Ну я начал стрелять в эти огоньки. Откуда я знаю? Я кричу: «Стой! Кто идет?» Молчат. Откуда я знаю, что там? Все патроны выпалил. Оставил себе один патрон. Думаю: в случае чего — я могу пристрелить. Ну и естественно так в полку тревога была объявлена. Стрельба. Притом не один выстрел. Там 15 патронов даются. 14 патронов израсходовал я тогда. Притом это не просто пистолет, а карабин. Ну и тревогу объявили. Потом по тревоге стали искать. Никого нет, ничего нет. Все легенда, заснул. Прислонился. Комары пугали, и ему почудилось это. Так все это представили. Но, видимо, во всем такая божья деятельность есть. Одно с другим совпадает часто. Нашли вдруг потом волка пристреленного. Откуда я знал, что у него глаза ночью светятся? Я же многого не знал, поймите правильно. Но тогда благодарность объявили мне. Поэтому я смело уже думаю: бояться мне нечего было. А там тоже скажу так. Кушали плохо там. Я прямо скажу, мы там плохо питались. В лес, бывает, придем так и ягоды вместе с травой едим. И то рады были, что это есть, были. Понимаете? Ведь у нас как было? Приходим есть. Кружка чая, картошка, кусочек хлеба, кусочек селедочки. Организм так требует чего-то еще поесть, а кушать нечего. Вот такая обстановка была. Ну и я писал, что с запада, что поскольку враг оккупировал мою территорию и находится на нашей священной земле, прошу отправить на фронт. У меня не было таких пышных фраз. Я писал то, что представлял: моя священная земля — это где я родился, и прошу на фронт, чтобы поучаствовать вместе с другими в боях с немцами. И майор с особого отдела заявил: «Вы хотите оголить дальневосточную границу!» Вы поймите, это не громкие фразы. Он мне сказал: «Вы уедете, а японцы захватят территорию. Хватит вам ездить!» Я говорю: «Товарищ майор, зачем вы так говорите, что я провоцирую? У меня таких нет, кто с компроматом были.» Было такое. А потом приехал на фронт, там другая была обстановка. И люди разные были, вот в чем дело.
- А чем люди отличались?
- Видите, там ведь что было, на Дальнем Востоке-то? Ну каждый хотел выслужиться. Но в отношении одного солдата, который был там, когда на фронте я еще не был, могу сказать: он по секрету сказал, что находясь на посту, он доски вырывал, продукты выносил и штатским платил, ему тоже подачки делали, он потом приставлял и гвозди забивал обратно. Понимаете? Его расстреляли перед строем у нас. Это тогда перед расстрелом он так хвастался. Цыливра фамилия его была.
- А сколько вас человек тогда отправили на фронт?
- Ну нас тогда собралось, по-моему, около пятидесяти человек. Там пополнение шло на фронт. Там было так, что не то чтобы я один писал заявление с просьбой отправить меня на фронт. Там многие хотели на фронт попасть. Но почему многие на фронт рвались? Ну я, например, рвался, потому что из запада были. А некоторые, например, из-за того, что там две картошины, кусок селедки и кружку чая только давали поесть. Вот такой, как говориться, ужин был там. Там же жутко что творилось, кушать нечего было. Ведь все для фронта отдавалось. Вот такая обстановка была там, на Дальнем Востоке.
- А в каком именно месте вы служили?
- А там есть такой город Свободный. Это там, за станцией Чита, он находился. Ну а потом я прибыл на фронт. Но перед фронтом меня же направили учиться на три месяца связи. По теории я хорошо знал. А когда я прибыл на фронт непосредственно, я же там ничего не понимал. Но вот был, например, на фронте командиром батареи, а потом командиром дивизиона такой майор Ульяницкий. У меня есть его фотография. Так вот, этот человек помог мне сформироваться на фронте. Был еще сержант Филиппов такой, который до армии студентом был. Он тоже мне помог сформироваться. Но я сначала был в разведке.
И когда впервые пошел в разведку, мне сказали: «Вот идет колючая проволока, вот вдоль этой колючей проволоки, значит, вы и идите. И там, значит, дойдете, куда надо.» Ну и вдоль этой колючей проволоки, значит, я и пошел просто. И так пошел дальше до передовой. И только тогда я понял, что передовая, то есть, передовая позиция, находится впереди. Сначала я даже сбился с курса. И если бы я не увидел нашего убитого бойца, я попер к немцам бы. Вы понимаете, как нам объясняли задание? Говорили просто: «Иди по колючей проволоке.» А колючая проволока — это и в одну сторону, и в другую, это и туда, это и сюда. Ну я вернулся. Но Ульяницкий много со мной занимался там. Хороший был командир фронтовой, как и все фронтовики. А потом, через какое-то время, связью я занимался, связь восстанавливал. Порвут связь — я иду ее восстанавливать. Обстановка была такая, что кругом летят снаряды, даже не знаешь, что и соединять. Тебе говорят: «Прекратить. Командующий!» Откуда я знаю, кому нужна связь. А тебе говорят: «Для командующего!» А для кого связь на самом деле нужна была, трудно было разобраться. Ведь много там на на фронте было таких недоразумений. Ну а потом получилась тогда такая вещь, что я был командиром взвода назначен.
- Без офицерского звания?
- Ну да. Но у меня было тогда звание старшего сержанта. Ведь меня перед тем, как на фронт отправить, направили учиться на сержанта на курсы. И я там учился, а потом на фронт попал. Но после получилась такая вещь. Что там, на фронте, была такая обстановка, что, допустим, командиры взводов, командир батареи, командир дивизиона — все в наступление шли. Там же жутко что делалось! А я хилый такой был, худенький. Это потом я уже пополнен. Слишком я уставал. И тогда, помню, землянку делали. Так вот, когда мы заканчивали эти курсы, нам выдавали комсоставские ремни. Но когда эти ремни выдавали, нам всем не хватило. Тогда нам стали выдавать ремни со звездочками. А со звездочками ремни носили политруки. Ну и когда сделали землянку, я повесил тогда пистолет, ремень, ну и лег после этого. Палатку подтянул на елки, лег, начал засыпать. А там в это время рыли вторую землянку. Все это на улице и в зимнее время проходила. Вдруг началась стрельба. Я вскочил и вдруг увидел, что ни оружия, ни ремня нет на месте. А у меня был солдатом Вильсев такой, пермяк, - он хорошим был солдатом таким. Я тогда крикнул его и взял у него автомат. Ну и вы представляете, что это было такое? Оружия-то нет. А за потерю оружия в военной обстановке отдавали под суд военного трибунала. И там тебе уже говорили: значит, быстро иди в штрафную роту. Но вопрос был не в том, что меня могли отправить в штрафную роту. Ведь после того, как там тебя ранило, ты мог нормально уже воевать, уже не как штрафник. В общем, там было такое правило, что ты кровью должен был свою погрешность искупить в штрафной. Но меня пугал сам факт возможной судимости: чтоб в таком-то возрасте быть судимым. И вот я пошел тогда к командиру дивизии, вот к генералу Харламову. Ну и получилась тогда там такая вещь. Когда я прибыл к нему, он сразу сказал: «Что вы хотите?» Он вообще-то строгий был командир. Я сразу начинаю ему говорить: «Я ничего не боюсь. Единственное, что я хочу, это то, что я не хочу быть запачкан тем, что был судим.» «Что вы хотите?» - спрашивает он. Говорю: «Я все что угодно хочу, но чтоб не судили...» «Хорошо, - сказал он мне тогда. - Вы согласны так оставаться в дивизии рядовым?» Ну и у него было какое-то особое отношение к начальнику особого отдела корпуса. Особое, значит, к нему отношение было. И он мне сказал: «Чтоб никто не знал, что ты был у меня.» Я говорю: хорошо. Ну и после получилась у меня такая вещь, что после этого прошло какое-то время, и я остался в этой дивизии просто как разведчик. Но потом через некоторое время мне присвоили снова звание сержанта, потом — старшего сержанта. И тогда нашу группу, четыре человека, послали взять «языка». Вообще до нас, насколько я помню, три раза посылали группу разведки, в том числе и один раз капитана одного посылали с группой, но он не вернулся. Как вы думаете, почему? Значит, кто-то сообщал об этом немцам. У меня такое подозрение до сих пор есть. Ну спрашивается: с чего это вдруг три группы не вернулись? И «языка» не привели, и не вернулись. И тогда я пошел с группой в составе четырех человек в разведку.
Ну а потом, значит, со мной такая история получилась: что у меня оружие пропало. На фронте, конечно, найти оружие была не проблема: там ведь полно оружия было. Но у меня у этого моего оружия номер был. Я пошел, предложил своим солдатам помочь. Они мне сказали: «Нет, мы под суд не хотим идти.» Ну и я пошел к генералу Харламову. Ну и, кстати, после, когда вся эта история разрешилась, я какое-то время носил парабеллум немецкий. Не пистолет, а парабеллум. А парабеллум почему я носил? Потому что его номер не нужно было регистрировать. Это — раз. А во-вторых, их было сколько хочешь во время войны. Но воевал из-за этой истории уже я рядовым. Потом у меня получилось так, что меня послали языка-то взять. Дело было зимой. Но мы не пошли в тот район, где должны были зайти туда. Я нащупал, где идет немецкая связь, потому что знал: ближе к фронту к нашему должна где-то связь проходить. Значит, нашли эту связь. Залегли. Порвали эту связь и стали ждать, когда ее придут восстанавливать немцы. Немцы на восстановление связи всегда по двое ходили - по одному они не ходили на такие дела. Вот таким путем схватили «языка». Потом про меня сказали: «Мы зашли не туда. Он (на меня показывали) категорически отказался туда, куда приказано было идти.» Тогда я сказал на это: «Да. Я имел право так сделать, но моя задача — языков достать. Куда пойдем, зачем пойдем, это каждый имеет право решать сам.»
Ну а потом прошло какое-то время, и одна неприятная история у нас получилось. Летом было дело. Я шел на передовую. Был обстрел немцев. И постом стон послышался: женский такой стон. Когда я побежал туда на стон, увидел, что лежит раненая женщина, медсестра. И вот этот старшина, которого разжаловали, которого я подозревал в том, что он украл у меня оружие, хотел и пытался насиловать эту женщину. Ну и представьте себе, каково это было. Когда я все это увидел, то крикнул: «Встать! Руки вверх!» Но он схватил автомат. Спрашивается: кто кого опередит? Если я не проявлю сообразительность, он пустит очередь и во лбу у меня только отверстие получится. А он же хотел надглумиться над ней, над этой женщиной. И я первый выстрел произвел в плечо, потому что я брал середину и была опасность женщину задеть. Потом он хотел чуть приподняться, и тогда мой второй выстрел попал ему прямо в висок. Только тогда бросил его. А она, эта женщина, ее звали Мария, в трех местах была ранена: в плечо и в ноги. Но она, по-моему, осколками была ранена.
И получилось потом так, что вот эта Мария, медсестра, когда меня контузило вместе с Паршиным таким и я потерял речь, помогала мне восстанавливаться. С тех пор, после полученной контузии, я когда волнуюсь, то немножко заикаюсь. А когда я пристрелил этого гада, меня вызвали в особый отдел и сказали: «Надо было наказать его. Надо было его оставить его живым.» Я сказал им тогда: «Позвольте. Это не просто месть какая-то. Я не скрою, я не мог терпеть, как это подонок и дальше продолжает свое дело делать. А во-вторых, поймите, товарищ полковник, он может в моем лбу отверстий сделать несколько. Я буду ждать, пока мне это сделают?» А до того случая, как я пристрелил этого старшину, его разжаловали. Он в группу разведки входил. Но разжаловали его за то, что у него другие выходки были. Кроме того и подозревали на него: что оружие кто мог взять? Кому оно нужно было? C этим тоже же потом разбирались.
После прошло какое-то время. Ну и потом, значит, получилась такая у меня на фронте вещь. Это было уже в летнее время. Мы тогда готовились идти наступление. Генерал Харламов, командир дивизии, - это был опытнейший генерал. Не зря про него говорили: «Там, где Харламов, - там наступление!» И вот, когда немец пошел в наступление, рация вышла из строя. Я потом только понял, почему это произошло: штаб был около геометрической точки, а все три геометрические точки находились на картах. И вот тогда, значит, из строя рация вышла. Связи-то нет! И я пошел налаживать связь. Был такой Вильсев, пермяк. С ним я и пошел связь проводить. Там, где мы были, не то что стреляли немцы из орудий, а кидали лягушки — бросали немцы такие мины. Они подкидывались и взрывались. Ну и я, тогда делать связь пошел, схватил одну катушку и взял вторую с тем расчетом, чтобы Вильсев возьмет катушку, а я побегу туда, где наши орудия находятся, чтобы соединить две эти катушки связи, чтобы сделать эту, короче говоря. И понимаете, что у нас получилось? У каждого человека есть какие-то природные недостатки и обычаи. Были они и у Вильсева. Я его, конечно, очень любил. Он был старше меня, у него была дочь. Он мне говорил, помню: «Война кончится, я дочку свою выдам за вас замуж.» Он хороший был солдат. Но когда, вы поймите, такая напряженная обстановка, я сказал ему «ты бери», и употребил слово «к черту». А он верующий был, и как это услышал, то бросил катушку. Ну и представьте: что мне делать? Там же не то что нормальная обстановка была, - война есть война. Я взял эту катушку, которую он бросил, и сказал: «Давай находись здесь, чтобы я тянул туда-то две катушки.» Не одну, чтобы навстречу друг другу, а две катушки потащил. Ну и задел катушкой ниже щеки у этого Вильсева. Это потом выяснилось. Кто его знает: когда горячка такая идет, не разбираешься уже, как там и что. Короче говоря, восстановил я связь. Меня как раз тогда накрыло землей там. А получилось это так. Когда начал я провода соединять, немцы начали стрелять. Я за бугром стоял. Там же воронка немецкая была. Надо мне было в эту воронку прыгнуть: ведь в воронку снаряд не попадает. Но я не прыгнул. Рядом взорвалось. И вот, когда меня накрывало, я зубами провода соединил. Потом услышал, как команды передают. Тогда решил: ага, связь, значит, работает, все в порядке. А там же болотистая местность была. Так меня всего этой тиной прикрыло. Я весь в грязи был. Ульяницкий когда вот кинулся меня искать — а меня нет. Он был командиром батареи сначала, но в то время он уже командиром дивизиона был, по-моему. Вот побежал он по этой связи меня искать. Когда пришел на место, тину так отбросил с меня. Но меня ни контузило, ни ранило. Просто такое ощущение было, что чем-то накрыло. Казалось, что чем-то стукнуло как будто бы. Ну такие вещи, конечно, влияют на психологию человеческого ощущения. Он меня спросил: «Ты здоров?» Я говорю: «Все нормально.» Он помог мне так немножко обтереться, соединил вот эту связь, и вернулись обратно.
А тем временем наступление шло полным ходом. Обстановка была такая, что пехотинцы и танки пошли вперед. А мы готовили, как говориться, артиллерийское наступление. Ведь наша дивизия была тяжелой артиллерии, а она на 22 км снаряд сбрасывала. Командира дивизии генерала Харламова я любил: потому что это был человек с чистой такой природой настоящего генерала, он не мог пропускать никакого момента просто так. Когда увидел меня он после того самого случая, то сказал: «Зайдите!» Я зашел. И он, значит, так повел со мной разговор: «Кого будем бить: фашистов или своих?» Я не понял вопроса и сказал ему об этом: «Я не понял, товарищ генерал.» Он кричит: «А вам надо понимать. А кто здесь Вильсева так обцарапал?» «Товарищ генерал, - говорю ему, - вы простите. Мы с Вильсевым не просто уважаем друг друга, у нас чистые отношения.» «Мне говорил Ульяницкий.», - сказал Харламов. Ну Ульяницкий знал, что у нас хорошие отношения с Вильсевым. Он говорит: «Ну вот за это я вас предупреждаю. Потому что малейшее будет — вот тогда я никогда не пощажу. Ну а за то, что обеспечил в такой обстановке связь, что успех боя обеспечил — вот тебе.» Он достал медаль «За отвагу» и лично мне вручил. Тогда так это делалось на фронте.
- А как называлась часть, в которой вы воевали?
- У нас была 27-я артиллерийская дивизия Резерва Верховного Главнокомандования.
- В Курляндии, где вы воевали, немцы сильно сопротивлялись?
- Ну у нас так было, например, когда мы на Ригу наступали. Наших танков много было там тогда. Ну у нас непосредственно не танки были, а орудия. Наши танки тоже подбили. И вот там была группировка недобитых фашистов. На окраине Риги они отстреливались. Отстреливался каждый, и особенно те, кто боялся за свое будущее. Там эстонцы были. Вот там, как сейчас помню, настолько точек отстреливались на окраинах города Риги. Впоследствии я сказал своим ребятам: «Рубцов, Сарнавский! Так, идите туда, любыми путями взять живьем, кто стреляет!» Взяли этого пулеметчика живьем. Спрашиваю: «Фамилия!» «Бауэрс», - отвечает. «Имя!» «Роберт!» «Откуда?» «Латвия.» «Латвия — это я тоже знаю. Откуда именно?» «Недалеко от Лаугли, это район такой в Латвии.» «Почему эсэсовская форма?» «А я пожарником работал, а в СС хорошая форма. Эсэсовцы хорошую форму носили.» Рубцов тогда говорит: «Расстрелять!» Я говорю: «Ну зачем тогда брать в плен? Ну зачем? Это тоже неправильно: взять пленного и расстрелять.» Отправили его в тыл. Прошло много лет. Кончилась война, я уволился тогда из армии. Жил здесь недалеко в Пуру — напротив ресторана дом был по улице Сталина, тогда ж так назывались улицы. Сейчас там, в этом месте, верующие какие-то собираются. Выхожу из бани. И вижу одного человека. Сам про себя думаю: где эту рыжую морду видел? Он рыжий был. Думаю: дай-ка посмотрю. Иду дальше. Смотрю он идет. Смотрю: проходит по улице Карла Маркса, потом заходит в дом и ныряет в подъезд. Значит, в этом доме живет, - решил для себя я. Подходит суббота. Я долго хожу тут около бани и думаю: когда же тут этот рыжий появится? И вот он зашел. Я его спрашиваю: «Ты меня узнаешь?» - спрашиваю. Говорит: «Да, узнаю. Я вас видел несколько раз.» «А где ты живешь?» «А на улице Карла Маркса». Он называет мне дом, квартиру. Говорит: «Заходите в гости.» И вот оказалось, что это был Роберт Буэрс тот самый. Я говорю: «Где ты работаешь?» «На десятой шахте.» Я: «Каким образом?» Он: «Я есть я, жена так русская у меня. Клавдия Ивановна называется она.» Думаю: дайка зайду. Зашел я туда к нему домой. Да, действительно Клавдия Ивановна. Вот представьте, это был тот самый эсэсовец, который до последнего отстреливался, когда его взяли. Работал он хорошо на десятой шахте, а до этого десять лет он отсидел. Все знали об этом, что он сидел, что он был в СС. Ему почетную грамоту нужно было вручать. Но он эсэсовец, и ее ему никто поэтому не вручил. Он приходил ко мне в гости. Некоторые говорили: «Подожди. Мы не понимаем тебя. Он же — эсэсовец. А ты его берешь к себе в друзья.» Я говорю: «Он отсидел. Нельзя всю жизнь ненавидеть человека за старое, если он исправился.»
А потом, значит, у меня с ним получилась такая вещь. К этому Бауэрсу я заходил домой в любое время, как будто так мне и было положено. Единственное, что ночью не заходил. А так заходил все время. Клавдия Ивановна была порядочная женщина, но пьяница. А так она хорошая женщина была. Но пьяница! А он, единственное, когда выпивал, говорил про нее: «А мне все равно, мне все равно...» И вот однажды захожу я к нему. На двери - фашистский знак мелом нарисован. Постучался. Он пока не был дома, у себя на месте. Мужской голос мне говорит: «Да!» Но это был не голос Бауэрса Роберта. Захожу и вижу: сосед Ананьев там, член партии, сидит. Я спрашиваю его жену.: «Клавдия Ивановна, где он?» «Пришел, - говорит, - кто его знает, куда-то делся, не знаю...» Я этому Ананьеву тогда и говорю: «Вот смотрите. Вот кто нарисовал этот фашистский знак на двери? Зачем к фашистам нам идти? Сидишь здесь, тем паче с женщиной. Глупости какие...» Этот Ананьев тогда меня на три буквы посылает. Я говорю: «Слушай, Ананьев. Ты не коммунист, а ты подлец. Приходишь сюда, пьянствуешь, когда мужа нет, друзья такие.» Он берет меня за шкирку и хочет выбросить. Откуда не возьмись — вдруг появляется Роберт. А это все дело было на втором этаже дома было, там, где крыша там была. Этот Ананьев берет и толкает меня со ступенек. Так жена этого Роберта защищала этого типа-коммуниста. Потом Роберт с ней разошелся и с одной финкой сошелся. К нему по-разному относились. Правда, когда он приезжал в Латвию, от него все отворачивались, поскольку знали, что он служил в эсэсовских войсках. Но я рассматриваю так: не надо его было трогать, потому что он отсидел за свое. Зачем его делать таким бродягой-бандитом только из-за этого, зачем? И он, кстати, знал, что на фронте я его взял в плен. После войны, когда мы с ним встретились, он первое время «на-вы» был со мной. Знала и его жена о том, что я его на фронте как эсэсовца взял в плен. Это все знали. И вот вопрос такой: неправильный был подход к этой проблеме, к тем, кто когда-то у немцев служил. Вот и про Роберта говорили: «Зачем с ним вообще связываться? Нельзя этого делать.»
Представьте, был на фронте у нас такой случай. Немцы отступали, а наши наступали. И один наш красноармеец подорвался на мине. Немец, фашист, берет его на руки и тащит его сюда, к нам. Тогда командир взвода, пехотинец, берет котелок и этим котелком начинает бить этого немца. Зачем? А он говорит: «Вот что вы делаете, делаете.» Но ведь такое дело делает идеология определенных лиц. А они, такие солдаты, просто пешки, а пешки — это те, кого лишь переставляют. Помню, когда после боев мы с Ульяницким проходили и смотрели, где наши трупы лежат, а где немецкие трупы, так как столько боев было, мы замечали, что у наших бойцов, даже у мертвых, такой вид был, что он, наш солдат, хочет что-то сделать такое. У фашистов по облику можно видеть, что он фашист. Понимаете? Но эти люди, которые сделались фашистами, они когда-то были детьми. И вот Ульяницкий говорил, когда мы мимо них проходили: «Вот смотри вот, Рассолов. Вот детей надо сколько воспитывать? А кем они стали? А дети рождаются хорошие.» Так это идеология делает людей фашистами и кем угодно! Не бывает такого, что люди рождаются сразу такими плохими. Я не случайно сейчас в нашем с вами разговоре эту тему затрагиваю. Почему эти дети, вернее — сейчас уже подростки, совершают сегодня преступления над взрослыми? Об этом много говорят. Это так мы, взрослые, делаем так. Наши сердца ржавчиной покрыты, коррозией. Их надо чистить. А чистить могут добрые поступки или обращение к Богу. Нравственная сторона - она как-то защищает людей от этого. Если мы будем так делать, тогда что-то и будет. Вопрос не в том, чтобы кому-то угодить, а вопрос принципа. А дети, я говорю, рождаются все хорошие: будь то американцы, будь то русские или эстонцы.
- Окончание войны помните?
- Мы стояли так в это время в Латвии. И когда сказали «мир», тут и стреляли, и шапки кидали, все было.
- Вы сказали, что были на фронте разведчиком. А сколько языков как у разведчика у вас было?
- Ну не я лично, а группа наша так, к примеру, два языка привела. Мы были посланы на станцию Блидене, это — в Латвии. Группа забрасывалась в тыл врага для того, чтобы обнаружить, в чем дело... Ведь ситуация была такая, что дивизия стреляет, и еще непонятно откуда-то немцы стреляют. И вот во главе с старшим лейтенантом Крыловым была направлена группа в тыл врага. Правда, этот Крылов, - он немножко заносчивый такой. Ну у всех что-то бывает. И вот пошли мы в поход во главе с Крыловым. Немцы стреляли, но нас взять не могли. А у нас был один такой разведчик Кожевников, который знал немецкий язык. И вот он, значит, в форме немецкого солдата, потому что были-то все переодеты, когда мы были на задании, пошел помогать немцам что-то разгружать. И было так, что, значит, вот в этой группе Крылова пять наших радиостанций дежурили с сообщениями. Проводил сообщение нам родственник хозяина того самого дома, где находился немецкий штаб. Он ыбл штатский, латыш по национальности, и он проводил группу. И была, значит, там такая вещь, что орудие стояло ну около небольшого озера, которое на карте не нанесено было. Вот как ведь бывает! И когда кто-то стрелял, эхо отдавалось в это озеро. И когда стреляли наши орудия, они стреляли в это озеро, а не по орудию. А там дальнобойные немецкие орудия были. И когда это установилось, Кожевников, возвращаясь оттуда, потерял ноги. А как это получилось? Там же все с землей было смешано. Вы только представьте, какая там была ситуация: в каждом дивизионе по двенадцать орудий было. А их, дивизионов таких, было шесть у нас. Это дальнобойные орудия были. И вот представьте, как это выглядело, когда вся дивизия стреляла по этому одному участку у озера. Что там было! И вот, когда возвращался, значит, этот Кожевников, он сам с Урала был, то он подорвался на противопехотной мине. Но он на нейтралке подорвался. И вот получилась такая с ним, значит, вещь. Вылечили его. И когда я писал в нашу дивизионную газету, то я искал этого Кожевникова. Почему? Потому что я знал, что Кожевников был такой среди отличившихся. Какие данные я мог на него знать? Ну и вот случилась такая вещь. Направил в куйбышевский военный комиссариат, чтоб нашли безногого Кожевникова. И он сообщил мне, генерал-майор, военком, что: «сообщите данные на Кожевникова, так как Кожевниковых много.» Что, все безногие там? Тогда я написал этому военкому: «Господин генерал! Если бы я знал такие данные, тем паче адрес, где он живет, то, наверное, вашу честь я не стал б беспокоить. И впредь к таким генералам я не собираюсь ни писать, ни обращаться, потому что это история военная, а не просто мои прихоти.» Мне говорили: тебя за это накажут! Я сказал таким: пусть накажут, но я правду сказал. И так я до сих пор не могу узнать, где этот Кожевников. Была у меня еще одна неприятность с военкомом. Мы находились когда-то в городе Ауце в Латвии. Там я по ошибке чуть не застрелил трех солдат, в том числе Гробылькова Александр, который был с нашей местности, где я жил — эта местность была приписана к Пушкарьскому сельсовету. А было так дело, значит. Я вышел, напоролся на группу людей сбоку. Сначала подумал, что это немцы. А потом смотрю: так это наши, оказывается. Говорю: «Поднимите руки!» Я носил тогда автомат. Потом присмотрелся, говорю: «Александр!» Встретились, обнялись. «Ты представляешь, я смерть мог ни за что получить?» - он сказал. Я говорю: «Дак откуда ты взялся?» А там была такая обстановка, что немцы были сбоку и наши шли сбоку. Когда идут бои, там нет определенных таких территорий: что, мол, тут, в определенном месте, должны быть наши, а тут — немцы. Наши могли и там-то, и сбоку находиться.
- То есть, не видно было, кто есть кто?
- По форме не видно было. Они внезапно выскочили. О чем еще может быть разговор! И вот представьте: я написал в Данковский военкомат, и они не нашли ничего, что касалось этого Гробылькова. А я скал. Спрашивается: что, тоже нет? Знают местность, а ничего не могут сказать. Вот такое отношение было их, военкоматов, к нам. А ведь я искал этого Гробылтькова! Так вот, представьте: в Латвии в военкоматах не было случая, чтоб так отнеслись бы. Сообщали, где похоронены те-то и те-то бойцы. Здесь всегда с уважением относились, всегда сообщали. А вот такое, видишь, в России бывало. И вот много таких явлений было.
- Потери какими были у вас?
- А потери зависели от того, какие это еще были бои. Вот, допустим, я не помню сейчас местность, где это было, но там было так: вот там у нас из двух взводов, а это — четыре орудия, осталось в живых шесть человек тогда. Каким образом все это случилось? Это случилось под покровом ночи. Орудия наши стояли. А ведь эти наши орудия надо тракторами было тащить. Там же люди, несколько человек, не могли тащить на огневые позиции их. Ну и вот, значит, два оружия были выставлены на открытую позицию, на прямую наводку, там у нас. Значит, два этих наших 152-миллиметровых орудия были выставлены. А два других орудия были в кустарниках оставлены там. Вот с этими двумя орудиями, которые были на прямую наводку выставлены, я находился тоже там. А сзади, где ыбл кустарник, там с ними, с этими двумя другими орудиями, оставался бывший председатель колхоза Соколов. Он был такой человек, что как ругался раньше матом, так и ругался на фронте. Упрямый был как осел. И вот получилась тогда такая там вещь. Командовал этими орудиями на месте капитан Бушков. Это исключительно был порядочный и симпатичный такой мужчина, хороший во всех отношениях. Ну а поскольку мы, как говориться, выбивали немцев, заняли мешок и закрывали плацдарм для наступления, землянки, которые были выбиты нами у немцев, они ходом-то к верху были обращены. То есть, эти землянки были сделаны не так, как мы их делали, а так, как они их делали. Мы их просто заняли у немцев, когда их выбили. Так вот, в одном, в общем так, проеме вот этого немецкого блиндажа, который был нами занят, у меня была установлена стереотруба. Это такой прибор, по которому мы смотрели на позиции немцев. И два орудия, значит, были поставлены на прямую наводку. Старшим , как я уже сказал,там был командир батареи полка капитан Бушков, старшим офицером на батарее был лейтенант Ефтиков. Сирота был командиром одного орудия, Шепель был командиром другого орудия. И был Сарнавский такой. И вот получилась такая вещь. Там были немецкие танки - «Фердинанды». Бушков дает команду. Я смотрю на эти «Фердинанды». Потом от нас по ним был выстрел. В стереотрубу мне хорошо было все это видно: вспышка такая там была, и - все. Это же на расстоянии-то все было. Я кричу Бушкову: «Саша, есть!» Тогда нами было подбито шесть или семь танков прямой наводкой-то. И поэтому я, когда увидел, закричал: «Один танк еще есть!» А он, зараза, разворачиваться начал. Тогда я кричу: Бушкову «Саша, живой еще поворачивает на нас.» Тогда я дал команду: прицел 0,2 что ли там было, точно этого я не помню сейчас. И в это время выстрел произошел с немецкой стороны. И вот представьте: от Саши на бруствере после этого голова лежит. Это от любимого моего комбата, значит! Естественно, представьте, когда ты чувствовал близость человека, чувствовал не то что бы уважение, а какую-то любовь, каково это было переносить? И вот пошел шквал огня со стороны немцев после этого. Никого нет. Ефтиков и другие, которые там были, тоже были убиты. Я иду по трупам наших и немцев по траншее. Был командующий группой у нас - генерал-майор. Но оттуда, с позиций, нельзя уйти, потому что тебя расстреляют. Это же передовая. Но что дальше мне было делать? Я пошел. Смотрю: в траншее лежит Сарнавский раненый. Что мне делать? Грузить его нельзя. Значит, тащить? Но под предлогом того, что я его тащу, я покину передовую. Там ведь тоже такие ситуации бывали. И иногда ведь ни за что люди страдали, поскольку с ними сурово поступали, даже и не разобравшись. Все зависит от мировоззрения кого-то и чего-то. И вот получается такая вещь. Перевязал его. Говорю: «Товарищ Сарнавский, можешь добежать?» «Нет, - говорит, це не могу.» Говорю: «Хорошо. А мне делать что?» И вот, представляете, какая ситуация? Бросить я не могу! Взять его тоже не могу, потому что нужно ждать, что дальше будет, - ведь для того, чтобы покинуть позицию, надо получить разрешение. Что мне дальше делать? Там два орудия стояли целые. Перед этим я навел через буссоль орудие и подбил один танк.
Что оставалось делать? Тогда я говорю этому Сарнавскому: «Товарищ Сарнавский, я приказываю: дойти, доползти, как угодно.» «Я це не могу», - говорит. А он белорус был по национальности. Тогда я ему говорю: «Товарищ Сарнавский, вы враг народа. Мы обескровлены, мы кровью течем. Вы хотите к немцам? Немцы сейчас наступать будут, так что уходите.» «Я нет, - говорит, - я не враг народа..» Говорю: «Ползите тогда в самом деле.» Он пополз. Его подобрали, отправили в госпиталь, но он письма мне не писал. Как так, он — враг народа? Он обиделся на меня за эти слова и за, что я не помог ему. Спрашивали его фронтовики: «А может, он к вам как к сыну относился?» «Нет, он це никогда этого не делал», - говорил им он. «Почему?» «Не знаю.» Сказали ему тогда фронтовики: «Позволь, ты видел, ты знал, как доползти. Другого нельзя было предпринять. Бросить ему нельзя тебя было. Тащить тоже нельзя. Какой выход ему находился?» В общем, фронтовики ему тогда подсказали. Сарнавский тогда начал писать нам письма. Он остался жив. Но остался жив Соколов, который не выводил расчет орудия. Генерал давал ему установку: сектор обстрела. То есть, какие бы там не появились, под предлогом наши — не наши, он все равно должен был стрелять, чтобы не допустить, чтоб обрезали мешок наступления, плацдарм наступления. А он сказал: «Стрелять я не буду, чтоб по нас стреляли.» «Хорошо: ты не выполняешь приказы, - сказал ему. - Потому что начальник штурмовой группы, командующий, ясно сказал: не будут стрелять, расстрелять.» Он тогда сказал: ладно, мать-перемать, я тоже буду стрелять. Начал этот сектор обстрела стрелять. Уже потом, когда закончилась война, понял и Соколов, где он был не прав. Понял и я, где был не прав. Но, понимаете, ситуация такая там была, что жизнь диктовала нам свои законы и делали многие люди не то, что надо было делать.
А Сарнавский остался жив и потом понял, что другого выхода не было у меня. Ну нормально, как фронтовик, он понял ситуацию. Ведь можно было взять да пристрелить его, чтобы с ним как с раненым не возиться. Ну как, зачем? У кого поднимется рука стрелять своего человека? Такие вещи тоже нельзя делать. А в отношении фашистов могу сказать следующее. Всякие фашисты были. Фашист ведь не тот, который перерождается и исправляется, а фашист тот, который остается в сознании фашистом. Тот же Роберт. Единственное, что я на похороны не ходил, когда он умер. А так я общался с этим фашистом. Не так давно умер он.
- А убитых как хоронили?
- Ну это, допустим, вот так проходило. Взять, к примеру, случай с комбатом Бушковым, когда он погиб. Вы представьте, когда это случилось, я организовал людей на поиски шкафа. Сделали гроб, значит, из этого шкафа. И вот в городе Ауце в Латвии похоронили. Я знал, где Бушков похоронен. Я ездил почти что каждый год и возлагал на его могилу цветы. Правда, кто-то и кроме меня цветы возлагать ездил. Я не знаю, кто это цветы еще возлагал к Бушкову. Я знал, где похоронен Бушков. Потом установили на месте его гибели плиту. Там уже были перечислены все похороненные наши бойцы, в том числе и Бушков. Хочу рассказать вот такую вещь. В городе Краснокамске директором школы был Полушкин Евгений, наш однополчанин. При нем я начал писать материалах о людях нашей дивизии. Почему так? Мне с военкоматов приходили то про того, то про того данные. Все это было отпечатано у меня. У меня уже одна треть была отпечатана того, что было положено. Одним словом, был большой материал у меня собран. Но я вынужден был его сжечь. И все — из-за Полушкина. Ведь Полушкин преподнес мне тогда, что его ученики выполняют норму больше, чем колхозники. Я верил. Человек если говорит, то как не верить ему?
И когда приехал и начал разговаривать с председателем колхоза я, он мне и говорит: а мои дети в школу ходят. А ведь Полушкин мне говорил: «Надо дать материал, что так работают мои школьники.» Ну и я пишу об этом. Потом выясняется другое. Так что, мне нужно было писать, о том, что эти люди помогали? Но он, подлец, был у меня в Тойла в гостях и преподносил все совсем по-другому. Но, с другой стороны, у Полушкина в школе был музей, где был материал о нашей дивизии.
Или вот еще, скажем случай, который тоже с Полушкиным был связан. Когда в одну из годовщин я приехал в город Ауце, не было могилы Бушкова. Вопрос: куда ее украли? Но там стояла стела. И там, кстати говоря, и Бушков, и Ефтиков, и все другие там же перечислены. Приехала и пионерская дружина из города Краснокамска имени генерала Харламова, где он директором школы был. Но получается так: вместо самого Полушкина приехала его дочь. Приехала и говорит так: «Отряд! Становись!» Это на кладбище, где похоронен прах наших бойцов и командиров. «Смирно! - говорит. - Товарищи участники Великой Отечественной войны.» И рапорт мне дает. Я говорю: «Отставить! На кладбище — рапорт?!» И представьте, когда я стал интересоваться, почему отец не приехал, она сказала: «Вы знаете, мама плохо, он остался там..» Но я верю, что он говорит. Дети говорят, называют по имени-отчеству. Она учителем там была. И вот дети ей, значит, тогда и говорят: «А почему вы не остались? Дочка лучше маме поможет.» Представляете, дети умнее. Значит, опять вранье. Так можно брать в основу материал о таких людях, когда кругом вранье?
Или вот, скажем, случай с Полушкиным был, когда он настоял на том, чтобы один из отрядов носил имя Каминской. Каминская во время войны была женщиной легкого поведения. После войны она была обыкновенным ветераном. Во время войны я помню, что она крутила со всеми. Про нее даже говорили: «Рама, держи штык прямо!» Так если быть честным, я рассуждал так, нужно на каждого фронтовика делать пионерский отряд. Так на всех фронтовиков Союзе не хватит места для этого, надо и на социалистические страны распространяться... А что эта Каминская? После войны она работала в ликеро-водочном заводе в Латвии. Она привезла пять бутылок этих образцов спиртного. Встретилась с детьми в школе Полушкина, хорошо все преподносила, как она, мол, героически воевала. И пионеры решили: назвать пионерский отряд имени Каминской. На фронте санитаркой она была. Вопрос не в этом, а в том, кем именно она стала. Она была легкого поведения: во время войны крутила со всеми. Если кто ей понравится, она шла навылет, это я знал. И, кроме того, умела хорошо про себя все преподносить.
А узнал, собственно, обо всем этом я следующим образом. Приехали пионеры в Ригу. Дети есть дети. Они приехали, значит. А там в городе было метро. Им, естественно, хочется на эскалаторе прокатиться. Дети! И их забрали вдруг в милицию. Но, вы знаете, я не терплю таких вещей, когда кругом несправедливо. Тем паче если дети приехали на могилы фронтовиков - и их вдруг в милицию забирают. Начал разбираться. Вижу, что те, кто их привезли, вдруг скисли. Были веселые, а тут не узнать было их. Ну они знали, что я разнесу в пух и прах в случае чего. Спрашиваю. Они мыкают, но что-то не договаривают. Я говорю: «Что случилось? - говорю. - А врать нельзя. Сказать правду надо. Ну скажите!» Они говорят: «Нам неудобно.» Я говорю: «Что неудобно? Сказать правду? Надо! А как же?» «Там в милицию забрали. Там милиционеры, женщина и мужчина, их забрали. Забрали наших ребят за то, что они на эскалаторе катались.» Ну что — это нормально на праздник Дня Победы так забирать людей? За что? Что, они хулиганили? Ну не хорошо это все, ясное дело. Но они впервые видят это метро, им ведь это интересно! И их — вдруг забирают. Пошел туда, значит, в милицию. Начинаем говорить. Этот младший лейтенант, мужчина, молчал. А эта женщина, младший лейтенант, как она повела-то! Говорит: «А кто вы такой? Вы должны смотреть. Вы, понимаете, даже потворствуете им!» Вплоть до того обставила дело, что чуть ли не банда приехала, а я эту банду прикрываю. Она права, если со стороны так посмотреть. У меня было с собой удостоверение. Это удостоверение давало мне в России бесплатный проезд. Но там написано: «МВД Эстонской ССР». И фотокарточка было приклеена. Я служил когда-то: три года был в МВД. Я объясняю ей: «Давайте тихо и спокойно разберемся.» «Что разбираться?» - говорит. Я выхватил удостоверение и говорю ей: «Я был офицером МВД, занимал определенную должность. Вот давайте так: пойдемте к руководству и разберемся. Если они сделали что-то серьезное, то, естественно, мы не можем это так терпеть. Но если они как дети приехали, не видели эскалаторов, подчеркиваю, как дети, никого не толкали, ничего не делали, не создавали суету тут, не мешали, просто надо будет сказать: дети, это не детский садик, а вы в школе учитесь, должны понимать, что не надо так делать... Так что они — после этого хулиганить, драться будут? Так мы можем испортить всех и повсюду.» Я не боялся сказать правду. У меня был такой принцип, я это знал: пиши на меня куда угодно и кто угодно, но я буду доказывать, в чем я прав. Если я виноват, меня за это можно наказать, явно никто не накажет меня за то, что я говорю правду. Никто меня за это не накажет! Отпустили этих детей после этого, значит. И когда отпустили, начал я интересоваться, откуда и что, и они мне сказали: Каминской называется пионерский наш отряд.» Я был удивлен. Я написал другим своим однополчанам, и отряд лишили этого звания. Как-то сразу же был решен вопрос этот!
Ведь давайте говорить по-честному. Я свою фамилию никуда не вставлял. Потом в школе сделали альбом, меня попросили выслать фотокарточку. Я выслал Бушкова, а не свою. Почему? Потому что мы о людях, которые погибли, больше должны говорить. Не просто так: «Во-от они там погибли.» А говорить о них все время. Говорить потому, что мы остались в живых, и этим, собственно, мы должны заложить прочный камень в фундамент мира. А 27 миллионов, уложенных там, на этой войне, - это ведь уже о чем-то говорит.
Но если говорить о Каминской, могу зачитать вам свой протест против присвоения ее имени пионерскому отряду.
«Заявление с просьбой переименования пионерского отряда имени Каминской другим более достойным именем.
Суть дела:
Я принимал непосредственное участие в вопросе наименования пионерской организации Майской школы города Краснокамска в пионерскую дружину имени генерала Харламова А.Д. (обращался по этому поводу в соответствующие органы города Краснокамска, Пермской области и лично к генералу Харламову, который из-за скромности не хотел давать своего согласия.) Но ради патриотического воспитания молодежи на примере отцов и матерей, ради памяти подвигов сынов и дочерей дивизии в годы войны он подписал такое согласие. Безусловно, генерал Харламов А.Д. Верил нам, что пионерская дружина, носящая его имя, не будет замарана случайными явлениями. И пионерская Дружина имени генерала Харламова А.Д. Майской школы много лет с честью оправдывает достойное имя.
Но на фоне этого такие, как Каминская, не думает о чести самой Дружины, а примазываются к этому с целью самовозвышения.
Во время встречи однополчан 27-й АД в честь 40-летия дивизии, приехала с Латвии и Каминская, как говорится не с пустыми руками, а привезла несколько видов «водки», как «образец» выпускаемой продукции предприятия, где Каминская работала в Отделе кадров, то есть заранее побеспокоилась для поездки на встречу.
Хорошо взвесив доверчивость детей к бывшим фронтовикам, она решила этим воспользоваться. В своем более чем часовом обращении к детям, Каминскяа крупным планом преподнесла детям, какая она замечательная, что ее имя подходит для пионерского отряда Майской школы, хотя есть и другая школа по месту жительства Каминской, родители детей в которой лучше знают о Каминской, как те, которые не подумали о последствиях.
Короче говоря, цель красноречивой говорильни Каминской сводилась к тому, чтобы пионерский отряд назвали ее именем. И к нашему стыду она добилась.
На второй день после красноречивого выступления Каминская, находясь в нетрезвом состоянии, настояла перед одним из организаторов встречи, чтобы тот приехал с водителем на государственной машине, как просила Каминская, чтобы ей уделили особое внимание. Больше ее не видели, оставив остальных участников без транспорта, без второго организатора, хотя среди нас находилась 75-летняя заслуженная однополчанка, скромный товарищ Харламова И.Г. - вдова генерала Харламова А.Д.
Мы взрослые люди, каждый из нас прошел трудный путь жизни и должны делать разницу между честной работой с молодежью без красноречия и показухи и между определенными сторонами авантюризма.
В нашей дивизии тысяча однополчан — наших боевых товарищей, геройски погибших за Родину, за нас с вами, за все лучшее на земле. И мы все перед ними в вечном долгу и память о них должна быть вечной у нас и нашей молодежи.
Если Каминская делает особый упор на ее участии в Великой Отечественной войне, то мы все имеем по заслугам, а некоторые из нас и не заслуживаем той искренней благодарности народа, которую нам оказывают. И если каждый участник Отечественной войны будет под разными предлогами и всевозможными красноречивыми выступлениями добиваться того, чтобы его именем назывался один из пионерских отрядов, то нам придется обратиться к пионерским отрядам других социалистических стран, ибо в нашей стране не хватит на всех участников войны пионерских отрядов. Плюс к этому миллионы других заслуженных людей Отчизны.
Неужели эта красноречивая Каминская не понимает истину, о чем ее письменно предупреждали после встречи?
А может эта Каминская лучше тех, кто отдал свои жизни за нас не повидав долгожданный час Победы?
А может эта Каминская во время войны сделала больше Ивановой В.К., Харламовой И.Г., Дуниных К.А. И Г.Ф., Гусева В.Ф., Кузнецова И.И., Ульяницкого Н.В. И других? То ответ будет — нет! А негативных сторон больше как у других. Или по понятию у Каминской — у кого больше негативных сторон, тому и честь.
И если мы — бывшие фронтовики и другие взрослые не желаем только казаться перед детьми и вообще в обществе справедливыми, принципиальными, то не можем об этом молчать.
У нас дети, внуки, нас окружает молодежь и мы должны смотреть в их чистые детские очи не глазами обманщика и плутовки, а такими же честными глазами, но по-взрослому умными глазами.
В стране идет перестройка, а это значит, что каждому из нас нужно самим перестроиться, а не подстроиться по обстоятельствам и времени.
Мы знаем одного типа, который с целью самовосхваления сочинил о себе всевозможные легенды вроде такой. Во время фашистской оккупации его трижды «расстреливали», хотя факт не подтвердился, а очевидцы говорили, что фашистам так же улыбался, как и нам. А кому он искренне улыбался, то об этом он знает только один.
Надеюсь, что мое заявление будет предметом серьезного рассмотрения в педколлективе школы для принятия мер, чтобы не обращаться в печать и не вызывать тени на честь пионерской Дружины имени генерала Харламова А.Д., идейную и нравственную чистоту которой мы обязаны оберегать.
Ветеран 27-й ПАРОСД РГК И.Рассолов, 17 декабря 1987 г.»
- Под обстрелы часто попадали?
- Когда идет на фронте наступление, то там, конечно, обстрелы идут, - и это, конечно, ужасное было дело. Я легкий был на подъем. Я худенький был такой. Но неприятно иногда мне было свою работу делать. Но неприятно было совсем не потому, что надо было исправлять связь, а потому что я не знал, кто разговаривает. Начнешь говорить, спрашивать: кто? Тебя матом покрывают. Или же говорят: «Командующий.» Откуда я знаю-то, кто там на самом деле? Там же хулиганы были просто самые настоящие. Они не ходят идти, и чтобы ты работу сделал, говорят тебе же: командующий. Откуда мне видно: командующий это или кто-то? Под обстрелы попадали так что.
- А было такое, что связистов использовали не по назначению?
- У нас лично в дивизии такого не было. Почему? Потому что, допустим, как можно ыбло нас использовать не по назначению? Конечно, если я связист, а немцы как подошли, естественно, я не буду ждать, где они снова порвут линию связи. Я, естественно, возьму оружие и буду так их отбивать. Бывало такое, что стрелял по ним.
- То есть, вы лично отстреливались?
- Ну а как еще? Я находился на фронте и не отстреливался? Конечно, отстреливался. Это раз. А во-вторых, я придумал такую вещь. Допустим, есть такой ручной пулемет с круглым диском. И вот, бывает, подходишь к пехотинцу, а пехотинцы вплотную находились с немцами. Немцы собирались. Не то что бой идет, не-ет. А просто передышка: ни те, ни другие ничего особенного так и не делают. И там, значит, собираются человек восемь немцев. Вот я смотрю в бинокль. Так не видать, а в бинокль их хорошо видно. Так вот, с этого ручного пулемета как пущу, убью их, это жуткое дело было. А потом, после как начинается наступление, после идем и смотрим, кого убили. Ульяницкий был у нас командиром батареи, а потом он стал командиром дивизиона. Так мы с ним ходили и смотрели на убитых. Вот его жена ко мне относилась, благодаря нашим отношениям, как родная. Она подарили мне книги, я ходил с ней к нему на кладбище. Поймите правильно, когда идет просто война, а не то что идет наступление, там ведь всякое бывает. Бывает, что немцы попадаются, бывает — что мы попадаем. Я сам чуть однажды не попал, когда пошел. А у немцев было так, что они не то что по одному, а целой кучкой собирались. Им же не будут говорить: «Иди сюда!» Расстреляют. И они наших стреляли тоже. Война есть война, там такое правило в основном только действует: чем больше ты убьешь, тем больше ты будешь молодец. Это же война!
- А как кормили вас на фронте?
- Ну как кормили нас? У нас, например, в 10-й гвардей армии, обычно муки много давали. А так в основном нам в разведке давали свиную тушенку, также сигареты давали, - питание у нас было такое в основном. А бывали на фронте и другие обстоятельства. Допустим, генерал Харламов, ну всеж генерал и притом заслуженный генерал, иногда и конину ел, когда ее ему давали. Так что он ее ел. Я раньше не любил конины. Мне когда сказали, когда я съел, что то была конина, меня вырвало. А потом ничего так, стал тоже так ее есть.
- А сто граммов давали?
- Нам давали спирт, но я не пил. Это благодаря отцу моему я этого не делал. Он в детстве отучил меня от этого. Он сам не пьянствовал. Маленькую бутылочку брал на неделю. Мама на него ругалась, а он говорил: «Это лекарство, чтоб аппетит был хороший, чтоб здоровье было хорошее.» Но пьяным я его никогда не видел.
- А обмен сто граммами был?
- Я, допустим, лично их никогда не менял ни на что. Я отдавал свои сто грамм другим ребятам, потому что видел, что, допустим, такой-то человек находится на посту и седой. Кстати, было на фронте еще и такое явление, что мы, разведчики, не получали продуктов. Так мы тогда брали горелую картошку мороженую и ели. Лезли за ней, за этой картошкой, куда попало. Притом под обстрел лезли за этой картошкой. Там одного убили у нас однажды в походе за картошкой. Так что мы ее ели. А потом, после этого, нас понос пробирал. Было и такое явление тогда.
- А нехватка оружия была?
- Было и такое. Ну как понять: не хватало? Вопрос в том, когда именно это было. Когда, например, нас еще присылали на фронт, это могло быть еще. А так на фронте всегда оружие достать можно было. Про оружие могу сказать следующее. Вот у нас, допустим, шли встречные бои. Дороги перехватывались. Но всегда какой-то запас снарядов должен был оставаться. Самый минимум: на каждое орудие по три снаряда должны были иметь. Почему? Потому что иначе не способны выдержать бои. Было и такое явление. И вот у нас, значит, такой случай произошел. Я вам о нем рассказывал. В лесу осталась пушка 45-миллиметровая. Ну а я очень любил пострелять - , например вот, когда хорошее настроение было, или стоим в обороне, или пошло хорошее наступление. Ну мне не о чем переживать было, и я что-то всегда придумывал. Откровенно скажу. Иногда и ругали, и по шее получал, все было. Было такое явление. И вот, значит, тогда в лесу осталась 45-миллиметровая пушка. Кто оставил, чего оставил, было неизвестно мне. А там нам тогда было запрещено стрелять. И тут я вдруг вижу: немцы бегают и пытаются поймать бегущую козу. Я кричу своим: «Ребята!» А там с ребятами Рубцов был. Я говорю им: «Смотрите, за козой, заразы, смотреть некому, немцы уже бегают. Бегите, если хочете зарезать, поймайте ее.» Рубцов взял сорокапятку, стал стрелять по этим немцам, ну и убил их. А приказ у нас был такой: ни в коем случае стрелять. Но это не наше орудие было, это 45-мм орудие. И вот, когда все это выявилось, Рубцова за этот случай хотели посадить в яму. Я за него тогда заступился и им сказал: «Знаете, что? Я не выдержал, что они, заразы, бегают. Я виноват, сажайте меня.» Меня тоже отругали. Иногда вот такие дурости были на фронте. Были. Было такое, и происходило это потому, потому что никогда не задумываешься, к чему это приведет. Это делал я не потому, что я хулиган был такой. Поймите меня правильно: у меня была ненависть к фашистам, все, что они делали, мне это не нравилось. Я не мог терпеть этого. Почему? Потому что на наших глазах ведь много убивало людей. И особенно тогда, на войне. Ведь от двух орудийных расчетов остались Сарнавский и Ростов. Этого не должно было быть. А ведь это такое получилось. Но, как говорят, война есть война.
- Иван Захарович, а как телефонная связь непосредственно на фронте у вас организовывалась?
- Телефонная связь как организовывалась? Был у нас всегда дежурный, который находился непосредственно на связи. Там у нас были специальные аппараты. Ну у этих аппаратов была, допустим, трубка. Там будь то штаб, будь то просто дежурный, - со всем этим держали через нее связь. Я, допустим, дежурю, а там разведка еще работает. Было это как? Немец, к примеру, стреляет. А человек, который сидит там, нажимает на кнопку и передает примерно так. Вот он видит, к примеру, сначала квадрат, потом вспышку, значит, потом начало, а потом — и звук. После этого, значит, он зуммером передает, что вот в таком-то квадрате стреляло орудие. И передает. А раз передает, мы стреляем по позициям немцев.
- Тексты шифрованные передавали?
- А всякое бывало. Большей частью просто так передавали, а не то чтобы азбукой морзе. Зачастую просто открытым текстом передавали. Конечно, не то что передовая и так далее говорили. И номера говорили: то есть, не то что передавали, что это товарищ полковник, а это - товарищ комбат. Говорили: товарищ первый, товарищ третий, а там уже знали, кто это есть.
- А за что орденом Красной Звезды наградили?
- Когда шли вот бои, нас и награждали. Все награды — они же зафиксированы в наградном отделе Президиума Верховного Совета Союза ССР. Эти награды все идут под номерами. И там указано, когда и за что кто был награжден. И вот я за то, что тогда обеспечил прорыв, получил орден Красной Звезды...Но есть и другие, конечно, которые за тот же случай были награждены. Не то что меня одного только наградили. Кого-то орденом Красного Знамени наградили, меня же - орденом Красной Звезды наградили. Сделали прорыв, и меня наградили. И кроме того, мы же с оружием в руках отбивали тогда немцев. Не то что я один там был и был за все это награжден. Я никогда не говорил, что один где-то был, когда этого на самом деле не было. Вот единственный раз я был один, когда вот так связь нужно было восстановить. И то меня чуть не наказали тогда. Но у нас чистые дружеские отношения были с генералом и сослуживцами. Ну а как могло быть по-другому? Что, мы должны были находиться в роте и иметь вражду друг к другу? Нет. Но сам поступок был такой, что нервы не выдерживали и старался сделать все быстрей-быстрей. Все трясется. Обстановка была такая, что не то что своя собственная жизнь в опасности, а поймите правильно: без связи остался командный штаб. Это сама обстановка заставляет трястись, вот в чем дело-то. Так и там, мы тогда отбивали немцев. Но вот я тогда задел случайно Вильсева, я вам об этом рассказывал.
- Случаи паники, трусости были?
- В нашей дивизии этого не было. Вот представьте, значит, вот такую ситуацию. Вот генерал Харламов однажды попал в окружение. Рыба большая! Притом немец знал, что там, где находится генерал Харламов, там готовится наступление. Потому что эта дивизия была резерва Верховного Главнокомандования. Ее направляли на прорыв. И попала вдруг она в окружение. Дюбко, старший лейтенант, вызвал огонь на себя. Анатолий такой. Ну и вот, когда вызвал на себя, сделал прорыв нам. Вышли все, не то что генерал вышел, а все вышли. А с Анатолием Дюбко много было таких диспутов. Его трижды представляли к присвоению звания Героя Советского Союза. То за одну операцию, то — за другую. Там тоже вещей много всяких было. Но впоследствии ему присвоили звание Героя Советского Союза. И было вот такое явление. Когда вот соберутся его однополчане, выпьют, то говорят: «Толя! А я не герой что ли? Я тоже мог бы им быть.» И знаете, как обидно человеку бывало в таких ситуациях. Ведь бывают такие явления! Со мной иногда было такое явление. Я же никогда не хотел такого. Но бывала со мной на фронте иногда дурость, я это допускал. Ну представьте, что вы с юмором как-то иначе переносите фронтовую обстановку. Так что у меня где-то протекало не то чтобы надо было. А люди — они, допустим, где-то и серьезные. Помню, после войны, когда собрались в первый раз в Москве бывшие воины 10-й гвардейской армии, был там такой Казаков, бывший командующий армией. Ну раз собрались люди, все хотят что-то сказать. Все, безусловно, рады этому событию, собрались в первый раз. И все боятся. Вышел я на трибуну. Поздравил всех с Днем Победы. Произнес здравницу в честь нашего правительства и командования. Начал так: «Пламенный привет от маленькой Эстонии, большой-большой привет победе, победа — большая.» Все улыбаются так вот. Потом добавил: «И особенно большой привет моим бандюгам фронтовым». А там в зале прибавляют: разведчикам. И когда сказал здравницу в честь нашего отважного генерала Харламова, весь зал встал. А там ведь была вся 10-я гвардейская армия. Вот настолько уважали Харламова! Кузнецов был. Фотоаппарат у меня тоже был. Вот он хотел сфотографироваться с генералом. Вот я фотографировал его так вот. Старший лейтенант он был тогда. Это порядочный человек, замечательный был воин. Помню, как-то однажды я должен был выступать в Ленинграде на фабрике «Светлана» - есть там такая фабрика. И вдруг встречаю жену своего фронтового командира Ульяницкого. Она мне говорит: «Иван Захарович, мы немножко собрались. Пожалуйста, по присутствуйте вот так вот с нами.» Не мог отказаться я от этого. Сказал тогда этому Кузнецову (он был замечательный командир): «Ваня, увидишь секретаря парторганизации, мы с ним договорились встретиться, скажи, что я обязательно буду. Видишь, человек просит.» И он же видит, что человек действительно просит меня поприсутствовать с ними. Он мог сказать: «Война-то кончилась. Что я тебе, мальчишка, и побегу?» Ваня ни одного слова не сказал. Сказал только: надо! Об этих людях, когда их вспоминаешь, думаешь: как же много хороших таких людей, которых мы никогда не ценим. Или еще, к примеру, случай. Был у нас сержант Филиппов такой. Так он портсигар взял мне и сделал. Я же курил тогда махорку. Портсигар мне сделал алюминиевый такой. В магазинах такого не сделают. Такого не купишь, как он сделал своими золотыми руками. Ложки алюминиевые делал. Потом, когда я уже жил здесь, в мирной обстановке, не знаю, куда это ложка делась с портсигаром.
- В разведку часто ходили?
- Нет, в разведку редко ходили. Только в том случае, если на то была крайняя необходимость. Это — раз. Во вторых были специальные люди по разведке. А мы вот так вот с этим дело иметь приходилось: только когда надо было. А так мне за всю военную жизнь приходилось непосредственно три раза в разведке быть. Ну первый раз «языка» взяли. Второй раз ходили, никого не брали, просто так данные собирали.
- А как немцы вели себя, когда их захватывали?
- Ну это было в зависимости от психологии человека. Ведь всяко вели себя немцы. Были фашисты, которые понимали, что война проиграна. Были недовольные наподобие Немцова, который сейчас Путиным недоволен. Так были тогда такие среди немцев, которые чем-то недовольные были. Но нельзя сказать, что все немцы положительно были настроены в отношении Гитлера и его политики. Были, конечно, и фанатики. Но были и здравые люди. Но вот спрашивается: вот этот солдат немецкий, который взял нашего раненого солдата на руки и нес к нам? Это о чем нам говорит? Это говорит о том, что в людях сознательность жила. Ведь он шел не убивать нас.
- Власовцы воевали против вас?
- Против нашей дивизии они не воевали. А так они воевали, это да.
- Бывало такое, что немцы охотились за «языками»?
- Ну а как же? Обязательно такое было. Я знаю одно. Ну был у нас, например, один капитан. У него усов не было. Возглавлял группу. И когда пошли на задание, никто не появился, никто с задания не вернулся. Ничего не сделали. Что стало с группой? Я подозревал, что кто-то мог работать на немцев у нас. Там тоже могли быть. Кто — вот это другой вопрос. Предательство еще такое было. Могу сказать еще и следующее. Когда я в начале войны в Москве еще учился, там в июле, по-моему, 17 самолетов прорвались на Москву. Точно сколько их было количество, я не помню. Так там в некоторых местах сигнал светом подавали немцам. Значит, предатели-то были. Почему меня так отпустили? Я был учащийся училища. В войну послали на Урал. Но меня отпустили домой. Я еще болел брюшным тифом. Мне дали одежду, чтобы я как-то добрался до дому. Горком комсомола принимал тогда меня.
- А ранены вы были?
- А я во время войны контужен был. А контузило меня, значит, так. Но давайте, во-первых, представим себе: что такое контузия? Вот представьте, скажем, себе, что такое-то дерево есть. Вот человек, а вот, скажем, рядом от него дерево. Вот летит в тебя снаряд. Вот попадает это, скажем, вот сюда. Осколки идут туда. Разрывная волна идет туда и сюда. Больше в одну сторону. Так со мной и произошло. Так вот, когда на меня пошла разрывная волна, я потерял дар речи. Я не мог говорить. Паршин, с 1916-го года, рябой был такой солдат, он рядом со мной был. Так вот, меня прихватила верхушка дерева, а он, Паршин, попал под бревно. Так кому страшнее было? Естественно, ему, он был под бревном. Меня ветками накрыло, а он под бревном был. Так вот, он вылез из бревна, помог мне выбраться оттуда. Обратите внимание, насколько пошло все это... Но это зависит от того, на кого как и что подействует. Я и сейчас, когда начинаю нервничать, у меня вроде как наскок слов начинается. Все это — из-за полученной контузии. А когда я разговариваю, признаков никаких нет, что есть это. Так он, Паршин, тоже стал заикаться. Так вот, когда я стал рассказывать про эту Марию, которую этот фашист самый настоящий хотел изнасиловать, которая была медсестрой, я не договорил того, что я к ней потом со своей контузией попал. Жена Харламова — она была военврач. Почему мы, кстати, собственно, сблизились. Причем, после войны она приехала как к родным к нам в Тойла. А вот эта Мария, медсестра, она же из госпиталя выводила меня, там же нет снарядов, и вот, значит, выходила на улицу и говорила: мама, папа. Она учила меня как ребенка говорить. И в то же время она была женщина, которую я спас от нашего фашиста. Понимаете, как переплелось вот это все в жизни. И потом получилась такая вещь. Кончилась война. Я в Луге продолжал служить. Там артиллерийское соединение было. Я был знаком с девушкой. Иду я однажды с ней под ручку. Идут женщины. И с ними идет, значит, эта Мария. Она подбегает ко мне, обнимает, говорит: «Ваня, здравствуй!» Эта девушка, с которой я был, Петрова Галя, так убегает сразу же от меня. Женщина, которая меня обнимала, Мария эта, шла с мужчиной. Она говорит: «Девушка, идите сюда!» Если при тебе обнимают твоего парня, какая девушка будет стоять с парнем-то? Потом объяснила Мария этой Гале: это фронтовой мой друг, мой спаситель. Я так до сих пор и не знаю: сумел ли фашист что-то с ней сделать? Но я считаю, что он не смог, потому что трусы были погнуты у него, но не смог, не вздернуто у него было там ничего. А ведь у нее ранение тогда было получено. Там у нее плечо было, по-моему, задето. Я перевязал, а в другом месте постеснялся перевязку сделать: впервый раз женщину все-таки видел. И встретились мы с этой женщиной Марией, которая лечила меня, в Луге в мирное время. Вот ведь как бывают вещи-то! Если ты делаешь добро — это все равно как-то откликнется, а если ты делаешь зло — то зло откликнется.
- Страх испытывали?
- Там уже не испытываешь.. Конечно, я не могу сказать, что я был настолько герой, что мне ничего не страшно было, что вообще ничего не страшно. Все равно боишься. Вернее, все равно опасаешься, что могут убить. Не хочешь, чтобы убили. Но там уже привыкаешь к обстановке. Но уже не знаешь, откуда страх появится. Вернее, смерть появится. Потому что может дурной какой-то снаряд прилететь и разорваться. А так что по поводу страха можно сказать? Понимаете, если я скажу, что нет, не испытывал страха, то буду врать не то чтобы вам, а в первую очередь самому себе. Ведь никто не хочет умирать. Если кто-то говорит «а мне все равно», ерунда. Или он ненормальный. Или он врет самому себе. Почему? Потому что представьте. Один фронтовик сибиряк, который прибыл защищать Москву, они стояли у нас дома, перед фронтом-то. Он дал мне письмо написать в соответствии с Библией. Там из стихов были выдержки. И говорилось в этом письме, какая жизнь, как она Богом дана, как ее надо прожить. И там он пишет, что надо не просто принять собственноручно, но и принять с сознанием сердца и разума все это дело. Я письмо это так всю войну продержал. Ну там стихи были. Ну а поскольку я любил дурачиться, я не скрою, получилось, что когда попал под обстрел, шел с передового наблюдательного пункта, я — один, я все молился: «Господи, Иисус Христос.» Я не хотел, чтоб я был убит. Прекратился этот обстрел. Я пришел. Шинель была пробита этими осколками. А ребята хохочут: «Слушай, Вань. Опять ты все придумал.» Они не поверили, что шинель была на мне. Они не поверили мне так что.
- Что больше всего боялись: бомбежек или обстрелов?
- И то, и другое было страшно. Все это было в зависимости от того, какая была обстановка. Тут нельзя было как-то определенно считать. Немцы бомбили. Они даже, когда я восстанавливал связь, помню, бросали мины лягушечные. Он как бросают их, так те подпрыгивают и разрываются. И поражают как живую силу, так и технику. У немцев тоже много было новшеств. Это — раз. А во-вторых, если честно сказать, а честно мы должны говорить, кроме того что полководцы были главные, еще и у людей было желание победить. И шли на смерть, не просто так от смерти уходили, а шли на смерть. Потому что 27 миллионов ни одна армия так не потеряла за время войны.
- Как к Сталину на фронте относились?
- Ну на фронте как я относился? Объясню такую вещь. Было с этим у нас так. Вот там, на фронте, допустим, у нас собирают собрание. И на нем пишут такое, предположим, обращение к Сталину: «Дорогой товарищ Сталин! Мы, бойцы и командиры такой-то армии, такой-то бригады и такого-то корпуса, воюя так-то, собрались на таком-то общем собрании с военнослужащими, клянемся победить и разбить врага и никогда не отдадим своих рубежей.» И там перечисляется, что предлагается сделать. И пишем, что по поручению. Вот так мы писали во время войны. И клятву давали. Все это одобрялось. После войны, когда я находился в политотделе 10-й гвардейской армии, то нашел в ящике все письма, обращенные к Сталину. Это их туда принимали просто. Сталин никогда их не читал, до Сталина не доходило это дело. Это просто поднимался дух армии. Вот такая была картина. А если говорить еще о Сталине... Помню, однажды после войны один полковник авиации читал лекцию про войну. И договорился он до того, что Маленков носил красную папку Сталину. И вот, значит, по его словам, Сталин тоже появлялся на фронте и красную папку эту тоже, значит, носил. Короче говоря, что-то вроде ординарца был Маленков. Поймите меня правильно. Маленков был большой руководитель государства. А Сталин — выше всех. И какой-то полковник несчастной авиации не мог видеть ни папки Маленкова, ни Сталина. Поэтому я сказал: «Товарищ полковник, а вы сами Сталина видели на фронте, когда он папку передавал Маленкову?» Он сказал: «Не видел.» В общем, врал-врал, крутился-крутился как мог. Ведь иногда люди хотят показать себя всезнающими. А это не говорит о том, что люди знают все. Вот вчера буквально у меня был такой разговор. Вот о вере, скажем. Если меня спрашивают по вере: что-нибудь ты знаешь? Я отвечу: знаю, как с такого-то района проехать на автобусе до такого-то места. Вот так же и по поводу того, что касается веры. В переносном значении я знаю, как от греховности перейти к духовности. А как это сделать — об этом я ничего не знаю. Почему? Потому что для того, чтобы сказать «знаю», нужно много знать. Ведь вера создается десятки тысяч лет. Она на чистом поле не родилась.
- В партию во время войны вступили?
- Я в партию вступал как отличившийся в бою. Это давало такое, значит, мне право после войны: что без утверждения ЦК меня не могут наказать без партийных органов. Чем я и воспользовался, когда у меня были не совсем хорошие отношения здесь, с руководством города. Мазин был такой главным, а прокурором был Евдовин. И вся прокуратура пошла на меня. Борьба много лет шла: два с половиной года борьба шла. Мне на бюро горкома партии пытались объявить строгий выговор с последним предупреждением. Когдла я сказал: «Товарищ Мазин, вы руководитель партийной организации или представитель-фашист с гестапо? Кто вам дал право так повышать тон, если я больной, если у меня бюллетень на руках? И вы ведете себя так...» У меня карточка так и осталась чистой. Я вышел добровольно потом из партии, никто меня оттуда не исключал. Когда началось все это дело, вся эта возня, я написал апелляцию в Москву, уехал отсюда, чтоб меня больше не тревожили.
- А политработники встречались на фронте? И что вы можете о них как людях сказать?
- Обязательно политработники встречались на фронте. Хочу сказать, что всякие были политработники. Чтобы не быть голословным, скажу так. Люди есть люди. Береговой был такой у нас политработником. Он даже откуда-то венерическую болезнь прихватил. А он был секретарь парторганизации дивизии. Всякие были. Ведь я за всю жизнь, а жизнь у меня была сложная, всяких людей встречал. Хочу сказать следующее. Я немного отступлю от темы. Я в детстве я был очень верующим человеком. Потом, когда был пионером, когда говорили, что Бог - это ложь, никто не мог склонить меня в отношении веры. А однажды меня склонило одно событие. Один так священник, если его можно так назвать, отпевал умершего. А он немножко выпивал. Это не анекдот, не сказка. И выпил так, что он пошел в пляс вокруг у гроба. Все, у меня как будто обрезало все. И когда коснулось разговоров, один духовный отец мне сказал следующее. Я сказал ему: «Вы поймите: как я могу верить этим людям?» Он мне сказал: «Вы скажите, дорогой, вы видели: это Бог пошел в пляс?» Я говорю: «Не-ет.» «А кто пошел-то?» - стал спрашивать он меня. «А кто отпевал умершего.» «Этож человек?» - спрашивает он меня. Говорю: «Да.» «Так о чем вы говорите? Человек, мы все грешны. А вы хотите на что-то сослаться! Еслиб вы увидели, что вокруг гроба Бог пошел в пляс, то можно было сказать: к чему он это делает, чему он радуется-то? Человек. Он совершил грех. Так а чего тогда Бога не признавать? » Вопрос в следующем: правильно надо все воспринимать, что есть. Тогда все правильно. А то, что начинает казаться, это не говорит о том, что так должно быть. У меня встреча с этим священником была в 1955 или 1953 году. Не помню этого точно. Там был местный священник. И когда я ему начал говорить о недостатках священника на родине, он мне это сказал. Он сказал, что поклоняться надо Богу. А к священнику надо прислушиваться. Что Бог был, есть и будет.» И вот этот простой духовный отец как-то чисто по человечески мне объяснил. Притом он не кончал ни академии, ничего — курсы попов просто когда-то заканчивал.
- А политработники вообще шли в бой?
- Всякие политработники были. У нас тоже, я вам говорю, были политработники. Вот вы представьте: был вот, скажем, политработник, я забыл его фамилию. Когда Кожемякин в бой пошел, он повез орден Красного Знамени тогда ему вручать, вместо ног, этому Кожевникову-то. Он был хороший политработник. После войны мы в одном кабинете с одним майором сидели. Фамилия его была Меготин. Представьте, вот он был политработник. В одном кабинете у нас с ним было два сейфа, два было стола. Два человека в одном кабинете были. Если бы я был подлым, я мог наделать ему подлостей. Его выгнали бы тогда из армии. Он часто забывал ключ в сейфе. А это уже нельзя было делать, и если бы узнали, то посчитали бы, что он не может работать. Но я этого не мог делать. Я сам отравлялся по одному делу. У меня желудок после этого стал больной. Меня могли отдать под суд, но не отдали. И этот Меготин — это был порядочный человек. И это тчеловек забывал опечатать сейф. Помнится, я опечатывал его сейф, потому что был майор Кузнецов, который проверял тогда все это дело. В первый раз он боялся, что выгонят. Но я не говорил ему так, как могли бы ему сказать некоторые: «Ты смотри: я тебя спас, тебя выгонят.» Я этого не делал. Я работал секретарем политотдела. Матросов, который амбразуру закрыл, он с нашей армии был: с 10-й гвардейской армии.
- С органами СМЕРШ приходилось во время войны сталкиваться?
- Ну я могу рассказать такой вот случай. Ведь я приводил вам пример, когда старшина, вместо которого меня поставили, и я подозреваю его в этом до сих пор, он оружие украл. Со мной беседовал по этому поводу один смершовец. Нельзя сказать, что они все были сволочи. Не надо так говорить. У них есть какие-то наплывы иногда бывают. Но они же тоже выполняют свою функцию. Помню, когда я был в политотделе, начальником политотдела был подполковник Куликов. Он был настоящий порядочный человек. У меня его фотокарточка есть. Замечательный человек. Ездил когда-то в отпуск и заезжал к его родным. Он порядочный человек, только это могу про него сказать. Он подписывал и отпечатывал на машинке приказы. От него я и научился печатать, - на фронте не мог так печатать я. Так что я печатал все это дело, а он только подписывал. И была однажды напечатана секретная директива о политико-моральном состоянии вооруженных сил сухопутных войск, где указывалось, сколько дезертировано, сколько самострелов, сколько изнасилований было у нас, в общем, там был описан весь букет армии. И по этой директиве он писал, какие проводятся мероприятия для того, чтобы не допустить этих явлений у нас. У нас, я прямо скажу, явлений таких не было. Отпечатал эту директиву. При этом он, Куликов, расписался в журнал. Он расписан, он получил эту директиву. Знал, что он принес эту директиву. Кинулся искать я: этой директивы нет. А за потерю совсекретной директивы полагался трибунал. Докажи, что ты не передал врагу! Чем докажешь! Ну нет — и нет директивы. Он с офицерского домика приходил. Он расписался в журнале. Я знаю, что он приносил эту директиву. Но нет ее! И что получилось? Что случилось? Я не хочу, чтоб меня судили. Притом я мог сказать: «А мне не принес Куликов! Пусть отвечает.» Но я при нем расписался, что получил действительно, потому что я знал, что получал ее. Куда он дел — другое дело. Титькин — был начальник медотдела в нашей дивизии. И у меня от него был мышьяк от грызунов. Я взял этот мышьяк и употребил. Я много мучаюсь сейчас так из-за этого. И позвонил тогда начальнику контрразведки корпуса: «Поймите, товарищ полковник, я не был подлецом и не хочу им быть, но я вынужден покончить с собой, поскольку такое несчастье.» И вы представляете, зимой в комнатных тапочках прибыл он ко мне. А кабинет политотдела — секретная часть, общий отдел охранял часовой, около знамени стоял он. Так он, часовой, не может же разговаривать. И раз прибыл начальник особого отдела корпуса в комнатных тапочках, значит, наверное, не думал, что тут так подлецы сидят. Разговаривать нельзя было с часовым. А как в кабинет было попасть? Я в кабинете. У меня завалялась и все так. Что получается? Он спрашивает у часового: он сдавал кабинет? Если я сдаю разводящему, а часовой принимает разводящего-то, то часовой знает, что я сдал. А если я не сдавал или кто-то, он знает, что кабинет не сдан. То есть, пока не сдан, я могу приходить и кто-то может зайти. И начальник особого отдела сказал часовому: если кабинет так не сдавал, то махните, если сдал — кивните. Он так как-то сделал. Вскрыли кабинет. Отправили меня к Титькину. Титькин, предполагая, чем я отравился, очистил мой желудок. Через два дня я прихожу в более-менее нормальное состояние. Но у меня так все горит так. Теперь — дальше. Меня положили, но не могут же из-за меня так приостановить работу. Кто-то должен вскрыть сейф, кто-то — заниматься там, переписать, что там есть. Все это делают. Но я-то не знаю, что там делают. Меня интересует: какая судьба у меня будет? Мало того, что директивы нет, есть еще и попытка на самоубийство, покушение на себя, что тоже судится в армии. Смотрю: пришел этот Меготин. Он поздоровался так. «Отошло, но плохо, я не знаю, чем это кончится», - говорю ему об этом. А об этом происшествии молчу, не разговариваю, потому что могут подстроить — откуда я знаю? Пришел Крейзер, начальник особого отдела был. Спрашивает: «Вы согласны что-то Меготину передать?» Сам вопрос: вы согласны Мегтину что-то передать. Значит, не так страшно, раз спрашивают моего согласия. Потому что если что-то такое случится — то с тобой и разговаривать не будут. Я сказал, что я согласен, я хочу объяснить, что я не делал какую-то глупость. «Вы уже сделали одну глупость», - сказал он. И все, они ушли. Меготин все принимал. Меготин не может быть подлецом мне. Не может же он быть подлым! И второе: нельзя в этих вопросах где-то и чего-то подсиживать. Идет день, второй. Через неделю я поправился. Мне опять дозволили получить пропуск и допуск в караульное помещение. Опять я принял все. Но я не знаю, где директива. Все молчат. Со мной все здороваются, я приветствую, все всё отвечают, что дальше, как дальше... Проходит день, второй, неделя. Месяц проходит! Поймите: месяц прошел. И никто не наказывает меня. А ведь это покушение на самого себя было — это явно зло. Тоже должны судить за это. Никто и ничего говорит. И через месяц меня вызывает к себе начальник контрразведки. Первый вопрос такой задает: «Как у вас с Галей дружба идет? У вас есть с ней близость» А Галя, это та девушка, фронтовичка Мария при которой обнимала меня. Я говорю: «Мы просто дружим. Нет, никакой близости нет. Просто дружим. Просто общаемся, целуемся, обнимаемся.» Причем, что характерно, сразу обратил я внимание на это, как только зашел я в кабинет, он закрыл сейф. Значит, тут что-то серьезно. И вот он в течение двух часов вел разговор около и рядом. И после двух часов начинает еще вести разговор. «А вот в отношении директивы. Где?» Вы обратите внимание-то. Еслиб как зверь бы был - то он сразу пошел напрямую говорить. А то все крутил: как здоровье, как еще там что, встречаетесь ли с Галей, как там все вообще. И представьте, когда я начал ему объяснять, что я эту директиву никому не передавал, что не знаю, как это все получилось, что ничего я не знаю, он сказал: «Ты знал, что ты делаешь. Может быть, понял ты (не «вы», а «ты» начал он мне говорить, - а это был признак, что у него гнев).» И начал бросать на меня все эти папиросы. Начинает кричать, кашлять и бросать эти папиросы. Не сигареты, а папиросы он курил. И только я захотел сказать «не надо этого делать, я человек», как он закричал, захрипотал на меня: «Я не хочу слушать! Замолчи!!!» И вот после этого примерно минутного гнева начал так более внушительно говорить: «Вот смотрите, через вашу подлость Дюбко надо уволить, а он Герой Советского Союза, он давал рекомендацию на вас, Куликова надо выгнать с армии, а он тоже давал, Щоланда, заместителя командира бригады по второй части тоже надо выгнать, он тоже давал рекомендацию вам. Почему давали? Знали, что честный. Так скажи: ты честно сделал так?» Я сказал: «Я не был подлецом и не буду.» Он говорит: «Ты уже сделал подлецом.» Он орал на меня. И уже когда охрип, сел рядом и сказал: «Извини. А ведь ты подлость сделал. Я почему так кричу? Мне так обидно, что в нашем соединении нашелся человек, который проявил такую трусость. Нашлась твоя директива, в печку, ты ее не успел сжечь.» А я сжигал все так. А черновики надо сжигать. Потому что иначе проверяют так уж. Он мне сказал: «Я все б перевернул, все равно нашел бы. Запомни на всю жизнь это!» Меня не отдали ни под суд, ничего этого не было. А так, конечно, все это было. Поэтому нельзя сказать про особистов: все подлецы. Видите ли, меня надо было наказывать, а их, этих офицеров, увольнять. Потому что кому они давали рекомендацию?
Теперь — дальше. Приведу такой пример, который был вот здесь, в Кохтла-Ярве. Я слушал, да и сейчас так иногда слушаю иностранное радио. Слушал Канаду. Но никому я не пропагандировал, никому ничего не говорил так. Но есть такой Вильгельм, который работает сейчас у сектантов, это - бывший стукач КГБ. Можешь спросить: а откуда я знаю, что он стукач? Что, у меня документ на него есть? В советское время на территории Советского Союза находились десятки тысяч станций глушения иностранных радиостанций. В том числе в Пуру стояла эта радиостанция. Он так находился на обслуживании этой станции глушения иностранного радио. Лица, которые обслуживают эти радиостанции глушения, они должны и обязаны давать подписку о негласном сотрудничестве с КГБ, то есть, быть стукачами. И вот у меня был случай, когда, откуда кто, а может — кто и приезжал, здесь, в Йыхви, по улице Пионери был. Там финский домик был, я там жил. Может быть, проверяли там, не знаю. Кто там и как там был, не знаю. Но я подозревал на этого стукача, поскольку он иногда крутился около дома. И вот он, значит, КГБ-шник один, пригласил и начал кругом и около ходить. Ну и дошло до того, что он когда наступает на больные места, я немножко начинаю нервничать. Я не терплю этого. А особенно когда человек фальшивит. А он фальшивил. Ну он начал меня подкусывать. Звание его подполковник было. Забыл, как его зовут. Я не стерпел и сказал ему тогда так: «Знаете что? Вы здесь брюки трете, а подлецов вы не видите.» И назвал три фамилии. Жена одного из них работала в милиции 30 лет. В паспортном столе. Это в милиции давали справки как на установление личностей. И при этом всех я подозреваю. Один был врач-гинеколог. Другой на шахте работал, по и соседству со мной жил. Все вынюхивал меня, что там да и как. Третий в комбинате работал в Тарве художником. Венгер был. «Вы занимайтесь этим дерьмом», - сказал я ему. А он начал упрекать меня в том, что я иностранное радио использую, пропагандирую этот строй-то. Я ему пошел навстречу тоже. Ну и впоследствии я тоже так понял, что я им больше нахамил, чем он мне. Сказал ему: «Если хотите, судите меня. Так судите меня. Но опять-таки, чтоб меня наказать, вы не можете, пока ЦК не утвердит.» Вот это директива такая была. Что я принят как отличившийся в бою в партию. Улетел кандидатом, а пришел членом партии. А кандидатом я прошел около года, даже меньше. И вот представьте, на второй день случилось следующее. Я ушел же оттуда. Он, правда, немножко резко сказал: «Знаете что? Вы настолько дерзко себя ведете, что мне неприятно вас держать.» «А мне неприятно здесь находиться.», - сказал я ему. Обменялись, короче говоря, мы с ним любезностями. Я и ушел. Вот в таком тоне. На второй день я собирался на работу. Он приехал ко мне домой. Он же начальник как бы был. И можешь представить, он начал с того: «Вот вчера мы много нахамили один другому. Я вам скажу одно. Я перед вами не отчитываюсь, хоть вы нас и назвали дармоедами, что брюки трем. Мы не трем, мы работаем. Я перед вами не отчитываюсь. Но поймите, - сказал он и назвал человека, который был умершим уже и находился в этом концлагере. Мы 10 лет его искали. А он 15-й год как умер. Так вот представьте: мы работаем или нет?» Он привел пример, что не дармоед, а действительно работает. «А то, что в общем вас затронули, не надо обижаться, - сказал он мне. - Зачем вы слушаете? Что вам, нашего радио мало? Слушайте его, пожалуйста, сколько угодно. Не надо, чтоб вы еще какую-то заразу нахватывали иностранную.» Потом он мне сказал: «Вы знаете что? Вы можете заходить в любое время ко мне.» Я сказал: «Я стукачом не был и не буду. А если что-то враждебное будет, я пожалуюсь в горком и к вам могу зайти.» Мы так с ним расстались. Правда, через полтора года он умер. Не то что я довел его, нет, просто у каждого свое здоровье. Это — два прмера. А когда я был на Дальнем Востоке, когда мне особист приписывал, что я хочу оголить Дальневосточную границу, так тот был аферист, а не работник. Даже в отношении этого отравления. Прошло каких-то там, наверное, полгода, а может — больше так. Он, бедняжка с поезда приехал, упал и ногу поломал. Вот эти люди, которые со злостью бросают сигареты, вместе с тем в них тоже есть что-то человеческое. Поймите так. Ведь каждый человек, если он человек, он делает что-то для того, чтобы выполнить свою функцию. И обижаться на них нельзя. Это — раз. Во-вторых, когда мне пришлось бороться с Мазиным и с другими, это было здесь, в Кохтла-Ярве, тоже люди разбирались, они мне помогли. Вот сейчас по этой системе я не могу добиться ничего. Почему? Потому что здесь нет такой власти, при которой бы ты чем-то занялся бы. Тогда была власть. Да, мне многое не нравилось в ней. Мне не нравился бюрократизм, мне не нравились некоторые другие вещи, но тогда и это было. Сейчас этого нет. И всех нельзя под одну метелку грести. И вопрос каков? Вот, допустим, этот Вильгельм. Раньше был стукач в КГБ, а сейчас стукач в сектантах. Эти люди — они уже формировались с вирусом подлости и вылечит его может только подлинная вера. То, что он в другой вере находится, она его не вылечит. Почему? Они обманывают. Это вера мошенников..
Остановлюсь еще раз на КГБ. Кончилась война. Все довольны, что война кончилась. Вот вызывает этот начальник контрразведки после войны меня. Говорит: «Ну как, Рассолов? Доволен, что кончилась война?» Естественно. Что вы ответите? Нет? Естественно, что да. Ктож этим не доволен? Задает вопрос: «А вы знаете что? Остатки фашизма этого еще есть. Заброшены повсюду. Вы согласны?» Я: «Да.» «А вот как вы рассматриваете: надо уничтожать этих подонков?» - говорит. «Да.» «Я вас не агитирую, поскольку поймите: вы сказали, что скучом не были и не будете. Я хочу вам так просто предложить: если вы согласны добровольно поехать и вести борьбу против фашистов.» Е мое. Значит, как: соглашаться или не соглашаться? «Какая функция будет?» - спрашиваю. Говорит: «Функция будет такая. Не вылавливать: ты фашист или нет? Никто этого вам нет объявит. Вы будете находиться в штатском. С вами будет еще два человека. Будет старший звена. С вами старший будет капитан Березовский.» И называет фамилии. «Это что, тоже?» «Нет, не путайте одно с другим. Это подконтрольно так, чтоб не было произвола. Не будете вы ни стукачами, а просто надо находиться в тылу врага и следить, что делается, есть там враг или нет. Нет, значит не трогать, есть — значит, надо вылавливать.» И дает задание. И система нашей деятельности была такая. Вот, допустим, такой Бурыкин наблюдает за мной. Бурыкин, который знает немецкий язык, его наблюдает другой. Допустим, меня убили. Это место занимает Бурыкин, сообщает Березовскому. Березовский тогда начинает командовать и вылавливать. Это не просто кто-то шушукает, кто-то не так сказал. Цель одна: надо выловить фашистскую нечисть. А не просто кто там сказал, так. Поехали. Много было там всяких историй. И под конец был приказ Жукова: в связи громадным ущербом, нанесенным нашей родине войною, частично компенсировать это дело демонтажем предприятий в Германии и скота. И вот спрашивается. Меня обстреляли тогда у реки Неман. Кто обстрелял? До сих пор не знаю. Единственное, что партбилет остался в пергаментной бумаге и сохранился. А были фотокарточки и они подмокли. Но кто знал, что я в воду так полезу? Обстреляли. И вот, значит, собирали скот. Немцев уже не искали. И вот тогда я познакомился с Кольком, врачом, который был в американской зоне оккупации. Который потом здесь был, в Эстонии. И кончилось все тогда тем. Нам предлагали тогда и золото, и чего только не предлагали, чтоб корову отдать. Но мы погнали этот скот с Восточной Пруссии сюда в Эстонию. Потом - на поезде и в Ленинградскую область. И часть этого скота поумирала. А некоторые ездили туда по предприятиям выясняли, кто остался из фашистов, проводили демонтаж и вывозили тоже на территорию Советского Союза. У каждого были свои задания. Вот тогда и кончилась война для меня.
- А вы что больше любили: в наступление идти или в обороне стоять?
- У каждого человека, это так устроено, психология уже такая, что он всегда хочет идти вперед. Он не хочет останавливаться. Застой ему мешает... Конечно, нам хотелось и в баню сходить, потому что вши были. Все было. Чего скрывать-то? А когда ведь наступаешь, чувствуешь о том, что близится победа всех этих побед, всех без исключения. И кроме того, мне нравилось наступать. Я описал путь своей дивизии. Но мы убивали немцев. И Ульяницкий, помню, мне как-то говорил: «Вот этих людей родители воспитывают. И они мигом, которых таким трудом вырастили, они погибают здесь.» Вместе с тем люди встречаются не просто погибшие, а какой взгляд у него был в последний момент, перед самой смертью. Они же гибнут. А мы должны их убивать!!! Потому что иначе нас бьют. Мы обороняемся, нас бьют. И вот эта психология — она тоже воздействовала на нас. Тот же Колпаков кричал: «Народ! (не бойцы и командиры, а народ) Запомните! Чем больше побьете фашистов-паразитов, тем мы больше останемся в живых.» Он просто говорил. Правда?
- А у вас какие на фронте были отношения с командирами? Уставные?
- Общение проходило у меня так с командирами. Ну вот представьте: ну вот командир батареи Бушков, царство ему небесное. Я любил его. Притом мы спорили с ним. То есть, я с ним спорил, если в чем-то с ним был не согласен: говорил, что, мол, извольте, нет. Но достаточно было того, чтобы появился и пришел кто-то из начальства, как я тут же начинал ему говорить: товарищ командир, ваше приказание выполнил. Все, на это любо было посмотреть! А мы иногда как петухи спорили-то. Но спорили не то, чтобы кто-то чего-то доказал, а из-за того, что кто-то в чем-то мог быть не прав. Надо убеждать было человека в этом. Вопрос какой? Вот во время войны я лежал в красно-советской больнице тогда. Со мной был Козьмичак, старый революционер. И вот можете себе представить? Этот человек каким-то родным мне оказался. Вплоть до следующего. Когда я оттуда, из больницы, выписался, должен был в школу учиться ехать. Мне должны были обмундирование дать, на дорогу чем-то заплатить, потому что у меня не было денег. Что было делать? Надо же чем-то было за дорогу расплачиваться. Так вот, он лежал в больнице. А мне было тогда 15-16 лет, но точно сколько, не помню. Он меня домой к себе с женой направил. Жена молодая такая была. Я думал, что это его дочка. Она говорит: «Ты побудешь у нас, соберешься, потом все подготовишь и тогда поедешь. Потому что в путь-дорогу поедешь.» Так вот, он рассказывал, как он женился на этой девушке. Она комсомолка была так, а он ездил по предприятиям, была у него так ответственная должность. И прихватил ее. Хотел застрелить, а потом подумал: «Какой я дурак! А зачем?» Я ему врезал, а ей сказал: «Четыре часа, чтоб были собраны вещи. Машина сейчас подъедет. Чтоб духу твоего здесь не было!» «А когда был в командировке, - рассказывал он, - присмотрелся: такая умная, такая шустрая. Думаю: а где она работает? Токарем.» И понимаете, вот он, Козьмичак, находился в больнице. Какая там философия могла у него быть? Но вот он мне высказал мысль, какими могут быть эгоисты. Эгоизм — самолюбие. И он сказал: «Эгоизм трех категорий есть.» «А как?» - спрашиваю. Говорит: «А так. Есть первой категории, который сам живет, а людям не мешает: живи и ты так. Бог с тобой, я не хочу тебе помогать. А жить тебе мешать я не буду. Хорошие эгоисты. Эгоист второй категории — это тот, который сам живет и другим не дает жить. Он делает что? Он все для себя делает. А вдруг подвернет? Но и то — такого эгоиста еще можно терпеть. Но есть эгоист третьей категории: который сам не живет и людям жить не дает. Вот зараза, этих эгоистов надо уничтожать, потому что они иначе никому жизни не дают.» Когда общаешься с человеком, у каждого человека что-то есть. Вот представьте, мне приходилось с судимыми людьми заниматься. У этих людей тоже разный подход был к жизни. И некоторые есть очень умные, очень честные люди. Это категория тех, у которых не надломлена психика. Вот возьмите такой пример. У машины рессора лопнула. Свари ее сколько угодно, на этом месте она опять снова лопнет. Именно на этом месте, а не на другом. Человек, который совершил преступление, психически надломлен. То есть, если он осознанно шел убить человека, ограбить человека, убить человека. Психика надломлена у него тогда! И сколько его не будут лечить, сколько ни будет свариваться он, рано или поздно это у него повториться. Малейшие какие-то случаи — и будет повторение. А другие люди — за растрату посаженные которые, они совсем другие. У него не было в сознании желания в психике совершить преступления. Он даже не ожидал. Или с шофером. Он не ожидал, что кто-то подвернется под машину. Посадили. Так более сознательные, более рассудительные люди оттуда выйдут. Вопрос такой: когда общаешься с людьми, что-то есть у любого. И когда я работал инструктором в Лужской школе механизации, там не знаю что за причина, один бывший судимый так любыми путями хотел со мной расправиться. Я его знать не знаю. А это было. Те лица, которые в группе были, тоже судимые.
- А на фронте судимые были?
- У нас в дивизии никого таких не было.
- А национальности другие, кроме русских, были?
- Были. И ассирийцы были, и грузины были, ну всякие национальности были. Они такие плясы делали, что это была настоящая художественная самодеятельность.
- А приметы, предчувствия были на фронте?
- Это трудно сказать. Вопрос как? Там же всегда предчувствуешь. Потому что сердце всегда болит. Почему? Потому что вопрос какой? Ну вот Четверов был такой, старший сержант или старшина. Был у меня. Вернее, так. Я пошел к передовому наблюдательному пункту и вернулся. И там откос был. Ну и набросал жердочек и прикрыл. Упадет — какие-то взрывы будут. Открыл американские консервы — тушонка. Открыл, говорю ему: «Давай, покушаем.» «Да нет, - говорит, - не надо, а то ранит еще так.» Вот каких бы то две или три минуты просидел, и все бы. Как будто не надо! Как будто бы предчувствие. Но у меня не было никакого предчувствия. На каких-то пять шагов отошел от меня. Мина раз — все... А комбату Бушкову, когда он погиб, из шкафа доски поломали и сделали ему гроб.
- А как вы считаете: во время войны справедливо награждали?
- А некоторых женщин и за передок награждали — прямо так скажу. Вот первая медаль, которую мне генерал Харламов вручал, - это ее я получил не с того, что я ему понравился — не понравился. Он знал, что был Ульяницкий там был. Там ведь тоже мог бы я не успеть туда швырнуться, и все, не было бы меня, и связи не было бы. Там надо было прикидывать сам момент этот: что и как делать. Определенные какие-то моменты — штрих определенный создается. Были явления так среди женщин, когда их ни за что награждали. Орденами. Потому что чем-то отблагодарить хотели. А так какой интерес меня награждать ни за что? Три раза шел материал на Дюбко Анатолия. У меня тоже его фотокарточка есть. Но он действительно рисковал не просто ради себя. Это надо понять. Он шел, чтобы нести ответственность — любыми путями, что если он и погибнет, но эти снаряды пойдут так, что выведут из окружения, которое немец подготовил, он делал стратегические мероприятия как факт. Но он же рисковал собой. Для кого? Для других. Это тоже надо рассматривать. А ведь это только на третий раз оформили, а то тоже задерживали. Тут ведь, знаете, такой вопрос. И притом: ну какой интерес был присваивать звание Анатолию из-за того, что он кому-то понравился?
- Из высшего командования встречали кого-то на фронте?
- Генерал армии Еременко был, командующий фронтом, помню, у нас. Ну он проезжал на машине. Не то чтобы он в бой шел. А так проезжал. А после войны видел Казакова. А генерала Харламова я, конечно, часто видел.
- На НП Харламова были?
- Вот у него был наблюдательный пункт около геометрической точки. А кто ему посоветовал, тоже так вопрос такой, его там разместить. Так что Еременко, командующего 2-м Прибалтийский фронтом, я видел. Он на машине часто приезжал к нам. Я его видел. Это не то что на передовых позициях командовал что-то, - нет, просто проезжал на машине. Жукова я тоже видел, когда проезжал тот на машине. Куда он ехал? Естественно, по службе. А непосредственно когда участвуешь в отражении или чего, там только видишь тех, кто непосредственно участвует в операции. Со стороны никуда не допустят туда человека. Почему? Потому что если находится на командном посту, на НП командующий, туда посторонние уже никуда не попадут. А так на машине проезжали эти большие начальники, и я их видел. А Харламов с нами был. Но, понимаете, еще когда он в окружение попал, Дюбко, за то, что тот вызвал огонь на себя, присвоили звание Героя Советского Союза. Я знал, когда присвоили ему это звание. Я в это время был в дивизии, но я не был там, где он непосредственно делал этот огонь на себя-то. Дивизия занимает плацдарм — это не то чтобы больше как весь наш район. Потому что там и техника, там кроме орудий и машины, там и медчасть, там и кухня, там и солдаты находятся. И вы понимаете, какая вещь? Вот запомнился такой момент, связанный с генералом Харламовым. Он говорит как раз о том, какой генерал был кристальный честный принципиальный человек. Шел бой. Страшный был бой. Не помню, на каком это было направлении. Было ужасно, в общем. Ну и так получилось затишье. Немцев отогнали. Взяли наши рубежи, мы находимся как в обороне. Харламов почти всегда поздравлял с победой. Короче говоря, обходил строй и всех поздравлял. Ну и вот: подходит. У одного солдатика три красных полоски и одна желтая: нашивки за ранения. Каждая полоска означает ранение. Красный цвет — это легкое ранение, а желтый цвет — это тяжелое, то есть, задета кость. Подходит Харламов к этому солдату и спрашивает: «А что, солдатик, у тебя?» «Ранение, товарищ генерал», - говорит. «И где вас так уж ранило?» Он, в общем, говорит, что там-то и там-то. «А вы давно в дивизии?» - спрашивает его генерал. «Третий месяц, товарищ генерал.» «А ка-ак ранило-то?» - спрашивает. «А так: в одной части я побуду - ранят, в другую часть прихожу — и снова. И так по всем частям.». Тогда он спрашивает его: «А у тебя бумажка есть, что ты ранен?» Тот достает. Солдат всегда носит с собой документы. Стоит начальник медотдела Титькин рядом. Спрашивает генерал Харламов: «Как он в бою вел?» Он начинает перечислять. Говорит: «Прекрасно вел себя в бою!» Он же видел, что он делает. Он не стесняется. «Если он хорошо вел себя в бою, вы направили материал о награждении? Материал представлен на него?» - спрашивает Харламов. Титькин отвечает: «Пока нет.» «Титькин, говорит Харламов, - смотри: у тебя два ордена, не считая медалей. А вот солдатик придет домой. Вот смотри: у него-то ранения. Ведь он столько-то сделал. Он ведь не просто находился в окопах и стрелял. А он ковал победу вместе с другими. Вот этот солдат приедет домой. Что, снимет штаны и ратный подвиг будет показывать на заднем месте, что у него ранение? Пойми, Титькин: надо людей тоже ценить.» Понимаете, как? А эти другие видят, эти другие слышат. Они знают, что он не просто отчитывает Титькина, это — подполковника-то. А он говорит правду. Вот в чем заслуга Харламова. Вопрос вот какой: не надо бояться сказать правду, хотя иногда она боком, бывает, обходится. Понимаете, вот как он, генерал Харламов, относился как-то с дущой ко всем, почему я и ценил этого генерала. Я приглашал в гости его. Он не был. А жена его, вдова уже была, у нас гостила так целый месяц в Тойла. Не хотела уезжать. Когда сын приехал. Ей так понравилось. Кстати, этот Титькин, который с ним был, начмед дивизии, он потом мне помогал, когда я контужен был.
У нас в дивизии у Харламова все было как-то по-родственному. Даже такой, помню, случай у нас был. Снаряд, чтоб его вытолкнуть его, в общем-то, зарядом, должна толкнуть, как говориться, невероятная сила. То есть, порох, который там в гильзе, выталкивает снаряд. С силой, порох. Естественно, он горит. Раз горит, значит вот эта гильза — она горячая. И горячая где оказывается? Там, где конец. Не там, где донышко, где начинается... А без рукавиц нельзя взять, сожжешь сразу там. Хотя там тоже горячее, но можно сказать, что не сожжешь. Где ж брать? И вот люди непосредственно которые были в этой дивизии, она называлась 27-я Рижская ордена Суворова дивизия Красносельская.... Своим не то чтобы боевым духом, а сплоченностью помогали. Я хотел брать, Филиппов говорит: «Бери отсюда.» И показал: потому что руки сожжешь, понимаете ли. Люди не то что так вели себя: раз ты не опытный, Бог с тобой. То есть, сама обстановка была такая: друг за друга переживали, друг другу помогали, вот что. И все это благодаря генералу Харламову. Он был строг, прямо скажу. Я к нему приходил. А я к нему тогда, ну как вам сказать, относился? Я был к нему расположен. Вот я был расположен к генералу Харламову, потому что этот человек, который не знает страха. Во-первых, он доверял мне. Представьте, если у него б не было доверия, когда он уже был в отставке, когда у него неполадки пошли там с руководством, разве стал бы он мне обо всем рассказывать? А он рассказывал мне. Он перспективный был, творческий генерал, замом командарма уже его назначили, а потом в отставку отправили.
- А в условиях каких жил генерал Харламов, как вы считаете?
- По сравнению с солдатами? Конечно, хорошо жил. Вот представьте себе такую вещь. Вот он должен готовиться не просто к тому, что завтра бой пойдет, а должен сосредоточиться, решиться, во-первых, на то, как это делать. То есть, кого-то приглашать. С кем-то обсуждать. Он приглашает, обсуждает, кто первым будет открывать огонь, каким образом будет это все делаться. Дивизия подчинялась ведь Верхновному Главнокомандованию. И когда все это начинается, все знают, что на участке фронта наступление готовится. И поэтому надо тщательно все делать, чтоб это было незаметно. Во-вторых. Харламов был каким человеком? Бывал иногда горячим, я этого не скрою. Но он честный был человек. Второй ыбл генерал потом после него командиром дивизии. Когда-то дворником он был. Такая эта его история была уже. Я почему это знаю, потому что после войны, ну когда война кончилась, мне приходилось их всех личные дела читать. Потому что был в штабе Ленинградского военного округа. Начальник отдела кадров там был генерал Смирнов, исключительно порядочный человек. Начальником штаба — Веревкин-Рахальский. Я его между своими людьми называл его «в веревках нахальный». Он был полудурок. Почему? Приведу такой пример. Наверху, где я служил, соединялись ступеньки со столовой: с одной стороны и с другой стороны. Ну идешь, бывает, по этим ступенькам. Что-то с волосами, допустим, не то. Встречается тебе на пути Веревкин-Рахальский и спрашивает: «Удостоверение!» Даешь ему удостоверение. Он говорит: «Зайдете потом ко мне.» Вы не знаете, за что. Это же генерал. А приходишь за удостоверением к нему, он вас отправляет на десять суток в Выборг на лесозаготовки. Значит, ему не понравилось, что волосы у тебя так взъерошены. И кто-то повернулся не так — за это тоже. Понимаете? А вот этот генерал, Смирнов, начальник отдела кадров, это умница был, это порядочный культурный человек. Лучинский был тогда командующим Ленинградским военным округом. Так вот, если говорить о Харламове, то у него было стремление быстро подготовить в соответствии с военной так обстановкой то, что требуется на фронте. Это хороший стратег был. Умница. Но он был генерал. А Конев был командующий. Харламов член партии, а тот — член ЦК партии. И когда начались разборки по техническим вопросам потом уже, генерал Харламов хотел то, что непосредственно он освещал. Ведь поймите правильно. Фронт, команда фронта — одна обязанность. А командование частями непосредственно — это другая сфера. Нельзя их объединять. Ведь, допустим, Жуков мог хорошо командовать фронтом, но не мог командовать полком. Это вопрос такой. Вы скажите: а как же так? Да очень просто. И вопрос зашел так он после войны. Но Конев всякую грязь собирал на генерала Харламова. Это было. Вот как сейчас собирают на Жукова. Харламов был со мной откровенен, когда мы с ним встречались после войны. Когда я приехал к нему в гости, то сказал, что Брежнев — председатель Верховного Совета. «Вы шутите?» - сказал он мне. Я сказал: «Нет, я не шучу.» Тогда он сказал мне: «Этого не хватало, тьфу.» Он не скрывал, он пренебрежительно относился к этому Брежневу. Я часто у него в гостях бывал. Я у него больше был. А потом жена его у нас находилась целый месяц. А так я приезжал часто к нему. У меня есть фотокарточка с ним.
- Пушки какие были?
- 152-миллиметровые.
- Сослуживцы остались по дивизии у вас сейчас?
- Здесь никого нет. А в России есть. Некоторые поумирали. Я писал в Центральный архив, искал. Но не только по поводу этого писал. Там ведь подбили около десяти танков немецких мы. И писал тогда о присвоении Героя Советского Союза посмертно Бушкову. Он действительно геройски погиб, и погиб как раз вот там. Мне сообщили с Центрального архива, что нет такой возможности.... А после Бушкова Миша Зотов был у нас командиром.
- Войну в каком звании закончили?
- Я войну закончил по-моему в звании старший сержант. У меня было много перипетий. Сержанта сняли, потом — снова присвоили.
- Из однополчан кто остался?
- Здесь, в Эстонии, никого не осталось, я вам уже это говорил. Был Вишняков. На фронте мы были вместе с этим Вишняковым. Он был здесь, работал тогда в горкоме партии инструктором. Но получилась такая вещь, что потом он покончил с собой. Хороший мужчина был. А если говорить о командирах, то вот еще был командир бригады Полюбин, с которым я тоже не дружил. Даже он приглашал бесплатно ехать в санаторий, был директором санатория. Я не поехал.
- А почему не дружили с ним?
- А когда я прибыл на фронт, он сказал: «Вы пойдете командиром взвода разведки.» Я ему сказал: «Товарищ полковник, я мало знаю обстановку, я не могу так.» «Я вас под суд бы отдал.» Ну что, спрашивается? Это — по-человечески? Я такого не люблю. Вообще много всяких людей, много всяких странных случаев бывало. Я вам уже рассказывал в отношении Каминской. То же самое хотел бы сказать и в отношении Терехова. Я писал в Орел: в Орловский совет ветеранов, в горком. Вопрос какой? Вот этот Терехов Володя, он после войны писал мне письмо: «Дорогой Ванюша, ты брат мой. Береги свое здоровье. Лучше меня похорони, но себя береги.» Приехал сюда, значит, ко мне. И выяснилось, что все, что он говорил, - ложь, которую я не терпел. В Тойла хотели кино о нем смотреть. А кино хотели снимать о том, как его трижды фашисты расстреливали. И ни разу не расстреляли. Но когда я-то собирал материал о людях войны и тыла, он превозносил себя... Но спрашивается: я ведь материал собираю, а не просто грязь хочу собрать. А он себя разрисовал Бог знает как. Но он, видно, не подумал. Но я ведь хотел объективности, а не просто того, кто как себя мне нарисует. Поехал я тогда туда, в Орел. Приехал. Спросил: кто знает, когда Терехов был подослан в город Орел-то? Мне там и сказали о нем: «А такой врун был. Как сейчас, врет он ли, кто его знает.» Ну каждый свое говорит. Пошел в милицию. Там один майор был. «Знаете такого?» - спрашиваю. Говорит: «Знаю. Ну во время войны я тоже был в оккупации, но я скрывал, потому что в то время был работником милиции.» А этот майор на пенсии уже был. Так он мне говорит: «Как он тогда улыбался фашистам, так он нам часто улыбается. Кому он больше улыбается? Это у него спросите. Один Бог знает. Никто точно не может сказать, кому он улыбался.» И я написал в Орловский исполнительный комитет народных депутатов в город Орел, а копию направил председателю Совета ветеранов 27 дивизии товарищу Полежаеву, в город Лугу. Так что он, этот Терехов, хотел преподнести себя героем, что он 30 раненых в бою вынес, что его трижды расстреливали. И закончилось тем, что я сказал: «Я не признаю лжи.» Но видите, в чем дело? Он у меня гостил. Как человека я принял его здесь. Спрашивается. Я собирал материал. Зачем мне врать-то так? Что трижды расстреливали его так, что сколько-то раненых с поля боя вынес он. Но ведь мне-то нужны не просто сказки. В самом деле! Я хотел людям преподносить только и только правду. Хорошо, я нарисую, опубликую, что Терехов вынес с одного боя 15 или 30 раненых. А тот, кто прочтет, скажет: «Подожди. А откуда он взял-то? Но не было такого боя, с которого он бы вынес хоть одного бы раненого.» И когда стали с ним говорить, я говорю: «Слушай, так. Ну в детский садик мы уже не ходим. Там можно такие шалости допускать. Я занимаюсь делом, а та мозги мне компостируешь.» Естественно, меня взбесило это вранье. Так он дошел до следующего. Ну поймите правильно. Мы хороним генерала Харламова в 1978 году. И он после этих похорон рассказывал своим однополчанам, будто меня осуждали у гроба. Даже если я буду в 1000 раз в чем-то не прав, что, будут у гроба так осуждать чтоли меня? Зачем придумал он такую вещь? А он сказал, когда приехал с похорон, что у гроба осуждали меня. Вот в чем дело-то! Начал там опять врать. Ну поймите меня правильно. Кто допустил бы из других бы однополчан, чтобы меня осуждали, зная о том, что у нас самые лучшие отношения с генералом Харламовым были? С его семьей, кстати, тоже. Потом его дочка писала, чтоб я ей помог в интернат устроиться, она была инвалид первой группы. В дивизии много людей было, которые знали Харламова. Был, например, и командный состав. Но обратилась его дочка именно ко мне, потому что знала, что я все равно добьюсь, что я все равно сделаю для нее. И вдруг писать такую ерунду! Зачем? Это — раз. Во-вторых, если бы писать бы обо всем полностью, я бы все равно не стал. Я хотел другого: не ври. Потому что если мы говорим о том, чтобы помнили о людях войны, так надо чтобы о них помнили, а не просто проклинали бы. Мы собирались на встречи. Мы были в Первомайском районе в Псковской области. Первая встреча была в Москве, где я выступал, там была, значит, встреча. Там был маршал Казаков и генерал Харламов. Но он был в штатском. Но когда я высказал здравницу в отношении генерала Харламова, он прослезился: сказал, что спасибо, ребятки, что не забыли, спасибо. Анатолий Дюбко там тоже выступал. Также после войны я поддерживал связь со школой в Резекне. Я с молодежью занимался. Сейчас не придают тому значения.
О таких странных людях еще хотел бы вот что я вспомнить. После войны я служил сначала в Ленинграде в штабе Ленинградского военного округа. Сначала началась там что, какая деятельность? Там майор с авиации был начальник пункта, а я был как заместитель. Так там такие вещи происходили. Допустим, вот он сержант, делал себя так офицер, а офицер делал из себя сержанта. В том числе был такой случай, что один именовал себя Героем Советского Союза. Вырезку из газеты показывал в качестве подтверждения. Фамилия и отчество совпадали у него. А вот звание там в газете было написано, что он капитан, а в личном деле проходил как старший лейтенант. Я говорю: «Все у вас совпадает. Поскольку у вас документов нет, надо направлять туда, в Верховный Совет. У вас выписка из газеты, указ. Вы поймите меня правильно. Вы проходите старшим лейтенантом по личному делу, а в газете указаны как капитан. Наоборот могло быть, что вас представили старшим лейтенантом и тут же присвоили капитана. Но тут нестыковка!» Он на меня тогда пошел: «Крыса! Кровь я проливал.» Все смотрят. Я позвонил Парамзилову, коменданту Ленинграда. С комендантского взвода прибыли так, забрали. Звездочка была у него на руках. Но он подумал, если не дурак. В этом Президиуме в картотеке было же все написано, кто и за что награжден. Я и сейчас считаю: в первую очередь нужно сохранить память о людях, некоторые воевали за Победу, а о тех, которые там лежат за Победу. О них ведь никто не скажет.
Если говорить в отношении погибших и вообще, то в Краснокамске была школа, в которой был музей нашей дивизии. Директор школы был Полушкин Женя, наш однополчанин. Но с ним у нас такая вещь произошла. Был такой полковник Лосев, который вел большую патриотическую работу. Скромнейший так товарищ. Ну и когда на слете ветеранов Полушкин пошел на Лосева, стал его как ребенка за провинность так отчитывать, я встал тогда и сказал: «Женя, у тебя штанишки писой перепахивали, а полковник Лосев уже отдал полжизни армии. Так научись себя хоть вести в армии.» Все были в недоумении. Вообще я все боролся за то, чтобы именем Бушкова назвали отряд в школе у Полушкина. Ведь этому Бушкову должны были присвоить звание Героя Советского Союза. Но там получилась такая вещь. Когда я писал письма в Центральный архив Министерства обороны, мне сообщили: Бушков награжден такими-то наградами, поэтому нецелесообразно ваше ходатайство перед Президиумолм Верховного Совета. Я махнул тогда на это дело. И родственников у Бушкова не было. Когда я обратился по поводу Бушкова, отец его уже умерший был. Я искал информацию о нем, собирал данные в отношении него, это Бушкова-то, а не Каминской, именем которой назвали отряд. Потом ее имя убрали. А ведь это Женя Полушкин сделал. Он в запасе находился. Он лейтенантом на фронте был. Понимаете, когда собираемся, то там все друг друга знают. Но в отношении Полушкина могу сказать то, что, видите ли, он изменился, когда он стал директором школы. Почему? Потому что представьте себе такую вещь. Вот он пишет: друг, приезжай, я всегда готов тебя увидеть... Я ему сообщил так: «Я вылетаю самолетом.» Приехал. Никого нет. Ни Полушкина, никаких там ветеранов. Незнакомая местность. Я взял такси, на такси начал объезжать и единственное так — нашел школу. Прибыл в школу. Оттуда тогда позвонили. Приехал. Говорит: «Я не думал, что ты самолетом прилетишь.» Я говорю: «Женя, я же написал: такого-то числа прилечу.» Ну ладно. Потом состоялась встреча там ветеранов нашей 27 дивизии, поскольку там, в городе Краснокамск, создавалась эта дивизия. Эта Каминская туда приехала, 5 бутылок привезла спиртного. Ну и состоялась там встреча. Жены Полушкина не было, не знаю, где она была. Ну и получилось так, что Каминская предлагает пойти мне в гостиницу. Я говорю: «Я приехал на встречу, а не в бордель.» Говорит: «Зачем так грубо?» Я говорю: «Я сказал, как на язык подвернулось.» Ну как можно объяснить? Ну и теперь так получилось. Прошла встреча. Машина, чтоб куда-то поехать, была одна специально выделена для ветеранов. А ведь там была Ида Григорьевна, жена генерала Харламова, которая на ноги слаба была. Кстати, когда я начал оформлять документы, чтобы ей ко мне поехать, оказалось, что она Степанида Григорьевна на самом деле. Просто она называла себя Ида, потому что считала, что Степанида — вроде как нехорошее имя. Начал я с этим всем разбираться. Тогда Каминская звонит военкому: «Гриша, приезжай. Потом поговорим. В гостиницу поедем.» Забрали эту машину и с концами. А мы хотели на машине поездить и город посмотреть. И они так вот оставили без транспорта всех, как говорится. На второй день стали в Красноречье выступать. Я и сказал Полушкину тогда: «Жень, вот смотри. Когда ты не был директором, ты был человек. Вспомни, я писал же так, когда нужно было организовать пионерскую дружину, я писал тебе так, что я буду ходатайствовать перед генералом Харламовым, чтоб он дал согласие, чтобы имени его была пионерская дружина. И буду писать в горисполком Краснокамска, чтобы дать действительно согласие. Кроме того, ты прекрасно помнишь, Женя, что когда не было парт, писал я непосредственно в исполком: чтобы давали парты. Потому что если фронтовой товарищ создает образец школы, нельзя допускать такого, что там нет нужного количества парт. Писал. А получается такая вещь. Когда я приехал, я обалдел, что ты директор школы. Там течет отопление. Течет на пол туда! Ведра подставлены. Что, нельзя приятно сделать так? Что за школа?» Он: «Ну, значит, ты — ревизор приехал?:» Я говорю: «Я не ревизор. Неужели ты так себя восхваляешь? Лосева ты как распекал. Ты забыл чтоли?! Это я сказал, не потому что он такого звания. Он в годах, солидный. Притом я знаю, какую он работу проводил.» Я думал, что он понял.
А вот потом, значит, когда приехали мы на встречу однополчан в город Ауце, когда мне сказали, что у них в Краснокамске пионерский отряд носит имя Каминской, это вообще обалдеть было. А относились к ней как? Те, которые знали ее по фронту, как они могли относиться, если знали, что она легкого поведения? Вот в чем дело! А назвали ее именем отряд вот за что. Она, говорят, привезла показать образец, какая продукция у них выходит. Это юридически нельзя доказать, что юридически подкупила она их всех. Ну я и сказал тогда: если в социалистических странах обратиться к пионерским дружинам и пионерским отрядам, чтоб именовать их всеми ветеранами, которые когда-либо воевали, то всех пионерских дружин не хватит. Это — раз. А во-вторых, нельзя это делать. Я сказал, что пока человек жив — себя восхвалять неприлично. С какой стати? Спрашивается: вот дать какому-то пионерскому отряду имя Рассолова. А что это дает-то? Чем Рассолов выделяется-то? Такой же, как и другие, а может - и хуже. Вопрос-то в этом должен состоять. Вот Анатолий Дюбко. Он не брякал, что он герой. И скромный был наш товарищ. Это действительно порядочный человек был. При этом я знаю, что по фронту он делал. Вот в чем дело! Женщины зарабатывают награды передком. Это что, подход для воспитания?! Были такие награждения. Но это зависело от того, как начальник хочет женщину выгородить. А были порядочные люди в армии тогда, были. Вот был начальник политотдела подполковник Куликов. Это тот самый, который, когда директива попала, в печку ее бросил по глупости. Хорошо, что не сжег. Притом я взял ее, и он сказал: «Не надо расписываться! Давайте будем искать.» Вы понимаете, какая вещь? Он себя под удар ставил. Он мне сказал: «Я ведь помню, что от вас взял.» Это действительно был порядочный человек. Вот вам весь вопрос. Он, конечно, этот Полушкин, знаете, тоже вел такую работу воспитательную. Его потом наградили орденом Дружбы. За эту пионерскую дружину.
Понимаете, у каждого человека есть какие-то перипетии. У меня перипетии были так. Вот тот самый, скажем, Полушкин. Во-первых, когда я в школу к нему приехал, я узнал, что у него в школе течет трубопровод в отопительный сезон. Я об этом вам уже говорил. Во-вторых, когда стали общаться, то дошло до того, что там узнал, что он как с женой ведет себя с одной там учительницей. А у нее муж. В третьих — с Тереховым пошла вся эта история. У всех, понимаете, был какой-то настрой заниматься патриотической работой. С Тереховым в чем мы не сошлись? Когда он узнал, что я собираю материал, он начал рисоваться себя Бог знает как, чуть ли не герой, который в одном бою 15 раненых вынес, а во время оккупации его трижды расстреливали фашисты. Я ему сказал прямо тогда: «Ну зачем сказки-то?» Когда я приехал на место, узнал, что никто его не расстреливал. Он также улыбался фашистам, как и нашим. А второе вот что меня заело. Когда кончилась война, у меня две было цели. Первая цель — чтобы оставить след генерала Харламова, это был порядочный человек, и он, и его жена, и его дочь. И представьте, я был связистом-разведчиком. А там ведь полковники были среди его знакомых и друзей. Но дочь его обращалась ко мне, когда в интернат хотела устроиться. Она была инвалид 1-й группы. У меня была цель, чтоб он спаял нас всех, бывших воинов 27-й артиллерийской дивизии. Он был действительно батей для нас. И поэтому это очень приятно было для нас: увековечить память дивизии во главе с Харламовым. Второй вопрос, вторая задача была такая, значит. Все воевали не для того, чтоб отличиться, а чтоб освободить страну от фашистов. И нужно было как-то увековечить освободителей войны. И я что, значит, придумал? По номинальной стоимости фронтовикам погашали облигации. Я решил, что в каждом городе есть бывшие фронтовики. Могли ли они прожить без этих облигаций? Их погашали по номинальной стоимости. Ну вот, допустим, у вас облигации, и их начинают погашать по номинальной стоимости. Так вот, если отдать государству, можно прожить без этих облигаций? Это были займы во время войны, и за них, значит, выдавались облигации. И вот их стали погашать по номинальной стоимости. У меня возникла мысль: можно прожить без этих облигаций человеку? Я прикинул: без этих облигаций можно прожить. Для этой цели попробовал пойти в управление, где я работал. Но есть мудрецы: одни одного хотят, другие — другого. Ну и я сделал что? Во время собрания сделал предложение. А тот, который вел собрание, оказался не дурак. Выяснилось такое предложение: «Одобрить почин товарища Рассолова.» А смысл был не просто отдать их, а было предложение на эти средства в каждом городе, где фронтовики, построить детский садик, детские ясли с наименованиями «фронтовик», «освободитель», «бывший воин», ну патриотические такие названия. Смысл какой был? Чтоб этот ребенок пошел в детский садик и он бы считал за честь в этом садике быть, поскольку он построен на средства человека, который воевал. На эти средства. Понимаете? А вот у меня не получилось это. Почему не получилось? У меня опыта не было. Написали: «Одобрить!» Но это понимаете что? Одобрили, вся страна сказала - «молодец». А толку-то? Ведь помогите что-то сделать. А я еще когда встретил с Тереховым, говорю: «Слушай, Саша. У меня такая просьба: ты владеешь ситуацией, попробуй поддержать, чтобы не просто так одобрить, а чтобы Орловск и Курск ветераны одобрили, то есть внесли свои деньги в копилку строительства детского садика и детского дома или ясли, чтобы можно построить.» Ветеранов ведь в каждом городе порядочно проживает. Я хотел распространить по 10 гвардейской арми по Орловску и Курску. Когда коснулось, он, этот Терехов, мне написал: «Орловск и Курск поддержал вашу инициативу.» Я ссылаясь на Орловск и Курск, хотел распространить по 10 гвардейской армии эту информацию и дальше. Когда коснулось все этого дела, выяснилось, что этот Терехов даже сам не внес этих денег. Меня это взорвало. Я тогда обратился к Суслову, в ЦК партии. Чтоб поддержало ЦК партии, что это не просто какая-то прихоть. И что это будет величайшая память о людях, которые воевали и остались в живых. ЦК партии подписал инструктор, завотделом ответили: «Уважаемый товарищ Рассолов! Средства, которые погашаются по номинальной стоимости облигации, идут в соответствии с постановлением правительства по вопросу улучшения материального быта трудящихся народу. Поэтому поддержать вашу инициативу ЦК партии отказывается.» И все, и вся затея у меня провалилась. И вот это тогда в отношении Терехова меня и взорвало: что он 15 раненых в бою. А Каминская, - про нее я еще раз говорю. Я знал, что она женщина легкого поведения. Это — раз. Во-вторых, когда приехали к Полушкину туда, она пригласила меня в гостиницу. Я сказал: «Вы что, в своем уме?» Она пригласила военкома. Военком — руководитель встречи был в нашей дивизии. А машины не взяли. Мы хотели так с Идой Григорьевной поехать, потому что мы приехали в Краснокамск впервые и не знали в городе, откровенно говоря, ничего. Хотели познакомиться с этим городом. Транспорта не оказалось! Он поехал с этой машиной в гостиницу. И потом, когда именем Каминской назвали отряд, я обращался к руководству школы по поводу Каминской. А там получилось что еще, в общем? Полушкин он немножко нагрел, если так говорить, нас в чем-то. Полковник Лосев — это был исключительный патриот. Но годы есть годы. Полушкин был помоложе. Старшим лейтенантом он был, потом в запасе ему присвоили капитана. Полковник Колпаков закончил войну полковником. Это замечательный человек. Когда я написал письмо генералу Харламову, он дал адрес Колпакова. Это был исключительный человек. У всех свое. И Лосев такой же был. А когда собрались и приехали в Москву так 10-й гвардейской армии, поймите правильно, я ни перед кем не выслуживался и не собирался выслуживаться. Если бы я выслуживался, я не стал бы ругаться с работниками горисполкома и горкома. Я знал, что они авантюристы. Они прохвосты. Я молчать буду чтоли? Когда начал Полушкин на этого Лосева идти, я тогда встал и сказал: «Товарищ Полушкин, знаешь что? Может и неуместны мои слова, вмешиваться в это дело, дослужись, соверши, сколько делал Лосев, а тогда открывай ротик.» Ну, может, я грубо сказал, я этого не скрою.
А потом, кстати, я добился того, чтобы именем Харламова назвали пионерскую дружину в городе Краснокамске. Ведь в Краснокамске формировалась наша дивизия. Понимаете, что в Краснокамске? И естественно, писал первому секретарю обкома партии, чтобы организовать в городе Краснокамске пионерскую дружину имени генерала Харламова. Те дали согласие там. Приехал к генералу Харлдамову, а он мне и говорит: «Я не такой. Вы тогда меня не знаете.» Он уже на резкость пошел, понимаете ли. Я говорю: «В чем дело-то?» Он тогда говорит: «Вы что хотите, чтоб я как Наролеон был там?» Вот он со мной на ты был, а тут стал на вы-обращаться, и ни в какую и разговаривать не хотел об этом. Я говорю: «Товарищ генерал (а я то так, то так, то батей называл), а давайте так по-честному говорить. Вы для меня были как непосредственный начальник такой в дивизии. В дивизии все знали генерала Харламова. Знали: где Харламов — там и наступление будет. А теперь давайте так. Кончилась война. Мы разъехались по разным местам, по разным городам. Нет этой нашей дивизии. А слава есть этой дивизии. Люди должны помнить о том, что была эта дивизия. Люди должны помнить о том, что там было-то. Люди должны помнить, за что они умирали. Рядом с кем умирали. Ну если этого не делать, батя, то неужели в самом деле-то? Я думал, что вы меня будете агитировать, а вы даже этого не хотите понять.» Он сидел-сидел, говорит: «Слушай, ты кем был: связистом-разведчиком или политруком?» Ну мне нравилась откровенная чистота его. Я все же уговорил. Он дал согласие, чтобы пионерская дружина его именем именовалась. Полушкин за это получил орден Дружбы потом. После войны у Харламова вообще-то не стыковка одна получилась. Конев был член ЦК. А Харламов был член партии. И Конев немножко невзлюбил генерала Харламова, я откровенно скажу. Я знал эту обстановку, как дело это делалось. Кстати, когда проходили эти встречи однополчан, выпивали, некоторые валялись, их носили. И Харламов выпивал. А я не брал спиртного. Мне говорили: «Захарыч! Зачем ты живешь? Я бы повесился. Ни выпить, ничего...» Ну зачем шутки такие было делать? Если не пьет — значит, надо не жить, надо повеситься. Это дурное высказывание мыслей. Но он, Харламов, хочу прямо об этом сказать, большое дело делал. Я писал Полушкину об этом. Я написал потом ветеранам об этом, в том числе и Харламову.
- Кстати, а помните, как впервые познакомились с Харламовым?
- А как же? Помню. Я прибыл когда на фронт, это был просто чудесный случай. Во-первых, я нарвался на этого генерала. Останавливал тогда машину. А он вдруг мимо проезжает. А это зимой было, я же прибыл в декабре 1943 года. Держал автомат. Я был старший сержант по-моему. Оказалось, что это был генерал Харламов. Ну и когда коснулся разных тем он, я объяснил так. Он спрашивает меня: «Куда вы едете?» Я говорю: «В 76-ю бригаду.» Он назвал: «Пантелей Иванович чтоли?» Колпакова так вроде звали. А я откуда знал, как его звали? Я отозвался про него: «Сказали, хороший командир.» Он мне говорит: «А у меня все хорошие. А кто командир дивизии?» Я говорю: «Есть батя такой Харламов.» «А вы знаете?» - спрашивает. Говорю: «Не знаю, товарищ генерал.» «Я и есть Харламов.» Ну так мы тогда и познакомились с этим с Харламовым. Ну и когда прибыл туда, меня студентом звали. Не знаю, но обстановка такая там была, как будто я давно уже с ними знаком. Что-то мне нравилось в этой дивизии быть, хотя были отдельные моменты: нельзя сказать, что все было гладко. А так такая среда была там, что я чувствовал, что действительно это была родственная среда. И как кто не говорил бы, многое зависело от вот этого бати. Он был строг, но он честен был. Он, между прочим, с Коневым был в неладах. Он доверялся мне, потому что знал, что я не пойду кому-то говорить про него. Он высказывал недружелюбные слова в отношении Брежнева. Ведь если человек доверяется, он говорит, а если человек сомневается, он не будет говорить на эти темы. А когда я его спросил: «А извините, Алексей Дмитриевич. А почему у вас так вышло, что вы из армии ушли?» И он сказал: «Я не ушел. Меня отправили в отставку. Поскольку с Коневым у нас контры были. Конев — маршал, а я — генерал. Он — член ЦК, а я только коммунист. Вот отсюда пойми, Ваня.» Он не то что вражду создавал и меня воспитывал, нет. Он открывал глаза на истину. На правду. Сколько лет в душе. Ведь нет этой дивизии, нет генерала Харламова, но я вспоминаю его как действительно любимого батю. Это человек, который много отдал дивизии.
- Были ли религиозными на фронте?
- Видите, на этот вопрос я отвечу так. Если б я не верил, я б не стал переписывать молитву одну, которую нам солдат оставил. Кроме того, я ничего не скрываю. Принимали меня в партию. Кроме того, здесь я кончал университет марксизма-ленинизма, был пропагандистом по первым точкам марксизма-ленинизма. У меня в характеристике написано обо всем этом. И это не говорит о том, что, понимаете ли, я не верил. Вы понимаете, какая картина? Вера у каждого человека какая-то должна быть. Вера в доброту в человека, вера в то, что кто-то является создателем так нашей вселенной, вера в то, что кто-то помогает так нам жить. И безусловно, если человек так хоть немного мыслит, он все равно сознает, если не верить в Бога по-настоящему, а может его и вообще нет, но первое слово при выпуске духа, когда он умирает, бывает таким: «О, господи!» Откуда взял-то? Значит, где-то в природе заложено. Это в природе заложено.
- В форсировании реки Великой участвовали?
- В Псковской области? Есть такая там река. Но на самом деле она совсем не великая, это у нее наименование такое. А она сама как ручей такой. Видите, на этой территории мне помнится что-то такое, что там было все окровавлено. Почему? Потому что зимой было дело. Там много жертв было. Но мне кажется, что я был там, но что делал — убей, не вспомню. Помню только, что когда после войны эти места посещали, я бабулю выставил и сказал: «Передайте ей тогда этот хлеб с солью.» Возмутились люди сначала, конечно. Представьте себе, сам процесс идет, и вдруг я вмешиваюсь. А у меня бывает такое: что заедает меня и все. Но мне интересно ведь было не то, что комсомолка преподносит какая-то, а что вот есть человек, который тут был и видел всю эту картину, как это все происходило. Она только сказала тогда: «Дити мои, сколько вас тут погибло!» Она двумя-тремя словами сказала то, в чем был смысл сам. А ветераны положительно потом так это восприняли. Иногда, видите ли, в каких-то моментах заедает меня, это со мной бывает. А где эта река Великая была, я и сам точно не помню. Но какие эпизоды в связи с этим вспоминаются? Помню, сидели мы около леса за столом после войны. Отмечали День Победы. За счет колхоза. Значит, председатель райисполкома, первый секретарь райкома партии были. Нас там как освободителей принимали. А эти сидят и бутылки в карман суют. Там ящики стоят. Поймите так. У меня такая натура. Ну что сделать? Это же были колхозные бутылки. Ну пей здесь, но не забирай, - такое правило было. Я когда увидел все это, вышел и говорю: «Мои однополчане, земляки, будут каждый день здесь находиться, Почему? Стол накрыли, их хорошо встретили. Может, с собой две бутылочки взять?» Они посмотрели так на меня сурово. Им не понравилось, конечно, это, но бутылки поставили на место. Может, я где и неправильно поступал, я был резок. А в основном соглашались со мной.
- А на фронте, насколько я понимаю, вы любили шутить?
- Я любил это дело, да.
- А какие шутки у вас были?
- Ну шутки какие у меня были? Я любил шутить, был весельчаком. Вот был такой полковник Колпаков. И вот был случай, тот самый, о котором я вам рассказывал. Стоим в обороне, баню топим. Ползают эти вши. Старшина Анохин всех выживал в бане паром-то. Ну и полковник Колпаков попросил меня выжить Анохина в бане. Это тот самый Колпаков, командир бригады, хороший такой командир, который нам говорил: «Народ, хоть не хорошо я вас призываю, но бейте этих идиотов фашистов. Чем больше убьете, мы больше останемся в живых.» Ну и он мне сказал тогда: «Рассолов, хоть раз его сделай. Вот ты веселый, а чего-то... Хоть раз Анохина выживи с бани!» Я сказал ему только: «Хорошо, товарищ гвардии полковник, сделаю.» «Ну-ну, смотри», - сказал он мне. Я запасся, взял все, лег туда. И накалил, что сам 10 часов горю. Ну вот, набрал в тазик воды холодной. Лед положил туда, шапку взял зимнюю, чтоб голова выдержала-то. И начал подпариваться. Да столько парился, что я сам едва держался. У меня лед-то все расстаивает. Выбил Анохина. Горит там все, невозможно, и он вылетел. Он выскочил оттуда. Ну я вышел. А зима. Полковник Колпаков подходит и говорит: «Слушайте, чем вы его вывели?» Я ему и говорю: «Я не я, товарищ полковник. Козел это.» «Какой козел?» - спрашивает. Говорю: «Испортил воздух, не дал никому покоя. Воздух испортил.» Все хохочут. А он спрашивает, он не понимает, как козел в бане оказался. «Где он находится?» - говорит. Было такое явление даже после войны. Вот такие шутки солдатам нравились. Нравилось это и командованию. Все было. Или вот, скажем, такой случай. Часовой находится вот, значит, в казарме. Стоит на посту. Приходит с поста — ужина нет. Поедали его паек. Вы понимаете, это в армии, среди людей, которые на фронте были, такое творилось. Тогда я и говорю: «Я найду этого врага!» «Как найдете?» - спрашивает. «Ну очень просто.» Он: «Ну тут шутки уже не надо.» Я говорю: «Каким образом искать? Он если берет, он кушает. Химический карандаш оставляет след. Надо химическим карандашом хлеб пометить.» На фронте найти химический карандаш — это проблема была. А другого-то способа у меня не было! Насыпал я этого химического карандаша на хлеб. Хлеб-то растворяется, а это все равно остается. Следы от карандаша остаются, чернильные. Поели. Говорит: «Где вор?» Я говорю: «Здесь где-то стоит.» Спрашивает: «Где стоит?» Командир говорит: «Слушайте, я вас на 15 суток за эти шутки посажу.» Стали рты открывать перед строем. А как узнать? И нашелся же все-таки тот вор. Война многому вообще-то меня научила. Видите ли, я в Тойла когда после войны жил, я держал внутри у себя все. Надо было косить траву, сено готовить. И меня учили солдаты во вроемя войны. Вот война-то кончилась. Надо помогать людям. Вот мне покажут как делать, как косить, как держать, и я это делаю. Я обижен даже на жену, на эстонку, которая эстонскому языку детей не учила. Всему надо учить!
- Кроме вас были любители пошутить?
- Ну естественно. Да и вообще всякие интересные люди на фронте попадались. Но вы представьте: сержант Филиппов был такой. Просто золото, я прямо скажу, а не человек. Много подсказывал. Он тогда портсигар мне сделал. Я же курил тогда. На фронте сделать портсигар — это же как в магазин сходить. Ложку сделал. Много хороших было так людей. Всякие они были. Кто что придумает. На фронте надо было это все делать, чтобы какой-то дух был. Ведь приезжали к нам артисты какие-то. Ведь не потому что в костюмах выступали они, это нужно было. Они приезжали к нам, когда в обороне-то мы стояли. Приезжали и прямо на борту машины выступали. Сейчас я их не помню. Но они известные были, - если их тогда знали, то, наверное, известные были. Этот вопрос интересный так. Даже здесь, когда были мы, ветераны, на встрече с руководством в Великом Новгороде, один полковник так шутил с руководителем: говорил, что, мол, вы такая хорошая. Целуете, а язык не высовываете. У каждого свои шутки. Все знают, что это настрой такой на фронте. Мне понравилось, что они немножко подхватили этот настрой. Потому что когда собирались и выступали, когда был обмен мнениями в отношении проделанной работы, я сказал: «Все это хорошо, но мы забываем главный участок. Цель. Давайте начинать с себя.» Одна: «А у нас молодежь такая.» Я говорю ей тогда: «А мы тоже нехорошие. Почему? Потому что наши сердца коррозией покрыты. А чтоб этого не было, надо тогда духовность принимать.» И вопрос в духовности, конечно, состоит.
- Анекдоты рассказывали на фронте?
- И анекдоты были, да всё было. Но, видите ли, особенно анекдоты боялись говорить. Почему? Потому что Жданов был секретарь ВКП (б) по идеологии. Отвечал, короче говоря, за идеологию. По его представлению было постановление ЦК партии, по которому были запрещены не то что нашего производства анекдоты, а даже писательница Франции Кетто Циппер была запрещена. Там не было никакой политики. Так что анекдоты избегали говорить.
- Возраста разного были ваши однополчане?
- Возраста разного были, национальность тоже была разная. Надо отметить, что это не то что пропаганда, а все национальности были в едином порыве. И осетинцы, и грузины. Когда в города заходим, то появляются гармошки. Немецкие, конечно. Знаете, как они бегали, играли на них?
- А артиллерийские дуэли были на фронте?
- Ну тут не дуэли были, а такое, значит, было. Почему я и хотел Кожевникова найти, которому ноги подорвали. Уже так на нашей полосе он подорвался. А по поводу дуэлей могу сказать следующее. Там было так, что в Прибалтике немецкие орудия поражали нашу цель, а мы не могли. Было такое явление. Тогда во главе с капитаном Крыловым была заброшена группа в тыл врага. Немцы там разгружались. Кожевников пошел к немцам. Понимаете, это исключительный был разведчик. Ну и получилась такая вещь, что он с ними помогал разгружать так, все делал. Немецкий язык знал. А как же? Форма-то немецкая была на нем! Ну а потом рассвело, значит. Там была рембаза, там был госпиталь. Орудия так недалеко около озера были. И когда стреляли, то эхо в озеро отдавалось. Звукометрическая разведка засекла это озеро, это звук-то, и в озеро стреляли. В общем, в озеро стреляли мы. И тогда вообщем-то этот Кожевников как Дюбко вызвал огонь на себя. Там ведь дежурили несколько батарей-то. И все с грязью смешалось. Там жутко, прямо скажу, что творилось. И когда обратно возвращался, он подорвался на противопехотной мине. Ноги его подорвало. Ну и получилось так, что остался жив. Майор Кожемякин поехал и вручал ему орден Красного Знамени. За эти потерянные ноги-то. Когда уходили, потому что немцы засекли нас, получилось так, что стояли немецкие два орудия и стояли два часовых. Часовых Кожевнимков убил, ну и подорвал так эти орудия. А тут немцы пустили собак. А с собаками как он поступил? Он их уничтожил. И на противопехотной мине подорвался. Вот этот Кожевников был там такой. По поводу него я писал военкому. Мне написали: «Товарищ Рассолов, просим сообщить более точные данные. Кожевниковых много.» Но не то что тысячи безногих же там было! Так или нет? Я был резок, я не скрою. И написал: «Господин генерал! Если бы я знал все геометрические данные, то таким, как вы, я никогда не обращался бы. Желаю вам немножко так оправдать звание генерала.» Это было после войны уже.
- А вообще артиллерийская разведка чем-то отличалась просто от разведки? Расскажите об этом, исходя из вашего личного опыта, так сказать.
- Видите, разведка — это понятие всеобъемлющее: есть разведка боем, то есть, тот случай, когда надо узнать, каков рубеж у противника там, то есть, фактически это то, когда перед наступлением надо узнать расположение вражеских сил. Есть звукометрическая разведка — это та разведка, которая засекает расположение противника. Вот если вспышка, а потом звук, - это звукометрическая разведка по этому все определяет. И есть разведка, которая в тыл забрасывают группу, ведь это тоже разведка. И есть разведка, предназначенная для того, чтобы диверсантов вылавливать, - это тоже так разведка. Разведка — это объемлющее название такое. В Краснокамске можно найти фотографию генерала Харламова, которую он мне подписывал. Там написано: «Отважному разведчику, верному боевому другу Ивану Захаровичу Рассолову. Генерал-майор Харламов.» Я был в артиллерийской разведке. Но, видите ли, там не было таких функций, что ты занимаешься таким-то и таким-то делом. На фронте, да и не только на фронте, человек должен выполнять то, что от него требуется. Я, по-моему, уже был в разведке тогда с этим Вильсевым. У меня получилось тогда недоразумение немножко. Но в каком смысле недоразумение? Около геометрической точки был командный пункт наш расположен. Все три геометрические точки — они нанесены на картах. Как там получилось? Во время войны, знаете, так часто бывали ошибки, которые начинали исправлять. И я хотел так идти к этим орудиям, две катушки взял, и пошел. В мои функции не входило это, правда, должен это вам прямо сказать. В моих функциях совсем другое находилось. Но ведь связи-то нет! А был Лаптев, который с радиостанцией находился. Он поврежден был, и радиостанция его была разбита. Связи нет! А как орудие без связи может стрелять-то? Командный пункт должен давать координаты и все это. Так я решил: две катушки подвязать с огневых, а он, Вильсев, чтоб мне навстречу встретился. Но, понимаете, у каждого человека есть пороки. Я ведь тоже не ангел. Притом этот Вильсев говорил, что у него дочка была, он показывал ее на фотокарточке, и говорил мне, что вот это будет твоя невестка. Он пожилой был человек. Но верующий был в полном смысле. Так вот, когда я налаживал связь, то употребил выражение «а к черту», и он после этого забросил катушки. Понимаете? Я взял катушки и побежал к орудиям. А катушкой задел ему лицо. Ведь меня не то что зло взяло. Нормальный человек поймет. Но получилось-то такая вещь. Но на фронте такие вещи не положено было делать. Ну и естественно, генерал вызвал меня и стал спрашивать, кто. Тогда этот генерал Харламов и заявил: «Извольте. Если друг друга, вы побиваете, что вы делаете? Зачем мы на фронт прибыли-то? Царапать-то?» Он тоже, прав, конечно, был. Он не мог проходить мимо таких вещей. Поэтому его и называли так батей в дивизии. Ну а тогда получилось так, что поскольку накрыло нас, Ульяницкий пошел навстречу, связь была восстановлена. И поэтому первая награда была за это — медаль «За отвагу», ее вручил генерал Харламов. Но вместе с тем предупредил, что нельзя это делать-то, царапаться. Наша дивизия, поймите правильно, это же как самая настоящая семья была. Каждый к семье прирастает, каждый чувствует близость этой семьи. Вы согласны? Так было и в этой дивизии.
- А на НП часто приходилось бывать? Какая там была обстановка?
- А как же? Естественно, так приходилось бывать. Там был передовой наблюдательный пункт. А по поводу обстановки могу следующее сказать. Вот была такая, допустим, петрушка. Вот идет эта улица, вот эти дома (показывает из окна). Здесь идет пехота. Наша пехота здесь находится. А где железная дорога — там наш передовой наблюдательный пункт разведки. То есть, мы фактически впереди немцев находимся. Первыми находимся к немцу. А ведь был такой случай, когда немцы говорили: ахтунг, ахтунг... И к нашим передовым позициям подползали. Естественно, мы замечали. А пехота ведь за нами сидела.
- Случалось такое, что по своим попадали?
- Ну было такое у нас. Дело прошлое уже. Ведь когда вот помощнику командир взвода Соколова ориентировку дали, что по сетке стрелять, туда танкета наша ворвалась. И он попал в нее, потому что мы не знали... Там же с КП не видать было ничего. Поэтому Соколова осуждать стали... Но он не имел права по-другому делать. Бывали и такие явления.
- Молодое пополнение, которое к вам на фронт прибывало, как-то натаскивали?
- А я вам такую, значит, вещь скажу. Я пошел когда на фронт, писал, что работал в совхозе Данковский. Потом через шесть месяцев и нашу взяли область немцы. Меня взяли потом в армию. Но на фронте у нас был такой Попов — он был моложе меня на пять месяцев. Ведь и 1926 год призвали. В армии бывали и такие явления.
- По дотам стреляли?
- По-немецким? Естественно. Понимаете, этот Терехов затормозил мне одно дело. Я хотел взять подшивку газеты нашей дивизии. Там я описывал в этой газете бой, в котором командовал тогда Бушков. Но время уходит. Человек забывает, что хотел рассказать. И он мне не выслал. А подшивка была у Терехова. И так многое ушло из памяти.
- Иван Захарович, не могли бы вы рассказать, как организовывалось наступление у вас.
- А в наступлении у нас не было такого какого-то определенного стиля. Почему? Потому что когда наши, допустим, отбивают контратаку, естественно, тут уже не то чтобы обязанность освободить страну чувствуется — а злость ощущается, из-за того, что этот ненавистный враг топчет нашу землю. Здесь уже другая у нас, как говорят, подсознательность была. Сама обстановка как поставит тебя. Ну представьте. Вот это орудие, которое под покровом ночи привез трактор, а человек не мог сдвинуть, да и лошадей тоже не было, и выкатили на прямую наводку. Так там плацдарм был подготовлен для наступления, чтоб не дать немцам захватить этот плацдарм. Притом шли немецкие тигры, а у них броня-то крепкая была. Но орудиями нашими 152-миллиметровыми, вы можете себе представить, если в дом ударяете, то дома этого нет. И вот этот бой, который я описывал тогда, как вам сказать, сейчас забылся... Понимаете, вот вы видите происшествие. Вы это происшествие сразу в каких-то подробностях можете рассказать. А пройдет сколько-то времени, и уже не тот осознанный материал в подсознании готовится. Не та уже вещь. Вот и нужно было мне в отношении Бушкова, когда я поддерживал связь-то с пионерами, рассказать. Чтобы непосредственно указать на то, что было. Ведь бывает так, что, допустим, вот вы видите какую-то панораму и описываете ее. Так а эту панораму другие же тоже видят. И когда описывают события на фронте, там каждый знает, что действительно было, какие обстоятельства, а не просто там или умолчал, или пририсовал. Так ведь? Ведь вопрос такой, знаете. Я скажу прямо: хочется ответственности больше в таких делах.
- А небоевые потери были у вас?
- В основном таких мало было потерь. Но были. Допустим, так вот было. Стоим в обороне, а кто-то пошел посмотреть: а что там в повозке у немцев осталось? И пополз. Немец заметил, кук — человека нет.
- Снайпер что ли?
- Не то что снайпер. Вот представьте, с нашей стороны примерно такое же бывало. Вот, к примеру, наш наблюдательный пункт — он вот этот был. А вот здесь пехота. Вот возьму я и смотрю там в бинокль. Немцы раздеваются, моются, хи-хи-ха-ха. По своему что-то делают, короче говоря. Но они хихи-хаха разводят на нашей территории, а мы на своей территории находимся, у нас не то. Хохочут они не на своей территории. А у нас пулемет Дегтярева. Я ползу туда и стреляю по этим хи-хи-ха-ха. Представляете, этими патронами без промаха попал. Человеку все хана, он - убит... Они в ответ тоже стреляют. Мне говорят: «Ну куда ты полез?» Они же начали стрелять с миномета. Называется «скрипач» он у них. Немецкий миномет. Они пускают мину по траншее пехоты. Эти «Скрипачи» были наподобие наших «Катюш». А вот «Катюша» - это было не просто олицетворение женщины, а это орудийная установка наша.
- Орудия часто меняли?
- Испорченные-то да, конечно. Вот то орудие, которое стреляло по немцам, которое было у нас повреждено, оно было в музее Красной Армии. Это бушковское орудие. А так орудия заменяли.
- Данные, которые передавали, как-то шифровались?
- Ну естественно. А как же? Мы, допустим, примерно так данные передавали: «Первый!», «Третий!» Или, к примеру: «Ока, я — Дон!» Засекречено, конечно, было это все, но и та, и другая сторона понимала. У нас батарея стоит допустим там-то. И у нас спрашивают: «Как кухня?» Кухня — это подготовка. И передавали такие слова. А открыто, чтоб немец понимал, не делали передач. Догадывались они, конечно. Это — одно. Когда инструктаж проходили, один другому передавали, и как-то один дежурному передавали, и как-то включались. И старались быстрей покончить с врагом. Вот, допустим, Колпаков. Ведь он красноречия не употреблял. Собирал всех и говорил: «Народ! Поймите: чем больше этих чертей вы побьете, тем вы больше жить будете. А ведь мы хотим жить!Мы на своей земле. Так че допускаем?» Вы понимаете, он не говорил фразы, но как-то понятно, доходчиво все объяснял. И после войны так тоже говорил.
- Ложные позиции создавали?
- Чтобы отвлечь немцев? Были, и много таких делали. В основном немец ориентировался на то: там, где появился Харламов, значит, здесь готовится наступление. Поэтому скрытые позиции были, скрытые движения тоже были...
- По технике стреляли?
- У нас было так. Все, что было вражеское, — по тому и стреляли мы. Факт был такой, например. Я уже повторяюсь вам. Готовились к наступлению. Немец бежит за козой. Естественно, он хочет мяса. И как я решил поступить? Я сказал своим: «Посмотрите, так, зараза, бежит за козой.» Дошло до того, что Рубцов тогда взял чье-то орудие (оно было кем-то оставлено, но не нашим: у нас этого орудия не было) и решил из этой пушки стрелять по этому немцу. С сорокапятки. Убил, конечно, козу. Потом разбирались. «Зачем?» - говорили. Ну он же наконец немец потом выдал себя. Тогда немец начал тоже отстреливать нашу позицию. Потом выявили, какое положение у них находится, для того, чтобы потом идти в наступление. Ну и прошло бы все это так. Но кто-то нашел клочья мяса от козы. «Козу хотят изнасиловать, - говорили. - Мало им женщин, за скотиной бегают.» То есть, на фронте должна была быть ненависть к врагу, лютая ненависть. Но ненависть надо тоже было различать. Один лейтенант, пехотинец, однажды на меня окрысился даже за это. Окрысился за то, что я якобы немца защищаю. А я не просто немца защищал, а правду и честь защищал. Там было так. Наши пошли в наступление. А раз наступление, значит, немец обороняется. Так или нет? Наш пехотинец подорвался на мине. Но мины поставили мы сами. Но, во-вторых, неважно, кто поставил, это — война. И тут вдруг один немец, повторяю, немец, который должен отступать, берет этого солдата нашего и несет к нам к траншее. Лейтенант берет котелок и начинает бить солдата и говорить: «Вот, фашисты, что вы делаете!» Зачем? Считайте, что он не фашист, если он принес бойца раненого сюда? Надо тоже какую-то совесть для этого иметь. Согласны? Я защитил этого немца. Лейтенант мне сказал: «Ты тоже какой-то шкурный это?» Я говорю: «Видите, в чем дело? Человеку, как говориться, каждому дан порок. Но порок, то есть, недостаток, должен тоже иметь какой-то предел. Нельзя без предела делать что-то.» Так что эти вещи нельзя рассматривать так, что все немцы, фашисты были за одно. Были и те, которые не хотели войны.
- А средства тяги какие были?
- У нас гусеничные в основном трактора были. Машины были «студабеккеры» американские. Так-то наша техника тяжелая была.
- Трофейные орудия брали?
- Нет, у нас, как правило, трофейные немецкие орудия не использовали. Почему? Потому что у нас свои орудия были лучше немецких, они стреляли лучше, у нас подготовка была. Это — раз. А во вторых, немецкие машины захватывали, ездили на них. А во вторых, как можно брать немецкую пушку, если наша лучше? Другой разговор, что если, допустим, танки немецкие попались, и когда подбит танк, другое дело, что залазили наши так, поворачивали и стреляли с них по немцам. Это были такие явления. А так какой интерес был брать немецкий танк? Куда его? Это когда бой идет, его можно так использовать.
- А вы помните конкретные случаи, когда забирались в танки?
- Пехотинцы часто это делали.
- Техника во время морозов выходила из строя?
- У нас такого явления не было. Но было и еще вот что, например. Скажем, перед тем, как идти в бой, были явления, - кто делал это, трудно объяснить. Вот, допустим, завтра наступление. Был, допустим, так командир батареи. И он докладывает: «Из взвода разведки украли стереотрубу.» Стереотруба — это не то что бинокль, где все показывается. А как наблюдать за полем боя, если стереотрубы нет? А завтра — наступление. Кто делал так, это тоже секрет. Так в подобных ситуациях шли даже тоже на такой момент. Это тоже нельзя было делать. Вот, скажем, Эстонский стрелковый корпус рядом находится. Со стереотрубой сидит, допустим, разведчик на дереве. Наши ему говорят: «Яан, иди сюда!» Идет. Спрашивают: «Хочешь закурить?» И начинают разговаривать. Так вот, в то время, когда один с ним разговаривает, второй лезет, снимает стереотрубу с дерева и тащит туда, потому что если наступление сорвется, то расстрел. А второго солдата могут просто наказать, что он проворонил стереотрубу. И такие моменты были тоже.
- А вы с Эстонским корпусом, значит, встречались?
- А вот так в Латвии мы были вместе с Эстонским стрелковым корпусом, в отдельных моментах, это - да. Это хорошие были ребята, хорошие командиры. И вот я тоже осуждаю, скажу так, это дело правителей. Это тоже неправильно. Но в какой степени неправильно? Вот, допустим, он эстонец. Гражданин Эстонии. Он не получает 1000 рублей как ветеран войны сейчас. Я получаю, а он не получает. Почему? Потому что он гражданин Эстонии. Но он был с нами, притом он может лучше нас воевал. Ему говорят: «Возьми гражданство — тогда получишь.» Это такое дело, знаете, неправильное.
- На каком расстоянии орудия на фронте обычно располагались у вас?
- В зависимости от того, какая обстановка. Допустим, орудия, которые на прямой наводке были, они находились на расстоянии примерно не менее 30 метров. Командовал Бушков и был старший офицер на батарее — лейтенант Ефтиков такой. Вот они оба погибли. Во время войны я вместе с другими организовал похоронить Бушкова. Из шкафа сделали гроб. На фронте сделать такое — это редкость была. Вот какая на фронте была любовь к людям, которые располагали к себе. Похоронили со всеми почестями Бушкова. Но сделали, конечно, примитивный гроб. Чтобы сделать гроб получше, не было времени совсем. Приезжал я туда после войны, я поклонялся тому месту, где была надгробная плита. Я знал, что здесь Бушков, допустим, лежит. Я почти каждый год ездил туда. И однажды приезжаю и вижу — на гробе плиты нет. Там же стела из гранита сделана и там все фамилии погибших перечислены, в том числе и Бушкова. И что характерно, я этого точно не знаю, но оказалось, что не то что я возлагал цветы — кто-то клал цветы помимо меня. Я долго дежурил, но так и не захватил этого человека. Кто там возлагает цветы? Стела, которую установили на том месте, — это в какой-то степени правильно, потому что разбросаны по всяким кустарникам могилки и захоронения были. А так-то мне хотелось больше бывать непосредственно на могиле любимого комбата, потому что я знал, что вот здесь его могилка. Вы поймите правильно, если знаете, где клад, что не надо искать, - это всегда больше нравится. А там же был похоронен так близкий тебе человек, которому ты обязан. Знаете, когда стела просто стоит, - это уже совсем другое. Даже в жизни примерно так же бывают. Вот, скажем, есть женщины, хорошие женщины. Встречаются, разговаривают, но от них что-то не то идет. А вот встречается женщина, которая вам действительно в душу входит, в ваше сознание входит, у вас одинаковые мысли, одинаковое стремление, одинаковое убеждение, одинаковые поступки. Вы понимаете, как бы два человека становятся влиты в одно. Поэтому, когда меня спрашивают, что такое любовь, я говорю: любовь — это кроме близости наивысшая ступенька человеческого взаимоуважения от Бога и с Богом, потому что эти вопросы взаимосвязаны. А любовь фронтовая тоже у меня ведь была. Я потерял близкого человека, она умерла. И жена моя, скажем, тоже. Я мало прожил с ней. Я жил с женщиной как с другом близким, как с единомышленником. Понимаете так? Я на фронте ни с кем не знакомился. Во время войны умерла Валя, которая провожала меня на фронт, от двустороннего воспаления легких. На фронте встречались женщины, но каких-то близких отношений во время войны у меня никогда не было. Вот Мария, допустим, над которой глумился старшина, которого я подозревал, что оружие взял, которого пристрелил. Я шел с Петровой Галей, она была с Заречной. Смотрю: женщина идет. Подбегает она ко мне и говорит: «Ваня!» Я говорю: Ваня, да. Подходит, обнимает. Галя уходит. Мужчина стоит здесь. Оказывается, это ее муж. Мужчина меня благодарит: «Спасибо, что во время войны вы это сделали.» Она: «Что вы? Мы друзья по фронту. В самом-то деле!» Она обнимает, что я не то что благо какое-то сделал, а защитил ее в свое время от насильника. Она помогала мне, когда у меня речь нарушена была. Но у меня чувств к ней не было. Были дружеские благодарственные отношения, это — совсем другое.
- Орудия маскировали?
- Обязательно. Маскировали так, что там сетку такую набрасывали на орудия, если это было и нужно было. А так значит деревьями, кустарниками прикрывали. А так в одной газете пишется: немец когда наступал на Москву, Жукову доложили: прорвал оборону немец и врывается в Москву. Он что же делает? Он команду дает: «Выбросить парашютистов!» Ему докладывают: «Парашютов нет.» Нет парашютов! Тогда Жуков дает команду: «Выбросить в снег десант без парашютов с самолета!» Все немцы были одуревшие, даже не понимали, как и кого сбрасывают с самолетов пярмо в снег. И этим путем Жуков задержал прорыв танков на Москву. Расстояние было 10-15 метров от земли. Меян спрашивают: почему мне дорог Харламов? Видите, это не просто фамилия. Вот представьте себе такую вещь. Через некоторое время мы собрались тогда в Москве. Был у нас тогда ресторан «Россия». Гостиница. Были воины 10-й гвардейской армии, то есть, представители той армии, в которую входили воины 27 артиллерийской дивизии. Харламов был в президиуме. Хочется высказать чаяния, вызвать свои чувства. Решил высказать, передал пламенный привет от социалистической Эстонии пламенный большой привет. Сказал здравницу в честь руководителей нашего государства, нашим полководцам, и когда провозгласил здравицу за славу нашего командования, славу нашим генералам и славу генералу Харламову, весь зал встал, аплодировали тогда. Он даже прослезился. «Спасибо вам, дети!»
- В каких местах старались располагать орудия?
- Ну это было в зависимости от того, где нужна была позиция. Представьте себе такую вещь. Если б так орудия поставить вниз, где, допустим, кусты такие-то, это же мешает вести обстрел. Это — раз. Во-вторых, куст может взорваться. Поэтому забираются на позиции таким образом, чтобы был сектор обстрела и чтобы не слишком выделялось с воздуха и вообще со стороны противника ничего. Так что правила расположения орудий были такие. Сектор обстрела — это раз. Чтобы не быть мишенью для противника — два. В третьих — чтоб были подходы подносить снаряды, чтоб машина какая-то могла подъехать. И человек подойти. Если рвы и кругом камни, это ведь не то будет. А когда мы выезжали на прямую наводку, было так. Во-первых, был выгодный обстрел, то есть это как бы немец там этого не хотел, немец через кусты должен был выезжать на дорогу. И жег дороги. Там так все подстроено было, он не миновал никак того, чтобы не обойти два орудия этих. Поэтому под покровом ночи у нас, когда бой вел Бушков, вытащили орудия. И перед утром как раз пошли танки. Так что под покровом темноты все это была.
- А какая была структура вашей батареи вообще?
- Ну как понять - структура? Батарея вот, допустим, имеет четыре орудия. Это — обязательно. Любая батарея должна иметь четыре орудия. Получается, что это два огневых взвода. На каждом орудии есть командир орудия. На два орудия есть человек, должность называется у него помощник командира взвода. А на четыре орудия есть командир батареи. Вот командир батареи — он подчиняется командиру дивизиона. В каждом дивизионе должно быть не менее трех батарей. А из этих дивизионов создают или бригады, или полки. Но у нас называлось бригада. И там, значит, было три дивизиона, в этой-то, значит, бригаде. Командиром дивизиона был Гарин. Когда я прибыл молодой, необстрелянный, помню, произошел с ним у меня один случай. Мне вдруг сообщили, что умер отец у меня. Ну отец есть отец. Я подошел к нему, попросил: «Так и так, товарищ гвардии майор, мне сообщили, что отец умер. Через два дня я найду, где это расположено, это подразделение. Так отпустите меня.» Он мне заявил: «Вы подумали, что вы говорите? Вот вас убьют, птицы выклюют глаза, и похоронить никто не похоронит. А вы — воин.» И показывал пальцем, как будто мне должны были обязательно глаза выколоть. И вы знаете, как это в память врезалось? Ведь мог сказать по-другому. И когда встретились, когда вот первая была встреча в Москве, он мое имя знает, помнит. Подходит и говорит: «Ваня, здравствуй.» А я не подарок человек, я — откровенный всегда был. Он уже полковником был. Я говорю: «Нет, полковник, я не здороваюсь. Мне глаза еще ни одна птица не выколола. Я смотрю этими глазами на мир так, как есть.» Ребята сказали мне: «Ну зачем ты?» Ну а такой я есть. А что сделать-то? По-религиозному: надо простить, надо не обращать внимания. Но надо и ему по-христиански как-то объяснить. Вопрос такой, что иногда нельзя платить тем, что ты получаешь. Иногда волей-неволей это выходит. Он мог согласовать с начальством и отпустить меня. Все можно сделать пр желании. И я ему сказал: «Поймите правильно, я пошел добровольцем. Я же не могу дезертиром быть.» При этом это не слова, у меня документы были. И притом знали, что я пошел добровольно в армию. И меня притом не сразу отправили на фронт. Я был запасном стрелковом полку. Оттуда я уже просился опять направить на фронт.
- Скажите, а в каких условиях жили на фронте?
- Всяко приходилось. Приходилось в иной раз просто находиться около орудия закрывшись. В основном, конечно, зарывались. Делали траншеи, землянки, накатом, брали, вырывали, брус делали, накрывали... Бывало, что и около орудия спали. Бывало, что и просто кое-где приютишься. В каких условиях оказался, в таких и находишься. Вот захватил нас врасплох дождь, там и приходится время проводить. Так и на фронте было. Это, знаете, такое дело было...
- А спали на ходу?
- Шапиро был такой у нас, - так он, бывает, идет и спит. Говоришь кому-нибудь: «Давай обойдем его, чтоб не заметил!» Было такое явление. Все было.
- Бани устраивали?
- Я же рассказывал. Если противник далеко от фронта, тогда устраивали.
- Показательные расстрелы были на фронте?
- На фронте не было у нас расстрелов. Но было такое у нас явление, когда ехали на фронт. Там двоих расстреляли. Остановили эшелон прямо на железной дороге. Говорят: «Выходите с вещами!» Выстроили весь эшелон. Оказывается, воровали. На станции приехали так. И смотрят: на путях вагон. Вскрывали пломбы, взрывали. Там ведь все это имущество, все эти продукты направлялись на фронт раненым. А они воровали таки делили между собой. Понимаете? И получилось так, что залезли они в противогазные сумки поворовать в вагоне. И они это бросили. Ну куда, зачем это им нужно? А потом залезли в этот холодильник. Оказывается, туда они могут залезть, а вот тушу оттуда они не могут вытащить. Не знаю, как получилось, но их схватили на станции какой-то там. Они вскрытие произвели, сделали, а туши никак не могли оттуда вытащить. Вот тогда остановили тогда эшелон и их расстреляли. При этом по три контрольных выстрела сделали. В них с автомата стреляли. Еще так выстрелили. Потом дали команду: «По местам!» И мы поехали, все.
- А евреи встречались на фронте?
- Да. Но у нас сегодня по этому вопросы неправильные понятия имеются. Один майор у нас был евреем по национальности. Но там было связано с окружением немножко у него. Потом я напомню фамилию так, потому что это хороший был человек. Его сын закончил с отличием физико-математический институт. По ядерной энергии. С отличием. И никуда его не принимали. Это было в советское время, после войны. Вот тоже писал в отношении его я. Я не боялся. Почему? Потому что я знал, что его отец был честный человек. Как бы там ни писали, как бы ни сочиняли, я стоял на своем. Может, я и не прав был в других ситуациях. Но я всегда был таким: если я вижу, что человек по характеру честный, то я всегда буду его защищать. Видите, в чем дело? Я сознаюсь сам. Вот я в вере не идеальный человек, в жизни я не идеальный человек. Нет таких людей идеальных. Я писал когда статью, ее до сих пор не опубликовали в «Северном побережье». Там я писал о том, что религиозные течения так — они обманывают. Бог у нас один. А религиозные течения начинают клеветать на Бога, искажают так. Так что в жизни не идеальный я. Но стараюсь придерживаться норм. Все мы грешны. Но где-то что-то мы неправильно скажем, что-то неправильно подумаем. А идеальных людей вообще нет. Один идеальный — Творец. Почему? Потому что он создал нас.
А так, конечно, всякие случаи встречались, и независимо от национальности. Было такое после войны, например, явление. Приезжали с разных репатриированных зон. С большими чемоданами. Вот он, к примеру, идет с большим чемоданом. Один из наших видит, что хороший чемодан, раз по руке х- и хороший чемодан так и выносит. Потом берет кладет под вагон и сматывается. Был Романовский такой у нас. Он с этим связан был. Он поехал в артиллерийское училище. Его не приняли по каким-то причинам. Прибыл тогда так он. А я был старшиной второй батареи. Сказал тогда комдиву: «Не хочу Романовского.» «Почему?» - спрашивает. Говорю: «Прохвост.» «Почему?» «Это длинная история. Я говорю, что прохвост.» Вот такой шел разговор. Ну и его направили в другой дивизион. Я настоял, чтоб в этот дивизион, где я был, его не направляли бы. Прошла неделя. Обокрали склад продовольственного снабжения. Склад. Там часовой находится. Это не просто склад, а там есть часовой. Ночью — тревога. Это было в городе Луга, там воинская часть наша и была. Прошла еще неделя. Опять обокрали склад снабжения. Сколько пропало пистолетов, сколько пропало боеприпасов, никто не мог считать, поскольку учета не было. Ну а потом, значит, около реки Луга была группа. Помню, старший лейтенант Апанасенко приходил ко мне и у меня просил ремни от орудий, там ремни такие. «А чего?» - спрашивал я его. «Ловим банду, - говорил он. - Пойдем искать.» Он в КГБ был. А я старшиной был. Ну и вот получилась такая вещь. Кинулись в это время искать Романовского — его нет нет. Был дежурный по бригаде майор Рициев. Потом приходит так к нему вдруг пропавший Романовский и докладывает: «Товарищ гвардии майор! Разрешите доложить. Младший сержант Романовский прибыл с самовольной отлучки.» Прибыл с самовольной отлучки!!! Отправили на гауптвахту его. Мне после этого и говорят: «Слушай, Рассолов! Вот говорят, что ты объективный честный человек. Ну как ты сказал про Романовского: проходимец? Ну если проходимец, сам приходит и докладывает, что прибыл. Проходимцы так не делают.» «Я не знаю, товарищ майор, - сказал я ему, этому майору. - Я знаю, что он проходимец.» И можешь себе представить? Через каких-то 20 минут вывелось, что он проходимец. Лицам, которые были арестованы на гауптвахте, он организовал побег. И их поймали. И судили. В Псковской области поймали. Их 5 или 6 человек было. Так вот рассказывали там на суде, как это было: часовой, допустим, стоит здесь. Один из них подходит и «тю-тю-тю» как птица говорит. Тот часовой говорит: «Егор! Ты слышишь?» «Ты наслушаешься! И у меня.» За это время переговаривались и в это время орудовали. Вы понимаете? Вот такие явления были сразу после войны.
- Кстати, такой вопрос, возвращаясь, так сказать, к началу нашего разговора: а войну вообще предчувствовали?
- Нет. Что когда будет война, нет, такого предчувствия не было. Но вот предчувствие какое было? Вот я начну такой, значит, момент говорить для примера. Вот в отношении веры. Я ездил так два раза в день к моей любимой женщине в больницу, когда она там лежала. Брал святой воды пузырек, иконку брал святой Божией матери. В больницу, значит, ездил, туда, где умерла моя женщина. Я брал святую воду и на иконку брызгал ее, а с иконки ей капал на лицо, это - моей женщине. И когда сказал «пресвятая Богородица» и начал молитвы читать и сказал: помоги, спаси мою женщину, ты с нами, так спаси, и Иисус Христос... У меня слезы тогда навернулись. Причем, я не просто шушукал там что-то. Некоторые подходили и видели, что я подхожу к больной женщине этой самой. И медсестра видела, что когда я сказал «с нами Иисус Христос», она наполовину открыла глаза и повернула голову в нашу сторону. Медсестра удивилась! Она без сознания, женщина эта, лежала. Врач сказала, что она голос близкого человека почувствовала, видимо. Так вот перед войной, перед тем, как пойти на фронт, через нашу местность проходили сибирские войска. Военные. Чтобы оберегать, как говориться, от немцев Москву. Один верующий мне дал выписку каких-то стихов. Там ссылалось все на стихи библии. В этом письме-то. Там говорилось, что такое жизнь, кто ее дал, как человек должен ощущать эту жизнь. Но высказывалась мысль в своем стиле, но так на основании библии. И вот человек, который собственноручно не то что напишет, но это Божье слово скажет, он должен беречь его, и этого человека охраняет вот все это от всяких несчастий. Это письмо я переписал, как было сказано вот там. И взял с собой. И когда попал под обстрел немецкой артиллерии, а там дороги были так из деревьев, по бокам наложены, я и про Иисуса Христа вспомнил, стал говорить, что Господи, спаси меня. Что только не говорил. Обстрел — это же жуткое дело было. Когда прибыл, я не заметил. Но поскольку я любил шутить на фронте, не просто петухом или курицей, а чтобы оживлять людей, чтоб отношение какое-то было, ребята не поверили мне, что эта шинель на мне была одета. Вся была пробита осколками. Они думали, что я повесил ее во время обстрела, а потом одел. Они не поверили, потому что я любил шутить-то. Так что вот всякие предчувствия были.
- Расскажите о том, как сложилась ваша послевоенная судьба.
- После войны у меня, значит, так судьба сложилась. В 1950 году я был уволен из армии. Работал на ижорском заводе в Колпино. Работал на старом автомате: трубы прокачивали. Работал я, значит, там. Но не по моей специальности. Я был трактористом, комбайнёром. Ну и тогда я уволился оттуда. И пошел работать мастером куста, было отделение такое там. Был скот, было хозяйство, были швейные мастерские, мебельные мастерские. Вот это называется куст. И подчинялся этот куст Лужскому горкому партии. Дроздов был первым секретарем Лужского горкома партии. Пришел на учет становиться туда я, значит. Он хорошо со мной беседовал. Заявил: «Вот покажите свою работу, способность. Вы прошли войну, у вас должна сноровка быть. Орденоносец. Мы посмотрим и постараемся оценить ваш труд и взять в горком партии.» Ну и естественно, я не вру, потому что я не умею врать. Естественно, хотелось свою жизнь как-то по-другому устроить. Я соглашаюсь. Дом был двухэтажный, большой, но ступеньки подгнившие. Я организовывал там субботники. Люди сначала не хотели идти. Но душой заниматься так уж это все стали. Потом дошло до того, что надо было капусту сажать в сельском хозяйстве. Я этим никогда не занимался. Купили рассаду, посадили. Подхожу к одному посоветоваться местному человеку по поводу этого дела. Он мне и говорит: «Знаешь что? Людей-то много у вас. Сделайте как бы для прогулки. Скот есть. Навозом подкорку сделаем. Надо выполнять план по мастерским.» А там же еще швейные мастерские были. Пошив это же был. В армии в Луге я же там служил. Значит, пошив был. Но надо человека специально для этого дела было найти. Мацуев был, у которого была 58-я статья когда-то, за то, что он рассказал, как в Америке хорошо живут, пересказал рассказ одного моряка-полковника в разговоре. Ему дали за это 8 лет. Пришел — его никуда не берут на работу. Пришел ко мне так. Я говорю: «Товарищ Мацуев, вот вы начальником цеха были. Вы ж тут не будете вести пропаганду против Советской власти?» Прекрасный человек. Принял его так работать. То есть, набирал кадры. Все шло, как говориться, чин-чинарем. Что получается? Ну я холостяк. Девчата хотят со мной знакомиться. Я же работаю по должности мастер куста, а это же как начальник отделения. И вот получается так. Дроздов пишет заявку первому секретарю мебель делать. А у нас было две лошади и только одна машина. Там, значит, коровы, овцы и всякие другие были. Погрузили две лошади и повезли. Пришло время платить. А он не платит. Я беру его заказ. У него же есть подпись и так там все. Притом печать поставили. Привезли, он получил. А деньги не платит. Проходит месяц, второй. Не платит. Я прихожу к нему на прием. А там ждать надо еще и очередь — не так просто приходишь к нему на прием. Вызывают. Он мне и говорит: «А что? Ваши рабочие больше вас получают!» Я: «Подождите, они больше работают.» «А вы что мне мозг вправляете? - говорит. - Я думал, что вы действительно фронтовик и возьметесь за работу.» Я ухожу оттуда. Вижу, что толку мало. Выхожу, значит. Иду к помощнику секретаря горкома партии. Это — для того, чтобы печать поставить. Получите! Сделал подпись и получил. И выставляю на инкассу. Приходит зарплата — деньги сняты. Кто? Кус Рассолова. Начинается комиссия, начинается ревизия. Допустим, детский садик, детдом обеспечивает полностью так. За счет экономии материала. Начинает делать: откуда экономия материала? Я говорю: если материал пускать на прения. Так мы прения пускаем в ход. На этом экономим. Так мы же не обманываем так людей. У меня связь с воинской частью.» Но Попков был, первый секретарь Ленинградского обкома партии. Он и Дроздов были друзья. И вы понимаете, чем дальше — больше, я узнаю, что Дроздов вместо посевной (посельной) держит плантации клубники и продает все это дело в Ленинграде. Вы понимаете? Комбинации делал вот эти самые. Не выдержал я. Думаю: «Так я здесь встречаюсь с опасными людьми!» Я ушел и сказал: «Я не могу больше в такой обстановке работать!» Сижу в столовой, кушаю. Смотрю: сидит один человек и наблюдает за мной. Думаю: шпик чтоли, что он такое рассматривает? Я покушал. Он подсел. Здрасьте-здрасьте. «Павлов!» Я: «Рассолов!» Он говорит: «Я смотрю на личность. Вы технически кончали что-то, работали, вот так вот.?» Я говорю: «Я когда-то кончал школу механиков в Липецкой области.» «Да?» - он мне говорит. «Да.» «Вот как раз с вами будет разговор, - говорит он мне. - Вы где работаете?» Говорю: «Я сейчас без работы.» «Как без работы?» «А вот так вот.» И ему объясняю честно, как было. Ну как ему говорить? Что я без работы? Почему? Что, без работы были? И объясняю. Он говорит: «Приходите ко мне. Я — директор Лужской школы механизации.» Ну и я пришел так. Он мне говорит: «Значит, давайте договоримся так. Мне нужен инструктор по вождению так вот тракторов, по вождению комбайнов, который знает устройство комбайна, устройство трактора так. Но что-то забыли. Но мне легче с таким работать человеком, чем с тем, кто вообще ничего не знает. Но учтите: я человек такой. Вы будете давать инструкционную карту на каждое занятие и я буду ждать эту карту. Вы не обижайтесь, я такой человек.» Я говорю: «А я такой исполнительный: вы будете требовать, а я буду делать.» «Все, держи пять.» Ну договорились с ним. Прихожу работать. «Оформите инструктором», - говорит он своим. Устроили меня, короче говоря, в Лужское училище механизации. Прошло месяца два — комиссия пребывает туда, с горкома. Приходят на занятия. Ну вот они ушли. Он приглашает к себе и говорит: «Иван Захарович! Могу поздравить.» Я спрашиваю: «А что? Опять какая-нибудь неприятность?» «Нет. Могу поздравить, что вы честно мне все сказали. Я знаю, с кем я теперь дело имею.» «В отношении чего?» - спрашиваю его. «В отношении вас. На мне хребет сломают. У меня в министерстве Союза мой родной брат работает. И поэтому со мной пусть они лучше не связываются. А вас я поддержу.» Ну и так я пошел, как говориться, с лихвой относиться. Проработал я там наверное с год что ли. Потом он вдруг мне и говорит: «Иван Захарович, вот что. Я хочу чтоб вы поручились. Есть Денисов Николай. У него плохо с общеобразовательностью. Я направил в Борскую школу инструкторов переподготовки вас обоих. Но вам поручу любыми путями, чтоб он сдал тоже экзамены, чтоб он тоже прошел в эту школу.» Я его готовил там поэтому, значит, поступать в эту школу. А там ведь смотрят так на все. В общем, получилось так: я его подготовил, а сам не успел. Но я выполнял все. Просил человек, и я выполнял, что надо было. Притом человека, которого я любил, просьбу выполнял. Ну и кончилось тем, что мне надо было пересдавать все теперь. Я не сдал. Он сдал, то есть, переписал только. Мне пришлось сдать. Я сдал, конечно, на 5, но поскольку пересдал, мне поставили 4. Потому что не положено было ставить тем, кто пересдает, 5, уже не идет 5... А ему 4 поставили: там ему что-то поправили. Но я его полностью готовил. Ну потом приехали так оттуда. Директор Павлов был так, конечно, доволен. Ну а потом начали фантазировать так. У комбайна была метавила. Мы решили убрать эту метавилу. И вот представили дело так, что работает так мотор, через фильтр пускает газ, чтобы не было так на зерно ничего. Все, чертежи разработали. Это были наши разработки такие. Павлов мне все это оформил так. Но в министерстве сельского хозяйства сказали: «Медики запрещают. Как бы не было, это болотные газы идут на зерно, это будет загрязнение.» Забраковали нашу работу. Ну там нам благодарственные написали.
Ну а потом я познакомился с девушкой и поехал в Елизаветинское училище работать. Директор училища мне тогда, помню, сказал: «Знаете что? В отношении вас я скажу: я так же влюбился и студентом уехал в Сибирь, я в Сибири был. Влюбился в девушку. Слушай, я тебе дал возможность учиться, ты набрался. А теперь что? Ты не хочешь работать? Нет, все равно в нашем министерстве будешь работать.» И поехал я в Елизаветинское училище по направлению работать. Ну и получилась такая там вещь, значит. Когда я находился в Елизаветино в училище механизации, приехал туда к нам с Тойла, с Эстонии, один, значит, и сагитировал приехать сюда, в Эстонию. Что такие деньги получают на шахтах, чуть ли не лопатой гребут, рассказывал он нам. Только лопату, говорил он, побольше бери. Приехали сюда, значит. Вот как ведь жизнь складывается. Вот как я в натуре вижу: меньше в натуре встречается, кроме подлецов, больше добрых людей. Ну и приехал в Эстонию сюда я. В Тойла жил Лутов такой. Его отец был в Елизаветино. Сестра его там была. Этот отец с сестрой хотел поехать к нему. И получилась такая вещь. Приехал я сюда. Пошел на вторую шахту. Максимовский там был начальником шахты. Он мне сразу сказал: «С удовольствием, пожалуйста, возьмем. Тем паче фронтовик. О чем разговор? Вот хороший участок, все так, давай.» Но я не представлял, что делать и как делать. Пришел, значит, начальник участка. Начальник участка спрашивает: «Вы когда-нибудь работали на шахте?» Я говорю: «Представления не имею.» Вот он начинает рассказывать, что есть такой инструмент натека, лопата такая большая, вот с этими инструментами работать надо так-то и так-то. Я прихожу к Максимовскому и говорю: «Слушайте! Вы, наверное, меня не поняли.» Показал документы, показал трудовую книжку. Он мне тогда и говорит: «Голубчик, здесь вот я начальник шахты авиационной промышленности. Здесь я, может, стропальщиком не гожусь, другая функция. А так пожалуйста, оформляйтесь.» Тогда я иду на 12-ю шахту. База ее на станции Тойла находилась. Там требовался дежурный механик. Прихожу к директору так. Мельник был директором. Объясняю ему все. Он мне говорит: «А, да, мне нужен человек.» Потом он, этот Мельник, директором автобазы был. Он шофером потом работал. Ну смысл какой? Я пришел туда работать дежурным механиком на шахту. Там пожар случился. Я его потушил. Знал прибор, знал, как им пользоваться. Мне благодарность объявили в приказе. И спрашивают: «Слушай, скажи, пожалуйста. Ты нахватался этого всего когда-то или знаешь?» Я говорю: «Я кончал когда-то школу механиков по профилю комбайнера и тракториста. И кончал школу инструкторов производственного обучения в город Борск...» «У тебя есть документы?» - спрашивает он меня. Я говорю: «Да. А как же?» «А че ты не показываешь?» «А вы не спрашиваете, - говорю ему. - Чего я это буду показывать? Притом я написал заявление, и вы сразу поставили меня дежурить безо всяких.» А тут буфет на станции был. Там вокзал так был. Проработал я, значит, с год. Временно исполнял обязанности главного инженера, когда тот в отпуск уходил. Правда, финансовых дисциплин не знал и поэтому просил бухгалтера, чтоб меня в курсе дела держал. И поехал я тогда в Таллин так по работе. Приезжаю оттуда, с Таллина. А в Тойла так я ремонтировал ведомственную квартиру: красил, порядок наводил. Прихожу туда. Что такое? Там койки стоят. Барахло какое-то. Я прихожу к начальству и говорю: «Слушайте, а это что там?» «А я принял четырех человек на работу шоферами», - говорит начальник. Я ему говорю: «Так, подрождите. Я ремонтирую квартиру, квартира-то моя, я собирался семью заводить.» «Но мне шофера нужны», - не отступает он от своего. Я ему говорю: «Но так мне тоже жить надо.» «Ну слушай так: ты на меня не шуми», - начал он на меня. Я говорю: «Вы слушайте: руководитель или какой-то тип? Я с такими людьми не могу работать.» «Ну мы еще посмотрим», - начал он. А здесь разоблачали в это время как раз антисоветскую деятельность Берия Лаврентия Павловича. Я на собрании тогда в присутствии горкома заявил: «До тех пор, пока мое зрение видит, что творится беззаконие, тем паче мне на душе больно, я посвящаю свою жизнь борьбе за правду.» Работникам горкома это понравилось. И тогда на второй день меня приглашают в горком партии, предлагают: «Переходите работать в органы МВД.» Я рассудил так: работать на настоящем месте мне нельзя. Ну как так быть? Я же деньги вкладывал в квартиру. Поймите, это же вообще произвол самый настоящий был. Ушел я, значит, оттуда. В трудовой книжке, правда, я еще какое-то время числился и в автобазе, и в органах уже. То есть, там еще не сдал все документы, чтоб уволиться, а в другом уже числился. И первое время меня назначили участковым уполномоченным по Йыхви. Пробыл я, значит, там около года. Даже, наверное, меньше чем около года. В 1956 году был уволен. Там был сотрудник, я сейчас точно не помню, который моего сына забрал. Ему было 11 лет. Забрал, что ростом такой был. Но мало ли ростом такой? С него звездочку сняли. Ведь так можно было всех так брать. Ну а потом меня направляли на учебу в Таллин. А потом получилась какая вещь там, значит? В Вока — там были наши ракеты. И нам надо было срочно выехать туда. А кабинет мой находился в Пуру. А хотели в Пуру отделение милиции сделать по улице Карла Маркса. Ну и, значит, моя функция была как старшего оперуполномоченного райотделения такая - это раскрывать преступления и работать с участковыми, то есть, направлять участковую работу. Но с участковыми у меня, как говориться, работа шла нормально. Потому что участковый, который был в Пуру, - я хотел его оперативником определить. Потом был еще один милиционер, которого хотел на курсы направить и на место участкового назначить. Короче говоря, хотел своих людей поставить. Ну а потом я попал в автомобильную катастрофу. Денежная премия ведь мне даже была дана: не по отделу, а с министерства. И была перспектива, прямо так скажу. Таллин старался меня любыми путями сберегать. Почему? Потому что там шел вопрос тогда вот так. Два коммуниста были друзьями с молодости на фронте и все. И один одного убил на почве ревности. И когда я пришел туда, это дело появилось. А я проходил переподготовку, я учился. Тогда, помню, я как раз пришел к замминистру, просить помочь, потому что человека хотели исключить из партии, но работал он великолепно. В общем, хотели наказать вот этого работника. И когда я пришел, он сказал: «А откуда вы с неба свалились? Вы что, работали?» Я сказал только: «Надо помочь человеку». И помог. Правда, этот оперативник, майор, он много терпел от меня. Почему? Видите, когда начинаешь человеку остроты делать, этот человек второй, к которому ты применяешь остроты, начинает больше сам остриться, находит способ противостоять. А когда человеку даешь вид, что ты орешь, то сам допускаешь оплошности. И вот таким путем я помог этому человеку. Человек, который три месяца страдал. И я мог тоже пострадать. Почему? Потому что нельзя было применять тогда магнитофон. Аппарата не было. А магнитофон нельзя. А он мог отказаться. А я подключал магнитофон. Но то, что он сказал, подтвердилось в натуре. Это не то что так. А каким образом? Это тоже надо знать психологию человека. Они были друзьями с детства. И поэтому он не является закоренелым преступником. И я делал так. Что кроме того, что давал уголовный кодекс, чтобы он забивал себе в голову, я всегда возил на допрос альбом, где они обнимались в детстве. Последний снимок был. Труп лежит его друга. А последний, где они втроем с женщиной, ради которой он-то его убил друга то. Три фужера, три друга, обнимаются. И когда он начал, я говорю: «Чем ты убил?» Он не ожидал. «Медный прут бросил так!» - сказал он. Это не момент случая, а момент явления на психологию человека. Вы согласны с этим или нет? Глупости задавал. Тот терпел, не мог, я сказал. Ему сказали терпеть. Он сказал, я: «Терпи, не лезь.» Он трудился, а не я. Кто добился результата? Он, я не я. Так ему нужно почтение, а не мне.
И все шло вроде нормально так. После этого случая меня хотели перевести в Пайде руководителем. Но я уволился из органов. А после органов меня взял с удовольствием меня к себе один человек - был такой Петровичев Алексей Алексеевич, директор училища. Я воспитателем по культурной работе к нему работать пошел. Я притом там три раза уходил — увольнялся, меня здоровье подводило. Не выгоняли, а просто здоровье было такое. Помню, когда я работал на своей должности, в общении с ребятами не мог скрывать человеческий фактор. Вы представьте, однажды я им задал вопрос: «Вот вы молодые. Красивые. Вот какие перед собой вы ставите перспективы в личной жизни? Что вас в жизни интересует? Ведь вы будете кто-то мамашей, кто-то — папашей. Вы будете семейными людьми. Как вы рассматриваете этот вопрос?» То есть, я задавал более-конкретные вопросы. И вот представьте, они отвечали, что кроме близости должна быть взаимная наивысшая ступенька взаимоотношений. Второе — верность. И третье — взаимная ответственность за себя и за каждого. Смотрите, какие вопросы они ставили. Вы согласны, что это умно? Трое задали и ответили мне: «Иван Захарович, вы хорошо говорите о чувствах, о любви, о жизни, о будущем, все это прекрасно. Но ни одного раза никому не сказали: а как в зубах удержать кусок хлеба?» Видите, и такие находились. И знаете, что я им ответил? Я им сказал: «Трое ответили то-то и то-то. Я это могу узнать по почерку. Но я этого не делаю. Почему? Каждый может говорить это же самое. Но этим троим я отвечу. Запомните, дорогие мои, что если у вас не будет чувств здесь, если у вас не будет верности здесь и здесь, если у вас не будет взаимоответственности ни там — ни там, не то что кусок хлеба во рту — сало в горло не полезет. Запомните это!» Все аплодировали. А это действительно так. Действительно, если так — сало в горло не полезет, если не будет верности — какой кусок хлеба? А потом меня трижды увольняли и трижды я возвращался. А потом я работал на участке спецстроя. Был Куликов Имван Емельянович начальником. Тоже прекрасный человек. Единственное, его испортила водка. И так — до пенсии. После смерти жены я дом в Тойла продал и сейчас живу здесь, в Кохтла-Ярве, в квартире.
| Интервью и лит.обработка: | И. Вершинин |