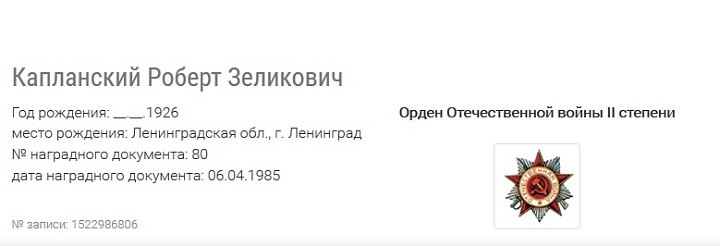Я Капланский Роберт Зеликович родился в Ленинграде в 1926 году. Перед войной мы жили на Четырнадцатой Линии Васильевского острова дом 21. В 1936 году умер отец и мама осталась с тремя детьми, кроме меня еще сестра и младший брат. Я учился в тринадцатой школе на тринадцатой линии. На мой взгляд довоенное образование было очень хорошее, учителя замечательные. Одной из таких была учительница русского языка, но нам казалось, что лицом она похожа на мартышку. Мы же дети были и между собой звали её «мартышкой». Учились мы, с братом, прямо надо сказать неважно, при этом были большими хулиганами, и нас «попёрли» из четвёртого класса этой школы. Потом учились на девятнадцатой линии, номер школы не помню.
О довоенной жизни могу сказать- да, было плохо, да, чего-то не хватало. Но нам, детям, всё всегда было нормально. Ну и пирожные ели, и так далее, то есть, на бытовом уровне. Репрессированных у меня не было, хотя действительно, помню были, какие-то там высказывания, злые анекдоты или поиски на этикетках коробков спичек фашистских знаков. Это всё было, было, но воспринималось как нормальное. Помню, как в учебниках заклеивали страницы с маршалом Блюхером, это тоже было, но не более. Когда началась финская война, мне было тринадцать лет. Моего дядю, работавшего инженером, взяли в армию. Дядя Толя Краснов был офицером, в какой-то танковой части. Помню они приехали, наверное на переформирование, и стояли на площади Пестеля. Он дал нам знать, и я ходил к нему туда. Помню он такой, в белом полушубке, в валенках и ушанке. Мы с ним поговорили и они снова отправились на фронт. Когда закончилась финская война он вернулся на завод и снова стал старшим инженером. Помню по радио говорили о трудностях, не говорили, что наши отступают или попали в окружение. Рассказывали о мощной линии Маннергейма, о том, что финны применяют автоматы, о «кукушках» сидящих на деревьях и отстреливающих наших солдат, о том, что финны хорошие лыжники. Слухов особенных не было, ну и ещё раз повторю, что я мальчишкой был.
Семья у нас была большая, хоть репрессированных и не было, мы осторожничали, не говорили вслух ничего такого. Но я это воспринимаю правильно, потому что и троцкизм был, и всё это было. Любая власть должна себя обезопасить и никуда от этого не денешься . Ты что-то делаешь, а тебя поносят и всякое твоё деяние извращают, делают из мухи слона, кому это понравится. Это мирное время было. Когда объявили о начале войны, мне было четырнадцать лет. В феврале 1941 года я поступил учеником слесаря-инструментальщика на завод металлоизделий №4, на шестнадцатой линии Васильевского острова. Тогда действовало положение, что разрешалось работать только с пятнадцати лет. Но так как мой дядька работал на этом заводе главным инженером, а я был исключительным двоечником, моя мама видя, что толку в образовании, от меня не будет, уговорила его взять меня на завод.
К началу войны мне присвоили третий разряд.
22 июня я пришел на работу к восьми часам, по радио уже передавали, что будет важное сообщение. В двенадцать выступил Молотов. Мы стояли понурые, ошеломлённые, хотя о том, что война будет вот, говорили у нас очень много. Помню у сестрёнки был день рождения, среди гостей находился муж нашей тёти - Александр, в звании капитана. Мы его спрашивали, будет война или нет. Он сказал, что да, конечно будет. Тогда был очень высокий патриотизм. Как и в наше время ровно в полночь, по радио исполнялся гимн, в то время это был интернационал. Так, когда в тот вечер стал исполняться гимн, он и ещё один бывший у нас в гостях командир, встали и в течении всего исполнения стояли, отдавая честь. Этот наш дядя погиб на войне.
Среди рабочих на заводе трудились и немцы и австрийцы, как только началась война их, как иностранных рабочих, интернировали. Наш завод был штамповочный и до войны выпускал в основном заводные детские игрушки- слоников, мотоциклетки, клюющих птичек, часики. Во время войны стал выпускать вытяжные, полые цилиндры для гранатных запалов, такие, типа пистончиков, коробочки, и так далее. Идёт изделие под номером таким-то и всё, для чего оно мы не знали. Штамповочная, прессовая база была большая. На токарных станках, под большим секретом, точили детали реактивных снарядов - для «катюш». Я состоял в команде противовоздушной обороны завода и находился на казарменном положении. Во время воздушной тревоги мы стояли на крыше со щипцами в руках, ждали зажигательные бомбы. Когда они падали на крышу, мы их сбрасывали вниз. Большое впечатление произвела речь Сталина третьего июля 1941 года. Это было ночью, её повторяли, наверное, уже темно было. Рабочие стояли кучей и все с удовольствием слушали. О начале войны у меня написаны большие стихи. Первое впечатление было подавленным, а потом к этому состоянию начали привыкать и было даже интересно. В первые дни, как только объявлялась тревога, мы мальчишки выбегали на крышу смотреть, как летят самолёты, никакой опасности мы не чувствовали, было просто интересно. Хотелось увидеть зажигалку и сбросить её, а вот когда пришлось стоять ночью в окнах пустых чердаков было уже… Завод металлоизделий был на шестнадцатой линии, а первую бомбу, в эту ночь, засадили в угол Большого и восьмой линии. Там была типография, а следующая бомба упала на угол Большого и пятнадцатой линии, недалеко от Райкома Партии. Мы всю ночь сидели в подвале, утром я иду на работу, смотрю - дом разрушен. Потом иду по четырнадцатой линии, вижу, в окна засадили снаряд и там убитые люди лежат. В другой раз я был на работе, когда объявили артобстрел. Это было днём, рабочие побросали станки и пошли в убежище, а я с другими бойцами противовоздушной обороны поднялся на крышу. Во-первых - слышно, как летят снаряды над головой. Во-вторых - лично видел, как в угловой корпус Сената на углу Сенатской площади и Набережной засадили снаряд. И там крыша - «пух» и поднялась. Это на моих глазах. Наш завод не обстреливали, но зажигательные бомбы на крыши цехов падали. Некоторые не пробив крышу скатывались во двор, а те что пробивали, тушились дежурными. Я потушил одну - вот как она упала, брызгая огнём, её сразу клещами схватил и в песок головой. А на дом, где я жил, ни одной не упало.
К ноябрю выдача хлеба рабочим дошла до двухсот грамм, в декабре повысили до двухсот пятидесяти, постепенно повышали, и когда я эвакуировался рабочим, давали четыреста. Но рабочие тоже умирали, хоть и получали хлеба больше чем служащие, а тем более иждивенцы. У меня умер напарник, с которым я поднимался на крышу и мне пришлось, на саночках, отвозить его на Смоленское кладбище, там был большой ров. Как-то, года три тому назад, на День Красной Армии, мы собрались в администрации муниципалитета и слышим такое, что вот значит, горы трупов были, и так далее, и так далее. Но я работал, я ходил по городу, правда дальше Васильевского острова не был, не до того было, на Неву только за водой сходишь, и то трудно было к ней спуститься по льду, зачерпнуть воды, чтобы принести домой. Ну, короче говоря, сам лично я отвёз один труп, видел один раз на дороге лежала женщина, но не более. На машинах отвозили трупы, да это было, но то, что сейчас говорят, мол повсюду лежали горы трупов, что ничего не делали, что вот руководители обжирались, а мы тут… Да стояли в очередях. У нас был магазин на углу Четырнадцатой линии и Большого, стояли в очереди ночью с карточкой, чтобы получить. Хлеб был всегда вовремя, но сами понимаете, это был не хлеб, а глина. Перебои были с другими продуктами с мясными, крупами, но один день походил, другой, потом всё же получишь. Если допустим ты сегодня не получил хлеб, завтра не получил, то пропускаешь - такого не было. Вот сейчас продавцы, посмотришь, кто во что одет, а тогда - белый халатик, чёрные краги, шапочка. Телевизора тогда не было, смотреть было нечего, а все разговоры были в очередях. О том что колхозники Ленинградской области собрали и прислали обоз с продовольствием, когда замёрзла Ладога открыли дорогу, всё время это обсуждали, что скоро, скоро. Все ждали быстрого освобождения, а вместо быстрого освобождения падала пайка. В доме от бабушки, от дедушки оставались хорошие вещи, и я сам ходил на базар менял на хлеб - зеркало, ботинки… На базаре было всё, как говорится, жуликов хватало во все времена.
На заводе не было электричества, для того чтобы просверлить отверстие в металле один крутит штифт, а другой сверлит. В цеху холодно, топили буржуйки, на буржуйке грели этот маленький кусочек хлеба и кружку горячей воды. До марта 1942 года мы с сестрёнкой работали на заводе, а брат учился в ремесленном училище при заводе Коминтерна. В нашей коммунальной квартире было всего две семьи, наша основная и семья геологов, но её мы почти не видели, где они были во время войны, я не знаю. С началом осады из прифронтового Московского района к нам переехала мамина сестра с мужем, по-моему он был главным инженером «Электросилы», он слёг и на работу не ходил. Помню тётя Маруся дала ему кусочек хлеба, он так с хлебом во рту и умер. Потом, когда мы эвакуировались, умерла и маленькая дочка тёти Маруси.
На заводе я записался на патрулирование, не помню как это называлось, записывали патрулировать по городу. Помню приболел, вдруг ночью стучат. Мать открыла дверь. Там спрашивают: «А что с Робертом?» Она говорит: «Он приболел». Я кричу: «Мама, да я встану, встану!» Встал и пошел. Пришли на тринадцатую линию, в каком-то здании выдали мне винтовку и пошли. Но я не долго участвовал, может в четырёх или пяти таких походах. Ходили, проверяли дворы, где-то окно не занавешено, пробивается свет, но не думаю, что это специально открывали, поднимаешься туда, требуешь чтобы немедленно занавесили. В моё дежурство никого не задерживали, но ракетчики были, я сам видел во время налётов, взлетающие ракеты.
Очень помогала радиотрансляция, часто выступала Ольга Берггольц, передавали новые песни. Помню, лежу на кровати, и так мне одна песня понравилась, сейчас не напою. Короче говоря, передач не было, только когда щёлкал метроном, во время тревоги.
Двадцатого февраля 1942 года мы получили направление на эвакуацию. Брат мой работал на заводе «Коминтерна», в ремесленном училище, и отморозил ноги. Он лежал в больнице имени Ленина на Васильевском острове, там в одном из зданий был организован стационар по поддержанию дистрофиков. Числа 22-го февраля мы забрали его и на саночках привезли на Финляндский вокзал, там погрузились на поезд. Когда переехали Ладожское озеро, то перед погрузкой в поезд, дали нам жирный-жирный какой то суп, по куску сала, шоколад и ещё чего то. Ну, и естественно, от всех этих жиров нас так несло... С нами в вагоне ехал сопровождающий солдат, который нам всем, прямо на ходу, приоткрывал двери. Он бедолага замучился с нами и мы стали платить ему по пять рублей, за то, что он нам на ходу открывал двери. А уж когда поезд останавливался на станции, чтобы получить на эвакопункте продукты и так далее, все сразу высыпали и никуда не убегали, прямо возле вагона одни голые задницы торчали. (рассказывает улыбаясь) В вагоне стояли двухярусные нары, посредине буржуйка, которую топил солдат. Народа в вагоне было много, спали тесно, если надо было повернуться, то поворачивались все одновременно. Ехали долго, дней пятнадцать – двадцать.
Нас должны были эвакуировать в Молотовскую область, а привезли в Краснодарский край. В Тихорецке высадили, было уже темно, тут же подали лошадей. Привезли в одну семью- муж, жена и ребёнок, фамилию к сожалению не помню. Они сразу сделали нам баню, наше вшивое бельё пропарили, усадили за стол, нажарили огромную сковородку лука, пшенный суп, вот это я помню, белый хлеб, который мы в Ленинграде давным-давно не видели. Но там мы пробыли недолго, это был как-бы перевалочный пункт. Привезли нас в станицу Невинномысскую, колхоз имени Чапаева. Там сперва определили в одну довольно зажиточную семью. На Кубани очень хорошо жили, там и мотоциклы у людей были, велосипеды. Дали нам комнату, но там семья была большая и наверное месяца через два мы переехали Месяца полтора мы жили за счёт колхоза, получали муку, крупы, иногда масло, свинину и так далее. За это время набрали сил и тогда нас определили на работу. Я работал в тракторной бригаде прицепщиком. Ночью и днём пахали, сеяли, урожай убирали, но до конца собрать не удалось. Шла уборка, я стоял на комбайне, мешки с зерном бросал на машину. Нас сняли с жатвы и послали на строительство укреплений. В июле – августе немцы начали наступление на северный Кавказ, а мы в это время на аэродроме рыли капониры для самолётов. За нами приехали, говорят: «Давайте, эвакуируйтесь скорей». Дали нам двух таких хороших, рыжих лошадей и наша семья, и ещё семья комиссара из Одессы, молодая женщина с двумя детьми - один за ручку, другой на руках. Вся эта куча, семь человек, на этой телеге отправилась. Постоянно в небе кружилась рама - Хенкель 123, бросала листовки. Помню такая листовка была- крупным планом Сталин с большим кнутом, а внизу рабы- колхозники и рабочий класс, ну и соответствующая надпись «переходите на нашу сторону» и так далее. Вся эта картина эвакуации, когда тянулись повозки, там раненые солдаты, отступающие колхозы, тут же свиньи, овцы, всё это по дороге. Немцы стали бомбить эти колонны мирного населения. Всё же мы добрались где-то до Невинномысска, там нас немцы окружили и заставили возвращаться обратно. До этого брат, где-то в поле нашел винтовку, притащил её и спрятал в повозку, хорошо я заметил. Когда ночью мы приехали в станицу Весёлую, слышим немецкую речь, я залез и выкинул эту винтовку. Всем приказали явиться и начали распоряжаться кому куда, жандармы, с такими бляхами на груди. Не скажу чтоб немцы там били нас или что-то такое, нормально в общем-то обошлись, но потом, на пути начали копаться в вещах, тоже жандармерия, и если бы они нашли винтовку то «хана» была бы. В одном месте был очень крутой спуск, внизу на мосту стояли немцы с велосипедами. Я не сумел затормозить колёсами, лошади понесличерез мост ипозади образовалась большая свалка, немцы начали стрелять, но я умчался. Приехал в один из бывших колхозов, поставил лошадей в конюшню, а на следующий день мне моих рыжих не отдали, а дали чёрных, которые были похуже, но это не немцы. Когда мы приехали в Усть-Лабу, то немцы сказали, что кто хочет есть - приходите. У нас продуктов не было, пришлось идти с котелком, помню дали горох с репой. Гуляж такой
Мы не доехали до своего колхоза, нас повернули к станице Усть-Лаба, там была исправительно-трудовая колония НКВД. Заключённых эвакуировали на Восток, колония стояла пустая и нас туда загнали. Немцы устроили свою колонию и там мы трудились за пайку хлеба. Нас поселили в бывшее лечебное учреждение, перед ним была бахча с арбузами и дынями. И вот как-то мы лежим в комнате, уже темно, и вдруг сапоги по полу - «тук-тук». Входят немец, кокарда «мёртвая голова». Ну, мы все перетряслись, а они фонариком осветили нас, видят, что мы кучкой- дети. А на столе арбузы начатые, они повычерпывали остатки, поели и ушли. А было и такое: пошел за водой, а там немцы поили лошадей и у них оборвалось ведро. А я пришел с вёдрами. Ну, и немцы говорят: «Давай ведро». Я не даю, мы, ленинградцы, не привыкли чтоб из ведра из которого пьют люди, поили лошадей. Мне по роже, как смажут. Один раз, другой, я им оба ведра отдал. Вот такие случаи были, по-всякому. Кроме беженцев в колонии оставались некоторые вольнонаёмные служащие, которые обслуживали этот лагерь. У них были коровы, овцы. Немцы их не трогали, только после начала отступления стали отбирать коров. Комендантом колонии назначили немца по фамилии Паулюс. (смеётся) Он относился неплохо, ни кого по морде не бил, а вот Блинов, который был управляющим, тот или плёткой стращал или треснет по щеке или ещё что-нибудь. Какую только работу я там не исполнял: на тракторе работал, конюхом был, овец пас, коров пас, на лошадях ездить научился.
У нас была одна еврейская семья с двумя маленькими детьми, ещё был одессит Мишка, такой парень языкастый. Однажды мы работали на прополке кормовых арбузов, такие огромные, но для скота. Там же была и эта семья и Мишка. Прямо на поле их и взяли, потом уже сказали, что расстреляли. Сам я не видел, но так сказали. Вот как получилось с нами: моя фамилия Капланский, зовут Роберт Зеликович, всё понятно, да? Мать у меня правда русская - Краснова Александра Георгиевна. У сестрёнки уже был паспорт, ей было шестнадцать лет. Когда только мы приехали в эвакуацию в колхоз, остановились в доме у бабушки Поли, она сказала, на кубанском языке: «Нет, Роберт, Эрик, Рема - такие имена не подходят. Вот ты будешь- Володя, ты будешь Коля, а ты будешь Галя». Всё, и вот эти имена так и прилипли. Когда пришли немцы, мать зарыла свой паспорт и партийный билет и сестра паспорт зарыла .И представились мы как Володя, Коля и Галя. А с внешним видом было всё в порядке - нормальный русак. Короче так и пошло и сейчас мы в семье Володя да Коля.
При колонии стояла недостроенная мельница, современная, с хорошим дизелем. Долго она стояла, потом немцы решили восстановить. Меня, как слесаря назначили помощником к судомеханику, занимавшемуся ремонтом. Там надо было перебрать весь дизель и мы потихоньку, хлеб-то надо было зарабатывать, «ни шатко, ни валко», дотянули до наших. До этого мы сожгли комбайн. Там стоял комбайн, а отдельно от него такой, как паровоз, который топили, от него шел штифт к молотилке. По недосмотру, а может быть кто-то специально сделал, но загорелась солома. Надо тушить, мы тушить не стали, огонь по соломе, по соломе и всё сгорело. Хотели нас тут припугнуть, но не сложилось, сказали, что ветер был, огонь раздуло. Было ли следствие не знаю, нас отправили на другой участок убирать подсолнечник, кукурузу. Честно сказать гестапо мы там и не видели, всё-таки десять километров от Усть-Лабинского района. На всю колонию вооруженным был только управляющий, ну и майор Паулюс приезжал для инспекции. Немцев много проходило мимо. У нас недалеко была железнодорожная станция, не помню как называется. Вот у немцев грузовые машины «Маны» были, у них шины можно было менять на железнодорожные колёса и она по рельсам ехала. У нас немцы останавливались, ночевали и на лошадях и на машинах. Один раз мы с братом во дворе шли, нас какой то офицер: «Ком, ком». Велел, чтобы мы ему чемоданы несли. Мы поднесли, и он отблагодарил нас, дал по сигарете.
Вся продукция которая выпускалась колонией: подсолнечник, кукуруза, всевозможные травы, овцы, свиньи, отправлялась в Германию, а нам платили пайками - четыреста грамм хлеба на человека. В Ленинграде, когда мы уезжали давали столько же. Кроме хлеба, давали мамалыгу, кукурузную крупу такую. У нас кое-какое барахлишко было, и что смогли-поменяли. Когда после освобождения мы уходили в армию, то со всей колонии нам с братом собирали одежду. Наша колония не была концлагерем и огорожена она не была, но особенно нас не выпускали документов-то не было. Усть-Лаба в десяти километрах, чтобы туда пойти, нужно было брать разрешение, чтобы выйти. Сказать, «не хочу на работу» нельзя. Не хочешь - во-первых не получешь пайку, а во-вторых могут и плёткой отхлестать. Когда в девяностые немцы согласились на выплаты всем угнанным в Германию, я тоже написал заявление в этот комитет. Мне ответили, что вы всё-таки работали на территории своей страны, а не были угнаны, и в компенсации отказали.
Помню немца, майора медицинской службы, хорошо разговаривавшего по русски, он нам рассказал, что «гитлер капут». Короче поделился, что их разбили под Сталинградом и вот они отступают. И действительно, потом они начали рельсы, столбы сносить. Я как-то пошел в Усть-Лабу, смотрю - мыло лежит, схватил, принёс домой и отдал матери. Она положила его над печкой, а потом выяснилось, что это тол. (смеётся). Потом пришел один хорват, просил чтобы его спрятали. Мы его спрятали и он потом сдался. Перед этим поймали приблудного бычка, жрать-то было нечего, у хорвата была винтовка и мы его подговорили застрелить этого бычка, чтобы съесть. Помню у немцев сломалась машина. Они подожгли её и ушли. Мы ее потушили, а там полно лимонада, папирос и прочего. В другой раз на мотоцикле приехали три немца. Мотоцикл у них заглох и они не могли с ним справиться. Подозвали брата и говорят: «Вот возьми мотоцикл, откати в поле и сожги». Брат закатил мотоцикл в кузницу, там был один умелец. Он начал его заводить. Отдыхавшие в доме немцы услышали, что мотоцикл трещит, пришли, брат мой выскочил, но его поймали, привели к матери. Мать конечно в слёзы: «Это мой сын». Немцы кричат: «Партизан! Партизан!» Ну, короче ничего не сделали. Вместе с немцами отступали батальоны типа власовцев, украинский и кажется таджикский. Пришли к нам, обобрали продукты, кто-то котелок спёр, кто-то ещё что, ну по мелочи, и ушли. Немцы угоняли скот. Одно большое стадо мы охраняли с девчонкой, потом забрали брата, чтобы он сопровождал это стадо.
Мы начали опасаться, что немцы могут нас угнать. И вот в колонию, к одной семье заявились пятеро отступавших немцев. Они там начали пить. Опасаясь, что под пьяную руку они могут что угодно сделать, мужики решили скрыться. Пятеро мужиков и я ушли на второй участок и если слышали, где какой топот то сразу прятались в кукурузу. Ночью решили идти домой, может наших там убили уже. Идём значит, когда пускают осветительные ракеты - прячемся. Подошли к дому, мне говорят: «Ты самый маленький, иди там проверь». Немцы спали. А утром мы проснулись, слышим мат. (смеётся) Наши пришли, мы обрадовались этому мату. Немцы в кальсонах выскочили, их забрали в плен. Ребята хотели им по роже надавать, но не дали. Надо давать тогда, когда немцы в силе были, а чего давать пленным.
Разговоры, что казачки ждали немцев это такая глупость, может быть кто-нибудь и ждал. Был у нас управляющий такой, Блинов, конечно паршивая овца всё стадо портит, но это не значит, что все казачки ждали немцев, это глупость. Ведь вот, когда нас отправили в эвакуацию колхоз, нам в путь выдал крохи, а дорога длинная была, так по пути, что в одной станице, что в другой всегда накормят и с собой дадут. За эти девять месяцев в оккупации предательства я не видел, наоборот когда немцев начали выгонять, то местные этих немцев ловили, морду начали бить, нашим солдатам пришлось защищать этих немцев чтобы их не растерзали.
В феврале, начале марта нас освободили. Я как раз пошел в колодец за водой, налетели два немецких самолёта и стали обстреливать из пулемётов. Пули свистели буквально над головой, многих ранило. Один солдат был ранен в живот и его положили на ночь к нам в комнату, госпиталя-то не было, только-только вошли. Сестрёнка за ним ухаживала, к утру он умер. Нам с братом не было ещё семнадцати лет, мы были не то, чтобы идейными, но Советская власть занималась патриотическим воспитанием с детства, и по этому седьмого марта, мы с братом пошли в Военкомат. Тогда призывали с семнадцати лет, нам не хватало ещё трёх месяцев В Военкомате только спросили: «26-й год?» Нас подстригли и сказали: «Через три дня приходите. С собой возьмите продуктов на пятнадцать дней». Пришли домой сказали матери, что вот нас забирают в армию. Ну, естественно слёзы и всё, что положено. С миру по нитке собрали нам на пятнадцать дней каких-то продуктов. Пришли в Усть-Лабу, там собрали нас в отряд и пошли пешком, кажется до станицы Невинномысская. Там стали распределять по воинским частям. Нас с братом, как близнецов хотели взять в батальон связи, тогда была такая мода, семейные отделения, или не знаю как их назвать. Но тут мы заболели, чем-то вроде чесотки, спали-то по дороге на бетонном полу и где придётся. И отправили нас в станицу Солдатскую, оттуда в Маздок в 35-й запасной стрелковый полк. Там нас начали лечить. Подлечили и направили в снайперскую роту. Мы там месяц проучились, и вот приехали набирать в разные части пополнение. Выстроили и спрашивают: «Кто куда хочет»? Мы решили в зенитную артиллерию. Должен был формироваться одиннадцатый полк, и нас туда взяли. Отправили в Тбилиси, где формировался зенитный полк среднего калибра. Нас с братом осмотрел окулист, проверил наши возможности. По медицинским данным мы подошли на должность дальномерщиков. Там мы позанимались месяца два или три, и поехали в Смоленск. Пока служили в Тбилиси обмундирование было б.у, а перед тем, как отправить в Смоленск нам выдали американские ботинки, шинели необычного цвета, было видно, что обмундирование импортное. В середине декабря поезд пришел в Москву. Состав остановился где-то в районе Красной Пресни. Нас сводили в душ, потом я зашел в какой то клуб, где впервые посмотрел фильм «Два Бойца». В январе 1944 года, в Смоленске, нас сформировали и дали вооружение 85мм. Орудия буксировали «Студебеккерами». Налёты производились по ночам и мы вели заградительный огонь - отражали массированные налёты на Смоленск. Были сбитые самолёты, но кто сбил, неизвестно, потому что стрельба ночью ведётся по определённому сектору. Дальномерщики в отражении ночных налётов не участвуют, если конечно не работают прожекторы. Мы с братом и командиром отделения шли в помощь орудийным расчётам, подносили снаряды и устанавливали трубку. В перчатках, с фонариком берёшь снаряд, шестнадцать килограмм он весит, на головной части есть специальное кольцо, сверху надевается такой ключ и поворачивается, на нужное деление, там трубка-1, трубка-2, трубка-3, и так далее. Трубка, это дальность разрыва снаряда. Максимальная высота, по моему пятнадцать километров. Это чудо, когда происходит прямое попадание снаряда, самолёт сбивается осколками разлетающимися в радиусе четырёхсот метров. Чаще всего вражеские самолёты сбивали истребители, а наша задача отогнать, не подпустить. Нас, дальномерщиков, обучали распознавать самолёты всех воюющих стран. Не только немецкие, но и английские, американские, японские, все эти самолёты мы должны с ходу определить. Помню такой случай, была лёгкая облачность, но в небольшие колодцы небо светилось. Вдруг слышим самолёт, я за дальномер, начал искать, и наткнулся, смотрю- да, летит самолёт, фашистские знаки на нём. Я сразу определил, что это «хенкель-111». Почему? Потому, что между фюзеляжем, там где крепится крыло такая маленькая выемка. По таким небольшим приметам и опознавали, у одного например антенна такая, или такая, мы должны были сказать- это самолёт такой то. Немецких реактивных самолётов я не видел.
Когда стояли под Смоленском, на моих глазах, произошел трагический случай. Батарея располагалась в деревенских домах, мы должны были патрулировать улицы, я иду по деревенской улице, вдруг вижу две фигуры, я: «Стой, кто идёт?!» Один убежал, другой направился к дому, где жил тот с кем я должен был патрулировать. Он был пацан лет шестнадцать – семнадцать, у него замёрзли руки, а карабин был направлен на этого человека, и выстрелил и убил его. Оказалось двое солдат из близлежащего госпиталя пошли за водкой. Делом занимался «СМЕРШ», , вызывали нас, как, где, чего. Подержали на гауптвахте, а потом, как говорится, война всё спишет.
Вскоре полк разделили на дивизионы, и наш 64-й отдельный дивизион отправили на защиту железнодорожного узла города Рославля. Там тоже были налёты, стрельба, но не так часто. В октябре 1944 года наш дивизион отправили на защиту Риги, точнее Рижского железнодорожного узла. Мы с братом служили в одном дальномерном отделении, сперва я был замкомандира отделения, а потом командиром. Всего в отделении три человека. У нас был четырёхметровый дальномер для пушек среднего калибра 85мм. Командиром был у нас такой Петухов, тоже молодой парень. Нашей задачей было дать точные данные дальности самолёта. Угол, место его расположения. Когда смотришь в дальномер, создаётся стереоскопический эффект, там есть две метки, эти метки нужно совместить с самолётом, в это время считываются данные, в километрах столько-то и так далее, они передаются на прибор «ПУАЗО-3»- прибор управления артиллерийско-зенитным огнём. Обработанные данные поступали к орудиям. Не знаю, в шутку говорили или всерьёз, что сбитые самолёты записывали тем, кто быстрее всех добежал до сбитого самолёта и что-то с него захватил. При мне сбитых самолётов было немного, потому что на объекты, которые мы защищали налёты были не часты. Наш дивизион участвовал в боях ещё под Сталинградом, он так и назывался 64-й Режицкий ордена Александра Невского первой степени дивизион или ордена Суворова зенитно-артиллерийский дивизион, точно не помню. А мы пришли на фронт ко времени Победы, уже был победоносный 1944-й год. Нашим первым командиром батареи, со времени формирования в Тбилиси, был такой пухленький парень, по фамилии кажется Фрейндлих или как-то так. Все, в том числе и командиры были молодые, старше двадцати никого не было.
У нас на вооружении стояли советские пушки, а рядом стоял полк вооруженный 40 миллиметровыми американскими зенитками.
Взвод управления дивизиона, почти все были девчонки. Мы жили в землянках, а девушки у нас размещались в зданиях. Я был секретарём Комсомольской организации, и когда нас собирали в политуправлении корпуса, просили обратить внимание на комсомольскую работу с девушками. Приводились разные проишествия, когда девчонки травились из-за любви. Были разные случаи, чего там говорить. У нас на батареи была любовь у одной с командиром, она забеременела, её отправили в тыл, но это не считалось таким уж преступлением, всё по любви, никто её не насиловал. В корпусе была радиолокационная станция- «СОН-2» называлась, там тоже почти все были девчонки. Политруков, как таковых у нас не было, в дивизионе был заместитель по политчасти, была женщина заместитель по комсомольской работе. Нормальные были отношения.
Во время налётов наши позиции не бомбили, но была реальная опасность погибнуть от осколков собственных снарядов, ведь что такое дивизион- это три батареи, в каждой по четыре пушки. Шестнадцать орудий бьют в разных направлениях, снаряды разрываются в небе, осколки падают на землю. Возможно снаряд с соседней батареи разорвётся в твоём секторе и осколки могут прилететь. Как-то я стоял у дальномера и рядом, на бруствер шлёпнулась головная часть снаряда. . К счастью у нас на батарее потерь не было, да и в дивизионе тоже.
В Риге местное население относилось к нам по-разному. Иногда хотелось побаловать себя копчёной рыбкой, ходили по домам, просили продать, одни не хотели разговаривать, другие просто отказывали, короче говоря, в некоторых домах нормально встречали, в других сурово, но такого, чтобы они там что-то подрывали, такого не было. Когда мы уезжали, то остававшийся стройматериал отдали ближайшим латышам, они приходили, забирали.
Где то пятого мая мы уже понимали, что вот-вот война должна закончиться. Восьмого нам привезли снаряды. Снаряды у нас были, а тут привезли ещё. Оказывается был приказ и девятого числа холостыми снарядами мы салютовали. Ну, конечно и из оружия стреляли
Через пару месяцев, может быть через пол года наш дивизион расформировали. Провели смазку орудий и снарядов. Всё было сдано на склад. Личный состав отправили в Псков. Там нам выдали 37-мм пушки, автоматы. После переобучения стояли на охране моста через реку Великую. Потом, за шесть лет, было много городов и мест, и в Латвии и в Эстонии.
В нашем дивизионе служили всё молодые ребята из Адыгеи, Грузии, Беларусии, со всей страны. Жили дружно, иногда конечно подшучивали друг над другом, но без издёвки. Я лично не видел в наших частях ничего такого, чтобы кто-то дезертировал, чего-то проклинал. Всё было нормально, и воевали и выполняли свой долг. Были конечно дисциплинарные нарушения, но никого за это не расстреливали. После войны я служил ещё шесть с половиной лет и некоторое время был всоставе военного трибунала Второго корпуса ПВО, были всякие случаи. Стояли мы в Эстонии, судили солдата-эстонца за клевету на советскую действительность, так он раньше служил в эстонской дивизии, которая воевала против Советской власти, дали ему десять лет. Были такие случаи, были и дисциплинарные нарушения, тоже судили. Нас отправили на летние стрельбы на Ладогу, один солдат был ленинградец, мальчишка восемнадцать лет. Ну, он взял и уехал домой и пробыл там свыше 24-х часов. Конечно шум поднялся, его искали. Председатель суда хотел ему два года дать, но мы со вторым парнем сговорились, мальчишка ведь. Отстояли пол года, и дали ему полтора года дисциплинарного батальона. В другой раз у одного эстонца завалилась телега, он попросил нескольких связистов вытащить ему телегу. В благодарность отвёл их в ближайший кабак и напоил, завязалась ссора и они его там побили. Их забрала милиция, а они ночью отобрали у милиционера оружие и ушли. Когда командир части с отделением солдат пришел их арестовывать, они заняли оборону и началась чуть ли не перестрелка. Их судили и дали по пять лет. Судили по-честному, вот например наши солдаты из подсобного хозяйства пошли за водкой и изнасиловали женщину, тогда приговорили одного к расстрелу, но он попал под амнистию и ему дали десять лет, но оно всё законно - не нарушай! Были и анекдоты в довоенный период и песенки: «Сталин Ленину сказал: пойдём, рыжий, на базар, купим-купим клячу карию, накормим пролетарию» … ». Не надо было выходить орать, так, «втихаря» посмеялись в домашних условиях. Это всё без злобы. Да, вот процессы, убийство Кирова, всё это было, но мы питались тем, что услышим по радио. У меня был приёмник хороший «Д-34», в начале войны пришлось его сдать. Моментально вышел приказ о сдаче радиоприёмников, личных автомобилей … Машины в армию, а приёмники на склад. Вернувшись из армии я выкупил свой приёмник, но мне дали не тот же, но равноценный. Там уже не выясняли, восемь лет прошло, представляете? До войны никаких зарубежных радиоголосов не глушили, их наверно и не существовало.
Всякое было, но когда в 1953 году умер Сталин, не было такого человека который пришел бы и не плакал. Я лично рыдал, хотя мне было 26 лет. Возьмите эвакуацию промышленных предприятий, это же за такое короткое время надо было перестроить промышленность на военный лад, от захваченных территорий перевести всё оборудование, заводы, такую массу людей переправляли. Из Ленинграда детей, но сейчас многие говорят, что вот детей сразу надо было вывозить, там пятое, десятое. Но это всё такие домыслы, которые, распространяют те, кто не видел ничего этого. И сейчас пользуются какими-то отрывками, причём эти отрывки во многом подкинуты откуда то из-за бугра. И вот это пересказывают злопыхатели, оно обрастает, обрастает… Меня это, честно говоря, раздражает. Хоть и говорят, что Сталин это да, вот надоСталина, на мой взгляд. Я не знаю какого вы уклона, в оппозиции или нет, но сейчас же, что творится на той же Украине. Это там даже не анархия, а чёрт его знает что.
Сталинское время я не хочу ни хаять не превозносить, да были возможно ошибки, а кто без них, кто не работает, тот не ошибается. Но ошибки рождались ещё и от тех, кто подталкивал на эти ошибки, с теми вот и боролись. Если кого-то где-то осудили можно было и вышку, как говорится, Но тогда везде это было, казни везде были, не только в Советском Союзе. Вон, в Америке, до сих пор казнят и не кто не хаит, все говорят- хорошие. Было время такое, все страны проходили через это, через войны, через казни, через репрессии. А вот вам другой пример. Мы с братом ушли в армию, осталась мама с сестрёнкой. Сестрёнка там вышла замуж, родила и они решили из Краснодарского края вернуться в Ленинград. Приезжают, а квартира занята, занята вторым секретарём партии. А мамину сестру переселили выше этажом. Мама пошла в Райком партии, ей там твёрдо отказали. Она написала письмо Сталину, написала, что мы в армии оба служим, а секретарь Райкома партии занял квартиру. И всё, буквально через какие то пятнадцать дней вышвырнули, как собаку. Вот вам пример. Поэтому народ знает, что тот, кто действительно не шумел, не роптал на те трудности которые были, жили нормально и он всегда помогал.
В 1944 году меня приняли кандидатом в члены партии, зачитали характеристики, никаких вопросов не было. Через год, когда полагалось принять в члены партии, мою кандидатуру должны были утвердить в политуправлении Второго Корпуса ПВО. Для получения билета я явился на заседание комиссии. Когда я рассказал свою биографию мне был задан вопрос: «Почему в ваших документах не указано, что вы находились на оккупированной территории?» Я говорю: «Как я это мог скрыть, если в документах написано, что я был призван с оккупированного района?» Ничего больше не спрашивали, только сказали, что ещё годик мы вас подержим в кандидатах. И вот год меня не принимали в члены партии. Это единственный случай, когда мне откликнулось пребывание в оккупации.
После демобилизации я получил образование окончив электротехнический техникум, работал слесарем инструментальщиком шестого разряда, потом конструктором первой категории, затем перешел в Министерство Радиопромышленности, закончил начальником отраслевого конструкторско-технологического отделения, был главным технологом отросли.
За войну, у меня две медали: «За Оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.».
После войны я написал стихотворение в котором описал все события войны о которых я вам рассказал.
Стихотворения Р. З. Капланского
Утро воскресенье сорок первый год, в цехе репродуктор весь собрал народ.
Чёрная тарелка, говорит Москва, с голосом наркома в цех вошла война.
Молча разошлись мы по своим местам, каждому хотелось быть в то время там,
где рвались снаряды, шел жестокий бой, где дрались солдаты жертвуя собой.
22-е июня, грозного время отсчёт, только четырнадцать было мне в этот военный год.
Так мне, по детски хотелось, в небе увидеть воздушный бой.
Сбитого немца услышать, жуткий, зловещий вой.
Но прекратилось детство с первыми днями тревог,
с ритмом щелчков метронома, с окнами в доме в кресток.
Днём мы трудились с тисками, сидя у верстаков,
ночью с клещами стояли в окнах пустых чердаков.
Тихое после бомбёжки утро, только чёрного дыма столбы,
упираются в голубое небо там, где горели Бадаевские склады.
Но фронт приближался быстро, немцы замкнули круг,
злобный оскал блокады нас одолел не вдруг.
Ночью во время налёта, в небе зажглась звезда,
свет от взлетевшей ракеты, целью служил для врага.
Медленно тихой походкой, с длинным ружьём за спиной,
ищет патруль из мальчишек вражеских ракетчиков рой.
Холод, топилась буржуйка, ветер по цеху гулял,
слабые детские руки мёрзлый метал обжигал.
Не было тока часами, вместо мотора станков,
шкивы руками вращали для обработки узлов.
Вместо игрушек детских: часики, птички, свисток,
сотнями мы выпускали фронту изделия военные в прок.
Хлеба кусочек мёрзлый, кружку холодной воды
грели на жаркой буржуйке, с жадным желаньем еды.
Нас оставалось мало, много ушло на фронт,
только мальчишки взялись за дело, стиснув покрепче рот.
Только не все выживали в эти блокадные дни,
прямо с завода на санках к храму мы многих везли.
Синий свет от машины режет ночную тьму,
в кузове мёрзлые трупы свозят к могильному рву.
Но не смотря на голод, трудится город на фронт,
крепкие духом слабые люди, в город закрыли проход.
В снежных лесах Ленинграда немцы рубеж стерегли,
ночью бойцы из лесного отряда, санным обозом, в город продукты везли
Снова гремела «тарелка» в праздничный день ноября,
с праздником всех поздравляя, слышался голос вождя.
Первые были зимою победы, наши прорвали блокады круг,
город ушедший в сугробы, слабых людей отправлял на Восток и Юг.
Ладога, Кабона, снежный спасения маршрут,
позже дорогой жизни люди его назовут.
С поезда на машины пересаживаются, не спешат,
тощие, слабые люди, тесно с узлами садятся в ряд.
Режут глаза, искрятся, льдинки озёрной воды,
едут по льду машины, объезжая от бомб полыньи.
Часто стоят зенитки, девушки в форме бойца,
дарят свои улыбки людям, вырвавшимся из кольца.
Поезд стоит под парами в Кабонах, красных теплушек тянется ряд,
семьями грузятся ленинградцы, роются в жирных, обильных пайках.
Медленно, пропуская встречные эшелоны, едет на Юг длинный состав,
маются животами слабые люди, сытно поевшие в первый раз.
Жарко в вагоне, душно, пахнет горящий угольный газ,
переворачиваются спящие тесно люди с боку на бок по просьбе в раз.
Ярок огонь от жаркой буржуйки, тихо стонет дистрофик больной,
утром на первой в пути остановке, вынесут тело его на последний покой.
Нас привезли в колхозы, в хлебный, богатый кубанский край,
чтоб помогли ленинградцы вырастить новый стране урожай.
Всех разместили в станицах справных, зажиточных казаков,
давших от доброты душевной белого хлеба, продукты и кров.
Быстро в колхозе силу набрали, на кубанских сытных харчах,
в поле на тракторе днём и ночами на совесть работали, а не за страх.
Немцы, разбитые под Москвою, наступали на северный Кавказ,
рыли в степи, обустраивали, мы капониры для самолётных баз.
Но отозвали нас срочно с тучных, хлебных полей,
дали большую повозку и пару рыжих, холёных коней.
Тянутся, едут по пыльной дороге отступающие войска,
беженцев скарбом заваленные обозы, разной скотины колхозные стада.
Тяжко мычат не доеные коровы, топчется серый овечий гурт,
люди с большими узлами неизвестно куда бредут.
В воздухе рама кружится, немцам коррекцию шлёт,
с лёту на поле садится маленький наш боевой самолёт.
Ехали днями, по слухам искали от немцев свободных путей,
ночью в меже ночевали стреножив рыжих своих коней.
Трудные были пути дороги, спуски, подъёмы круты,
в брод через реки Лаба, Лабёнок, кони обозы наши везли.
Но впереди утомлённой дороги немцы высадили десант,
утром у станицы Весёлой, нас жандармы завернули назад.
В знойном воздухе пахло гарью от неубранной, сгоревшей стерни,
едим назад, боимся по оккупированной кубанской земле.
Кони, телеги, люди мчатся с крутого холма,
немцы на велосипедах сгрудились возле моста.
Свалка внизу большая на деревянном мосту,
немцы не разбирая, тут же открыли по нам стрельбу.
Дальше пошли сплошные невзгоды, власти не было никакой,
рыжих лошадок отняли, заменив на старых, ленивых коней.
Прибыли мы в казачью станицу под названием Усть-Лаба,
где полицаев новая власть-управа в колонию нас загнала.
Долог по времени срок оккупации, разного много пришлось хлебнуть,
чёрной работы лямку, долго на немцев пришлось тянуть.
Гнали нас часто в поле, за тощий, из мамалыги пай,
чтобы убрать для немцев нами выращенный урожай.
Тяжесть работы, мордобой, унижение от немецких солдатских сапог,
нас не смогли заставить оккупантам кланяться в поясок.
Мы как могли укрывались, делали всё нехотя,
резали скот, комбайны сжигали при обмолоте зерна.
Но наступило время наших великих побед итог,
армий немецких разбитых под Сталинградом быстро, на Запад катился поток.
Немцы Кавказ оставляли, гнали с Кубани скот,
рельсы, мосты подрывали бросив разбитый свой фронт.
Ночью, в поле не убранной кукурузы, прятались от отступающего врага.
Утром с радостью услыхали наших разведчиков матерные слова.
Радостной встречи горячие чувства трудно сейчас передать,
каждому очень тогда хотелось жарко, покрепче солдата обнять.
Густо въезжают в посёлок части, пушки, машины,
конный обоз вытянулся живой колонной, не ожидая с воздуха угроз.
Вдруг из-за тучек редких вырвался вражеский самолёт,
и на бреющем полёте в нём застрочил пулемёт.
Много людей попало под пули, ранено несколько наших солдат,
очень тяжелых к нам положили, до отправления в армейский санбат.
Ночью стонал солдатик, жалобно пить просил,
рана в живот большая, жить не хватило сил.
Утром его схоронили, вынесли с крыльца,
залпом ружейным почтили насмерть раненого бойца.
Фронт покатился дальше, армейские части вперёд пошли,
мы восстанавливали срочно немцами разрушенные пути.
Было тогда нам с братом всего по шестнадцать лет,
в армию вместе, сами зенитчиками воевать пошли.
Рославль, Смоленск, Рига- стратегические узлы,
их защищать от воздушных налётов были поставлены мы.
Первые залпы орудий, по летящему в небе врагу,
были для нас крещением, в сорок четвёртом, суровом году.
В воздухе рвутся снаряды от заградительного огня,
яростно бьют зенитки отражая налёт очередного дня.
Знамя поднятое над рейхстагом стало концом войны,
пушек стволы зачехлили, сняв наблюдательные посты.
Утром на батарею срочный пришел приказ,
вечером Победе салютовали в небо стреляли в последний раз.
Прыгаем, веселимся, громко кричим ура,
слушаем поздравление, голос победный вождя.
СУДЬБОЮ С ДЕТСТВА
Судьбою с детства,
Каждый наделен.
В ней ручейками жизни,
Речка вьется.
Она, то плавно прошумит,
То шумно, брызгами,
О камни разобьется,
То снова вяло потечет.
Река судьбы не льется по прямой,
Она в порогах и изгибах.
Не каждый в силах их преодолеть,
Не утонув в ее разливах.
Река судьбы из годов соткана
Их разделяет время:
Мгновение – детство
Взрослости – часы
И дни – старения.
Судьбу нельзя предугадать,
Судьбою правит время.
Для каждого судьба своя,
Для всех – едино время.
Река судьбы имеет два конца,
Начало – жизнь, а апогей – кончина.
Судьбы начало положил отец,
Конец ее положит время.
Судьба и время жизнью сплетены,
Когда из жизни мы уйдем,
Судьбу с собою заберем,
Живым оставим время.
Судьбу не надо проклинать,
Мы часть ее творения.
Судьбою, научитесь управлять,
Познав природу миро сотворения.
Посвящается этот стихотворный рассказ всем Ленинградцам - участникам блокады города, эвакуированным в начале 1942 г. по "Дороге жизни" в южный район страны. Попавшим в оккупацию (08.1942 г. по 03.1943 г.) и, призванным в Красную армию, сразу после освобождения, на фронт.
УТРО
В
праздник
–
День
Победы,
внук
спросил,
Что,
свои
награды,
Где
ты
заслужил?
Вечером
за
чаем,
Будто
в
первый
раз,
О
войне
великой,
Дед
повел
рассказ.
Утро,
понедельник,
Сорок
первый
год.
В
цехе
репродуктор,
Весь
собрал
народ.
Черная
тарелка,-
Говорит
Москва!
С
голосом
наркома,
В
цех
пришла
война.
Молча,
разошлись
мы,
По
своим
местам.
Каждому
хотелось,
Быть
в
то
время
там:
Где
рвались
снаряды,
Шел
жестокий
бой.
Где
дрались
солдаты,
Жертвуя
собой.
Двадцать
второе
июня-
Грозного
время
отсчет.
Только
четырнадцать
было,
Мне,
в
этот
военный
год.
Так
мне,
по-детски
хотелось,
В
небе
увидеть
воздушный
бой,
Сбитого
немца
услышать,
Жуткий,
зловещий
вой.
Но
прекратилось
детство,
С
первыми
днями
тревог,
С
ритмом
щелчков
метронома,
с
окнами
в
доме
в
кресток.
Днем
мы
трудились
с
тисками,
Сидя
у
верстаков,
Ночью
с
клещами
стояли,
В
окнах
пустых
чердаков.
Тихое,
после
бомбежки,
утро,
Только
черного
дыма
столбы,
Упираются
в
голубое
небо,
Там
где
горели
Бодаевские
склады.
В
городе
снова
завыли
сирены,
Город
плотно
накрыл
артобстрел.
Рвались
снаряды
о
стены
Сената,
Залп
орудийный
с
линкора
гремел.
Фронт
приближался
быстро,
Немцы
замкнули
блокадный
круг.
Злобный
оскал
блокады,
Увидели
мы
не
вдруг.
Холод,
топились
буржуйки,
Ветер
по
цеху
гулял.
Слабые
детские
руки,
металл
обжигал.
Не
было
тока
часами,
Вместо
моторов
станков,
Шкивы
руками
вращали,
Для
обработки
деталей
узлов.
Вместо
игрушек
детских:
Часики,
птичка,
зверек,
Сотнями
мы
выпускали,
Фронту
изделий
военных
впрок.
Хлеба
кусочек
мерзлый,
Кружку
холодной
воды,
Грели
на
жаркой
буржуйке,
с
жадным
желаньем
еды.
Нас
оставалось
мало,
Много
ушло
на
фронт.
Только
мальчишки,
взялись
за
дело,
Стиснув
покрепче
рот.
Только
не
все
выживали,
В
эти
блокадные
дни.
Прямо
с
завода,
на
санках,
К
храму
мы
многих
везли.
Синий
свет
от
машины
Прорезал
ночную
тьму
В
кузове
мерзлые
трупы
Свозят
к
могильному
рву
Но,
несмотря
на
голод,
Трудится
город
на
фронт.
Слабые
люди
- крепкие
духом,
В
город
фашистам
закрыли
проход
Ночью,
во
время
налета,
В
небе
зажглась
звезда.
Свет
от
взлетевшей
ракеты,
Целью
служил
для
врага.
Медленно,
тихой
походкой,
С
длинным
ружьем
за
спиной,
Ищет
патруль
из
мальчишек,
Вражьих
ракетчиков
рой.
Тихо
в
лесах,
вокруг
Ленинграда,
Немцы
рубеж
стерегли.
Ночью,
бойцы
из
лесного
отряда,
В
город
обозом
продукты
везли.
Снова
гремела
тарелка,
В
праздничный
день
ноября.
С
праздником
всех
поздравляя
Слышался
голос
вождя.
Первые
были
зимою
победы:
Наши
рвали
блокады
круг.
Город,
ушедший
в
сугробы,
Слабых
людей
отправлял
на
юг.
Ладога-
Кабоны-
Снежный
спасенья
маршрут.
Позже
<<Дорогой
жизни>>,
Люди
его
назовут!
С
поезда
на
машины,
Пересаживаются,
не
спешат,
Тощие,
слабые
люди,
Тесно
с
узлами
садятся
в
ряд.
Режут
глаза,
искрятся,
Льдинки
озерной
воды.
Едут
по
льду
машины,
Объезжая,
от
бомб,
полыньи.
Часто
стоят
зенитки,
Девушки
в
форме
бойца,
Дарят
свои
улыбки,
Людям,
вырвавшимся
из
кольца.
Поезд
стоит
под
парами,
в
Кабонах,
Красных
теплушек
тянется
ряд,
Грузятся
ленинградцы
в
вагоны,
Роются
в
жирных
обильных
пайках.
Медленно,
пропуская
вперед
эшелоны,
Движется
к
югу
эвакосостав,
Маются
животами
слабые
люди,
Сытно
поевшие,
в
первый
раз.
Кто-то
в
вагоне
жует
сухарик,
Кто-то
ищется
в
снятом
белье.
Дверь
на
ходу
открывает
солдатик,
Всем,
кто
попросит
его
по
нужде.
Жарко
в
вагоне,
душно,
Пахнет
горящий
угольный
газ,
Переворачиваются
спящие
тесно
люди,
С
боку
на
бок
по
просьбе
враз.
Ярок
огонь
от
жаркой
буржуйки,
Тихо
стонет
дистрофик-больной,
Утром
на
первой
в
пути
остановке,
Вынесут
тело
его
на
последний
покой.
Нас
привезли
в
колхозы,
В
хлебный
богатый
кубанский
край,
Чтоб
помогли
ленинградцы,
Вырастить
новый
стране
урожай.
Всех
разместили
в
станицах,
Справный
зажиточных
казаков,
Давших
от
доброты
душевной,
Белого
хлеба,
продуктов
и
кров.
Быстро
в
колхозе
силы
набрали,
На
кубанских
сытных
харчах,
В
поле
на
тракторе
днем
и
ночами,
На
совесть
работали,
а
не
за
страх.
Немцы,
разбитые
под
Москвою,
Наступали
на
Северный
Кавказ,
Рыли
в
степях,
обустраивали,
Мы
копаниры
для
самолетных
баз.
Но
отозвали
нас
срочно,
С
тучных
хлебных
полей,
Дали
большую
повозку,
И
пару
рыжих,
холеных
коней.
Тянутся,
едут
по
пыльной
дороге,
Отступающие
войска,
Беженцев
скарбом
заваленные
обозы,
Разной
скотины
колхозной
стада.
Тяжко
мычат
недоинные
коровы,
Топчется
серый,
овечий
гурт,
Люди
с
большими
узлами,
Неизвестно
куда
бредут.
В
воздухе
рама
кружится,
Немцам
коррекцию
шлет,
Слету
на
поле
садится,
Маленький
наш
боевой
самолет.
В
кожанной
куртке
и
шлеме,
Летчик
к
колонне
бежит,
Путь
напрямик
стал
опасен,
К
Грозному
надо
свернуть
Ехали
днем,
по
слухам
искали,
От
немцев
свободных
путей,
Ночью
в
меже
ночевали,
Стреножив
рыжих
своих
коней.
Трудные
были
в
пути
дороги,
Спуски,
подъемы
круты,
Вброд,
через
реки
Лоба,
Лобенок,
Кони
обозы
наши
везли.
Но
впереди
утомленной
дороги,
Немцы
высадили
десант,
Утром,
у
станицы
Веселой,
Жандармы
нас
завернули
назад.
В
знойном
воздухе
пахло
гарью,
От
сгоревшей,
неубранной
стерне,
Едим
назад,
боимся,
по
оккупированной,
Кубанской
земле.
Кони,
телеги,
люди,
Мчаться
с
крутого
холма,
Немцы
на
велосипедах,
Сгрудились
у
моста.
Свалка
внизу
большая,
На
деревянном
мосту,
Немцы
не разбираясь,
Тут
же
открыли
стрельбу.
Дальше
пошли
сплошные
невзгоды,
Власти
не
было
никакой,
Рыжих
лошадок
наших
отняли,
Заменив
на
старых,
ленивых
коней.
Прибыли
мы
в
казачью
станицу,
Под
названием
Усть-Лоба,
Где
полицаи,
немецкая
власть-управа,
Прямо
в
колонию
нас
загнала.
Долог
по
времени
срок
оккупации,
Разного
много
пришлось
хлебнуть,
Черной
работы
лямку,
Долго
на
немцев
пришлось
тянуть.
Гнали
нас
часто
в
поле,
За
тощий
из
мамолыги
пай,
Чтобы
убрать
для
немцев
Нами,
выращенный
урожай.
Тяжесть
работ,
мордобой,
униженье,
От
немецких,
солдатских
сапог,
Нас
не
могли
заставить,
Оккупантам
кланяться
в
поясок.
Мы,
как
могли,
укрывались,
Делали
все
нехотя,
Резали
скот,
комбайны
сжигали,
При
обмолоте
зерна.
Но
наступило
время,
Наших,
великих
побед
итог,
Армий
немецких,
разбитых
под
Сталинградом,
Быстро
на
запад
катился
поток.
Немцы
Кавказ
оставляли,
Гнали
с
Кубани
скот,
Рельсы,
мосты
подрывали,
Бросив
разбитый
свой
фронт.
Ночью,
в
поле,
неубранной
кукурузы,
Прятались
от
врага.
Утром
с
радостью
услыхали
Наших
разведчиков
матерные
слова.
Радостной
встречи
горячие
чувства
Трудно
сейчас
передать,
Каждому,
очень
тогда
хотелось,
Жарко,
покрепче
солдата
обнять.
Густо
въезжают
в
поселок
части,
Пушки,
машины,
конный
обоз.
Вытянулись
живой
колонной,
Не
ожидая
воздушных
угроз.
Вдруг
из-за
тучек
редких,
Вырвался
вражеский
самолет.
И
на
бреющим
полете
В
нем
застрочил
пулемет.
Много
людей
попало
под
пули,
Ранено
несколько
наших
солдат.
Очень
тяжелых
к
нам
положили
До
отправления
в
армейский
санбат.
Ночью
стонал
солдатик,
Жалобно
пить
просил.
Рана
в
живот
большая,
Жить
не
хватило
сил.
Утром
его
схоронили,
Вынесли
с
крыльца.
Залпом
ружейным
почтили,
Насмерть,
раненного
бойца.
Фронт
покатился
дальше,
Армейские
части
вперед
пошли.
Мы
восстанавливали
срочно,
Немцем,
разрушенные
пути.
Было
тогда
нам
с
братом,
Всего
по
шестнадцать
лет.
В
армию
нас
призвали,
Мы
родину
защитить
пошли.
Рославль,
Смоленск,
Рига,
Стратегические
узлы.
Их,
защищать
от
воздушных
налетов,
Были
поставлены
мы.
Первые
залпы
орудий,
По
летящему
в
небе
врагу.
Были
для
нас
крещеньем,
В
сорок
четвертом,
суровом
году.
В
воздухе
рвутся
снаряды,
От
заградительного
огня.
Яростно
бьют
зенитки,
Отражая
налет
очередного
дня.
Знамя
Победы,
поднятое
над
Рейстагом,
Стало
концом
войны.
Пушек
стволы
зачехли,
Сняв
наблюдательные
посты.
Утром
на
батарею,
Срочный
пришел
приказ.
Вечером,
Победе
салютовали,
В
небо
стреляли
в
последний
раз.
Прыгаем,
веселимся,
Громко
кричим
УРА!
Слушаем
поздравления,
Голос-Победителя
Вождя!
Смолкли
в
окопах
ружейные
залпы,
Кончился
танковых
гусинец
лязг,
Вышли
к
перронам
матери,
жены,
С
фронта
солдат
эшелоны
встречать.
| Интервью: | А. Чупров |
| Лит. обработка: | Б. Кириллов |