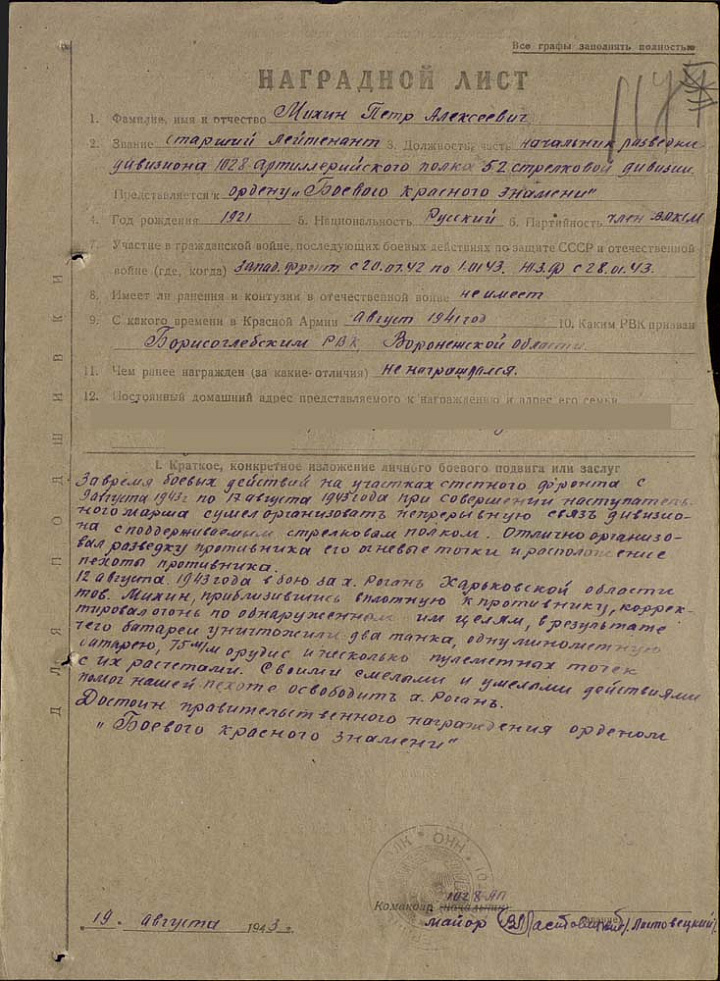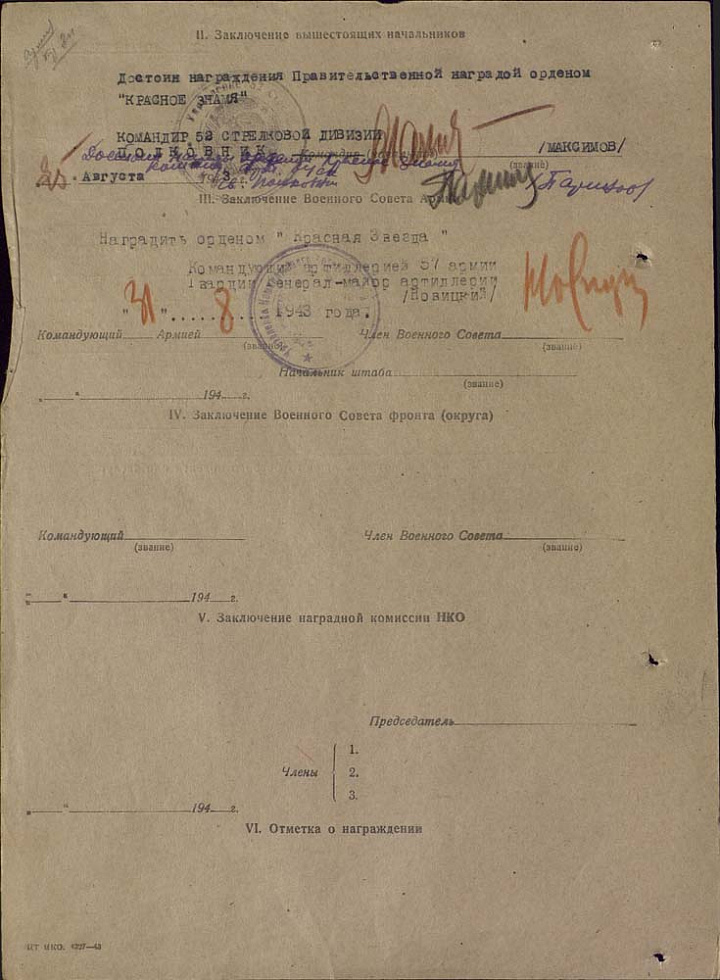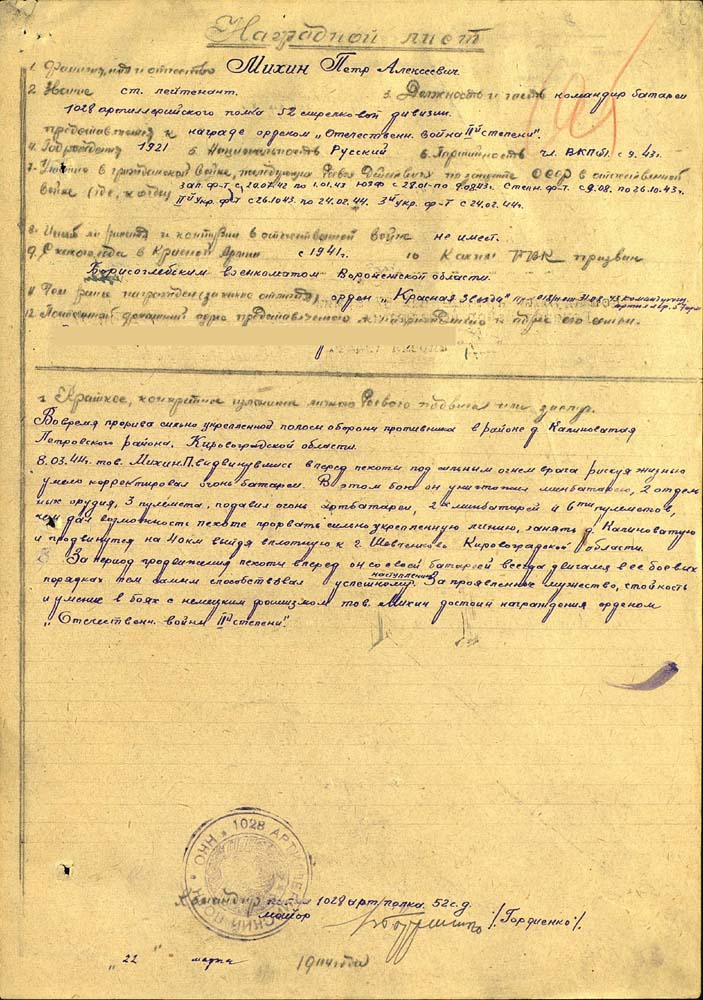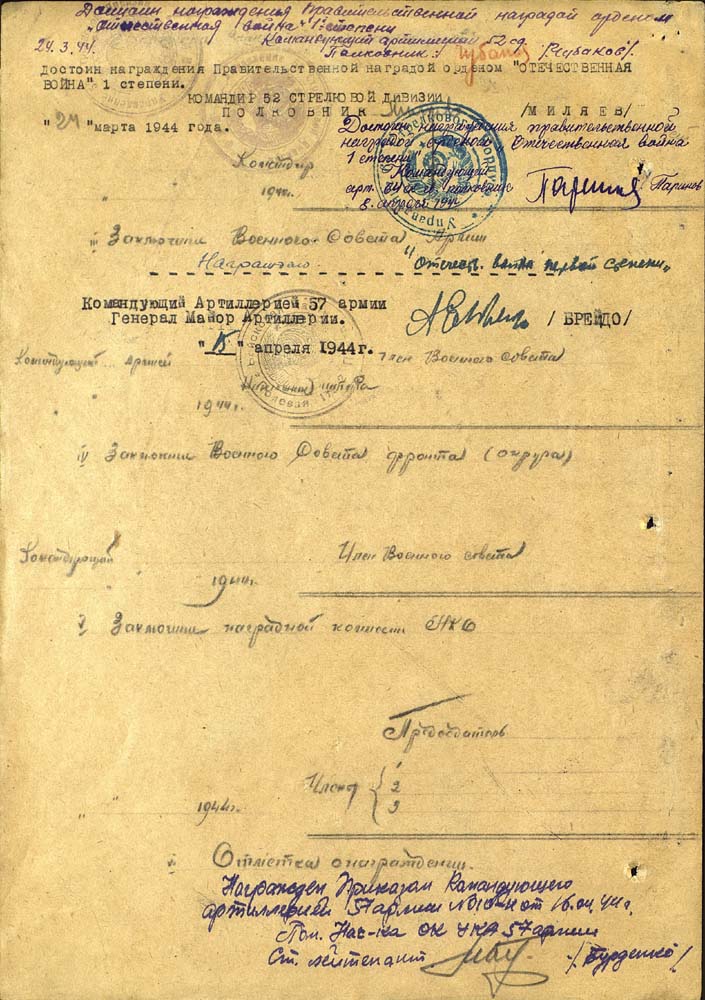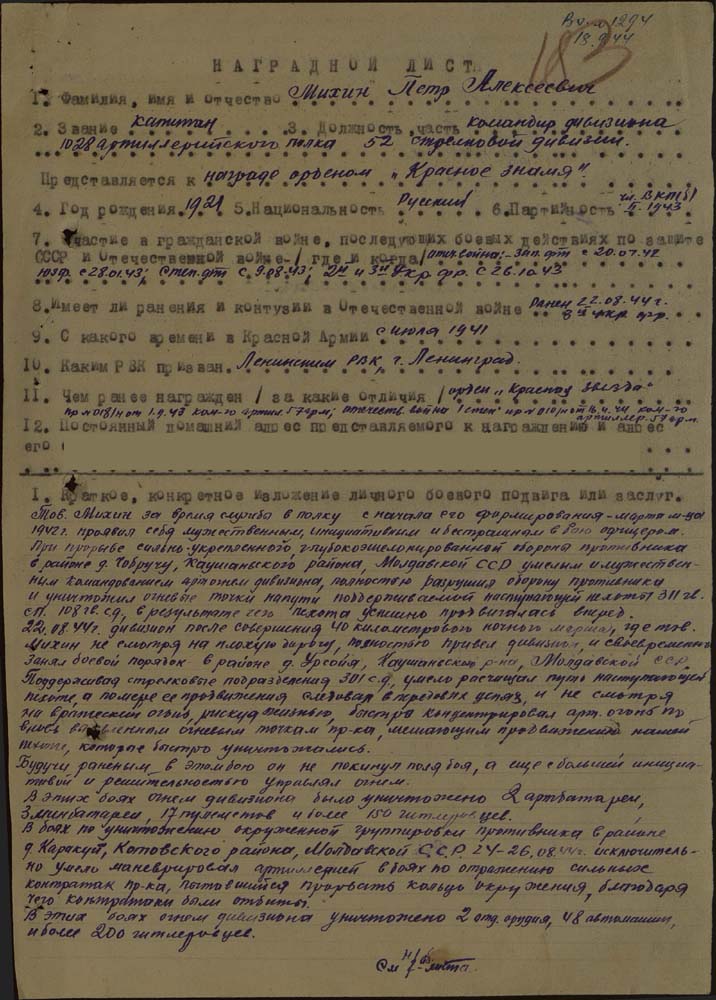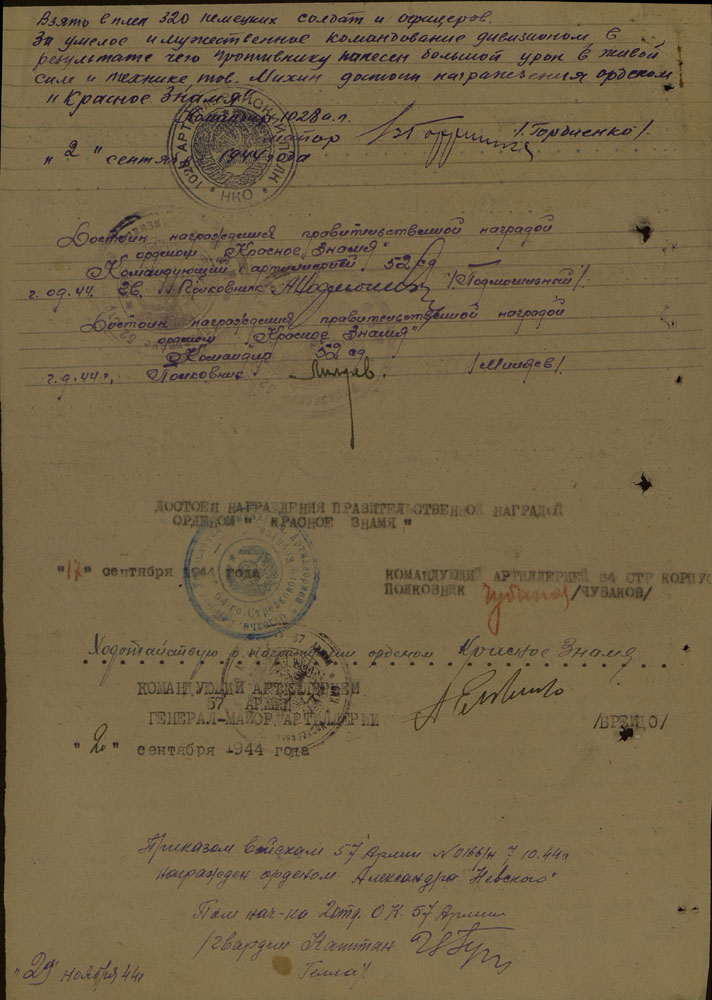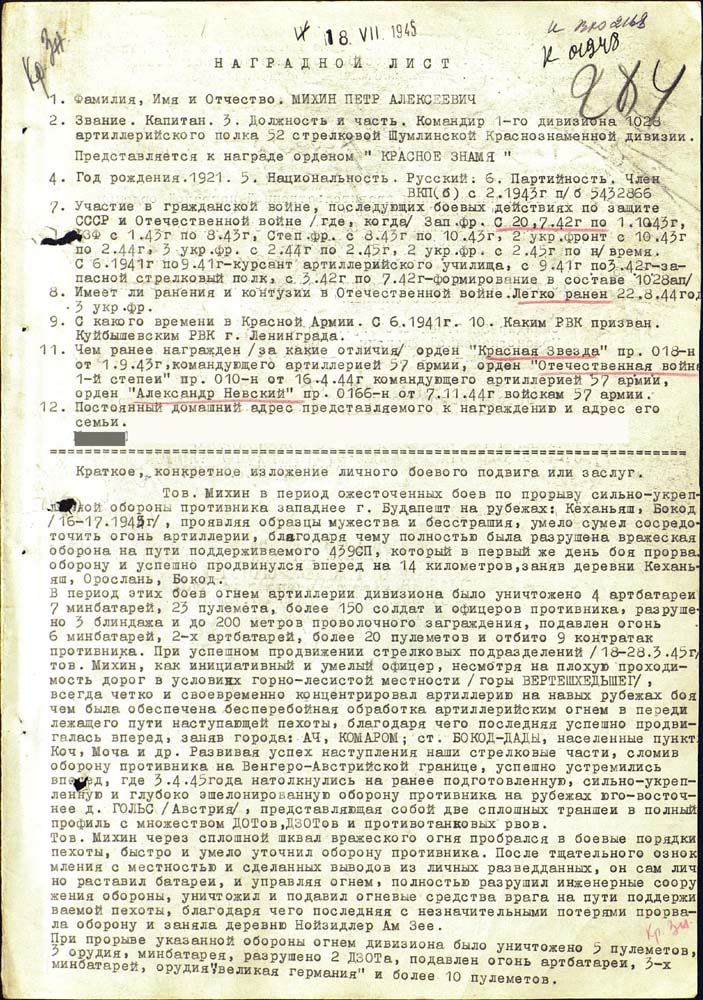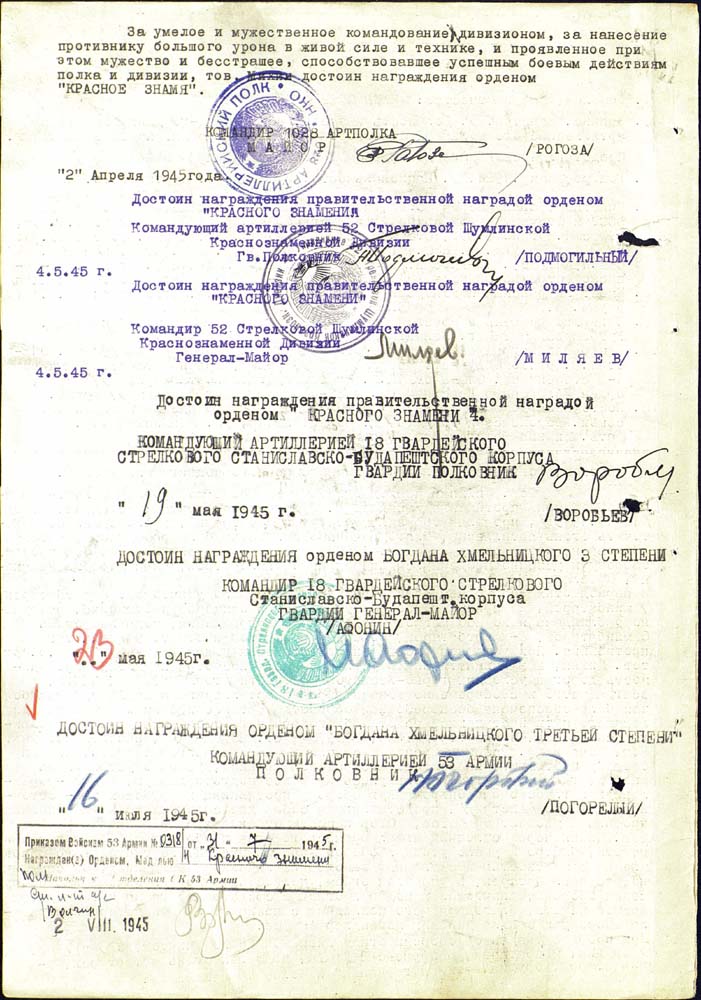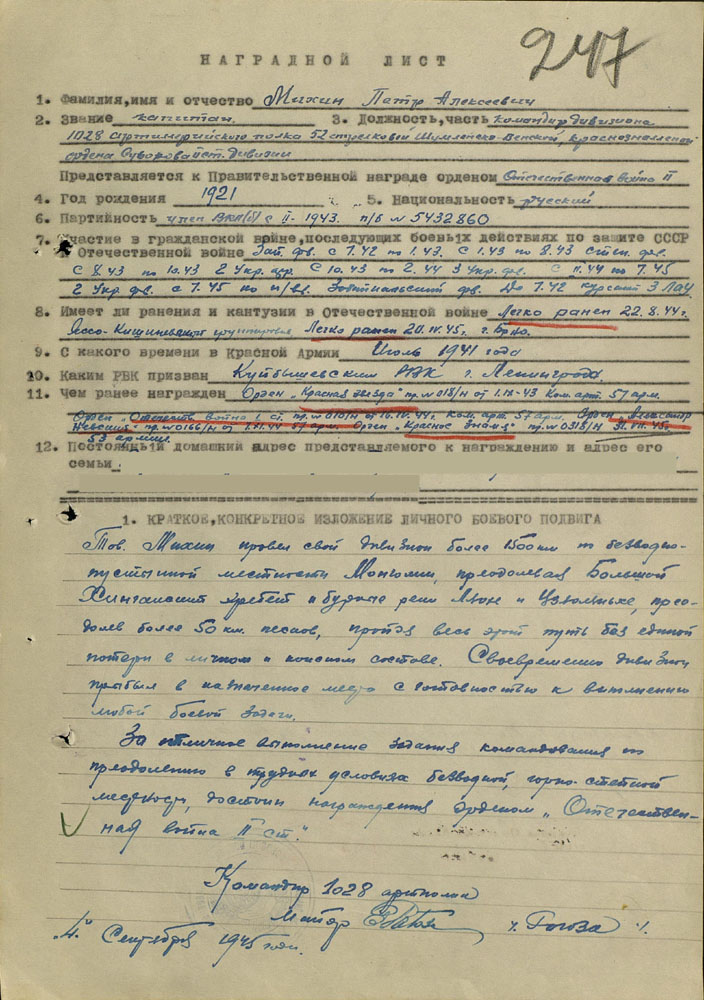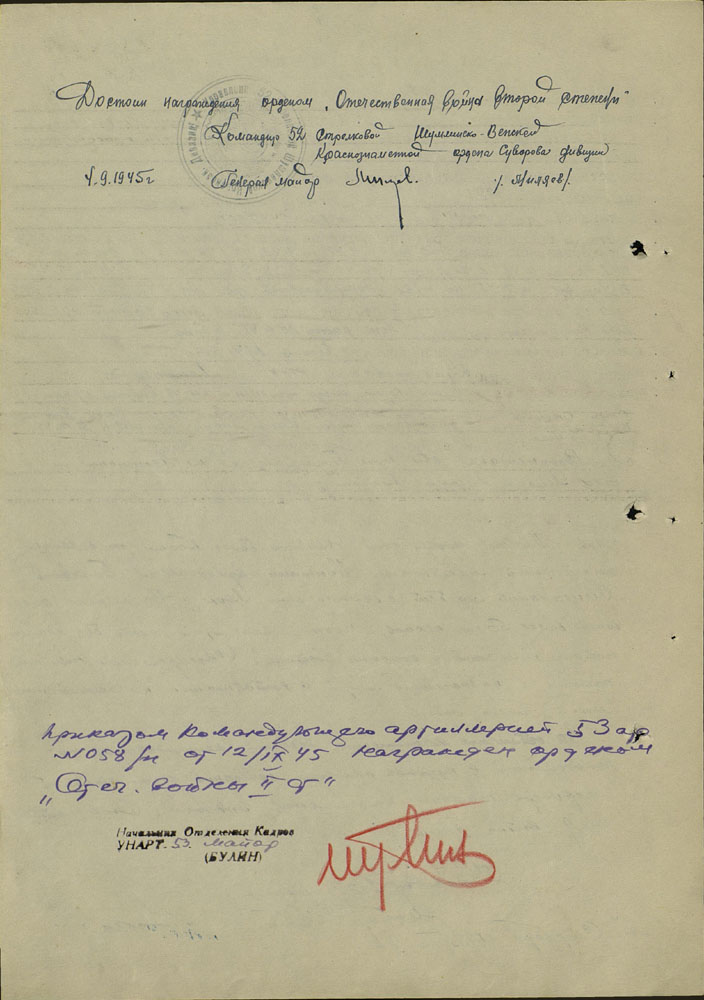Интервью является дополнением и комментарием к книге Петра Алексеевича "Артиллеристы, Сталин дал приказ!" http://militera.lib.ru/memo/russian/mihin_pa/index.html
А.Д.: - Какова была подготовка личного состава? Отличались ли призывники, люди, приходящие к вам батарею в 1942 году, от тех, кто приходил к вам в 1944-1945 годах?
- Приходила в основном молодежь, или мы брали людей, находящихся на освобождаемых территориях. Мы их брали, в штабах оформляли, и они служили. Их обучали, и в зависимости от того, толковый он или нет, решали куда его поставить: на ездового или наводчика. Поэтому эта категория, конечно, смешанная. Пожилые колхозники, они были менее подготовлены, а молодежь - более резвая такая. А о сравнении я как-то не задумывался. Может быть, в 1942 году молодежь была более образованная. Потому что была советская власть, школа работала хорошо, и ребята все учились. Поэтому молодежь подраставшая, - пришли, а им уже по 18, - они были хорошо подготовлены. А дальше, скажем в 1944 году, на Украине, там уже приходили ребята, которые долго не учились, все забыли. Образование было и 5 и 6 классов, но в среднем до 7 классов. И в основном из деревень, потому что мы шли в основном по полям, деревням; крупные города редко встречались.
А.Д.: - С точки зрения физической подготовки?
- Сельские ребята были физически развиты. Они постоянно с детства в работе, не было такого, что он физически не подготовлены. Естественно, мы их обучали. Причем относились к ним, как к собственным детям. Мне было 22 года, а 18-летний для меня как ребенок. Я о нем такую заботу проявлял! У меня был такой случай: село взяли, вечереет. Немцы убежали в следующее село, там у них уже новые окопы. А у нас людей уже мало. Мы думаем, что наступать, на ночь глядя, мы не можем. И вот мы в этом селе остаемся, организуем боевое охранение. Мы пришли с двумя разведчиками в одну хату. Женщина лет 40, и муж ее такой же. Украинцы, небольшого роста, на наш 20-летний взгляд, они были уже пожилыми. В этой семье 17-летний мальчишка. От недостаточности питания (оккупация!) он невысокий, и мы его приняли за подростка лет 14-ти. И когда пришли ко мне мои связисты, этот мальчишка заинтересовался телефонной аппаратурой. Познакомился с ребятами, ему было все интересно. И настолько ему это было интересно, что он решил попроситься к нам в качестве солдата. Я говорю: «Какой же ты солдат, ты еще молодой!» - «Как? Мне 17 лет!» - «17? Все равно рано. Если бы 18, мы бы взяли». Я запретил, а уже поздно вечером ко мне подходят его родители и говорят: «Товарищ капитан, ну возьмите Володьку к себе. Мы вас знаем, вы нам понравились. Ребята с ним познакомились, и ему хочется, пусть он у вас будет». Я говорю: «Мы же воюем, это же опасно. У нас убивают, ранят. Ему 17 лет, придут наши власти когда ему будет 18, его призовут, его будут обучать. К тому времени, может быть, и война окончится. Вам выгоднее, чтобы он подрос». Ладно, согласились. Но я вижу, что такое желание у мальчишки. И они потом опять стали просить. Говорю: «Ну, ладно. Старшина, переодевай его, возьмем». Мальчишка обрадовался, что он будет солдатом. Старшина сразу дает ему обмундирование, он оделся. Его солдаты уже научили руку к пилотке прикладывать, он браво козырнул. В общем, он уже наш, солдат. Родители улыбаются! Мы легли спать. Утром просыпаемся рано, уходить. «Встать, строиться!» Ко мне подходит его мать: «Товарищ капитан, вы что хотите с ним делайте, бейте его, ругайте, если он не слушается, - хотя он у нас послушный мальчик. Но только сделайте так, чтобы его не убило!» Я говорю: «Конечно, буду стараться, но гарантировать это не буду, потому что не от меня зависит». И отец подходит с единственной просьбой, чтобы он уцелел. Я говорю: «Может быть мы его не возьмем, ну зачем же рисковать?» - «Он хочет, пусть». Так я его взял к себе связистом. Я его поначалу держал на огневой позиции, сзади. Он был с командиром отделения, был у меня такой 45-летний мужик, - пожилой, как мне тогда казалось. Он взял его к себе под опеку и стал его обучать. А когда у меня повыбило, - а выбивает быстро, разведчиков, связистов, - я его взял к себе. Сначала следил, чтобы он не высовывался, обучал. И он начал служить. Настолько он был такой исполнительный, хороший мальчишка, грамотный! Он так хорошо служил, - я его всегда поощрял. Он у меня был всегда рядом с телефонным аппаратом. Звали его Володя Штанский. Так мы с ним и воевали. С ним произошел случай, когда я увидел выстрел немецкого танка. Он сидит с трубкой телефонной, ничего не видит, что там делается, передает мои команды по телефону. И как будто меня кто толкнул: «Глянь, что делает, симулянт!» А это не «симулянт», а специально обученные танкисты, которые заходят в сторону, и выискивают цели: потому что мы увлечены боем впереди. Мы бой ведем, а он уходит незаметно: воюют, а он взял и ушел! Я заметил, что он уходит, и его обозвал симулянтом. А он, оказывается, выискивал!
Солнце вставать стало, и под козырек стереотрубы, - и вот блеснула стереотруба. Он заметил, обрадовался. Меня как будто что толкнуло: «Глянь, что симулянт там делает?» Смотрю, ствол на меня направлен. А я еще подумал злорадно: «Если бы он знал, что я здесь сижу, и что это я побил их танки!» До конца не успел восхититься, - как он брызнет дымком! Это была «Пантера», у нее дульный тормоз, и вот он содрогнулся. Я понял, что по мне выстрел. До него было метров 600, труба в 10 раз увеличивает. И я успел! Снаряд летел до меня примерно 0,7 секунды, - и за это время я успел схватить мальчишку за что попало, - и под себя в ровик. И в это мгновение снаряд разрывается около деревца, к которому была прикреплена стереотруба. Разнесло стереотрубы, деревце, - а мы-то уже внизу! Сдуло весь этот бруствер взрывом, нас песком засыпало, дым, вонь. Говорю: «Давай быстрей отсюда, потому что он сейчас будет смотреть на результат стрельбы, когда дым развеется». И мы с ним в кустики, а он успел взять с собой телефонный аппарат. Связь у нас есть. Тут я уже, конечно, разговелся. Я не пожалел, 16 снарядов выпустили: и все 16 по этому месту. Один снаряд попал в этот танк, он загорелся. Я представил себе, что немец, когда ударил, посмотрел как все разнес, и наверное успел написать: «Уничтожил русский наблюдательный пункт». Но через какие-то 2 минуты они погибли.ak
Нам крупно повезло, что это была «Пантера». У «Пантеры» очень маленькая фугасность снарядов. Они сделали эту пушку так, что вышла очень мощная противотанковая пушка. А фугасное действие этого осколочного снаряда было очень слабенькое. Это у них был такой минус.
А.Д.: - Кто принимал решение о приеме в армию?
- Я принимал решение, кого набрать. Я подбираю, я с этими ребятами веду разговор. Они хотят ко мне. Я их беру. Начальник штаба составляет список, берет у них документы, проверяет, и все эти данные берет в штаб полка. А штаб полка издает приказ по полку: «Зачислить в действующую армию следующих рядовых...» И перечисляются: кто он, откуда, год рождения, и прочее.
А.Д.: - Окруженцев с 1941 года много было?
- С 1941 года были окруженцы, но не так много. Мы шли по Украине. Вобще-то немцы отпускали украинцев домой, у них политика такая была. И мы их брали, но они, вообще говоря, хорошо служили.
А.Д.: - Возвращаясь к вопросам о религии и суеверии. Суеверия у вас были?
- Я был воспитан в нашей советской школе, атеистом. С ненавистью к церкви, к попам. Я был такой же рьяный безбожник, как и вся советская молодежь. Поэтому в бога мы, естественно, не верили. Но или привычка, или опыт старшего поколения передавался: когда прижмет, или бомбы летят, или снаряды близко падают, ты прижмешься к земле и молишь именно бога: «Господи, пронеси». Причем это не только я, это каждый делал. Хотя мы были атеисты, но когда туго приходилось, бога вспоминали. А что касается суеверий, то большинство было суеверных. Много было признаков. Верили в счастливый случай. Причем, старались не очень обсуждать его, чтобы не спугнуть, но верили, и про себя каждый надеялся: «может быть, мне как раз и повезет».
А.Д.: - У вас что-то было, связанное с суеверием?
- Да. Конкретно вспомнить сложно. Вера в предчувствие, вера в то что «может быть, пронесет». Я вроде бы своей службой, рвением и прочим, заслужил то, чтобы меня не убило. И даже когда награждали, я почему-то связывал это с тем, что я должен что-то отдать за это. А отдать кому? Противнику! Это может быть смерть, поэтому я не очень расстраивался, когда меня не награждали. Даже считал: «ну и хорошо, не наградили - значит, не убьют».
А.Д.: - Мне так же сказал один человек: у них в полку летчики были, как на Героя Советского Союза подадут, их тут же сбивают. И когда его представили к званию Героя Советского Союза, он дико переживал.
- Это точно! Мы, правда, не знали, когда там, кто там подает. Мы об этом вообще и не думали, потому что конца войне не видно было. Мы считали: ну, все равно убьет, всех убивает. Мы же не думали, что это будет до 1945 года. Ведь сколько надо было пройти по Украине, и так далее!
А.Д.: - Это ощущение, «все равно убьет» - оно было до конца? Когда оно прошло?
- Оно было до начала 1945 года, когда уже обозначился конец войне. А до этого именно было вот такое, что мы уже свои жизни наперед положили на алтарь победы. Мы считали, что нас все равно убьет. И вот этот психологический момент, сначала боишься, страх и все прочее... Страшно всегда бывает, но вот такого страха, может быть, он не животный, но все же сильного страха, который тормозит, давит, - такой страх, он кончался тогда, когда ты решаешь: «А чего же бояться?! Все равно убьет! Всех убивает и тебя, конечно, убьет. На передовой сколько можно прожить?» И вот этот момент, когда ты понимаешь: «А чего же бояться, все равно убьет!», - он в какой-то мере этот страх подавляет, и ты уже вроде освобождаешься, «все равно же убьет». Бояться все равно продолжаешь, и страх остается. Но, с одной стороны, переход через это, а с другой стороны, - уже опыт появляется. Тебя уже труднее убить, ты уже опытный. И когда ты уже становишься «неубиваемым», - такие редко, но были у нас. И я в том числе к ним относился. Тут уже такое было: я считал, что меня вроде не должно убивать, потому что «А как же без меня? А кто же будет-то? Я умею уже, я могу, я сделаю!» И страха-то особого я не испытывал.
А.Д.: - Не притупляло ли это чувство опасности? Не становились ли действия безрассудными?
- Нет. Все равно я действовал осторожно, умно, умело и своих солдат учил этому.
А.Д.: - В связи с этим опять же вопрос, когда тяжелее было воевать - в 1942 году или в 1945 году, когда уже появилась надежда, что можно и выжить?
- Воевать все время было трудно. Немцы бились до последнего. Но в 1942 году, когда отступали, тогда труднее было. Скажем, под Ржевом. Мы выкладывались полностью, но не в наших силах было победить, поэтому мы не могли Ржев взять. И, конечно, было труднее еще и психологически. А когда наступать стали, уже само это наступление, оно, конечно, воодушевляло. «Наша берет!», - а это очень важно, когда наша берет. Скажем, под Ржевом мы трудно воевали. А когда в Сталинград нас перебросили, и мы стали за отступающим немцем наступать, мы уже вперед идем, тут у нас как-то подъем такой. Так же убивают и ранят, но чувства безысходности уже нет. А вот в конце войны я не ощущал, что теперь я, дескать, выживу, - я знал, что все равно убить может. Потому что война есть война. Мы в артиллерии очень берегли своих людей. А вот в пехоте вновь пришедших, 26-й год, уже чаще посылали на опасные задания. Более опытные, старые, повоевавшие и уже выжившие, - уже у них блеснула надежда, что они могут выжить. И вот они как бы ненароком старались уклониться. Дескать, «Пусть и молодые повоюют. Что же они пришли, а опять мы, и все равно мы? Пусть они повоюют». Вот это было. И когда молодые ребята погибали, мне их было очень жалко. Но у нас такого не было, у нас было наоборот. Вот такие люди были у нас в артиллерии. «Что, дескать, он, котенок, там сделает? А вот я!..» Когда идем в разведку, со мной есть более опытные, и я кого жалел: во-первых, тех, у которых дети были, уже женатых, - и необстрелянную, неопытную молодежь. А брал более умных, сообразительных, умных, который может увернуться. Кого труднее убить, короче говоря.
А.Д.: - Поражения 1941-1942 годов связаны не только с командами, а потому еще, что не втянулись?
- Да. Не считали, что вот это обязательно надо сделать, ленились. Землю копать, - это трудно. Особенно зимой, ломом, киркой ночью. Но это спасало! И уже в 1942 году, а особенно в 1943 году, это настолько стало обязательным! И не потому что требуют, а потому что это надо. Это необходимость, внутренняя потребность.
А.Д.: - Война повлияла на Ваше отношение к религии?
- Я всё на себе испытал. За три года войны я насчитал около 30 случаев, когда меня неминуемо должны были убить, а вот не убило. То как будто кто меня толкнул, чтобы я глянул в сторону и увидел танк, а он выстрелил. То я шагнул в противотанковый ров из окопа, а мой связист оказался сзади: снаряд попадает в него, а я цел. Мы бежали, конечно. Если бы мы бежали медленнее, и я бы вместе с ним оказался там, и обоих нас убило бы снарядом. Если бы мы еще быстрее бежали, то мы успели за угол этого рва забежать, и снарядом никого бы не убило. Уже в конце войны у меня появилось такое чувство, что все же все эти случайности, какой-то силой, нам не известной, регулируются. И они оберегают. Причем почему-то оберегают не всех, а отдельных людей. И вот почему-то эти отдельные попадают в число счастливчиков. Трудно сказать, почему. Или потому что они выжили, уцелели, и вот они рассуждают: а те, кто погиб, они уже не могут рассуждать. Тут и вероятность, и случайность, и непредсказуемость. Но такое внутреннее чувство, что какая-то сила есть, которая меня, например, оберегала. У меня было много случаев, что должно было убить, не могло не убить. Скажем, я бегу, и только я лег где лощинка, где было укрыться, - и снаряд в метре разрывается. Такой мощный разрыв, но все осколки пошли через меня. И меня контузило, даже не ранило. Я сутки или двое отходил. Хорошо, что ребята заметили, что я живой. Они сначала меня хотели похоронить там, но вовремя заметили, что я живой, и тогда меня в хату принесли. В общем, много случаев.
А.Д.: - Но в церковь вы от этого не пришли?
- Нет, конечно. Я считал, что Всевышний есть. Может, не одно лицо, а какой-то конгломерат людей, существ, которые имеют возможность, все это дело регулировать, и они оказывают какое-то воздействие: может быть, замедляют движение снаряда, или, наоборот, его убыстряют, сворачивают немножко, и так помогают людям выжить. Но что касается церкви, у меня было такое, что я сомневался: «А этот Всевышний уполномочил ли церковь здесь распоряжаться? И все делать тут? Может быть, она делает хорошее дело, что приучает людей к вере в бога, и воспитывает их и так далее. Но с ведома ли Господа?» Короче говоря, бога и церковь я разделяю. Может быть, это результат атеистического воспитания.
А.Д.: - Национальный вопрос на фронте: насколько это было актуально конкретно на фронте? Мнения разные: воюешь, и не важно какой ты национальности, - и в то же время в тылу махровый антисемитизм. Что Вы видели?
- Не было национального различия на фронте. Это у нас уже было в крови, даже вопроса такого не ставили. Смотрели на качества человека, - и соответственно к нему относились, а кто он по национальности не важно. У меня был многонациональный коллектив. И узбеки, и таджики были. Связист, радист, - разведчик, с которыми я все время был вместе под огнем, таджик, - такой хороший парень! Сирота, детдомовец, окончил среднюю школу, умный был такой парень, такой исполнительный, рация у него всегда была в порядке. Под Брно (это было уже 20 апреля 1945 года), я смотрю, на рации у него лямка оторвалась, держится на ниточке. Я ему говорю: «Шарипов, что же ты, такой исполнительный парень, - и рация у тебя в таком состоянии?» Он туда-сюда... «Неужели ты не видел?» - «Видел», - «Почему не зашьешь?» Он так плечами подергал: «Товарищ капитан, я загадал», - «Что?» - «Если она оборвется, то меня убьют, а если она целой останется, не оборвется, то меня не убьют». Я говорю: «Это предрассудки, ты все же зашей, потому что она может оборваться в бою», - «Хорошо, товарищ капитан, я зашью». И только мы с ним переговорили, тут налет. Закончился обстрел. Все подняли головы, когда осколки пролетели. Мне кричат: «Шарипова убило!» И вот я как-то это связал. Говорю: «Ребята, принесите рацию». Они ее поднесли. Посмотрел, - оторвана лямка. Вот он загадал, и так получилось... Нет, на фронте национальный вопрос не возникал.
А.Д.: - А в госпиталях?
- И в госпиталях. Ну, я далеко не лежал, больше в санбате. Это близко к передовой. Единственное, что, скажем, я видел в пехоте. Приводят узбеков. Они, конечно, менее грамотные были, они не всегда по-русски понимали. Они были менее подготовлены. И вот их поднимают в атаку, они бегут, а осенью холодно. Они руки в рукава, винтовка под мышкой, и он бежит, потому что надо бежать. И не вовремя он упадет, винтовка ему мешает. Разорвался снаряд, одного ранило или убило, они все бегут к нему, сочувствуют, и прочее. А немец же видит, начинает усиливать обстрел в это место, и они гибнут. Это я наблюдал, мне было очень больно и обидно, но я, конечно, не мог вмешаться. У меня свои люди были, вот своих я приучал, тренировал.
А.Д.: - В батарее у вас женщин не было?
- Были. Связистки в батарее, в дивизионе были, санинструктор в батарее. Были и ребята, но больше девушек, телефонистки были. Как я делал? Я всегда их держал на огневых позициях, на передовую никогда не брал. Надо сказать, они вели себя очень хорошо. И никто не курил. Чтобы на фронте увидеть курящую девушку?! Сейчас в кино показывают, что девушка обязательно курит. Но там не было курящих: может быть, одна из сотни. У нас в дивизионе было человек 15 девушек, и никто из них не курил. Под конец, уже в конце, в 1944-1945 годах, начальник моего штаба (а около него были девицы) с одной любовь закрутил. Когда демобилизовывать стали, она была беременной. Ее демобилизовали уже в Монголии. А так взвод, рота, батальон, батарея, дивизион - там этого не было.
ППЖ были у командира полка, начальника штаба полка, замполита. У них штаб далеко. Пополнение приходит, они себе выбирают: то она у него посыльный, то под другим предлогом. Все знают, что они живут вместе. Обычно им было лет под 30, это были взрослые мужчины. Мы были 20-летние, нам еще этого так и требовалось, и не до этого было. У нас если любовь была, то она была возвышенной, мы не думали об этом. Думали, что потом поженимся, а чтобы вступить в такие отношения, это как-то считалось...У меня девушка была, я ей письма писал.
А.Д.: - И женщины в вашем дивизионе вели себя таким же образом?
- Да. Причем пока она не с кем не связывается, к ней все относятся одинаково уважительно, хорошо. Если какая-нибудь девица начинает с каким-нибудь лейтенантом близкие отношения, от нее уже все отходят, и она становится каким-то изгоем.
А.Д.: - От чего это? От зависти?
- То вроде они всем принадлежат, и она в какой-то мере моя. А когда она уже с кем-то вступает в близкие отношения, она становится только его, и ничьей больше, она уже чужая.
А.Д.: - Послевоенное отношение к фронтовичкам какое было, резко негативное?
- Я всегда относился дифференцировано. Большинство все же было хороших девушек, они честные. А некоторые влюблялись в начальников, любовь была. А некоторые, чтобы выжить, лучше кушать, быть под крылом. Но не все себе это позволяли, были и гордые девицы. Я в одном рассказе описал одну девушку, как она убегала от своего командира, потому что он к ней привязывался. «Зачем он мне нужен, он старик!», - ему 40 лет, а ей 18 лет. Но у некоторых была настоящая, чистая любовь, и она заканчивалась свадьбой, особенно после войны.
Всё зависело от степени воспитанности человека. Он или судит по себе, или прикидывается таким. В моем окружении таких не было. Скажем, едут солдаты на машине, среди них девушка. Какой-нибудь нахал кричит: «Воздух! Рама!» Такое тоже бывало. Тут и зависть в какой-то мере срабатывала. Но вообще женщины на войне сыграли положительную роль. Они выполняли свои обязанности. Они были в боях, погибали, бывали ранены. А сколько они оказали помощи? Вот связь: если она сидит с телефоном, я знаю, что она не уснет, - женщины очень ответственные. А что касается ППЖ, это небольшой процент, я так считаю. Пятнать всех нельзя! Пожилые солдаты относились к девушкам очень по-отечески. Знали трудности, которые они испытывают. Война - это не женское дело.
Я сам познакомился со своей супругой, когда мы ехали воевать с японцами. Она ехала с первым эшелоном, а генерал ее отпустил к родственникам в Москве. А мой артиллерийский эшелон был одним из последних. Она узнала у военного представителя на вокзале, когда пойдет эшелон такой-то дивизии. Он ей сказал, когда тот будет проходить. И вот она ко мне обращается: «Товарищ капитан, я капитан медицинской службы 52-й дивизии, 106-го медсанбата. Генерал Беляев мне разрешил ехать с вашим эшелоном». Я у нее проверил документы, и определил её в санчасть нашего вагона. Потом, обходя все вагоны, заходил и в эту санчасть. А перегоны были большие, сидим там, разговариваем: начальник аптеки, старший врач полка и она с ними. Как-то мы познакомились, подружились пока ехали. А уже в Монголии я стал интересоваться, где остановился санбат, чтобы ее увидеть. У нас любовь такая началась! Мы прошли почти до Желтого моря и вернулись. И когда вопрос встал, что расформировывают дивизию, мы решили с ней пожениться, и в нашем консульстве расписались. Командир полка нам организовал свадьбу. Причем поставили такую большую медицинскую палатку, там человек 200 гостей, и за ночь выпили бочку спирта в 50 литров. Хорошо погуляли! В приказе по полку все было отражено. И мы с ней определились в этой землянке, стали мужем и женой.
А.Д.: - Вы все время на передовой, у Вас было такое понятие, как «тыловая крыса», «штабные»?
- Крысами мы их не называли, но мы чувствовали, что мы разные.
А.Д.: - Какой Ваш уровень? Батарея, дивизион?
- От взвода до батальона, и до дивизиона - это все люди передовой. Люди без будущего, у которых очень быстро жизнь течет, при том такая страшная: ранения, контузии, смерти и радости в бою, - они же тоже были. Такие радости, которые ты не испытаешь не от какого события. Когда ты побеждаешь! Когда мои снаряды рвутся, уничтожают их. Как радуются все солдаты! Я в книге это описал конкретно. Офицеры до батальонного уровня - это все люди передовой. Остальные сзади. Это штабы, политотдел, все тыловые службы. У них жизнь спокойная. Они рассчитывают на послевоенное будущее. Они там стремятся выслужиться, звания получить, награды, должность повыше. Портупеями обзавестись, каракулевыми шапками, обязательно хромовые сапоги и прочую амуницию. А мы все время в песке, в грязи, поэтому у нас все равно все грязное. Мы не стремились к таким атрибутам.
А.Д.: - Антагонизм был?
- Большинство об этом и не думали. Мы были обреченные, и так считали, что «раз так получилось, значит, такая моя участь, и все». Может быть некоторые задумывались, что я все же «офицер второго сорта». А «первого сорта» - это кадровые офицеры, которые выжили в 1941 году, отступая. Они уже поднялись, потому что они были ротными или взводными, а тут он стал уже командиром полка, начальником штаба, или начальником какой-нибудь службы в полку, в дивизии.
А.Д.: - Вам туда не хотелось?
- Нет. Меня хотели сделать начальником штаба полка. Видели, что я грамотный, знающий. Но вот быть в полку, там все эти бумажки писать, хоть и во весь рост ходить, но все время козырять, выслуживаться хочешь не хочешь, потому что ты подчиненный... Меня это не привлекало. Тут я сам себе хозяин. В бою я командую, у меня успех, я вижу плоды своей деятельности. Меня это больше прельщало.
А.Д.: - Понятно, что окончание войны это радость. Но при этом - это лишение свободы. Каков был в общем и целом этот переход: от военной вольницы к мирной службе?
- Я его не ощутил. Вроде так и положено. То была война, мы каждый делали свое дело, а теперь мы в других условиях. Я пережил это безболезненно.
А.Д.: - В Вашей батарее не было эксцессов, связанных с этим?
- Нет. Ни в батарее, ни в дивизионе.
А.Д.: - Кроме всего прочего, после войны прокатилась волна самоубийств. У летчиков, почему-то.
- Я не знаю. Я даже такого не слышал. У нас во всей дивизии такого не было. Мне это даже непонятно. Может, как результат воздействия всех опасностей...У нас такого не было. Но я описывал случай, когда я устал воевать: кругом убивают и ранят, а меня нет. Немец все время наступает, стреляет, мы вынуждены обороняться. Это же всё связано с большим нервным напряжением, и такое нервное истощение, что ты не рад, что живой. Хочется, чтобы тебя убило или ранило, но нет больше никакой возможности воевать. У немцев были отпуска. Они психологически правильно делали. Его отпустят, он отдохнет. Но мы не признавались друг другу, что были в таком нервном состоянии, потому что это было опасно: узнают, донесут, будут судить за такое. Помню, я ждал открытия Второго фронта в июне 1944 года. Так нам хотелось, чтобы открыли Второй фронт, - может быть, нам полегче будет. Плацдарм на Днестре обороняем, а немец старается нас столкнуть в воду, занять плацдарм. Из последних сил держимся! Нет никакой больше возможности воевать, такая усталость. Когда мы всё же этот бой выиграли, атаку отбили, то все это успокоилось, пришли в себя. Такой процесс длиться полчаса, час.
А.Д.: - Спирт не помогает?
- Нет. Мы о нем и не думали. Спирт больше помогал в мороз, чтобы не так холодно было. А чтобы снять напряжение - нет. Командир батальона мне говорит: «Ну что, пойдем к твоим артиллеристам?» Я вовремя поставил батарею сзади пехоты на открытую позицию, а немцы атаковали нас танками. Батарея была хорошо замаскирована, немцы не знали где. Она, конечно, неожиданно по ним ударила, побила их, остальные побежали назад, отступили, - и мы бой выиграли. Но там и обстрел был, окопы все порушены, мы все в грязи, пилотку я потерял, все оборванные. Такое состояние и такой вид!.. Когда все это закончилось, мы малость пришли в себя, перевязали раненых, восстановили связь. Я поставил батарею в укрытие, и тогда я залез в блиндажик, чтобы передохнуть, распахнулся. Смотрю, просовывается ко мне командир батальона, ему лет 30 было: «Что ты дрыхнешь?» Я говорю: «Дело сделали, немцев отбили», - «Пойдем, я хочу твоих артиллеристов поблагодарить, они спасли положение. Какой ты молодец: студент, а соображает!» - «Ну, пойдем». Сначала мы шли по ходу сообщения, потом он закончился. Мы с ним выпрыгнули и идем по лугу. Маки красные там, это Бесарабия. Идем с ним, и он рассказывает: «Помню, как мы с отцом сено косили, как жаворонка в траве поймали...» Немцы видят, - идут двое во весь рост, нахалы. Один снаряд разорвался, другой, третий летит. Я упал: когда я со своими подчиненными иду, я падаю. Снаряд разорвался, осколки пролетели, я поднимаю голову: где он, живой или нет. Я его ищу лежащим, а он стоит, руки назад, ухмыляется. Я говорю: «Ты чего?» - «Решил посмотреть, как ты решил выжить». Это же оскорбление! Я поднимаюсь: «Ну что, пошли?» И мы с ним идем. Немец нас пристрелял, перешел на поражение. Уже полетели 24 снаряда. Мы с ним идем, один перед другим. Тут с одной стороны, усталость воевать. Думаешь, «пусть убьет, ранит, не могу больше». Вот такое состояние: или рухнуть, или на рожон кинуться. И мы с ним идем, один перед другим. Причем, идем спокойно, тихо. Снаряды рвутся, дым, пыль, осколки летят. А мы с ним идем. И ему только пробило осколком пилотку. Меня ни один осколок не коснулся. А солдаты... Огневики там более пожилые, они смотрят на нас из окопа и кричат нам: «Товарищи капитаны, ложись!» А мы идем. Когда впрыгнули в окопы, сели на землю, сидим. Пот, конечно, страшно все это. Я снимаю пилотку, вытираю пот, и он то же самое. Солдаты пожилые, лет по 45, говорят нам: «Товарищи капитаны, как вам не стыдно подставляться? Вас же могли убить!» Я ему тоже сказал: «Дураки мы с тобой, подставлялись». И вот этот Морозов, настолько у него был нервный срыв, он же боевой офицер, - и вдруг он сжал кулаки, из глаз у него как слезы брызнут, и он как закричит: «Я больше не могу!!!» Вот такой крик, детский такой крик... Я никогда в жизни больше такого не слышал. Я тоже был в таком состоянии, но так кричать не мог, потому что кругом мои солдаты. А его солдат не было, и вот он себе такое позволил, уже не мог собой управлять. Солдаты видят, что у нас такое состояние, они притихли, расползлись. Мы немножко успокоились, и я говорю: «Ну что, поползем теперь, подставляться уже не будем».
Пришли каждый к себе, и нас поодиночке генерал вызывает. Там уже по линии особого отдела, по линии политотдела все это доложили. Генерал вызывает, командир дивизии: «Михин, чтобы через полчаса был у меня». Я говорю: «Слушаюсь». Сначала ползком, а потом перебежками, а потом, за бугром, в полный рост (там ближе к берегу были блиндажи генералов) я встал, пришел и докладываю: «Командир 1-го дивизиона...» Он меня, как начал матюкать и ругать! «Ты чего там подставляешься?» Ему, во-первых, не хочется, чтобы меня убило, потому что я нужный человек на войне. А, с другой стороны, зло, что я себе это позволил. Я говорю: «В чем я виноват?» - «Почему вы так шли с Морозовым?» - «А что, мы должны кланяться каждому снаряду?» Я, конечно, неправ был. Он еще нас наругал: «Судить вас будем, в военный трибунал за то, что вы подставляетесь!» - «Разрешите идти?» - «Иди». Но потом говорит: «Подожди. У меня есть путевка в Одессу. Там открыли санаторий для офицеров для отдыха. Я даю тебе эту путевку на 10 дней». Я не верю, беру эту путевку, - и пошел.
Прихожу к себе в блиндаж. Думаю, надо Морозову сказать, что я путевку получил. Попросил ординарца узнать, - Морозов на месте, он у себя в блиндаже. Поднимаюсь к нему в блиндаж и рассказываю ему: «Меня вызывал генерал». Он смеется: «И меня вызывал. И тоже дал путевку». Поодиночке вызывали. И мы с ним вдвоем отправились до Одессы: туда ходил временный состав, подвозил боеприпасы. Мы с ним сели на этот поезд, нашли санаторий. Там были одни мужчины, офицеры. Причем, больше штабы, политотделы. Редко, кто с передовой получил такую путевку. Они там между собой делили, и все. Его же надо кем-то заменить, если взять с передовой: а это, значит, своего послать на передовую, это опасно. Поэтому воюет и воюет: пусть воюет, пока не убьет или не ранит.
Мы 10 дней с Морозовым отдохнули в Одессе. Причем колючая проволока идет далеко в море, и по берегу ограждено колючей проволокой, чтобы никто не мог вылезти. «Вот вы купайтесь, питайтесь, аккордеон слушайте, во весь рост ходите, загорайте», - и так 10 дней. Но еще до этого, когда он был в госпитале раненым, у него была любовь со старшей медсестрой. Он говорит: «Слушай, моя подружка в Одессе. Давай к ней ночью сходим?» Ну, друг же! «Давай!» Я раздеваюсь догола, проплыл вокруг колючей проволоки, оказался на той стороне. Ему кричу тихо, чтобы часовые не услышали, - и он мою и свою амуницию бросает через забор. Я ловлю, переодеваюсь, он тоже переплывает, одевается. И мы с ним ночью нашли этот госпиталь, - никакой патруль нас не увидел. Постучались, нам открыли. Прибегает старшая медсестра, они обнимаются, а я присутствую при этом. Они уединились. А куда ему товарища деть? Она поручила меня физкультурнице, так мы с ней и пробаловались целую ночь. Уже светает, нам надо уже уходить. Я постучал к ним, открываю дверь, они спят. Я его толкаю: «Уже светает, давай быстрей». Мы с ним так же переплыли, тем же путем. Единственное это было, что мы успели за 10 дней пребывания. Но все равно все напряжение с нас сняло. Мы с ним снова пришли в окопы, как новые пятиалтынные. Сразу окунулись в то, что было.
А.Д.: - Первое время после возвращения страшно?
- Нет. Для нас привычно.
А.Д.: - Говорят, когда возвращаются после ранения, то период адаптации, сначала кланяешься каждому снаряду, а потом уже привыкаешь. Как у вас?
- Нет. Это уже все знакомо, известно. Нас этим не напугаешь, это наша среда пребывания.
А.Д.: - Морозов прошел всю войну?
- Да. И живой остался. Он Герой Советского Союза за Днестр. Мне не сказал об этом. Все в тайне делали. У меня в книге описано, как я захватил немецкую батарею, и с этой батареей его батальон в промежутке между немецкими частями ночью вышел на Днестр, - это километров 10 было. Разведчики доложили, что можно низом пройти на берег.
Морозов своих солдат расположил по берегу, я в балке оставил батарею, а сам с ним. Телефонист наладил связь, и мы ждем рассвета. Это было единственное место, где наш берег Днестра был выше, чем немецкий. Там была небольшая деревня, из этой деревни вела подземная дорога. Там добывали ракушечник на берегу, и в береге делали такие норы, чтобы врезаться в камни, и по этой дороге их вывозили. Село называлось Бычок, потому что там есть река Бык. Когда рассвело, я увидел: там сады внизу, они еще без листвы, и там село и церковь. И немцы там ходят. Они знают, что передовая далеко, а они здесь оборону делают, поправляют окопы и прочее. Причем там были те, которые дооборудовали окопы, - это не передовые части. У них оборона еще не была «как следует». Я уже успел эту батарею пристрелять. И когда я увидел всё это, я дал команду, и открыл по ним огонь. Они, конечно, разбежались, и я их загнал в село. А Морозову говорю: «Морозов, давай свой батальон в Бычок, бери там плавсредства, какие есть: лодки, и так далее. И тащите туда, и переплавляйтесь. А я буду держать, чтобы немцев на берегу не было». Я веду огонь по деревне, а они не знают, что мы будем переплавляться. И вот он свой батальон переправил: они переехали на лодочках, как на пикник. И только к утру немцы увидели и начали обстрел нашего берега. И я сразу сообразил: единственное, что выше этого села, это колокольня. И я с закрытой позиции с немецкой гаубицы попал в колокольню. Причем я пристрелял её на некоторое расстояние за колокольней: сначала, конечно, снаряды шли мимо. А потом я открыл беглый огонь, когда несколько снарядов летят, сосредоточены к первому. И один снаряд попадает прямо в колокольню и колокольня разламывается. Наблюдательный пункт был уничтожен, и обстрел прекратился. Тогда я спустился с берега, и к Морозову туда. И вот мы уже плацдарм заняли.
А.Д.: - За это он получил Героя?
- Командира этого полка был армянин. Он готов меня был не только расцеловать, даже не знаю, что сделать. «Мы тебя наградим орденом Ленина! Какое ты дело сделал!» Если бы не я, они бы не смогли переправиться под огнем. И вот меня решили представить к ордену Ленина. Но мы же не интересовались, кто там что писал...
Потом были бои за расширение плацдарма. Что такое расширить плацдарм на 6 километров до противотанкового немецкого рва?! Столько людей там погибло, это ужас. А вот мы с ним все живы. И вот там с нами произошел этот случай, после которого нас отправили в Одессу на отдых. Когда мы уже оставили плацдарм, когда нас уже отвели на другой плацдарм, левее, тогда наше командование подумало: а что же, мы плацдарм заняли. За это же звания Героев давали. И командование фронтом выпросило 18 званий Героев Советского Союза. Кому давать? Этому 429-му полку: потому что его батальон занял. А потом уже вся дивизия тут построила переправу. Кому давать? Политработникам, - такое было правило. Парторги, комсорги, - кто был на общественных началах, не было не освобожденных. С одной стороны, конечно, он и командует, и исполняет дополнительные обязанности. Конечно, он несет двойную нагрузку. Обычно назначали таких комсоргов, которых не должно убить. Потому что его же надо обучать, подсказывать и так далее.
Вот у нас Абдулин, пока он был рядовой солдат, он, конечно, действительно воевал вместе со всеми. А когда он уже стал комсоргом, то уже с адъютантом командира полка подружился. Значит, он уже вон где бывал. Первый год он воевал хорошо, а когда стал комсоргом, то уже по штабам. Вот я посчитал: из 18-и один оказался ординарцем командира, он был полицаем на Украине, когда мы набирали людей, - но его тоже взяли. Он хитрый, лет 30 ему было, очень угождал командиру, и тот его выдвинул в Герои. Из 18-ти один был такой! Когда в село сообщили, что «ваш такой-то - Герой Советского Союза», - а там знали, что он был кровавым полицаем, - сразу написали в Москву. «Что это такое, столько людей повесил, и вдруг он Герой Советского Союза?» Приказ отменили. Его вычеркнули из этого списка. Четыре были награждены посмертно, командиры рот, которые действительно заслужили. Это те, кто возглавлял роты. Дивизия всё планы строила, как форсировать Днестр, но там ничего не получилось. Один такой командир роты, младший лейтенант, вместе с группой оказался на том берегу, в камышах. Их осталось человек 8-10, что они сделают? А рота была усиленная, человек 200 с пулеметами, но остальных всех побило. И так они там в камышах так и остались. Так вот ему заслуженно дали. А командира штабной роты Кабаева послали уже по переправе, разыскать тех, кто остался. Мы уже были далеко. Они сидят, не знают что там делаются. Он их разыскал, слазил туда, но его даже в звании не повысили, - так он и батальоном и командовал. К этому временя я уже стал командиром дивизиона. Я уже полк поддерживаю. А он так и продолжал командовать батальоном. Он иногда обращался ко мне: «Слушай, помоги мне атаку выиграть», - он знал мои возможности. Я командир дивизиона, но я иду к нему в батальон, вместе с ним бегу. Мы дружили. Мы с ним воевали до конца, и он так живой и остался. Но он мне не заикнулся, что Герой Советского Союза! Видно, им всем наказали, не разглашать. Мы узнали об этом только в 1975 году. А двоим комсоргам, полка и батальона, присвоили Героев и направили в соседние дивизии. И когда в Молдавии мы встретились, один из них со мной подружился. Я начал его спрашивать: «Ты Герой Советского Союза с 29-го полка. Где же ты был? Я всё с этим батальоном воевал, и ни разу там тебя не видел!» Все же комсорг должен быть в районе командира батальона, раз он комсорг батальона. «Я исполнял поручения командира батальона», - «Я все понял». Конечно, надо поощрять людей, которые исполняли общественные функции. И некоторые из них хорошо исполняли эти обязанности. У нас был настоящий парторг в батарее.
А.Д.: - И ещё вопрос: туалетная бумага была?
- Такого понятия даже не было.
А.Д.: - Газеты?
- Немецкими листовками пользовались.
А.Д.: - Снег и трава?
- Да. Отхожие места были. Вот поначалу, в 1941 году, леность была у некоторых солдат. Остановились, команда: «вырыть окопы». Сначала по грудь, чтобы грудь и голову спрятать. Потом поглубже, по пояс. А дальше уже в полный профиль, а потом соединиться с соседом, и получается траншея. Причем ведь как было? Только оборудуемся, все сделаем, и вот тебе: переходить на другое место или наступать. Нам так жалко было бросать, такой труд заложен, а надо было уходить. Так вот, в 1941 году некоторые ленились, - «зачем такая работа?», и прочее. А потом немец научил: потому что обстрел, кто в окопе, тот жив остался, а кто на голой земле - погибли. Поэтому постепенно втянулись, и уже без всяких разговоров, как только остановились - в землю. И это спасало.
Так вот, отхожие места поначалу не делали, и солдаты выпрыгивали из окопа с тем, чтобы оправиться. И часто снайперы пользовались этим, убивали. В такой некрасивой позе человек получал смерть. Потом решили, и правильно сделали, обязательно после того, как вырыли траншеи, рыть отхожие места. Ход в земле, и отхожее место.
А.Д.: - Это уже пришло в 1943 году?
- Да. А потом это уже вошло в норму.
| Интервью и лит.обработка: | Интервью: А. Драбкин Лит. обработка: С. Анисимов |