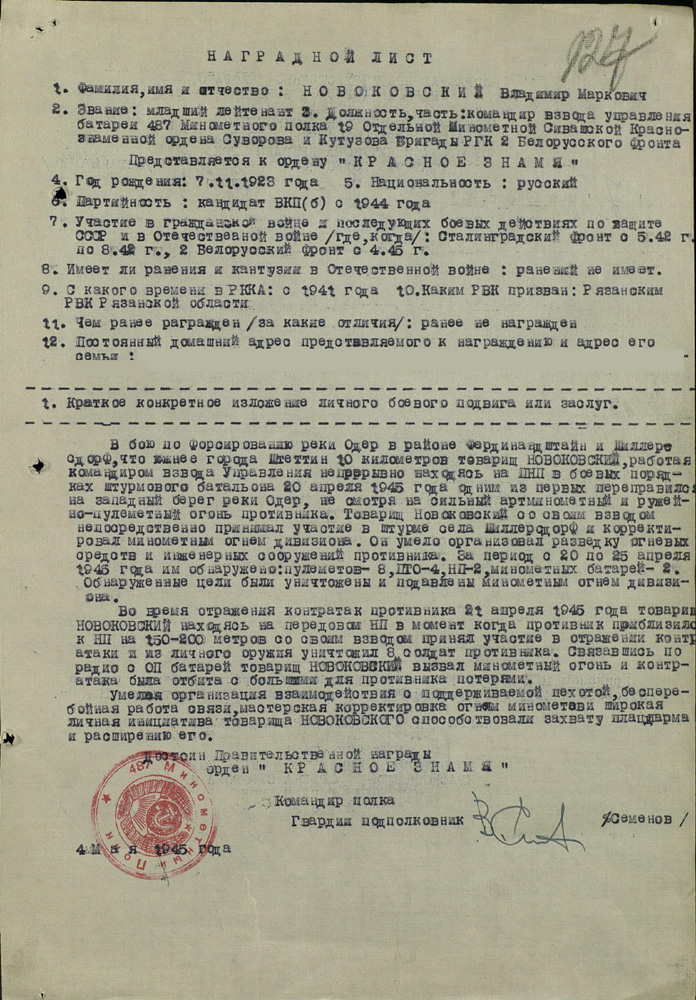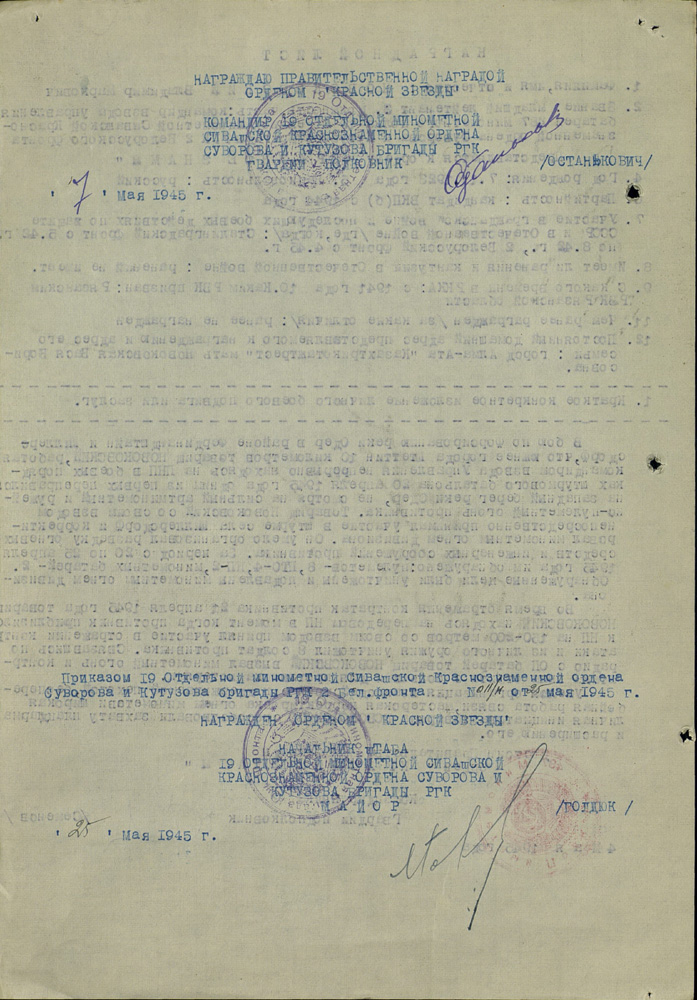После того, как Рязань начали бомбить, в первых числах октября я сам пошел в военкомат. Но там мне сказали, чтобы не мешал работать и когда дойдет очередь, мне пришлют повестку.
Через несколько дней я снова пошел в военкомат. На этот раз там сидел, какой-то пожилой майор. Я рассказал ему, что всех моих сверстников давно призвали, а я повестку так и не получил. Он выслушал меня и велел своей сотруднице принести мое личное дело призывника.
Мое дело долго искали, но так и не нашли. Началась легкая паника. Потом майор велел мне рассказать, чем я занимался последний год.
Когда он услышал, что я учился в аэроклубе, он заявил, что наш аэроклуб был военизированным и все личные дела призывников-учлетов велись там. Поскольку аэроклуб к этому времени, куда-то эвакуировался, майор велел составить на меня новое личное дело, а мне предложил написать заявление о добровольном вступлении в армию. Что я немедленно и сделал.
4. Армия
Меня отвели в комнату, в которой сидела девчонка из нашей школы, из параллельного класса, и мы издали знали друг друга, но никогда не общались. Она начала заполнять мое личное дело с моих слов. Настроение было приподнятым, и в процессе заполнения я несколько раз пошутил.
Фамилию и имя она заполнила, не спрашивая меня, только уточнила фамилию, Нова или Ново. Потом спросила отчество, дату и место рождения, еще что-то и национальность. Я ответил, что я еврей. Она засмеялась и сказала, чтобы я перестал балагурить и начала заполнять дальше.
На другой день состоялись мои проводы. Маме на работе подарили для меня добротные, как сказали, английские армейские ботинки, которые меня потом здорово выручили. Мама плакала, Неля ей помогала, хотя и не понимала, что происходит. Ей тогда было шесть лет. Меня тоже чуть не довели до слез. Я поторопился побыстрее уйти.
Когда я пришел на сборный пункт, по указанному адресу, то выяснилось, что это был клуб, в помещении бывшей церкви, в котором постоянно устраивались танцы под баян.
Теперь весь зал был заставлен деревянными топчанами, на которых были постели. Набралось народу порядочно. Нас разбили на отделения, взводы и роты. Всем заправлял капитан в военной форме. Меня сразу назначили командиром отделения. По каким признакам делали эти назначения, я не знаю. Люди были самых разных возрастов, от пацанов, вроде меня, до сорокалетних мужиков. Нам объявили, что обмундирование выдадут по прибытии в часть, а пока мы будем ходить в своей одежде, но кормить нас будут из военной кухни, по армейским нормам. Котелки нам выдали. Это было первое армейское имущество.
Несколько дней мы занимались патрулированием окрестностей города. В нашу задачу входило ловить немецких парашютистов.
Правда, как мы могли их ловить, будучи совершенно обезоруженными было не совсем понятно. Через несколько дней таких прогулок вокруг города, после очередной бомбежки Рязани, нас построили и вывели из города. Ночевали мы, в какой то деревне, где нас разместили в домах местных жителей.
Вечером к нам пришел командир роты и вручил что-то вроде красноармейских книжек. Когда я начал ее просматривать, то увидел, что в графе национальность у меня написано русский. Я ему об этом сказал и попросил исправить. Командир роты в ответ потребовал не морочить ему голову, и что так для меня даже будет лучше, если я попаду в плен. Я сказал, что не собираюсь попадать в плен. Командир роты, уходя, уже в дверях сказал, что не стоит зарекаться.
Утром нас построили и объявили, что мы походным порядком направляемся в город Сасово, до которого около двухсот километров.
Шли мы больше недели. Ночевали в деревнях в частных крестьянских домах. Однажды вечером, в доме, где мы расположились на ночлег, собралась компания картежников. Мне хозяйка разрешила расположиться на печи, откуда я и наблюдал за игрой. Два игрока были из нашего дома, остальные пришли из других домов. Не буду рассказывать, как они играли, как ругались, как обвиняли друг друга в шулерстве. Скажу только, что по окончании игры, один мужик, лет сорока, ушел из дома в одних кальсонах. Никакие уговоры оставить ему ботинки, чтобы дойти до своего дома, ни к чему не привели. А мороз стоял около двадцати градусов. С тех пор я никогда не садился играть в карты на деньги. Играл только в преферанс, после войны на немецкие марки, которых у нас было мешками.
7 ноября, когда усталые, поужинав, мы устроились на ночлег, я вспомнил, что у меня сегодня день рождения, что мне исполнилось восемнадцать лет. Октябрине исполнилось восемнадцать четвертого ноября, а я даже не мог ее поздравить.
Радио не было, и о параде на Красной площади нам рассказали только через несколько дней, когда мы остановились в деревне, недалеко от города Сасово. Деревня называлась Большое или Малое Хреново, я точно не помню. Там было и такое, и такое. В этой деревне мы прожили несколько дней. Потом нас стали вызывать в контору колхоза, где заседала, как нам сказали, мандатная комиссия.
Подошла и моя очередь. Когда я вошел в кабинет, мне предложили сесть и рассказать биографию. Я коротко рассказал, умолчав об аэроклубе и аресте отца. В комиссии началось обсуждение. Я уловил фразу, что со средним образованием людей мало. В этот момент один мужчина заявил, что этого парня надо отправлять в танковое училище, так как он уже готовый водитель. Оказалось, что он однажды ездил с нами в район и видел, как я управляю машиной. Вроде на том и порешили, но в последний момент, когда я уже вставал, чтобы уйти одна женщина вдруг спросила, чем занимаются родители. Я ответил, что мама работает в райпотребсоюзе, а отца по ошибке арестовали и скоро должны отпустить. Было только одно уточнение, кто арестовал. Когда услышали, что НКВД, велели мне идти.
Через несколько дней меня и еще примерно с десяток человек из нашей роты вызвали на посадку в поезд. Собрали довольно большую группу из разных рот и привели на станцию Сасово. Там было уже много народу. Вскоре подошел товарный состав и объявили посадку. Когда мы влезли в вагон, выяснилось, что вагон оборудован нарами в два этажа, а в центре вагона стояла печка-буржуйка. На трое суток нам выдали сухой паек. Ночью тронулись в путь.
Ехали мы недели полторы. Вообще то, говоря, больше стояли, чем ехали. На таких станциях как Рузаевка, Чапаевск, Бугуруслан стояли больше суток, потому, наверное, они мне и запомнились.
На стоянках в основном занимались добычей жратвы, кипятка и топлива. Собирали кусочки угля, любую щепку, а если повезет, то и кусок шпалы. Во время этого путешествия меня научили печь на печке-буржуйке картошку, о чем я знал и раньше. А вот печеный лук для меня было открытием. Мне этот печеный лук очень понравился, и я начал охотиться за луком, так же как за картошкой.
Наконец приехали в Уфу, где нас выгрузили и снова расселили по частным домам. Прожили мы там два или три дня, потом нас рано утром привели на станцию узкоколейки и рассадили по вагонам.
К нашему удивлению это были пассажирские вагоны. На этот раз нас без задержек и длительных стоянок привезли в город Белорецк. В Белорецке мы не задержались, и сразу отправились в очередной поход. Шли очень долго, думаю не меньше пяти часов. На место пришли уже в полной темноте, разместили нас в бараках с двухэтажными нарами. В бараке было хорошо натоплено, нас разморило, и усталые мы сразу завалились спать. Утром нас повели в столовую, накормили жидкой баландой с кусочком сырого хлеба и объявили, что сейчас будет собрание. Пришел сопровождавший нас капитан, а с ним пришли трое или четверо военных. Один из них был капитаном, остальные лейтенантами. Один был, старшим лейтенантом. Наш капитан объявил, что его миссия закончена, и он передает командование нашему новому начальству.
Новый капитан объявил, что наше подразделение называется строительным батальоном, коротко стройбатом, что он назначен командиром батальона, а другие командиры - это штаб батальона. Разбивка на роты, взводы и отделения произведена. Фамилии командиров рот, взводов и отделений были сразу зачитаны. Меня опять назначили командиром отделения.
Задачей нашего стройбата было заготовка древесного угля для Белорецкого металлургического завода, на котором выплавляются особые, высоколегированные стали, необходимые для производства очень важной военной техники. Батальон был необычным, В его составе было не три, как в обычном батальоне, а пять рот. Да и роты, как и взводы, были намного больше, чем обычные. Отделения были более нормальные 8-10 человек. Я помню разговоры, что всего в батальоне было около 1000 человек. Задачей нашей и еще трех рот, была заготовка дров. Это должны быть не просто дрова, а поленья длиной в сто двадцать пять сантиметров и толщиной не более двенадцати сантиметров. Норма установлена в один кубометр на человека, За выполнение нормы ответственность несет отделение в целом. Норма не устанавливается только для командиров взводов и рот. Их задача следить за соблюдением общего порядка и выполнением установленных правил. Одним из таких правил был пенек, который должен быть не выше пятнадцати сантиметров от начала корня. В конце речи он заявил, что отделения, не выполняющие нормы выработки, не будут получать полного пайка. Одна рота должна была транспортировать заготовленные дрова к месту выжига древесного угля из этих дров и укладывать их там особым образом. После этой речи он велел всем ротам по очереди идти на склад, получить спецодежду и необходимый для работы инструмент. Спецодеждой оказались стеганные ватные брюки и фуфайки и в придачу - валенки (пимы). Все это было невероятно затасканное и обшарпанное старье. Хорошо еще, что наша рота имела номер первый, и мы первыми пошли на склад. Что досталось остальным трудно представить. Я позарился на валенки с галошами, но позже выяснилось, что подошвы у валенок дырявые. Правда, нам кроме спецодежды выдали еще нитки, дратву и иголки для ремонта.
Нашему отделению на девять человек выдали четыре двуручных пилы, четыре топора и четыре лопаты. После получения инструмента нас повели в лес и каждому отделению отвели свою делянку. Потом сказали, что если сегодня же начнем работу, то на сегодня нормы не будет, а вся выработка зачтется в последующие дни. Помнится, все решили сегодня же, и начать и поработать, пока светло, а вечером заняться ремонтом спецодежды.
В нашем отделении оказался один мужик, который отбывал срок в лагере и работал на лесоповале. Я ему предложил стать вместо меня командиром отделения, он категорически отказался, но обещал помогать.
Когда мы приступили к работе, то все это оказалось гораздо сложнее, чем было в рассказе нового начальства.
Снег был выше колен, а в некоторых местах и по пояс. Поэтому, чтобы не промокнуть насквозь, надо было откопать в снегу проход к месту работы и окопать дерево. Потом надо было определить направление валки дерева, чтобы к нему был подход для обрубки ветвей. Затем сделать на дереве со стороны направления повала зарубку и с другой стороны пилить. Мне раньше приходилось пилить дрова двуручной пилой, и мне это не казалось слишком сложным делом. Но когда я начал с напарником пилить дерево, склонившись, как говорят, в три погибели, то уже минут через пять, пропилив меньше половины ствола, у меня пошли круги в глазах. Я попытался встать на колено, но мои ватные брюки сразу промокли, и колену стало холодно. Я подумал, что меня сейчас засмеют, как белоручку, но у остальных было не лучше. Я решил по наивности, что надо найти какие-нибудь фанерки, чтобы подкладывать под колено, но наш бывалый мужик сказал, что никаких фанерок мы не найдем, а надо самим вырубить и выстрогать из полена дощечки, чем мы все сразу же и занялись.
И еще он сказал, что надо у кладовщика выпросить несколько хороших напильников для заточки пил. Вернувшись в лагерь, мы с этим мужиком, его звали, кажется, Федором, пошли к кладовщику и попросили у него напильники. Кладовщик проворчал, что нашелся, наконец, человек, что-то соображающий, и разрешил нам выбрать девять штук напильников, по числу человек в отделении.
Пока мы ходили, я осмотрелся кругом. Что же я увидел? Примерно с десяток больших жилых бараков, один барак - столовая. С одного конца этого барака был склад с инструментами и отдельно склад спецодежды. Вся территория огорожена двумя рядами колючей проволоки по прямоугольнику. На каждом углу охранная вышка, но без охранников. Короче, я пришел к выводу, что недавно здесь был лагерь для заключенных, что вскоре и подтвердилось.
Позже выяснилось, как я уже сказал, что в стройбате насчитывалось около тысячи человек и все они из Рязани. Кроме того, во время вечерних разговоров, звучало, что в этом районе было еще два подобных стройбата, и все люди в них были из Рязани.
Когда начало темнеть, мы вернулись в барак и занялись ремонтом спецодежды. Я в первую очередь решил заняться валенками.
Федор помог мне приготовить дратву, вырезать из голенища бывших валенок, которые дал кладовщик, подошвы и посоветовал не подшивать полностью, а закрепить в нескольких местах и натянуть галоши, т.к. за один вечер не успеть сделать все. Я так и сделал. А за несколько вечеров подшил полностью и гордился тем, что научился это делать самостоятельно.
На следующий день начались трудовые будни. За восемь часов рабочего дня установленную норму выполнить ни одному отделению не удавалось.
Все работали на два-три часа больше. Во время перекуров, у нас не было сил даже разговаривать. Я все думал об отце, матери, Неле и Октябрине.
Кормили нас жидкой баландой и хлебом, норма которого была шестьсот грамм в день. Но хлеб был такой сырой, что, думается, воды там было не менее половины веса. На все наши возмущения, наше начальство отвечало, что в стране большие трудности с продовольствием, и мы получаем то, что дают стройбату.
Капитан предупредил, что любой саботаж работы будет караться судом военного трибунала по законам военного времени.
Постепенно мы немного приспособились к работе, выработались некоторые рациональные приемы работы. Однако это мало помогало. Люди тощали прямо на глазах. Начался настоящий мор. Каждую неделю умирали люди от истощения.
Несмотря ни на что, я за декабрь и январь написал маме три письма, но в ответ ничего не получил. Потом мне сказали, что я зря пишу, так как все письма не отправляются, а уничтожаются.
В нашем бараке обнаружилось несколько ребят моего возраста и оказавшихся здесь по аналогичной причине, что и я. Где-то во второй половине января ко мне подошел один из них и шепотом попросил через пять минут зайти в уборную, которая находилась на улице. Когда я туда пришел, парень сунул мне в руку какую-то бумажку и попросил завтра на работе незаметно для других прочитать, и, если согласен, подписать ее. На следующий день я изловчился и незаметно для своих товарищей по отделению, прочитал эту бумажку. Это было короткое письмо в Белорецкий военкомат, в котором говорилось о том, что мы, молодые ребята призывного возраста, должны на фронте воевать с фашистами, а не заниматься лесоповалом, что могут делать и люди постарше и даже женщины. И в конце просьба направить нас на фронт. Под письмом уже было несколько подписей. Вечером я, опять-таки незаметно для других, письмо подписал. Когда я письмо передавал этому парню, я спросил, как он собирается переправить письмо адресату. Он не стал мнг говорить, а сказал, что есть способ. Позже я узнал, что это сделали при содействии бывшего кулака, который в качестве ссыльного жил в соседней деревне и снабжал наш стройбат картофелем. Кроме того, он систематически ездил в Белорецк торговать картофелем.
Я мало надеялся на положительный результат. Но однажды где-то в начале февраля, на нашей делянке появился командир нашей роты и велел мне срочно явиться к командиру стройбата. У меня приятно защекотало под сердцем, и пронзила мысль, что наше письмо дошло. Так оно и было. В кабинете нашего комбата сидели подполковник, капитан и лейтенант. Подполковник сказал, что они из военкомата с сразу начал меня расспрашивать. Я рассказал все о себе, немного присочинив, что когда аэроклуб эвакуировался, я болел воспалением легких, и меня с собой не взяли. А про отца сказал, что он погиб при бомбежке Рязани и даже назвал дату реальной бомбежки. Все это я смело говорил, так как кроме списка на листике бумажки на столе никаких документов не было. Хотя на душе скребли кошки, а вдруг достанет из стола. Но я решил, что как бы там ни произошло, хуже не будет. К счастью, мои надежды оправдались. Задав мне несколько вопросов, подполковник сказал, чтобы я шел к себе, сдал все казенное имущество и готовился к отъезду вместе с ними. Я, окрыленный, помчался к себе в барак, откуда только силы появились. В бараке уже суетились несколько ребят, которые побывали у подполковника. Мы сдали на склад всю казенную спецодежду. Кладовщик даже пожалел меня и дал мне рваную и замызганную фуфайку, сказав, что в своем демисезонном пальтишке я замерзну по дороге. Оказалось, что мы поедем в Белорецк на полуторке вместе с приезжим начальством.
Действительно. Подполковник сел в кабину, а двое его сопровождающих и нас девять человек расселись по скамейкам в кузове и поехали, как мы считали с комфортом. Правда, мороз был градусов около двадцати, было холодно, но это было ничто по сравнению с нашей радостью избавления от каторги, с которой мы сумели улизнуть.
Привезли нас в военкомат, разместили в теплом кабинете и сказали, что сегодня же нас отправят в Уфу в формирующуюся там дивизию.
Потом нас повели в столовую, накормили нормальным обедом, выдали сухой паек (по полбуханки хлеба и по две банки консервов) и сразу отвезли на станцию. Поздно ночью нас посадили в поезд узкоколейки, и мы поехали в Уфу. Нас сопровождал лейтенант из военкомата. В Уфу приехали, как мне помнится в середине следующего дня.
Первым делом мы прикончили остатки сухого пайка, и пешим порядком лейтенант повел нас, как он сказал, в затон.
Привел нас лейтенант, в какой-то штаб и сдал новому начальству.
Нас тут же распределили по полкам. Я и еще двое ребят попали в 788 полк. В конце концов, я попал во взвод ПТР (противотанковых ружей), кажется, 1-й роты. Точно не помню.
Рота размещалась в казарме типа барака. Часть барака была оборудована двухэтажными нарами, а часть кроватями. Поскольку мой взвод располагался на нарах, то и меня разместили там, на свободном месте. Меня сразу отвели к старшине роты, который выдал мне новое обмундирование и ботинки с обмотками. Поскольку обмотки я увидел впервые, старшина сразу научил меня, их наматывать. Кстати, он же научил меня правильно наматывать портянки. В процессе этого обучения он предупредил меня, что процесс наматывания обмоток и особенно портянок это очень ответственное дело и делать это надо всегда очень тщательно. Впоследствии я убедился в правоте этих наставлений.
Поскольку время уже было послеобеденное, а от сухого пайка ничего не осталось, то пришлось терпеливо дожидаться ужина.
На следующий день меня включили в обычную военную подготовку. Мы ежедневно занимались строевой подготовкой, политподготовкой, изучали оружие, Нас учили на практике отрывать окопы саперной лопаткой, ползать по-пластунски, бегать перебежками, рукопашному бою винтовкой со штыком. Иногда выводили в тир и учили стрелять. Были и теоретические занятия, и тактические учения в поле. Правда, настоящего оружия у нас были единицы. Например, в нашем взводе было всего одно противотанковое ружье, да и то учебное, с поврежденным стволом. В каждом взводе было по одной винтовке со штыком. Настоящее действующее оружие было только в тире, куда нас водили на практические стрельбы. У меня все получалось более или менее удачно, сказывались навыки, которые мне привил наш учитель Евсей Владимирович Сосин. Через некоторое время перед строем мне объявили о присвоении звания ефрейтора. А еще через пару дней меня вызвал замполит роты и поручил вместе с двумя другими красноармейцами выпускать боевой листок. От других занятий нас не освобождали, поэтому боевой листок мы должны были делать за счет, так называемого, личного времени.
Несмотря на полное отсутствие свободного времени, я ухитрился написать домой маме два коротких письма. Коротко сообщал о своих изменениях, спрашивал, как дела у них с Нелей, что слышно об Октябрине. Боясь цензуры, об отце прямо спрашивать побоялся, и в письме назвал его Борисовичем.
Мне сказали, что отсюда все письма отправляются, но проверяются цензурой. Кроме того, мне сказали, что по номеру полевой почты, который я сообщал в своем письме, я получу ответ, куда бы ни перевели нашу часть.
После того как мы выпустили два боевых листка, меня снова вызвал замполит и сказал, что меня хотят послать на курсы подготовки младших политработников. Я, по-настоящему, испугался. Я считал, что при посылке на такие курсы, людей тщательно проверяют, и меня сразу разоблачат.
Я начал отказываться, утверждая, что я не умею произносить речи, убеждать людей, и вообще не приспособлен для политработы.
Замполит пытался соблазнить меня тем, что мне присвоят звание с четырьмя треугольниками. Но я от всех благ категорически отказался. Мне показалось, что замполит как-то насторожился, и я подумал, что переборщил со своим отказом и это может плохо кончиться. Но пронесло. Он выразил сожаление моим отказом и отпустил меня. Я еще несколько дней волновался, ожидая вызова в СМЕРШ. Но ничего плохого со мной не случилось, и я успокоился.
Так прошло около месяца, Потом нас подняли по тревоге, погрузили в эшелон товарных вагонов с двухэтажными нарами и с печкой-буржуйкой в центре вагона, с чем я уже был знаком.
Правда, на этот раз в вагоне было значительно свободнее. Во всяком случае, во время сна можно было свободно, не мешая соседям, переворачиваться с бока на бок.
Куда нас везли, никто нам не говорил, однако было ясно, что едем на Запад, в сторону фронта. С другой стороны, мы были совсем без оружия, и на фронте нам делать было нечего.
Из Уфы нас везли не по той дороге, по которой везли из Сасово. Если из Сасово мы ехали через Сызрань - Куйбышев - Бугуруслан, то обратно ехали через Богульму - Ульяновск.
Однажды, под утро на остановке, я спросил у железнодорожника, который простукивал колеса, какая это станция и в ответ услышал, что это Рузаевка.
Меня охватило волнение. Я предположил, что из Рузаевки на Запад можно проехать только через Рязань. Мои предположения подтвердили товарищи по вагону. С большим волнением я ждал, будет Рязань или нет. Когда проехали Сасово, сомнений не оставалось. Я начал думать успею ли добежать до дома. Это зависело от продолжительности стоянки в Рязани. Наш командир взвода сказал, что это будет известно только по прибытии в Рязань. Когда прибыли, время стоянки объявили в сорок минут. За это время я даже до дома не успею добежать. Чуть не плача я выбежал на привокзальную площадь, хотя бы взглянуть на город. Вдруг мои ностальгические настроения пронзила мысль: надо хотя бы написать письмо и бросить в почтовый ящик. Бегом возвращаюсь в вагон, хватаю карандаш, вырываю листок из блокнота и судорожно пишу самое главное о себе, номер своей полевой почты. До отправки поезда остается несколько минут. Бегу на станцию, бросаю в почтовый ящик свой треугольник, бегу обратно, лезу в уже тронувшийся вагон и только тут соображаю, что не написал домашний адрес. Это меня совершенно раздавило. Я залез на верхние нары и от обиды пустил слезу.
Поздним вечером этого же дня приехали на станцию Узловую и начали разгрузку. Когда начало светать нас построили и повели, как нам сказали, к месту новой дислокации. Мы шли и с интересом разглядывали окрестности: сгоревшие и разрушенные деревни и поселки, с торчащими отдельными трубами, полуразрушенные окопы, попадались даже разбитые артиллерийские орудия и подбитые немецкие и наши танки. Все свидетельствовало о недавних ожесточенных боях.
Привели нас в небольшой полуразрушенный городок. Местных жителей там было очень мало. Назывался он Сталиногорск.
Помнится, там было два Сталиногорска, первый и второй. Потом мы совершали марши между ними. А в каком из них мы обосновались, в первом или во втором, я точно не помню.
Разместились в уцелевших домах. Никаких удобств там конечно не было. Спали на полу, подстелив шинель и ею же укрываясь. Питались у полевой кухни из котелков.
После того, как мы разместились, пришел командир роты и объяснил, что наша дивизия, пополнила другие дивизии, которые образуют второй эшелон Западного фронта, что в ближайшее время мы получим настоящее оружие, и будем совершенствовать свою боевую подготовку. Правда, о фронте в наших местах ничего не напоминало, кроме того, что несколько раз прилетали немецкие самолеты, бомбили и обстреливали из пулеметов наш район. Лично я не видел, но говорили, что были убитые и раненые
Вскоре мы, действительно, получили настоящее оружие, которым нас обеспечили, как говорили наши командиры, тульские рабочие.
Вручали нам оружие на торжественном митинге. Присутствовали там даже немногочисленные местные жители. Нас наставляли содержать оружие в чистоте и порядке. Нашему взводу вручили противотанковые ружья (ПТР) системы Дегтярева. Потом их поменяли на ружья системы Симонова. Меня назначили первым номером, а вторым номером был парень, молодой еврей которого звали Сашей, его фамилию сейчас точно я не вспомню. Кроме ружей, нам выдали по две патронные сумки на расчет. Я не помню, сколько в этих сумках помещалось патронов, но хорошо помню, что сумки были довольно тяжелые.
Мы тогда долго не могли решить, как нам лучше все это носить.
Сначала мы каждый вешали на себя по сумке и вдвоем несли на плечах ружье. Потом попробовали другой вариант. Один вешал на себя обе сумки, а второй нес ружье. Потом менялись.
С получением оружия все наши учения усложнились. Во-первых, во время переходов и марш-бросков стало просто, физически много тяжелей. Во-вторых, каждый день надо было чистить оружие. С другой стороны стало интереснее, так как начали проводить боевые стрельбы по-настоящему. Стреляли по мишеням и по подбитым танкам. Когда удавалось достать бутылки с горючей смесью или просто с бензином, то эти бутылки ставили на танк и при попадании в бутылку, жидкость воспламенялось, возникало пламя, и создавалась приятная иллюзия подбитого танка.
Кроме просто стрельб по мишеням и подбитым танкам, регулярно проводились тактические учения с боевыми стрельбами. Все эти учения сопровождались рытьем разных окопов и траншей.
В общем, когда заканчивался день и мы наскоро поужинав, заваливались спать, то не испытывали никаких неудобств от того, что ложились на шинель, укрывались шинелью, а, вместо подушки, подкладывали под голову «сидор», так назывался вещевой мешок.
Я не помню, чтобы тогда снились какие-нибудь сны.
Так пролетали день за днем. Однажды нам объявили, что нашей дивизии предстоят большие двухсторонние учебные бои с соседней дивизией. А после этих учений нам обещали трехдневный отдых.
Вскоре такие учения действительно начались и продолжались около трех суток. Учения сопровождались рытьем окопов полного профиля, отражением атак, контратаками, марш-броском для обхода «противника», прорывом его обороны с форсированием реки, и преследованием его.
Во время этих учений я, и не только я, научился спать на ходу. Ты спишь, а ноги идут. И не просто идут, а несут тебя с полной боевой выкладкой. Позже на фронте такое повторялось неоднократно. Закончились учения вечером в районе одного из Сталиногорска, а наше расположение было в другом и нам пришлось совершить еще один марш.
Как мы пришли в свое расположение, как ужинали, как укладывались спать, я ничего не помню. Зато помню наше удивление, когда мы начали просыпаться самостоятельно. Никто не объявлял подъем. Просыпались мы уже в обед и вместе с обедом получили завтрак. После такого усиленного питания нас снова потянуло на сон. Уговаривать никого не пришлось. На следующее утро, вместо обещанного отдыха, нас подняли по тревоге, накормили завтраком, построили, и мы двинулись, как нам объявили, на посадку. На какую посадку, куда нас повезут, никто не знал и нам не объяснял. Я не помню точных дат, но происходило это уже в начале июля 1942 года
Привели нас в район, какой-то станции, где нас ждали уже привычные товарные вагоны. Новым в эшелоне было то, что на всех открытых площадках вагонов и на тендере паровоза были установлены станковые пулеметы, приспособленные под зенитные.
Погрузились мы быстро, но потом довольно долго стояли. Тронулись когда начало темнеть. Это почему-то запомнилось. Понимали, что едем на фронт, но все гадали на какой именно. Когда мы приехали в Елец, то решили, что нас везут в Воронеж, где в то время шли тяжелые бои.
На какой-то станции после Ельца, нас бомбили и обстреливали немецкие самолеты. Были убитые и раненые, но мы видели и два сбитых немецких самолета. В эшелоне при бомбежке было разбито два вагона. Всех, оставшихся там, в живых, рассадили в порядке уплотнения по другим вагонам, но разбитые так и остались в эшелоне.
Приехав на станцию Борисоглебск, мы поняли, что едем не в Воронеж, а куда-то на юг.
На станцию Поворино, где стоял наш эшелон, был совершен сильный воздушный налет. Станция, многие вагоны и строения горели. К нашему эшелону срочно прицепили паровоз и вывезли со станции. Уже на перегоне немецкие летчики обстреляли наш эшелон из пулеметов. Все бомбы, видимо, уже потратили на других.
Утром следующего дня эшелон остановился в чистом поле, и началась разгрузка. Потом мы узнали, что недалеко от места разгрузки был город Калач-на-Дону.
Сразу после выгрузки, несколько часов марша - и полк занял рубеж обороны на левом берегу Дона. Около суток окапывались и еще сутки просидели в окопах в ожидании противника. За это время нас несколько раз бомбили.
Вдруг поздно вечером нас поднимают, делаем марш-бросок вдоль Дона и на одном из участков переправляемся на моторных паромах на правый берег. Я такие моторные паромы увидел впервые. Это настоящие корабли. Говорили, что это были английские паромы.
На правом берегу снова ускоренный марш и уже в полной темноте форсируем вброд реку Чир. После нескольких часов марша нас остановили и приказали срочно окапываться, потому что, как нам сказали, в ближайшее время ожидается наступление немцев на этом участке.
Нам объяснили, что мы заняли рубеж на танкоопасном направлении, поэтому надо было копать окопы в полный профиль.
Копали весь день и всю ночь. Земля - ссохшаяся глина с вкраплениями мелких камней. Немцев ожидали с минуты на минуту, поэтому подгонять нас было не надо. Все хотели успеть, живыми зарыться в землю. Копали индивидуальные окопы. Нам сказали, что траншеи будем делать позже. Мы с Сашей, как и другие ПТРовцы, копали окоп на двоих. Копали и красноармейцы, и командиры.
Это был адский каторжный труд, когда ударом со всего размаха саперной лопаткой удавалось отбить кусочек земли размером меньше спичечного коробка. Это был такой труд, от которого, казалось можно умереть так же как от бомбы, снаряда или пули.
В каком месте был наш рубеж обороны, мы конечно не знали. Единственным ориентиром для нас была река Чир, которую мы перешли вброд несколько часов назад и хутор или станица Суворовская, где у нас был последний привал.
Утром, когда мы еле живые заканчивали обустройство бруствера, появился немецкий самолет-разведчик. Так называемая «рама».
Покружив над нами «рама» улетела, а через некоторое время на смену «раме» появились «Юнкерсы» и начали интенсивную бомбежку наших позиций. Но теперь, сидя целиком в земле, мы чувствовали себя более уверенно. Отбомбившись и постреляв из пулеметов, «Юнкерсы» улетели. Наступило тревожное затишье. Не успели мы порадоваться затишью, как начался артиллерийско-минометный обстрел наших позиций. Снаряды и мины рвались впереди и позади наших окопов. Но, к счастью, ни один из них не попал в окопы, по крайней мере, в нашей роте. Мы сидели и не высовывались. Потом огонь был перенесен в глубину нашей обороны, и раздались свистки командиров рот и взводов, обозначавшие команду «К бою». Мы поставили свое ружье на бруствер, зарядили его и стали внимательно смотреть вперед.
Вскоре появилось несколько немецких танков, а за ними немецкая пехота. Начался наш винтовочный и пулеметный огонь. Танки были далеко. В ходе боя, я увидел, что из складок местности справа от меня вынырнул и движется на соседнюю роту танк, подставив мне свой бок. Мы с Сашей начали по нему стрелять, и после нескольких выстрелов он вдруг задымился. Потом остановился и начал гореть по-настоящему.
Конечно, стреляли по этому танку многие, но я, естественно решил, что он загорелся от моих выстрелов и обрадованно наблюдал, как он горит. Мою радость прервал Саша, толкнув меня с криком - «Смотри».
Я обернулся и увидел, что откуда-то вынырнул и прямо на нас идет другой танк в метрах 30-40. Я успел выстрелить ему в лоб и с криком «ложись», сдернул на себя ружье и свалился с ним в окоп. Саша упал рядом. Танк наехал на наш окоп, видимо немного повернул, и нас в окопе полностью засыпало. Некоторое время я дышал, потом потерял сознание.
Как мне потом рассказывали, нас откопали минут через 20-30, после того, как отбили атаку немцев. Меня откопали в бессознательном состоянии, но живым. Саша, к сожалению, задохнулся.
Меня, наверно спасло то, что когда я падал в окоп, держа в руках ружье, оно упало на меня так, что щечка оказалась над головой, что, видимо, образовало некую пустоту с воздухом.
Меня привел в чувство санитар, давая мне нюхать, видимо, нашатырь.
Когда я пришел в себя, мне рассказали, что атака немцев была отбита, танк, который завалил наш окоп, ушел в наш тыл, подбитый танк продолжал гореть, а остальные танки и пехота ушли обратно.
Командир роты похвалил меня за подбитый танк и сказал, что нас с Сашей представили к награде. К сожалению, я не запомнил дату этого дня, но считаю его днем своего второго рождения
Часа три я отлеживался в соседнем окопе. Почти полностью отошел и чувствовал себя почти нормально. Потом мне дали другого напарника, и мы начали восстанавливать наш окоп. Немцы в этот день нас больше не беспокоили, к вечеру окоп был готов, и мы устроились на ночлег.
Командир дивизии, генерал-майор Бирюков Николай Иванович так описывает этот бой в своей книге «На огненных рубежах»:
«Около часа длилась вражеская артиллерийская и авиационная подготовка. Противник перенес огонь в глубину нашей обороны, сосредоточив его по вторым эшелонам. Пехотного огня, этого показателя живучести обороны, почти не стало слышно. Вслед за переносом огня противник предпринял атаку нашего переднего края танками и пехотой. На правом фланге, у Горбачева. Это критический момент.
Все внимание - участку 788 полка!
Вдруг на переднем крае против хутора Пещерского я увидел немецкий танк. «Неужели прорвались?» - пронеслось у меня в голове. Мне стало жарко. Но вот на танке врага что-то блеснуло, пламя охватило его, и густое облако черного дыма поднялось к небу. Какой-то смельчак поджег танк, бросив в него бутылку с горючей смесью».
Я когда это прочел, подумал, что это был тот самый танк, который завалил нас и почувствовал удовлетворительное злорадство. Но это было уже потом. Книгу я читал уже в Риге.
Утром обнаружилось, что исчез наш командир отделения, некто Михаилов. Уж не знаю почему, но мне запомнилась не только его фамилия, но и достаточно неприятная физиономия. Кто-то сказал, что он вроде пошел по естественным надобностям и не вернулся.
Потом я слышал разговоры, что он перебежал к немцам. Вечером у нас появился капитан, который расспрашивал про Михайлова
Через некоторое время меня вызвал командир роты и объявил, что меня назначают командиром отделения, и приказал мне на петлицах белыми нитками вышить по два треугольника. Вместо меня первым номером назначили другого. В этот день мы отбили еще одну атаку немцев, но без танков.
Днем стояла изнуряющая жара и нас мучила жажда. Кто-то сказал, что где-то километрах в двух позади наших позиций должно быть озеро. При содействии командира взвода, мы выпросили у батальонных связистов шест, повесили на него штук семь-восемь касок и пошли вдвоем на разведку за водой. Озеро мы вскоре нашли, с удовольствием напились досыта и искупались. К своим окопам мы вернулись, когда уже почти стемнело. Окопы оказались пустыми. Мы прошлись вдоль окопов и обнаружили пулеметчиков, которые сказали нам, где сосредотачиваются полки дивизии, а им приказано прикрывать отход до рассвета. Вскоре мы нашли своих. Нам объяснили, что у соседей немцы прорвали оборону, поэтому мы отходим, чтобы не попасть в окружение. Воде, конечно, хозяева касок очень обрадовались, и вскоре мы тронулись. К рассвету вышли к Дону, на берегу которого уже были немцы. Меня охватил страх. В моей анкете только и не хватало, что был в окружении. Больше всего я испугался плена. Для меня это была бы верная смерть. Передовые батальоны полка развернулись в цепь и схода атаковали немцев, которые не успели даже окопаться. Немцев оказалось не очень много, и их быстро разбили. Многие подняли руки и сдались. Это были первые пленные нашей дивизии, которых я увидел своими глазами. Справа виднелось, какое-то большое селение. Потом выяснилось, что это была станица Нижне-Чирская.
Когда началась переправа через Дон, то некоторых перевозили на лодках с оружием, но большинство пыталось переплавляться с помощью подручных средств и вплавь. Меня подозвал командир роты, дал мне лодку, трех красноармейцев и велел со своим отделением собирать на берегу все брошенное оружие и переправлять его на ту сторону Дона. В первую очередь велел собирать станковые и ручные пулеметы, ПТР, немногочисленные автоматы ППД и ППШ и другое оружие. У нас было много людей не умеющих плавать, и многие бросились к станице искать подручные средства, а умеющие плавать поплыли на левый берег. Стояла страшная жара, поэтому я и мои товарищи разделись до кальсон. Свое оружие, «сидоры» и скатки шинелей, мы отправили с первым рейсом нашей лодки.
Я не помню точных цифр, но наша лодка, которой управляли братья Перчаткины, это один расчет нашего отделения, сделала четыре-пять рейсов, когда с высокого берега раздались выстрелы. Лодка была по пути на тот берег. Обернувшись, мы увидели стреляющих в нас немцев и кинулись в воду. Доплыли до левого берега не все. Меня прибило к вертикальному берегу, высотой метра два с гаком. Передохнув, я сделал попытку по корням подняться наверх, но тут раздались выстрелы и пули просвистели рядом. Я оставил попытки и решил дождаться темноты. Когда стемнело, я сместился ниже по течению и, к счастью, обнаружил спуск к реке.
Взобравшись на берег, я пошел в глубь леса. Не прошел и полсотни метров, как меня окликнули. Оказалось, что я наткнулся на оборонительную позицию какой-то части. Меня отвели к командиру, который допросил меня, объяснил, куда мне идти на сборный пункт и велел старшине выдать мне какую-нибудь одежду.
Старшина выдал мне рваную гимнастерку, а вместо шаровар выдал конскую попону. Я натянул гимнастерку, снял мокрые кальсоны, обмотал вокруг себя как юбку попону и отправился, как мне представилось, на посмешище к сборному пункту. До сборного пункта оказалось километра три. Там мне дали одеяло и поместили в палатку. Утром оказалось, что там стояло около двадцати палаток и многие одеты не лучше меня.
Нам сказали, что обмундирование нам выдадут в своих частях.
В разных местах были установлены щиты с номерами дивизий. Я нашел свою 214 дивизию и подошел. Там стоял капитан, и сортировал нас по полкам. Из нашего полка набралось человек 50-60. Был назначен старший, который повел нас в свой полк.
Дивизия располагалась в обороне примерно в том месте, где происходила переправа. Когда я добрался до своей роты, то выяснилось, что у нас новый командир взвода, а прежний утонул.
Командир роты сообщил, что за сбор оружия мне и всему отделению объявлена благодарность приказом командира полка.
Из отделения целиком сохранился только расчет братьев Перчаткиных, Васи и Миши, которые возили собранное оружие на лодке. Они сохранили мою шинель и «сидор». Старшина выдал мне хотя и не новые, но вполне приличные шаровары и гимнастерку. О том, что в кармане гимнастерки, доставшейся немцам, остались моя красноармейская книжка и комсомольский билет, я никому не сказал. Да этим никто и не интересовался.
Наши ПТР и карабины тоже сохранились. Располагалась наша рота, да и весь полк в хорошо вырытых и укрепленных траншеях с оборудованными огневыми точками.
Мне рассказали, что все это сооружали саперы. Пока мы сидели в этой обороне, нашлись практичные ребята, которые на расположенном невдалеке пшеничном поле собирали спелые или почти спелые пшеничные зерна. Потом мы эти зерна долбили в касках, в основном рукоятками саперных лопаток, заливали водой и варили в котелках пшеничный суп или кашу, в зависимости от густоты. Это мы называли доппайком. Кроме этого доппайка, мы получили и пополнение людьми.
Через два-три дня нас сменила морская бригада, бойцы которой были одеты и в морскую и в обычную пехотную форму.
А мы к вечеру того же дня, совершив форсированный марш, начали оборудовать новую оборонительную позицию, на этот раз на бахче с арбузами. Копать здесь было значительно легче, так как верхний слой был вообще черноземный, а слой ниже, хоть и твердый, но без камней. Только мы успели зарыться в землю, как начался артналет. А потом появились немцы и атаковали нас. Правда, без танков. Помню разговоры, что это была разведка боем.
Потом сложилась странная обстановка. Наши позиции и наши вторые эшелоны подвергались постоянному артиллерийскому и минометному обстрелу и днем и ночью. Но это не была артподготовка. Стрельба велась одиночными выстрелами, и снаряды и мины разрывались то в одном, то в другом месте. Правда была одна закономерность. Обстреливались или наша передовая, или глубина нашей обороны. Мы, пользуясь этой закономерностью, вылезали из окопов для сбора арбузов или по естественным надобностям тогда, когда огонь переносился в глубину нашей обороны. Самое неприятное в этой обстановке было то, что совершенно прекратился подвоз продовольствия. Не доставляли ни горячего обеда в термосах, ни сухого пайка. В течение почти целой недели питались мы одними арбузами.
Арбузы собирали сначала сзади, а когда там все выбрали, стали лазать на нейтралку. Делали это так. Собирали арбузы, ползая по бахче по-пластунски (наука все же пригодилась). Складывали их на плащ-палатке. Потом, не поднимая головы, связывали углы плащ-палатки лямками из обмоток и за эти лямки, опять таки по-пластунски, тащили к себе в окопы. Делали это по очереди по ночам и на рассвете, когда солнце в глаза немцам. Нам казалось, что так они хуже видят. Кстати, немцы тоже лазили за арбузами на нейтралку, но вечером при закате. Жара стояла днем страшная, и арбузы служили нам и пищей и водой.
Когда, наконец, привезли и выдали паек, то это оказались хлеб и селедка. Нашему возмущению не было предела. Кормить нас селедкой на такой жаре, при фактическом отсутствии воды, нам казалось вредительством. Назревал настоящий бунт.
К вечеру в окопах появились какие-то медики, которые разъяснили нам, что длительное пребывание на изнурительной жаре резко обессоливает и ослабляет организм. И поэтому селедка в этой ситуации необходима и полезна. Для меня, да и для многих других, это было очередным жизненным открытием, и гнев куда-то ушел. Тем более, что ночью нам доставили американскую тушенку, которую все называли вторым фронтом. Нам выдали ее по банке на двоих, и хватило нам ее всего на несколько минут. Вкус ее я помню до сих пор, и таких вкусных консервов мне с тех пор не попадалось. Возможно мне это теперь только кажется, после той голодухи.
Что же касается арбузов, то потом, еще несколько лет после войны, я не мог не только есть, но даже смотреть на них.
С этих позиций мы снова однажды ночью срочно, форсированным маршем ушли из-за угрозы окружения, так как немцы прорвали оборону где-то у соседей. От красноармейцев, особенно от тех, кто воевал в начале войны, я слышал одобрительные разговоры в адрес командира дивизии, который вот уже второй раз не допустил окружения дивизии.
Однажды во время привала в одной из станиц налетела «рама» и начала кружить над станицей. По ней начали стрелять из винтовок.
Я тоже схватил ружье, установил его на плетень и с помощью Васи Перчаткина начал стрелять по этой «раме» и она задымила, перестала кружить, и стала улетать в сторону, и вдруг на ней произошел взрыв, и она рухнула на землю. Нашей радости не было предела. Конечно, по ней стреляли многие, но мы решили, что это мы ее сбили. Нас поддержал находившийся рядом командир нашей роты. Он заявил, что представит нас к наградам. Это было уже второе представление, и у меня приятно защекотало под сердцем. Я подумал, что с моей анкетой боевые награды будут очень полезны.
Потом были еще бои, Мы отбивали атаки, ходили в контратаки, в которых наша роль бронебойщиков была второстепенной, на случай внезапного появления танков. Во время атак и контратак, мы всегда шли за цепью.
Я не могу назвать дату, но хорошо помню, что после того, как была отбита атака немцев и нас в очередной раз сменила другая часть, во время привала на марше, нам зачитали приказ Сталина. Я, конечно, всего содержания не запомнил, но в памяти четко отложились слова о создании штрафных батальонов и расстрелах на месте паникеров и трусов. Официально или неофициально, но у нас этот приказ называли «ни шагу назад».
Все бои не запомнишь. Во многом они похожи один на другой.
Атаковали и занимали какие-то хутора и поселки. Потом оставляли их. И очень много совершали маршей. Во время дневных маршей, под палящим солнцем особенно запомнилось жгучее желание освободиться от скатки шинели. Некоторые, особенно во время первых таких маршей, не выдерживали, скатку выбрасывали, а потом, ночью замерзали, так как ночи были непривычно очень холодные.
Один такой марш мне запомнился особо. Как это уже не раз бывало, однажды под вечер мы оторвались от немцев и диулись форсированным маршем на другой участок фронта. Шли по дороге вдоль овсяного поля. Поздно вечером, когда уже практически почти стемнело, раздался привычный гул авиационных моторов. Разумеется, немецких самолетов. Своих самолетов под Сталинградом лично я не видел. Раздался привычный сигнал: «Воздух». Колонна разбежалась по обе стороны дороги, и все залегли в посевах. В небе появились немецкие самолеты. И не просто появились. Первые самолеты уже были далеко, почти у горизонта, а конца их не было видно. Их было столько, что они закрыли луну, и стало почти совсем темно. Такого количества самолетов я никогда не видел.
Не успели скрыться за горизонтом последние самолеты. Не успели мы собраться в колонну, как послышались отдаленные взрывы, которые превратились в сплошной гул и грохот. Тогда мы мало что соображали. Просто радовались, что на этот раз нас не тронули, что обошлось и без обычных в таких случаях потерь, и не малых.
В каком районе, и какого числа августа месяца это было, я, конечно, тогда не знал. Правда, теперь я знаю, что это было 23 августа и в этот день Сталинград был, подвергнут варварской бомбардировке и почти полностью разрушен
В нашем отделении мы с самого начала приняли такой порядок. Я взял на себя носить две сумки с патронами (по одной от каждого расчета) и свой карабин, (потом я достал себе ППШ), а расчеты носили свои ружья и по одной патронной сумке. Я на собственном опыте решил, что это наиболее справедливый вариант. Кроме этого я, как командир отделения, воспользовался опытом и наукой, которые мне преподнес мой первый старшина еще в Уфе и научил всех правильно наматывать портянки и обмотки. В результате, в нашем отделении не было натертых в кровь ног и бесконечных переобуваний на привалах, вместо отдыха. Не было и отставания от колонны.
Всего я не помню. Но хорошо помню, что во время этих переходов и ночевок в станицах меня угощали кониной, которая, как ни странно, мне понравилась. Во время одной ночевки хозяйка угостила нас сырыми яйцами.
До войны я не только не ел сырых яиц, я не мог есть даже глазунью, а ел только хорошо зажаренный омлет и крутые яйца. А тут не только выпил одно сырое яйцо, но и залил в себя еще два. Научился я есть и помидоры, на которые до войны и смотреть не мог.
Названий населенных пунктов, в районе которых мы вели бои и через которые проходили маршем и ночевали, я не помню.
Помню, что во время одного такого марша, мы проходили через станцию и совхоз Котлубань. Потом прямо с марша нас развернули в цепь, и повели в атаку на станицу Паншино. Мы, бронебойщики, шли метрах в ста позади цепи. Впереди на окраине станицы виднелась мельница. Когда до этой мельницы оставалось метров триста, оттуда раздались выстрелы и упали раненые братья Перчаткины. Я быстро опустился на колени, положил свой ППШ на землю и начал, наклонившись сдвигать патронные сумки с живота назад, чтобы лечь на землю и в этот момент почувствовал сильный удар по спине, от которого я упал на землю. Первая мысль была, что меня по спине ударили лопатой.
В это время прекратился огонь нашей артиллерии по переднему краю, и немцы открыли сильный пулеметный и винтовочный огонь. Цепи залегли. Мы тоже не могли поднять головы и начать делать перевязки. В это время наши снова открыли сильный артиллерийский огонь по окраине станицы и, видимо, подавили огонь немцев. Цепь поднялась и пошла вперед. Через некоторое время к нам пробрались два санитара, перетащили нас в какой-то окопчик, сделали перевязки и посоветовали до темноты пересидеть здесь.
Миша Перчаткин был ранен в правую ногу выше колена, а его брат Вася в правую руку ниже локтя. Когда стемнело, мы начали пробираться в свой тыл, нашли медсанбат своей 214 дивизии. Там нам промыли раны, и сделали капитальные повязки. Меня всего замотали бинтами и вокруг туловища и через левое плечо, а левую руку, которой я не мог даже пошевелить, повесили в согнутом состоянии на перевязь. Васе Перчаткину правую руку тоже повесили на перевязь. Всем нам сделали уколы от столбняка, которые оказались довольно болезненными. Нам выдали продуктовые аттестаты, сухой паек на сутки, Мише дали какой-то поломанный костыль и велели всем двигаться в сторону города Камышин самостоятельно.
Как нам сказали, до этого Камышина было около ста пятидесяти километров. Мы поахали, поохали и двинулись в путь.
Транспорта никакого все равно не было.
Через некоторое время к нам присоединились еще четверо раненных красноармейцев из разных полков нашей дивизии. Их тоже направили в Камышин. Идти нам надо было на северо-восток, но компаса не было, и нам пришлось ориентироваться на глазок. Поскольку я был в этой группе единственным сержантом, то решили меня назначить старшим группы и двигаться совместно.
Во время этого путешествия с нами происходили разные памятные происшествия. Мы шли по дороге, которая вела к хутору, и решили, сократив дорогу, пойти прямо через неубранное пшеничное поле. Однако, выйдя из пшеницы, мы наткнулись на овраг, шириной метров пять, почти полностью заполненный трупами наших и немецких солдат. В стороны этому оврагу не было видно конца, и мы решили перебираться прямо по трупам, придерживая друг друга. Труднее всех пришлось Мише Перчаткину, хотя мы ему помогали, как могли. Старались наступать только на немцев, что не всегда удавалось. Что я тогда пережил, да и, наверно, не только я, никакому описанию не поддается. Когда мы добрались до хутора и устроились на ночлег, все мы долго не могли уснуть, несмотря на усталость до изнеможения.
Утром следующего дня, когда мы шли в чистом поле мимо нас пролетели три «Юнкерса». Потом один из них развернулся и начал пикировать на нас. Мы бросились, с возможной в нашем положении скоростью, ложиться на землю в придорожный кювет. «Юнкерс» сбросил на нас две бомбы и улетел. Бомбы взорвались на дороге, осколки просвистели у нас над головами, но, к счастью, никого не задело. На дороге осталось две солидные воронки.
Во второй половине дня мы, к своей радости, наткнулись на какой-то медсанбат. Я нашел старшую сестру и сказал ей, что мы, группа раненых из семи человек, хотим получить сухой паек. Когда она узнала, что мы идем уже двое суток, она сказала, что на такой жаре нужно срочно сделать перевязки, иначе заведутся черви. Нам велели подождать, когда нас вызовут. Мы уселись на землю недалеко от палатки. Через некоторое время нас вызвали в палатку и, несмотря на наши возражения, начали снова делать уколы от столбняка. Оказалось, что в наших аттестатах не были сделаны отметки об уже сделанных прививках. Но все наши аргументы пресекались простым методом: без прививок не получите паек. Потом снова велели подождать, когда освободится сестра, которая делает перевязки. Ждать пришлось недолго. Буквально минут через пять прилетели "Юнкерсы" и начали бомбить хутор и рядом с ним расположенный медсанбат. Недалеко от нас оказалась щель в которую мы все забрались и там пересидели налет. Когда мы вылезли из щели, увидели страшную картину. Все палатки горели, кругом валялись трупы и много раненных, как солдат, так и медиков. Все живые разбежались, и никого не было видно. Мы немного покрутились и решили, не теряя времени, идти дальше.
На следующее утро нас остановил заградотряд. Они заставили нас снять повязки и показать свои ранения. На наше возмущение лейтенант объяснил, что попадается не так уж мало дезертиров, с намотанными бинтами. Снять бинты было не трудно, а вот снова забинтовать оказалось не так просто. Тем более что почти у всех действительно появились черви. Кое-как, намотав, друг другу бинты на раны, мы двинулись дальше.
Через некоторое время мы снова наткнулись на палаточный госпиталь. Все повторилось. Первым делом нам сделали уже третий раз уколы против столбняка и велели ждать перевязки. Через некоторое время в госпитале поднялась паника. Был отдан приказ о срочной эвакуации, так как немецкие танки прорвали оборону и двигаются в нашу сторону. По двое носилок с тяжело ранеными устанавливали вдоль повозок, а на высокие борта повозок поперек устанавливали еще по-несколько носилок. Я такое увидел впервые, потому, видимо, и запомнил. Но нам было не до этого, и мы с возможно ускоренным шагом двинулись восвояси.
В этот день нам немного повезло. Ехал какой-то обоз из лошадей и верблюдов, нас посадили в телеги одвезли километров тридцать. И не только подвезли, но и немного покормили хлебом и доли по кусочку сала. Потом, это было уже ночью, почти в полной темноте, на каком-то перекрестке сказали, что нам надо идти направо, а сами поехали прямо.
Пройдя несколько километров, мы наткнулись на хутор, где хозяйка накормила нас картошкой в мундире, настелила нам в кухне сена, и мы немного поспали. Утром, попив кипятка и получив в подарок по початку вареной кукурузы, мы двинулись дальше.
Я уж точно не помню в этот или на следующий день мы к вечеру добрались до госпиталя в Камышине. Нас сразу развели по разным кабинетам. С нас сняли бинты, осмотрели раны и велели садиться. Сначала сделали перевязки братьям и увели их. Потом меня посадили на табуретку, две сестры взяли меня за руки и за ноги, обхватили рукой голову и сказали, что будет немного больно и надо потерпеть. Почти сразу меня до основания пронзила страшная боль. Я сжал зубы, немного застонал. Это повторилось несколько раз. У меня помутилось в голове, но сознания не потерял. Потом начали делать перевязку, но боль не проходила, хотя стала немного легче. Я продолжал сидеть со сжатыми зубами и глазами. Меня погладили по голове и ласково сказали: - Ну, все твои муки закончились, открывай глаза. Я открыл глаза и первое, что увидел - это огромный, как мне показалось, шприц. Что было дальше, ничего не помню.
Очнулся я на кровати, на белой простыне и подушке, тоже в белой наволочке и накрытый тоже белой простыней. Рядом сидела сестра. Она сказала, что все они были удивлены тем, что я вытерпел такую боль при операции, а от одного вида шприца потерял сознание. Я ей в свое оправдание рассказал, что всем нам перед этим уже сделали по три укола от столбняка. Она в ответ только усмехнулась.
Когда я окончательно пришел в себя, меня повели в баню. Две сестры, не обращая внимания на мои протесты, раздели меня догола и начали мягкими мочалками намыливать и отмывать все свободные от бинтов места тела. Такого блаженства я давно не испытывал. Ведь я не был в бане с конца мая, еще в Сталиногорске. А шел сентябрь. Потом мне рассказали, что когда врачи осмотрели мою рану, то обнаружили, что она начала загнивать, и в ней было полно червей. Поэтому требовалось срочно обрезать рваные края раны и тщательно прочистить ее. Врачи и сестры знали, что это очень болезненная процедура. Они обшарили все закоулки, но не нашли ни капли обезболивающих средств. Но ждать до утра, когда должны были подвезти медикаменты, было нельзя.
Вот так закончилась для меня Сталинградская битва. Я уже писал, что не знаю всех мест, где мне пришлось участвовать в боях и совершать бесконечные марши. Но мне это было интересно узнать.
Летом 1973 года я, наконец, собрался и мы с женой и дочкой поехали в Волгоград. Главной моей целью было побывать в станице Паншино и попытаться найти, хотя бы приблизительно место, где был ранен. Станицу Паншино я нашел, но мельницы, которая была на окраине станицы, не оказалось. Я начал расспрашивать местных жителей, но мне все время попадались такие, которые живут там уже после войны и мельницу на окраине не помнят. Потом все же нашел одну пожилую женщину, которая живет здесь с довоенных времен. Так вот она мне сказала, что мельница как стояла, так и стоит, только теперь это не окраина, а почти центр станицы, да и мельница теперь служит складом.
А вот музей Сталинградской битвы в Волгограде оказался на ремонте и был закрыт. Люди посоветовали мне записать адрес и месяца через два, когда закончится ремонт, написать запрос со своими вопросами. Я так и сделал. В ответ получил письмо, которое я сохранил и привожу здесь.
Уважаемый Владимир Маркович!
По Вашей просьбе сообщаем.
214 стр. дивизия генерал-майора Бирюкова Н.И., войдя в состав 64 армии, к 17 июля 1942 г. заняла оборону на рубеже Н-Солоновский-Пристановский. В последующем она передавалась различным объединениям. Вела бои к районе Н-Чирской, у ст. Пундутово, Воропоново-Садовой, Верхней и Нижней Елощанки, Бекетовки, Кирпичного завода.
Подробные сведения о боевых действиях 214 дивизии Вы найдете в книге Н.Бирюкова «200 дней в боях», Волгоградское кн. Изд-во, 1963 г.
С уважением
Ст. научный сотрудник Виноградова Н.Г.
Я кинулся искать книгу, но ни в одной библиотеке Риги ее не оказалось. Нашел я ее в хранилище Фундаментальной Государственной библиотеки в г. Огре. Но там мне дали ее только подержать. На руки, чтобы я мог ее скопировать, дать отказались категорически.
Помогли мне в горкоме партии. Оттуда позвонили директору этой библиотеки и попросили под залог выдать мне книгу на неделю. Когда все это оформлялось, обнаружилась еще одна книга генерала Н.И.Бирюкова. Это была переработанная первая книга под названием «На огненных рубежах». Мне дали под залог часов и паспорта обе.
Начальник 1 отдела завода, дал мне разрешение скопировать эти книжки на заводском ротаторе. А один мой сосед по гаражу, Раймонд Руя, работник типографии, переплел книгу «На огненных рубежах» и сделал красивые корочки.
В письме из музея «Сталинградская битва» почему-то не упоминается район Вертячий и Паншино, а в книге командира дивизии Н.И.Бирюкова они есть. Району Паншино уделено более 12 страниц.
Я не буду цитировать эту книгу, но одну выдержку хочу привести. Это о первом бое, когда нас с Сашей завалило в окопе.
Итак, цитата из книги командира нашей дивизии:
«Меня беспокоил 788 полк. (Это мой полк - В.Н.) Его направление - самое открытое, и вражеские танки, скорее всего, ринутся именно туда. И вот в разгар артподготовки звонит Горбачев (это командир нашего 788 полка - В.Н.):
- Вижу танки. Идут на сближение за своими разрывами.
- Спокойно, Горбачев, спокойно, еще ничего не случилось, а сам быстро хватаю другую трубку:
- Прозоров, смотри за Горбачевым. Подготовь перед ним отсечной огонь, немедленно выдвини подвижной противотанковый резерв на участок Горбачева! Действуй Петр Григорьевич!
Около часа длилась вражеская артиллерийская и авиационная подготовка. Противник перенес огонь в глубину нашей обороны, сосредоточив его по вторым эшелонам. Пехотного огня, этого показателя живучести обороны, почти не стало слышно. Вслед за переносом огня противник предпринял атаку нашего переднего края танками и пехотой. На правом фланге, у Горбачева! Это критический момент. Все внимание - участку 788-го стрелкового полка!
Вдруг на переднем крае против хутора Пещерского я увидел фашистский танк. «Неужели прорвались?» - пронеслось в моей голове. Мне стало жарко. Но вот на танке врага, что-то блеснуло, пламя охватило его, и густое облако черного дыма поднялось к небу. Какой то смельчак поджег танк, бросив в него бутылку с горючей смесью».
Вот так виделся этот бой с командного пункта дивизии.
Я, конечно, не знаю доподлинно, но хочется думать, что это был подожжен тот самый танк, который раздавил наш окоп. Если это так, то мы отомщены.
Вернусь к своему ранению. Хотя я был ходячим, малейшее движение левой рукой вызывало сильнейшую боль в левой лопатке. Меня причислили к тяжело раненным и через два дня вместе с другими тяжело раненными переправили на пароме, теперь привычном, обычном пароме, который тянул катер, на другую сторону Волги. Там было большое село Николаевка, теперь это город и называется Николаевск. Там нас погрузили на грузовые машины и привезли в большое село Иловатка, в котором был настоящий стационарный госпиталь. Это примерно 80-100 км вверх по Волге от Николаевска.
Это село было расположено на территории бывшей республики немцев Поволжья. Почти все немцы были оттуда депортированы. Но несколько девушек немок работали там сестрами и нянями. Они ничем не отличались от русских девушек и даже почти не знали немецкого языка, хотя учили его как и мы, в школе. У них, как и у всех нас, не было разговорной практики.
В госпитале было регулярное трехразовое питание. Хлеба, правда, давали меньше, чем на фронте. Я уже точно не помню, но, кажется, по 600 грамм. На завтрак, как, правило, была тушеная капуста и изредка, пшенная каша. В обед на первое почти всегда давали щи из капусты. Иногда там попадались небольшие кусочки нечищеной картошки, и еще реже в этих щах попадались маленькие капли масла. На второе, как правило, была тушеная капуста, или пшенная каша. Но зато на третье всегда был кисель, а иногда даже компот. Правда, многие больные, как нас называли, это третье передвигали на первое.
Когда я пошел прогуляться по окрестностям госпиталя, то обнаружил огороды, да не огороды, а целые поля с помидорами, огурцами, луком, горохом и другим богатством. Среди этого изобилия бродили несколько человек ходячих, которых в госпитале было мало, и набивали карманы госпитальных халатов всем этим богатством. Никто этому не препятствовал. Почему всем этим нас не кормили официально, можно только предполагать, что некому было все это собирать.
Я это дело сразу решил усовершенствовать. У моего халата правый рукав использовался по назначению, в него была всунута моя правая рука, а левый рукав висел без дела, так как левая рука была на перевязи, и халат набрасывался на левое плечо.
Моим соседом был пожилой, по моим понятиям, человек с ампутированной ногой. Вторая нога у него тоже была ранена, и он был лежачим. Как и большинство в госпитале. Но руки у него работали.
Я нашел кусочек шпагата, и попросил соседа прочно завязать в самом низу левый рукав, и получилась емкость значительно больше, чем два кармана халата.
Я ходил на эти поля, правой рукой срывал плоды и опускал их в свой левый рукав. Заполнял его почти до верху и нес в палату.
Конечно, во время этой операции сильно болела рана, но ради такой богатой добычи стоило и потерпеть. У моего соседа был нож.
Он нарезал все это богатство в котелок, и это был, как мы его называли, наш доппаек на завтрак, обед и ужин. Единственно чего не хватало, так это соли. Иногда удавалось немного выпросить на кухне, и тогда у нас был настоящий праздник. Угощали мы этим доппайком и наших лежачих соседей.
Короче говоря, если на фронте хотелось поесть досыта и поспать вволю, то здесь, в госпитале с этим был полный порядок. Острого голода мы не испытывали, а спали сколько душе угодно, да еще на кроватях, застеленных настоящим постельным бельем. Единственное чего мне не хватало, так это ложки. Я свою, где-то потерял, пока мы шли в госпиталь, и теперь, когда разносили хлеб, всегда выпрашивал горбушку. Выедал из нее мякоть, и тогда коркой горбушки можно было черпать суп. Я старался сохранить эту горбушку до получения новой.
Хуже обстояло дело с лечением. Мне через день делали перевязку. Я даже запомнил, что мне накладывали повязку, смоченную реванолем, но рана почему-то заживала плохо. Кроме того, моя левая рука совсем не двигалась.
Мне назначили лечебную физкультуру. На блок повесили шнурок с гирькой на одном конце. На другом конце сделали петлю, и я за эту петлю должен был нажимать пальцами, пересиливая довольно сильную боль в левой лопатке. Недели через две таких упражнений, рука в кисти начала немного сгибаться. Это давало надежду, что постепенно рука разработается.
Так шло время без особых приключений до конца сентября или начала октября, когда нас всех лежачих и некоторых ходячих, в том числе и меня, погрузили на пароход, и мы поплыли на север. Это плавание, которое продолжалось два или три дня, ничем примечательным мне не запомнилось, кроме больших очередей в туалет (гальюн), который был на пароходе только один. Пароход был грузовой и на пассажиров не рассчитывался. Всех лежачих разместили в трюме на нарах, а ходячие раненые устроились прямо на палубе. Погода нам благоприятствовала. Я не помню ни дождей, ни особого холода.
Приплыли мы в Сызрань. Там нас выгрузили и разместили в очень хорошем госпитале, бывшей специализированной больнице. Всюду был очень красивый непривычный разноцветный кафель. Врачи, которые нас осматривали, и сестры, которые делали перевязки, выглядели очень солидно и казались высококвалифицированными специалистами.
Но наша радость была недолгой. Буквально через два дня нас срочно погрузили в санитарный поезд, и мы покатили. Куда - нам не говорили.
Обстановка в поезде была не из приятных. Всех ходячих разместили на верхних полках. Не знаю как другим, но мне было очень трудно с одной рукой спускаться вниз и подниматься наверх, хотя нам давали стремянки. Всем лежачим перевязки делали прямо на месте, а ходячим надо было ходить в перевязочную, которая размещалась в одном из купе, и туда всегда была большая очередь.
Эта поездка продолжалась больше недели и запомнилась очередями на перевязки и в туалеты. Кроме того, в вагоне стоял сплошной крик лежачих больных с требованием утки или судна. Этот крик часто сопровождался трехэтажным матом. Нянек явно нехватало, и они сбивались с ног. Я спросил у одной из них, почему их так мало, и она ответила, что их всегда хватало, но никогда не было столько лежачих больных.
Ехали мы достаточно быстро. Остановки были редкими. Я помню остановки в Казани, в Свердловске, в Кургане, в Омске, в Новосибирске, где-то еще. Во время всех этих довольно длительных остановок нам говорили, что, возможно, нас здесь разгрузят и разместят в госпиталях. Однако мест нигде не было, нас не принимали, и мы ехали дальше.
Наконец, нас привезли в Бийск. Железная дорога кончилась, начинался знакомый мне Чуйский тракт. Простояли мы на станции Бийска больше половины дня. Я спросил у одной сестры, в чем дело и она с раздражением мне объяснила, что железная дорога кончилась, ехать нельзя, а свободных мест в госпиталях нет, и поэтому нас не принимает ни один госпиталь. Теперь в Бийске освобождают для нас какое - то помещение. Потом выяснилось, что в бывшем доме колхозника, где уже был госпиталь, освобождают от кресел кинозал, где нас и разместят. Ходячие больные добирались до нового госпиталя своим ходом. Лежачих раненых выносили из вагонов на носилках и укладывали на телеги, на которых и возили в госпиталь. Потом с телег укладывали на носилки и носили в кинозал.
Разгружали лежачих больше суток, так как не хватало носилок и телег. Укладывали всех на солому, которую настелили рядами по всему залу. Через пару дней начали появляться матрасные и подушечные мешки, которые набивались той же соломой. Потом постепенно стали появляться деревянные топчаны, а еще позже даже тумбочки. Конечно, весь санитарный поезд разместили не только в этом кинозале, но и в других местах. Но про эти другие места мне ничего не известно.
Постепенно все образовалось, и нас нормально начали лечить. Мне снова назначили тренировку руки гирькой, правда, на этот раз вместо гирьки привязали какую то железку. Что касается самой раны, то мне продолжали накладывать реванолевую повязку. Я попросил своего лечащего врача (звали ее Раиса Мироновна - это имя мне запомнилось), сделать мне вместо бинтов, которыми мне заматывали почти все туловище, лифчик, вроде женского, но застегивающегося впереди. Она меня похвалила и на следующей перевязке мне действительно вместо бинтов на салфетку (кажется, так это называлось) с реванолем, мне примерили, что-то похожее на лифчик с одним, если так можно выразиться, рабочим местом и после подгонки одели на меня.
Через некоторое время появилось новое средство - мазь Вишневского, которую стали мне накладывать на салфетку вместо реваноля, и заживление раны пошло лучше. Одновременно после упорной разработки начала сгибаться левая рука, сначала полностью в кисти, а потом и в локте и даже немного в плече. Я почувствовал, что рука, в конце концов, будет работать и стало легче на душе.
Где - то в начале декабря я прочел в окружной газете, что в городе Ойрот-Туре открывается авиационная школа. Я написал туда письмо по вопросу моего поступления в эту школу. Мне ответили, что занятия начнутся в школе с 3 января 1943 года и, если меня к этому времени выпишут из госпиталя, то меня туда зачислят.
Раиса Мироновна о выписке даже слушать не хотела. Она утверждала, что для моего выздоровления потребуется еще не менее месяца. Я упорно доказывал, что я еду не на фронт, а в училище, где, наверняка, есть санчасть и там мне с таким же успехом, как здесь, будут делать перевязки и разрабатывать руку. В конце концов, она сдалась моим мольбам, и меня выписали, где-то около 27-28 декабря. Я пишу около, так как при выписке в документах не указали дату выписки. Скажу больше. Раиса Мироновна не только организовала мою выписку, но и дала мне потихоньку баночку мази Вишневского, сказав при этом, что мазь эта очень дефицитная, и ее может не оказаться в санчасти училища. Кроме того, она вручила мне небольшое письмо с разными медицинскими терминами на латыни для медсанчасти, где мне будут делать перевязки. Мне она тоже сделала инструктаж как себя вести и сказала, что, если я буду соблюдать ее рекомендации и вести себя осторожно, то для полного выздоровления понадобится не более месяца
Некоторые сложности возникли у меня, когда одевал гимнастерку. Высоко поднять свою левую руку я еще не мог, и мне пришлось левый рукав натягивать на руку снизу. С шинелью я справился легче, а вот с ремнем оказалось сложнее. Но, в конце концов, я оделся и даже намотал обмотки. Правая рука уже привыкла работать за две.
Я просил выписать мне направление прямо в училище, но мне сказали, что они могут выписать мне направление только в военкомат, а военкомат пошлет меня в училище. В этот день из госпиталя выписывалось человек 12-15. Мы все вместе пошли в военкомат. Я шел только внешне, а внутренне я летел, ощущая себя уже в самолете.
Когда мы пришли в военкомат, там было много людей, выписавшихся из других госпиталей. Нас принимал ст. лейтенант, который всех прибывающих рассортировывал. Сортировал он как-то странно, по образованию. С семилеткой и выше в одну сторону, а у кого образование ниже семилетки - в другую.
Когда очередь дошла до меня, я стазу выложил перед ст. лейтенантом письмо из летного училища. Он мне заявил, что такие вопросы решает сам военком, к которому нас сейчас поведут.
Закончив сортировку, старший лейтенант повел нашу группу к военкому, который оказался в другом здании. К военкому вызывали по одному. Всех выходящих спрашивали: «Куда?». Большинство отвечали, что в Барнаул, в училище, остальных - в часть. Когда подошла моя очередь, я подал свои документы, в том числе и письмо из летного училища. Военком берет в руки письмо и с возмущением спрашивает: «А это еще что?» Я отвечаю, что это письмо из летного училища. Военком пробежал глазами по письму, посмотрел другие документы, и говорит: «Поедешь в училище, но только не в Ойрот-Туру, а в Барнаул, в артиллерийское училище».
Несмотря на все мои мольбы, уговоры и рассказы о мечте всей жизни, он жестко заявил, что у него приказ о наборе в артучилище и он его выполнит, а если я попытаюсь выполнить угрозу и уехать самовольно на фронт, то пойду под суд военного трибунала. Вспомнив, что у меня за душой история с отцом, я замолчал и смирился.
В тот же день нас посадили в поезд и отправили в Барнаул. Ехало нас человек тридцать. Приехали мы в Барнаул в тот же день к вечеру. В училище сопровождавший лейтенант привел нас уже глубокой ночью. В училище нас поместили в казарме, сказали, чтобы мы ложились спать, а утром с нами разберутся.
Утром нам сказали, что все мы будем в одной батарее, что занятия начнутся, когда батарея будет полностью укомплектована, а пока мы будем на карантине. Нас накормили завтраком и провели ознакомительную экскурсию по территории училища. Первым долгом нам рассказали, что мы попали в Лепельское артиллерийско-минометное училище. Что оно эвакуировано из города Лепеля в Белоруссии. Что училище на конной тяге и в первую очередь показали конюшни с лошадьми и сказали, что пока батарея не будет полностью укомплектована, за каждым из нас будет закреплено по две лошади, которых надо чистить каждый день. Как это делается, тех из нас, кто не умеет, научат сегодня же. Нам показали манеж, где будут проходить занятия по конной подготовке, показали плац для строевой подготовки, ознакомили с классами по артиллерии, топографии, тактике, материальной части, связи. Познакомили с красным уголком, где будут занятия по политподготовке, с небольшим спортзалом, где были некоторые спортивные снаряды. На улице тоже был стандартный спортивный участок для занятий в летнее время. Потом нас распределили по взводам и отделениям. Меня и других сержантов назначили командирами отделений. Я начал отказываться, ссылаясь на незажившее ранение. Руку мне хотя и сняли с перевязи, но она висела и нормально в плече пока не работала. Капитан, который с нами занимался, подробно расспросил меня о ранении. Узнав всю мою историю, он заявил, что командовать отделением надо языком, а не левой лопаткой. Но велел мне немедленно отправиться в санчасть. Что я и сделал в тот же день. В санчасти удивились, моей истории, похвалили мою повязку, с удовольствием приняли баночку с мазью Вишневского, которую они увидели впервые и написали мне справку об освобождении от утренней физзарядки и других занятий по физкультуре, а также от чистки лошадей.
Капитан, который с нами занимался, оказался командиром нашей батареи. Его фамилии я точно не помню, но, кажется, что он был Романовым. Мы с ним общались сравнительно редко и звали товарищ капитан. А вот фамилию своего командира взвода я помню точно: лейтенант Парфененков.
Примерно через две недели батарея была полностью укомплектована, и начались регулярные занятия. С самого начала нам объявили, что курс рассчитан на шесть месяцев.
Я с помощью старшины батареи изготовил блок с гирькой на шнурке, и каждый день пока все чистили лошадей, тренировал свою левую руку. Мне осталось добиться полного сгибания в локте, частично локоть уже сгибался, и разработать плечо. Рана тоже начала интенсивно заживать. Примерно через месяц с небольшим, как и предполагала Раиса Мироновна, все у меня зажило, и я начал со всеми заниматься физкультурой и за мной закрепили лошадь, седло и, конечно, щетку со скребницей для чистки лошади. Звали мою лошадь, вернее коня, Автобус. С Автобусом мы быстро подружились, главным образом благодаря кусочку сахара, который я приносил ему через день из своей вечерней порции. Вечером нам давали по два кусочка сахара. Чистить коня я научился быстро, там ничего сложного не было.
Через некоторое время я во время увольнения на танцах познакомился с девушкой, которая работала на мельнице при элеваторе. После более близкого знакомства, она стала приносить мне так называемые обметки. Это все то, что подметали с пола на мельнице и на элеваторе. Там была и мука и зерна, все это вместе с небольшим количеством пыли, но Автобус ею не брезговал и все добросовестно съедал. Взамен он не возражал, когда я брал у него небольшой кусочек жмыха, который мы вместе с сеном и небольшим количества овса получали для лошадей. Я этот жмых с удовольствием грыз, скрываясь от чужих глаз. Автобус не в счет
Жизнь в училище шла весьма однообразно. Подъем, физзарядка, построение, утренняя поверка, завтрак, чистка лошадей. Затем занятия в классах по артиллерии, топографии, тактике, матчасти, связи, политподготовке, и др. Занятия на свежем воздухе строевой подготовкой, штыковым боем, физподготовкой онной подготовкой. Особенно мне нравились занятия артиллерией и топографией в классах, а на улице конной подготовкой. Больше мне по душе были вольтижировка, рубка лозы, конная акробатика, преодоление препятствий. Особенно мне нравилось упражнение, когда на скаку, держась за луку седла, спрыгнуть на землю, и сразу оттолкнувшись, вскочить в седло.
Где-то в конце февраля стала сильно болеть левая ступня. Там образовалась, какая то болезненная шишка. В медсанчасти мне сказали, что у меня образовался сухой мозоль, который надо вырезать. Делать операцию отправили в гарнизонный госпиталь. В госпитале мне сделали настоящую операцию, забинтовали и велели не наступать на ногу несколько дней, и лежать. А чтобы ходить в туалет, выдали костыль. Через несколько дней, подойдя к окну, вдруг увидел строй солдат в погонах. Я подумал, что идет съемка нового фильма, но оказалось, что погоны введены в нашей армии.
Когда я вернулся в училище, мне тоже выдали погоны с сержантскими лычками.
Кроме учебных занятий, каждая батарея по очереди ходила на дежурство. Обычно комбат назначался дежурным по училищу, назначался караул на охрану различных объектов, наряд на кухню и патрулирование по городу под руководством командиров взводов. Кроме того, регулярно назначался наряд для завоза в училище сена с участка сенокоса, который принадлежал училищу и находился примерно в 20 км. от города. Особенно тяжело было возить сено зимой по полному бездорожью. Косили траву тоже мы, курсанты.
Лично мне все это пошло на пользу. Я научился косить траву, укладывать стога, грузить сено на телегу или сани. Это целая наука.
Неправильно уложенный стог или погруженное сено просто разваливалось. На сенокосе мы обменивали выдаваемую нам в качестве сухого пайка селедку, на молоко и картошку у местных крестьян. Варили почти целое ведро картошки, заливали туда литр молоко, делали «толченочку» и уминали почти полное ведро вчетвером. Это было и первое, и второе и третье.
Была еще такая история. Когда мы ходили в увольнение, нас заставляли одеваться по всей форме, в том числе надевать на себя шашку и шпоры на сапоги. Конечно, просто гулять с шашкой и с бренчащими шпорами было даже приятно. Но вот когда приходишь на танцы, то и шашка и шпоры в той тесноте не только мешали, но и приводили к травмам. Обычно на танцах было очень тесно.
Просьбы отменить этот маскарад ни к чему не приводили. Однако через некоторое время стали поступать жалобы от жителей города Барнаула на зарубленных собак, о срубленных ветках на плодовых деревьях и травмах на ногах у девушек. Через некоторое время был издан приказ, об отмене носить в увольнение шашку и шпоры.
Было еще одно серьезное событие. Однажды один офицер училища был в гостях. Крепко выпили с хозяином и поспорили с ним о дисциплине курсантов. Хозяин утверждал, что может утащить со склада тюк прессованного сена, а офицер доказывал, что часовой курсант полностью выполнит требование устава, вплоть до того, что будет стрелять. Заключили пари, и хозяин пошел воровать сено.
Пари выиграл офицер. История кончилась тем, что часовой действительно выполнил все требования устава караульной службы. И, в конце концов, после всех предупреждений и выстрелов в воздух, выстрелил на поражение и попал в плечевой сустав. Кончилась эта история ампутацией левой руки. Курсанта суд полностью оправдал.
Надо сказать, что я старался учиться изо всех сил. Дело в том, что нам объявили о том, что те, кто окончит училище по 1 разряду, т.е. на отлично, будут иметь право сами выбирать фронт, на который их пошлют. Такое правило было и до войны, только тогда выбирали военный округ для дальнейшей службы. А я наивно полагал, что если сумею попасть в свою дивизию, то сумею получить награды, к которым меня там представляли. По приказам Верховного Главнокомандующего я знал, что моя 214 стрелковая дивизия воюет на 2 Украинском фронте.
Но это сыграло и отрицательную роль. Месяца через 3-4, точно не помню, меня вызвали к командиру дивизиона майору Коржу (по национальности цыган), который в присутствии командира батареи объявил, что мне присвоено звание старшего сержанта, и что меня назначили помкомвзвода. Мне же приказано предложить кандидатуру на освободившееся место командира отделения. На мое заявление, что в отделении нет курсантов с сержантскими званиями, мне сказали, что мое дело дать кандидатуру, а о званиях позаботятся без меня.
На следующий день я кандидатуру дал. У этого парня было образование в 9 классов, но, на мой взгляд, он был очень толковым человеком, ему нравилось военное дело. Была в нем какая-то военная косточка. Вскоре Костя Лебедев, так звали этого парня, был назначен командиром отделения вместо меня, и ему присвоили звание младшего сержанта.
Сохранилась с тех времен у меня вот такая фотография.
Это еще до отмены приказа ходить в увольнение с шашками.
Кормили нас в училище, конечно, не по фронтовым нормам, но зато регулярно. Конечно, мы с нетерпением ждали и завтрак и обед и ужин, но сказать, что мы ходили голодными нельзя. Почти каждый день давали небольшой кусочек мяса или рыбы. Рыбный суп обычно варился из рыбных голов, но рыбный вкус присутствовал, а запах в столовой стоял такой, что мы сразу, еще на входе в столовую, определяли, что сегодня рыбный суп.
Наряд по кухне в основном чистил картошку, шинковал капусту, рубил и носил дрова и занимался уборкой. Наряд по кухне был выгодным, так как порции там были побольше, чем всем остальным.
Однако, вскоре количество курсантов, назначаемых в наряд по кухне, было сокращено вдвое. Дело в том, что картошку в целях экономии, перестали чистить. Вместо чистки, было приказано мыть картошку в трех или четырех водах и в таком виде варить ее и для супа и для второго. Говорили, что в кожуре содержится много витаминов.
Заодно еще о кухне. Когда батарея заступала в наряд, назначался дежурный по пищеблоку, в обязанности которого входило снимать пробу со всех блюд, предназначенных для питания курсантов. Обычно это был один из командиров взводов. Так вот, когда на такое дежурство заступал наш командир взвода лейтенант Парфененков, то почти всегда после такого дежурства он попадал в госпиталь с обострением язвы желудка и лечился там довольно долго. Бывало больше месяца. А в результате мне приходилось заменять его полностью и в том числе проводить занятия по строевой подготовке, физкультуре, конному делу и рукопашному бою.
Сначала такие занятия я проводил под наблюдением комбата, а потом и совершенно самостоятельно.
С одной стороны это давало мне хорошую практику, а с другой была лишняя нагрузка. Ведь к этим занятиям надо было готовиться, знакомиться с программой, писать конспекты и все это за счет личного времени.
Когда мы фактически уже начали готовиться к выпускным экзаменам, нам вдруг объявили, что никаких экзаменов не будет, что мы будем продолжать учебу, но теперь не по сокращенной программе, а по нормальной. Это было так необычно, особенно когда шла жестокая война с большими потерями, в том числе командного состава. Училище гудело, как улей в течение нескольких дней.
Занятия действительно начались по углубленной программе. Особенно это было заметно на занятиях по артиллерии. Мы начали более углублено изучать баллистику, подготовку данных для стрельбы с учетом метеорологических условий, с ведением поправок на атмосеное давление и температуру, силу и направление ветра на разных высотах траектории. Начали глубже знакомиться с теоретическими обоснованиями ширины вилки. Начали изучать образцы новейшего артиллерийского и минометного вооружения, в частности, новый 160 мм миномет.
Однажды произошло крайне неприятное для меня событие, которое стоило мне много нервов. Во время занятий в казарме раздался крик дневального: «Старший сержант Новаковский, на выход!» Когда я к нему подошел, там меня ждал какой-то лейтенант, который сказал, что меня вызывает начальник особого отдела. Когда я это услышал, у меня ноги стали буквально, как говорится, ватными. Огромным усилием я взял себя в руки, чтобы скрыть волнение. Я сказал, что мне надо закончить занятия, и я приду. Когда лейтенант узнал, что до окончания занятия пройдет минут пять, то сказал, что подождет.
Когда мы пришли в кабинет, там сидел моложавый майор, который, выслушав мой доклад о прибытии, вдруг прямо с хода спросил: «Твой отец Марк Борисович Новаковский?» Я обречено ответил, что да. Тогда он вдруг пригласил меня к столу выпить по стакану чая, который принесла женщина.
Я еще не пришел в себя, а он возбуждено начал рассказывать, что когда отец работал здесь, в Барнауле секретарем горкома партии, он работал секретарем горкома комсомола. Что они часто встречались, что отец много опирался в работе на молодежь, что он считает отца своим главным учителем по работе с людьми, что знает о работе отца секретарем Ойротского обкома партии, а потом потерял его из вида. Когда он спросил, где отец теперь, я решил, что терять мне нечего и повторил свою ложь о его гибели при бомбежке. Майор поахал, выразил мне соболезнование и, провожая, сказал, что если у меня будут проблемы, чтобы я без затей, как он выразился, обращался к нему. Я, конечно, поблагодарил его, и еще не до конца придя в себя, вернулся к себе в батарею, заперся в красном уголке, и совершенно обессиленный улегся прямо на столе и пролежал не менее получаса.
Утром следующего дня, когда я начал бриться перед зеркалом в умывальнике, я увидел у себя на голове прядь седых волос.
Где-то в середине лета в училище состоялись соревнования по вольтижировке. К своему изумлению я занял на этих соревнованиях второе место. Конечно, дело было не в моем мастерстве. А в том, что мой Автобус, не дожидаясь моей работы шенкелями и поводом, сам четко выполнял все команды.
Было еще такое памятное событие. Однажды нам объявили, что из Монголии прибыл эшелон с почти дикими лошадьми, что нашему училищу поручено поселить этих лошадей в своих конюшнях, объездить их и передать в разные части округа.
Операция выгрузки этих лошадей и доставки их со станции в училище была назначена на ночное время.
Из вагонов по сходням лошадей выводили монголы, которые их сопровождали. На всех лошадях были уздечки. Каждую лошадь выводили по два человека и передавали ее двум курсантам. Лошади все время нервничали, пытались вырваться, и надо было прилагать большие усилия, чтобы удержать их. Лошадей было около двухсот. Довели до училища не всех. Около двадцати вырвались и разбежались по всему городу. Я не уверен, что тогда собрали всех. Лошади эти были маленькие, приземистые, но очень сильные и выносливые. Я наблюдал, как их приручали специалисты. Сначала их связывали вожжами, надевали седло, а к седлу привязывали мешок с песком. Потом гоняли по манежу. Гоняли до тех пор, пока она не переставала дергаться, брыкаться и не начинала спокойно ходить. Это повторялось несколько раз, пока лошадь давала спокойно надевать седло и мешок. После этого начинали пытаться садиться верхом, и все повторялось. Примерно через месяц всех этих лошадей, куда-то передали. Для нас этот месяц запомнился тем, что нам пришлось доставлять гораздо больше кормов.
Когда подходил к концу 1943 год, и мы уже всерьез засобирались на фронт, нам вдруг объявили о новом продлении учебы. Это было настолько неправдоподобно, что мало кто поверил в это. Но, в конце концов, это оказалось невероятной правдой, и мы учебу продолжили.
Примерно в это время у меня начались новые волнения. Ко мне начали приставать по поводу вступления в партию.
Когда я прибыл в училище, мне комсомольский билет вручили без проблем. Просто я рассказал всю правду о своем билете, который остался в кармане гимнастерки на берегу Дона.
А с партией было сложнее. Обманывать партию для меня было немыслимо. Но еще немыслимее для меня было рассказать правду. Потерять всякую надежду попасть на фронт и завоевать личный авторитет, независимый от ареста отца, об этом я даже и думать не хотел.
Поэтому когда давление начало перерастать, как мне показалось, в подозрение, я написал заявление, повторил свою анкету, и меня без проблем приняли кандидатом в члены партии.
Точную дату я не помню, но случилось это весной 1944 года.
Примерно в это же время произошло радостное для меня событие. Я получил от матери письмо и небольшую посылку. За время пребывания в училище, я каждый месяц писал минимум по одному письму домой в Рязань и в Москву тете Роне. Однако ответов все это время я не получал. В голову лезли всякие мрачные мысли о гибели всех родных. Из письма матери я узнал, что она с Нелей были эвакуированы в Казахстан, в город Каскелен. Все наши соседи по дому тоже были эвакуированы и поэтому все мои письма и письма матери, которые она писала в Рязань со своим обратным адресом, попросту пропадали. Но когда вернулась одна наша соседка и получила мое и мамино письма, то она мое письмо отправила маме, а мама, узнав мой адрес, сразу послала мне письмо и посылку. В посылке меня больше всего поразило то, что в ней оказалась пачка табака. Дома я не курил, но мама об этом моем занятии, конечно, давно знала и всегда ругала. В письме меня удивило сообщение, что наш сосед оказался преступником, и его посадили на 8 лет. Я сразу даже не сообразил, что речь идет об отце. Как она догадалась, что я скрываю арест отца, просто удивительно. Что касается Октябрины, то в письме мама написала о слухах, что Октябрина с группой людей из Рязани работала на окопах под Смоленском. Они попали под сильную бомбежку, и многие там погибли, в том числе и Октябрина.
Я себя успокаивал, что это только слухи и надеялся на лучшее.
Я написал ответное письмо, в котором описал все события, которые произошли со мной. С этого началась наша регулярная переписка.
В училище шли день за днем без особых происшествий. Правда одна неприятность случилась. Нам объявили приказ, по которому всем выпускникам присваивалось звание младшего лейтенанта. До этого курсантам, закончившим учебу без троек, присваивалось сразу звание лейтенанта.
В августе 1944 года учебные занятия прекратились и нам приказали готовиться к выпускным экзаменам и зачетам.
Экзамены начались с начала сентября. Проводились они примерно так же, как в школе. Надо было тянуть билеты с вопросами и отвечать на них. Письменных экзаменов не было.
Самым главным и ответственным экзаменом было практическая подготовка данных для стрельбы, ведение пристрелки и огня на поражение.
Практическая стрельба велась на полигоне, а принимал этот экзамен полковник из штаба округа. Почему-то, я даже запомнил его фамилию - полковник Рогов. Во время приема экзамена сам полковник находился непосредственно на наблюдательном пункте, а его помощник капитан - на огневой позиции.
Полковник указывал экзаменующемуся курсанту цель, и засекал время. Подготовив данные для стрельбы, курсант докладывал их и, получив разрешение, передавал на огневую позицию. Наводчик, выполнив все команды, докладывал о готовности. После этого капитан сам лично проверял правильность установки прицела, угломера и наводки, докладывал об этом полковнику, и, получив от него разрешение, производился выстрел. Все это повторялось во время проведения пристрелки и огня на пораеие. От времени подготовки данных для стрельбы и подготовки поправок зависела оценка. Оценка выставлялась, как и во время занятий, по пятибалльной системе.
Мне удалось закончить все экзамены по первому разряду, к чему я и стремился на протяжении всей учебы. Таких перворазрядников оказалось шесть человек. Мы, конечно, поделились, кто на какой фронт будет проситься. Я внимательно следил за продвижением 2-го Украинского фронта, где воевала моя 214 стрелковая дивизия.
Я все время боялся, что дивизии присвоят звание гвардейской, присвоят новый номер, и я не сумею ее найти. Все эти мои волнения оказались напрасными. Во время общего построения был зачитан приказ по училищу о присвоении нам звания младшего лейтенанта и одновременного вручения офицерских погон. Кроме того, был зачитан другой приказ о назначении меня и еще одного выпускника на почетную (так в приказе) должность командира взвода курсантов. После этого приказа я несколько дней не мог прийти в себя. Рухнули все мои планы и мечты. Через 2-3 дня, немного успокоившись, я записался на прием к начальнику училища. Кстати. начальником нашего училища был генерал-майор, а фамилию забыл. Не то Петровский, не то Покровский, но что-то похожее. Помню разговоры, что он был командиром батареи в дивизии у Чапаева.
Прием у генерала привел меня в полное уныние. Генерал даже не дослушал меня, а сразу перешел в наступление: «Ты что забыл, что служишь в армии, что в армии все построено на приказах? Ты считаешь себя лучше нас, которые работают в училище и готовят кадры для фронта? Ты думаешь, что мы не хотим на фронт, а присосались к глубокому тылу? Ты что честнее нас всех?»
Ответить мне было нечего, и я ушел, глотая слезы. Пошел, как всегда в тяжелые минуты, в стойло к своему Автобусу. Автобус встретил меня, как всегда приветливо и начал тереться носом о мое плечо. Он всегда так делал, когда у меня было тяжко на душе. Я его тоже поласкал, погладил, похлопал по шее и ушел. Мне еще предстояло найти и снять квартиру. Все офицеры училища жили на частных квартирах и им дополнительно к зарплате выплачивали квартирные деньги. Только я пришел в свою казарму, как дневальный передал мне распоряжение командира дивизиона немедленно явиться к нему. Когда я явился, майор Корж встретил меня по-деловому. Поздравил меня с назначением и заявил, что сейчас мы пойдем выбирать мне коня, что для всех офицеров дивизиона он сам выбирает коней. Я начал было отнекиваться, сказал, что Автобус меня устраивает, что я к нему привык. На это майор заявил, вот его первого и посмотрим. И немного помолчав, добавил: «Ну что вы все понимаете в лошадях?» Я спорить не стал.
Когда мы подошли к стойлу и Автобус снова начал проявлять ко мне внимание, майор сразу это уловил и сказал: «Да, сразу видно, что вы друзья, так и быть оставляй себе этого коня».
Когда мы шли обратно, майор вдруг начал меня успокаивать, уговаривать не обижаться на генерала и смириться.
Вопрос с квартирой тоже решился неожиданно просто. Наш преподаватель по топографии капитан Ковалев (или Королев- точно не помню) предложил мне жить у него. Комната у него большая, кровать вторая есть, и хозяйка не возражает. Я начал было говорить, что я его буду стеснять, но он сказал, что, наоборот, ему вечерами будет с кем обменяться впечатлениями. Дом был недалеко от училища, комната мне понравилась, хозяйка тоже, и я согласился.
С первого ноября группу офицеров училища, которые не были на фронте, в том числе и моего капитана Ковалева, отправили на месячную стажировку на разные фронты. Я остался в комнате один.
А в училище работы мне прибавилось. Видимо, с подачи моего соседа, мне поручили проводить занятия по топографии.
Обо всех этих событиях я рассказал в письме к матери. В ответ получил письмо, в котором мать сообщала, что ей стало как-то спокойней, что меня оставили работать в училище. Кроме того, она сообщила, что ей в Москве предлагают работу, но она пока ничего не решила. В этом же письме она сообщила мне московский адрес своих старых знакомых, через которых мы сможем найти друг друга, если снова потеряемся во время внезапных переездов. Фамилию этих знакомых я забыл, а звали их Циля Григорьевна и Семен Петрович.
Под мое командование дали взвод разношерстных новичков. Больше половины взвода составили солдаты и сержанты, выписавшиеся из госпиталей, после ранений на фронте. У многих из них были боевые награды. Остальные - призванные с гражданки, в основном выпускники средних школ и рабочие заводов, с которых сняли бронь. Сначала главное внимание было уделено изучению уставов.
Потом начались регулярные занятия. Мне, как и другим командирам взводов, полагалось проводить занятия по изучению уставов, по строевой подготовке, по штыковому бою, физподготовке, конные занятия. Кроме того, как я уже писал, мне приходилось проводить занятия по топографии, и не только со своим взводом, а во всех взводах нашей батареи. Потекли однообразные дни. Конспекты, занятия. Периодически проверка проведения подъема, утренней физзарядки, вечерней поверки, чистки лошадей. Как минимум писал по два письма в месяц матери и по одному рапорту с просьбой отправить на фронт.
Это однообразие прерывалось дежурством по пищеблоку, по училищу, караульной службой, патрулированием по городу.
Каждый день внимательно слушали сводки Совинформбюро о положении на фронтах. Шумно радовались успехам наших войск
В начале декабря вернулись с фронта офицеры, которые проходили там стажировку. В том числе вернулся и ставший самым близким моим товарищем капитан Ковалев, кстати, звали его Анатолием, и я был освобожден от проведения занятий по топографии. Капитан Ковалев был старше меня лет на десять, но, несмотря на разницу в возрасте, он требовал, чтобы вне службы я называл его по имени и на ты. Мне это далось не сразу, но он был в этом настойчив и, в конце концов, добился своего. На празднование нового 1945 года он повел меня к своим хорошим знакомым, которые жили в районе железнодорожного вокзала. Празднование прошло очень весело. Было много выпивки и закуски. Был традиционный винегрет, селедка, соленые огурцы и помидоры и особенно на что я нажимал - пельмени.
Набрались мы там, как следует, особенно Анатолий. Помню, что когда мы уходили под утро, он пытался натянуть на себя мою шапку, а голова у него была размера на 3-4 больше моей. Потом на него кто-то надел его шапку и только тогда он отдал мою. Когда мы вышли на улицу, он начал тянуть меня в противоположную сторону. Когда я уговорил его идти в правильном направлении и мы пошли, у меня произошел полный провал памяти. Когда я очнулся, мы сидели на крыльце нашего дома. Как мы тогда добрались до своего дома в полном забытье, не могу понять до сих пор.
Я постучал. Открыла хозяйка, и мы с ней вдвоем еле дотащили Анатолия до его кровати. Когда мы проснулись, уже во второй половине дня, хозяйка отпаивала нас огуречным рассолом. В моей жизни это был первый раз, когда я напился до такого состояния.
Январь прошел без приключений, а в начале февраля произошло событие, которое в очередной раз повернуло мою судьбу.
Меня назначили дежурным по училищу. Примерно с середины 1944 года на это дежурство стали назначать командиров взводов. Поздно вечером пришло сообщение, что к нам с проверкой выехала комиссия из штаба округа, и чтобы срочно заказали гостиницу. Я позвонил домой заместителю начальника училища по хозчасти. Он сказал, что знает об этом, гостиница уже заказана и что он сам встретит комиссию на вокзале. Зная, что я из молодых офицеров, он сказал мне, чтобы я организовал нормальный своевременный подъем, так как комиссия начнет свою проверку именно с подъема.
Следуя этим наставлениям, еще до подъема начал обходить все батареи и предупреждал дежурных по батареям, о предстоящей проверке. К началу подъема я вернулся в свою батарею, чтобы наблюдать за подъемом лично.
Два взвода нашей батареи находились в наряде, но в каждом взводе было по несколько человек, которые по разным причинам были освобождены от наряда. Когда прозвучал сигнал подъема, я сначала проверил свой взвод. Убедившись, что там все в порядке, я пошел во второй взвод. Там все, кроме двух курсантов, встали во время, а двое продолжали лежать под одеялами. Я возмущено гаркнул: «Встать! Вам что не сказали, что проверка из округа?» Один из двоих немедленно вскочил и пошел в умывальник, а второй продолжал лежать под одеялом. Оказалось что это самый старый курсант в училище. Ему было, по-моему, больше сорока лет. Он был директором подсобного хозяйства, а когда его призвали, как-то устроился курсантом в училище. Ходили слухи, что у него, как тогда говорили, блат в политотделе училища. Еле сдерживая гнев, я еще раз скомандовал ему: «Встать!», на что он, приподняв одеяло, прокричал: «Да пошел ты…» и дальше матом. Я сорвал с него одеяло и сказал, сейчас вызову наряд и силой отправлю его на гауптвахту. Он вскочил и начал орать, всячески оскорбляя меня и в том числе, что здесь в тылу все вы смелые, а от фронта увиливаете. Тут я потерял контроль над собой и изо всех сил врезал ему в лицо. У него брызнула кровь из носа или губы. Он завизжал как поросенок, быстро натянул на себя одежду и убежал, выкрикивая угрозы в мой адрес. Наш комбат в этот день навещал кого-то в госпитале, и я об этом немедленно доложил командиру дивизиона майору Коржу. Майор выругал меня, сказав, что надо было не бить, а связать его и отправить на гауптвахту. Он тут же вызвал своего заместителя и приказал ему немедленно найти Войлова (такая была его фамилия) и посадить на гауптвахту на время разбирательства, что и было сделано. На следующий день после отъезда комиссии из округа, была назначена специальная комиссия для разбирательства этого происшествия. Комиссия допросила меня и всех свидетелей.
Когда комиссия закончила работу, состоялось заседание парткома училища, на котором мне был объявлен строгий выговор за рукоприкладство, а еще через пару дней состоялось общее построение училища, на котором начальник административного отдела зачитал приказ начальника училища. В первом пункте приказа говорилось, что за невыполнение приказа и оскорбления командира, курсант Войлов разжалован из курсантов в рядовые и отправляется в штрафной батальон на фронт. Прямо перед строем с Войлова сняли ремень, курсантские погоны и под конвоем увели.
Потом был зачитан второй пункт приказа, в котором говорилось, что младшему лейтенанту Новаковскому за рукоприкладство объявлено десять суток домашнего ареста. После этого ко мне началось настоящее паломничество офицеров, в том числе и членов парткома, которые горячо одобряли мои действия. Они говорили, что строгий выговор через полгода снимут, а домашний арест не изменит привычный образ жизни, так как почти каждый вечер после работы я и так сижу дома. Все это было приятно выслушивать от старших и более опытных товарищей. Но самое главное, что я услышал во время этих посещений это то, что один из офицеров сказал, что начальник административного отдела не имел право зачитывать второй пункт приказа о наказании офицера перед общим строем курсантов. Этот пункт он мог зачитать только на собрании офицеров. Я эту информацию взял на вооружение, проверил ее, и убедившись в достоверности написал очередной шестой по счету рапорт. В рапорте я на этот раз писал, что дискредитирован перед всем училищем, перед непосредственными подчиненными, поэтому не могу исполнять свои обязанности и в связи с этим прошу отчислить меня из училища и направить в резерв наркомата обороны.
В это время в одной батарее второго дивизиона шли выпускные экзамены, и мне объявили, что мой последний рапорт, наконец, удовлетворен, и я во главе группы выпускников поеду в этот резерв. Прощание было весьма трогательным, особенно с Автобусом.
Уже после войны я встретил случайно в Москве на улице запевалу взвода, которым я командовал, Гольдберга. Голос у него был очень мелодичный и сильный. Так вот при этой встрече он рассказывал, что после моего отъезда Автобус долго никого к себе не подпускал и с ним занимался лично командир дивизиона, майор Корж. Многие товарищи не могли понять моего стремления на фронт, а я объяснить этого не мог, ссылаясь на призрачные награды.
Где-то в конце февраля наша группа выехала в Москву. Прибыли мы туда в начале марта. Тетя Роня уже вернулась в Москву, и я у нее переночевал. На другой день я получил направление на 2-й Белорусский фронт. О втором Украинском фронте никто и слушать не захотел, а меня обозвали детским садом.
Я не помню название места в Польше, где располагался тогда штаб 2-го Белорусского фронта, но помню, что добирался туда из Москвы с 5-ю или 6-ю пересадками. Самое сложное было устраиваться на ночевки, особенно на территории Польши. На одном перегоне я познакомился с польским офицером, и когда мы приехали в какой-то городок, где мне и ему предстояла пересадка, он предложил мне переночевать не на станции, а у его знакомых. Нас предупреждали об опасности на территории Польши в одиночку ночевать в частных домах, но этот польский офицер вызывал у меня полное доверие, и я согласился. Когда мы пришли в этот дом, там хозяевами оказались две не очень молодые, по моим понятиям (лет по 25-30) женщины. Поляк меня представил, как товарища, и нас пригласили переночевать.
Женщины накормили нас ужином с выпивкой. Я хотел вытащить свой хлеб и консервы, но мне запретили это делать. Поужинав и побеседовав на русско-польском диалекте, польский офицер с одной из хозяек удалились в другую комнату, а меня уложили на кровать в этой же комнате. Через некоторое время вторая хозяйка, убрав посуду, погасив свет, вдруг нырнула ко мне в постель. Я как-то смущено замер и растерялся. Но она оказалась человеком опытным и в два счета лишила меня, как говорится, невинности.
Утром нас, как ни в чем не бывало, накормили завтраком, и мы пошли на станцию. Женщины наперебой приглашали нас заходить к ним, когда будем в этом городке.
С польским офицером мы очень радушно распрощались и поехали в разные стороны. Ни он, ни я не знали наших новых адресов и больше не встречались.
В следующем городке, где мне довелось ночевать, была гостиница, куда меня направил военный комендант. Я пришел в номер, в котором стояло 4 кровати. На одной спал человек, кроме одеяла, накрытый еще и шинелью с погонами майора. Но меня удивило не это. Я впервые увидел, что две ножки кровати были вставлены в сапоги. Я, конечно, понял, что это для того, чтобы не украли хорошие хромовые сапоги. У меня сапоги были кирзовые, и я не сразу решил использовать такой метод их сохранения. Но потом решил, что остаться, хотя и без кирзовых сапог, не стоит, и последовал примеру майора.
Когда я ехал на следующем поезде, то во время одной из стоянок, на эту станцию прибыл эшелон с бывшими пленными, которых освободили наши войска. Они перемешались с пассажирами нашего поезда и начали оживленные разговоры. В нашей группе оказался один бывший пленный летчик. Он вытащил из кармана золотую звезду героя, и все спрашивал нас, сохранят ли ее ему. Он рассказал, что был сбит летом 44 года. Будучи раненым, приземлился на парашюте в немецком тылу и до того, как его нашли, сумел уничтожить все документы, а звезду спрятал в брючном карманчике для часов. Потом перепрятал звезду в кусочке хлеба, который носил в кармане. И таким образом сумел ее сохранить ее, офицеры из училищ, вроде меня, и из госпиталей успокаивали его, убеждая, что наверняка сохранят. Этот интересовался звездой, а большинство других интересовались, что будет с ними самими. Мы всех успокаивали, хотя сами, конечно, ничего не знали и знать не могли.
Вскоре я без особых приключений и запомнившихся событий добрался до штаба 2-го Белорусского фронта, где получил назначение в 19-ю минометную бригаду РГК. Мне сразу объяснили, что бригада эта была краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова, а в шутку добавили «на Студебекерах». До этой бригады я добрался в тот же день. Меня довез до штаба бригады капитан, который ехал мимо места, где располагался штаб бригады. Ехали мы на автомашине Додж 3/4.
Я такую машину увидел впервые.
В конечном итоге я попал во вторую батарею, первого дивизиона 487 минометного полка, на должность командира взвода управления. В это время полк вел бои на подступах к Данцигу (ныне Гданьск). Дату я не помню, но хорошо помню, как уже ночью меня привел солдат на наблюдательный пункт комбата-2 старшего лейтенанта Далабаева.
Знакомились мы в его блиндаже. Комбат встретил меня приветливо, сразу, если так можно выразиться, представил меня разведчикам и радистам взвода управления, т.е. моим подчиненным. После этого комбат указал мне место на нарах и предложил ложиться спать. Утром комбат показал мне цели, по которым вела огонь батарея. Мне он велел вести наблюдение за позицией противника в зоне действия батареи на предмет обнаружения новых целей. На третий день на наш НП пришел с двумя солдатами командир дивизиона капитан Львов. Уточнив, что новый офицер прибыл из Лепельского училища, он сразу решил проэкзаменовать меня. Указав мне цель, что-то вроде ДЗОТа, приказал мне подготовить данные для стрельбы, произвести пристрелку и стрельбу на поражение за комбата. Конечно, в училище я получил основательную подготовку, но ужасно волновался. Очень не хотелось осрамиться. Не смотря на волнение, мне удалось удачно накрыть цель.
Потом мне рассказали, что в этом полку, только в другом дивизионе, были на стажировке офицеры из нашего училища и о них рассказывали по всему полку, как об очень грамотных и подготовленных офицерах. Вот командир дивизиона и решил проверить на мне правильность этих разговоров. После этого экзамена комбат поручал мне готовить данные для стрельбы, но команды на огневую позицию передавал сам.
Через несколько дней состоялся штурм Данцига и после его взятия мы передвинулись на его окраину. После взятия Данцига, где-то в первых числах апреля, комбат велел мне явиться к командиру дивизиона. Когда я доложил о прибытии, командир дивизиона неожиданно объявил, что меня назначили исполнять обязанности начальника разведки дивизиона взамен погибшего в боях за Данциг. На следующий день поступила команда на передислокацию в район Штеттина.
С личным составом пришлось знакомиться фактически на ходу.
Надо сказать, что не зря, называя полный титул бригады - 19-я отдельная, дважды краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова минометная бригада РГК добавляли на «Студебекерах». Каждый минометный расчет имел закрепленный Студебекер, к которому прицеплялся миномет. А весь расчет и боезапас размещался в кузове. Начальнику разведки дивизиона полагалась машина Шевроле. В отличие от трехосного Студебекера эта машина была двухосной. Командир дивизиона со штабом имел Шевроле и два Доджа 34. Короче, все мои познания в конном деле здесь не понадобились. Зато пригодилось мое умение управлять автомашиной. И я этим воспользовался в полной мере. На новом месте, примерно в 15-18 км. южнее Штеттина, мы расположились в лесу на отдых и прием пополнения. В этом же лесу расположилась какая-то польская часть, и там произошло событие, которое мне хорошо запомнилось. Однажды вечером мы с одним из моих новых знакомых, офицером нашего дивизиона бродили по лесу между кострами, за которыми сидели польские солдаты и офицеры. Я все надеялся встретить своего попутчика, польского офицера. Неожиданно от одного из костров на чистом русском языке раздался крик: «Федька, это ты?»/
К нам подскочил польский офицер и бросился обниматься с моим попутчиком лейтенантом Федором Гореловым. Оказалось, что они выросли в одном дворе в г. Пензе. Нас пригласили к костру, из фляжки отметили встречу друзей, и завязалась оживленная беседа на русско-польском языке. Я тогда узнал много интересного. В частности то, что в польской армии было много советских офицеров разных национальностей. Нам рассказали много интересного о польской армии, в том числе и такую байку. В польской армии раз в неделю (или раз в месяц, я точно не помню), все солдаты и офицеры должны целовать крест в руках ксендза. Так вот один из вновь испеченных «польских» офицеров с русской фамилией, подойдя к ксендзу, заявил, что он коммунист, атеист и целовать крест не будет. Тогда ксендз приблизившись к нему вплотную зло прошептал на чистом русском: «Целуй мать твою так и разэдак, не то вечером на парткомиссию вызовем!» Уж не знаю анекдот это или быль, но это характеризует обстановку в польской армии в то время.
За несколько дней нашего пребывания в этом лесу меня несколько раз вызывал к себе командир дивизиона и интересовался новыми веяниями в преподавании подготовки данных для стрельбы и вообще ведения огня. Я ему рассказывал обо всем, чему меня учили, не разделяя на новое и старое. Тем более, что для него новым было то, что он не знал. Особенно ему понравилась стрельба с использованием реперов. Реперами называются пристрелянные хорошо заметные на местности предметы: высокие трубы, столбы, отдельно стоящие дома, отдельное дерево, срез или макушка горы и тому подобное. При внезапном появлении в районе этих реперов новых целей, не нужно тратить время на подготовку новых данных для стрельбы по этим целям и на пристрелку. Надо просто измерить угол между репером и внезапно появившейся целью, скомандовать нужный доворот, прицел и сразу открывать огонь на поражение.
Через несколько дней отдыха, мы выдвинулись на правый берег Одера, отрыли дивизионный НП, установили стереотрубу, буссоль и начали разведку реки. Неподалеку от дивизионного НП расположились батарейные НП, а несколько сзади, в естественных укрытиях оборудовались батарейные огневые позиции (ОП).
Справа от нас, ниже по течению, километрах в 3-5 виднелся разрушенный жд мост. На противоположной стороне было селение, название которого я не помню. Рек фактически было две: Ост и Вест Одер, разделенные дамбами. Между дамбами была широкая заболоченная пойма.
Командир дивизиона приказал мне наметить по 6-9 предметов для реперов на обеих дамбах и на левом, противоположном берегу.
Когда я это сделал, он внес некоторые изменения и вызвал комбатов.
Распределил эти предметы между батареями, приказал их пристрелять и объяснил для чего это нужно. Мне тогда показалось, что для комбатов это была новинка, о которой они что-то слышали, но никогда не применяли. Это относилось и к комдиву.
Когда репера были пристреляны, батареи начали вести огонь по разведанным целям, в основном на обеих дамбах.
Утром 19 апреля командир дивизиона приказал мне готовиться к форсированию Одера вместе с пехотой. Весь день до темноты ушел на подготовку. Проводилось это под руководством начальника штаба дивизиона капитана Федорова. Скомплектовали два отделения разведки и два отделения связи, как сказал капитан из самых опытных и бывалых. Получили у саперов две одновесельные лодки, загрузили их всем необходимым: по одной буссоли, по одной стереотрубе, по одной рации, по одному планшету с картой, боеприпасы оружие, хлеб, консервы концентраты. Одной лодкой должен был командовать старший сержант Закатенко, и ему выделены разведчики и радисты. Другой лодкой должен был командовать я и в моем распоряжении тоже были разведчики и радисты. Вслух это не говорилось, но было ясно, что в случае гибели одной лодки с командой, работать должна была вторая команда.
Все это делали на берегу, в укрытии, примерно, метрах в 80-100 от кромки воды. С рассветом 20 апреля началась артподготовка по первой дамбе. Длилась она около 30-40 минут и, после переноса огня на вторую дамбу, мы по общему сигналу волоком перетащили лодки в воду и вместе с пехотой начали переправу. Когда добрались до первой дамбы, то оказалось, что в нашем районе не оказалось никаких шлюзов и каналов, про которые нам говорили. Свои лодки, как и пехотинцы лодки и плоты, мы на дамбы поднимали волоком.
Когда поднялись на дамбу, то выяснилось, что на ней, кроме трупов немецких солдат и офицеров и брошенного оружия, никого не оказалось. Мы перетащили лодки на другую сторону дамбы, некоторое время переждали, и когда огонь артиллерии был перенесен на левый берег Одера, спустили лодки на воду и начали движение ко второй дамбе. Вот тут всем нам крепко досталось. Лодки пришлось тащить волоком по колено в заросшей травой и водорослями воде, проваливаясь иногда по пояс, а в некоторых местах и по грудь в довольно холодной еще апрельской воде. А тут еще немцы начали огрызаться минометно-пулеметным огнем, а укрыться от него негде. Пехота несла потери и у нас один разведчик погиб, а двое, в том числе и я, были легко ранены. Меня задело осколком за тыльную мякоть ладони левой руки. Добравшись до второй дамбы, пехотинцы и мы сделали передышку. Раненым сделали перевязки. Погибших, которых удалось погрузить на лодки или плоты, похоронили. Попытались хоть немного отжать обмундирование и слить воду из обуви.
Через некоторое время огонь немцев был в основном подавлен, во всяком случае, значительно поредел, и мы двинулись к левому берегу.
Высадившись, пехота сразу без паузы пошла в атаку, вскоре захватила расположенный перед нами поселок и сразу начала окапываться на его западной окраине. Мы вошли в поселок вместе с пехотинцами, и я сразу начал подыскивать место для размещения наблюдательного пункта (НП). В поселке был большой, как мы его назвали, господский дом. На этом доме была вышка, взобравшись на которую, мы обнаружили, что с нее отличный обзор. Площадь вышки составляла около 9-10 квадратных метров, и мы устроили там хороший НП. Развернули рацию, установили буссоль и стереотрубу. Разведчики с помощью стереотрубы и биноклей сразу начали визуальную разведку местности, а я связался с командиром дивизиона, доложил о нашем местонахождении и наших действиях.
В свою очередь, командир дивизиона сообщил мне, что батареи дивизиона и других дивизионов полка заканчивают переправу на первую дамбу и оборудуют там огневые позиции. Сообщил он мне и координаты ОП батарей, которые я сразу нанес на свою карту.
Один из разведчиков развел во дворе дома костер, и мы по очереди старались хоть немного обсушиться. Это же делали и пехотинцы во дворах поселка. Переговорив с командиром дивизиона и немного обсушившись, я засел за стереотрубу и тоже начал наблюдение за местностью. Перед нами примерно на полтора-два километра простиралось поле с отдельными кустарниками. За полем виднелся довольно густой лес, в котором немцы могли незаметно сосредоточить свои войска для атаки захваченного нами плацдарма. Слева, на расстоянии примерно в километр, виднелась роща, присмотревшись к которой, мы разглядели, что это кладбище.
Когда я доложил командиру дивизиона свои наблюдения и предположения в отношении немцев, он приказал мне немедленно готовить данные для установки заградительного огня на расстоянии 400-500 метров от позиции нашей пехоты.
Когда я доложил о готовности данных и попросил разрешения начать пристрелку намеченного рубежа, то получил категорический запрет. Объяснил он это необходимостью внезапности заградогня и приказал передать подготовленные данные. Я ужасно разволновался, боясь, что без пристрелки заградогонь может задеть и своих, ведь такие случаи бывали, поэтому сразу сознательно увеличил дальность на 200 метров, сообразив, что сигнал для открытия огня буду давать только я.
Только я успел передать подготовленные данные, как начался артиллерийско-минометный обстрел нашей значительно поредевшей пехоты. Я пытался засечь батареи противника, но тщетно. Все они были где-то в лесу и их выстрелы не наблюдались. Обстрел продолжался 25-30 минут. Пара снарядов разорвались и в нашем дворе, не причинив нам ущерба. Еще не закончился обстрел, как из леса показалось несколько танков, а за ними пехота. Я сразу доложил. Когда немцы приблизились к рубежу нашего заградогня, я передал команду «Огонь» и сразу, неожиданно для меня, был открыт огонь всем дивизионом из 12-ти стволов. Все поле покрылось разрывами, и ничего не было видно. После 10 залпов огонь прекратился.
Когда земля осела, и дым рассеялся, мы увидели, что один танк горит, а у второго перебита гусеница и он на одной гусенице медленно крутится на месте, а вокруг лежит много убитых и раненых немцев. Целые танки и пехота ушли обратно в лес.
В этот день было еще 4 или 5, я теперь уже точно не помню, попыток сбросить нас в Одер, но они закончились для нас благополучно.
Ночью мне сообщили, что возникли большие трудности с доставкой боеприпасов, и чтобы мы были готовы к отступлению. А утром мне разрешили вести огонь одиночными выстрелами по кладбищу, где за ночь могли сосредоточиться немцы, что я и делал.
Примерно в полдень второго дня началась новая атака немцев, но без танков. Говорили, что их перебросили на другой участок. Атака была отбита винтовочным, автоматным, а главное, неожиданно для нас, сильнейшим пулеметным огнем. Потом мы узнали, что пехота ночью получила в подкрепление две пулеметные роты, которые нас и выручили. Через некоторое время я спустился во двор к костру, но не успел приблизиться к нему, как мне закричали, что срочно требует командир дивизиона. Командир дивизиона возбуждено сообщил, что я и все мои разведчики и радисты представлены к ордену Красного Знамени и велел всех поздравить от его имени. Я, конечно, обрадовался, поблагодарил его и тут же сообщил эту приятную новость всем своим.
Атаки немцев в этот день повторялись каждые 3-4 часа, немцы несли большие потери в основном от пулеметного огня, но упорно, как безумные, лезли на пулеметы. После одной из отбитых атак, я заметил, какую-то суету у пехотинцев. Я послал туда одного разведчика выяснить, что случилось.
Вернувшись, он рассказал такую историю. После последней атаки, к пехотинцам приполз раненый немец сдаваться в плен. Солдаты начали его спрашивать, в основном жестами, почему они как сумасшедшие лезут на пулеметы. Он, показывая в сторону немцев, говорил: «Рус, рус». Все знали, что где-то в нашем районе наводится капитальная переправа, по которой должна переправиться танковая бригада. Все обрадовались такому сообщению, но произошла ошибка. Появился офицер, как сказал мой разведчик, кажется еврей, который немного знал немецкий и пояснил, что в тылу у немцев не наши танкисты появились, а заградотряд из русских власовцев, которые расстреливали бегущих назад немцев.
Вечером, когда наступило затишье, к нам на НП явился сержант и спросил, кто тут руководил минометным огнем. Ему указали на меня, и он сказал, что меня вызывает начальник штаба, то ли полка, то ли дивизии, я теперь уже не помню. Но когда я спустился в подвал дома, где располагался этот штаб, то выяснил, что начальник штаба был в звании подполковника, его начальник полковник. Так вот когда подполковник подвел меня к своему начальнику, то мне показалось, что последний не совсем трезв. Он задал мне не очень твердым голосом несколько вопросов о постановке заградогня, а потом сказал своему начштаба - Знамя. Подполковник отвел меня в угол комнаты, где стояло несколько железных ящиков, открыл один из них, достал орден Красного Знамени и сказал, что меня им награждают.
Я засмущался и сказал, что меня уже представили к этому ордену. И если узнают, что меня за один бой наградили двумя орденами, то могут быть неприятности. Подполковник посмотрел на меня, как на умалишенного, и сказал: «Ну, как знаешь», и положил орден обратно. Я поблагодарил и ушел.
Забегая вперед, скажу, за эти бои меня уже после окончания войны наградили орденом Красной звезды, а моих разведчиков и радистов орденами Славы и медалями. Вот когда я пожалел о своей щепетильности и трусости.
Утром третьего дня нашего пребывания на захваченном плацдарме, немцы еще раз безуспешно атаковали нас, а в середине дня мы получили радостное известие, что наведена капитальная переправа через Одер, по которой переправилась танковая бригада с мотопехотой. Они прорвали оборону немцев, и пошли в прорыв. Вскоре и у нас появилось много наших войск. Наш полк тоже полностью переправился и двинулся вперед вместе с пехотой.
Нашей группе разрешили поспать до следующего утра, (не спали более 3-х суток), а потом догонять своих.
Чтобы не возвращаться к этим боям, расскажу, что в конце 50-х годов, работая в Риге на ВЭФе уже начальником цеха, я случайно встретился по работе с рабочим-вулканизатором машиноремонтного цеха завода Гунаром Заблудовским. В процессе разговора выяснилось, что мы с ним воевали в одном месте на левом берегу Одера. Правда, с разных сторон. Он сидел на кладбище, по которому я вел огонь, а ему, как и другим солдатам, офицер приказал стрелять по вышке господского дома, на которой сидел я. Мы вспоминали наши ратные дела в свои молодые годы и не испытывали никакой вражды друг к другу.
Более того, когда я уходил от него он предложил, что если мне что понадобится по работе, то чтобы я приходил прямо к нему, а не искал его начальства.
Следующим утром, выспавшись, высувшишись, и как следует, насытившись, мы по рации выяснили координаты своего полка и двинулись им вдогонку. Нам повезло. В нашем направлении двигались, какие-то танкисты и нам разрешили разместиться на броне. Ехали по автостраде, которая имела две бетонных полосы с двухрядным движением в каждом направлении. Между направлениями было метра три с травяным покрытием. Танки двигались по обеим полосам. Через некоторое время после начала движения впереди произошел сильный взрыв. Колонны остановились, и мы с командиром танка пошли, как и многие другие, посмотреть, что произошло. Выяснилось, что взрыв произошел под головным танком, но бетон не пробило, а под полотном образовалось, что-то похожее на пещеру. Землю из-под полотна дороги выбросило взрывом в сторону кювета. Посудачили об ошибке взрывника, который не рассчитал прочность бетонного полотна, или был просто дилетант, и поехали дальше. Только дистанцию между танками увеличили. Догнали мы своих в районе, где шел бой за город Воддов. Потом были еще бои за города Эллинген, Нойбранденбург. и еще на нескольких рубежах, названия которых я не помню, и, наконец, 1 мая наши войска ворвались в г. Росток. Дальше было море. Больше других мне запомнился Нейбранденбург. Видимо потому, что в этом городе мы ночевали в шикарной квартире. Спали на пуховых перинах и укрывались пуховыми одеялами. Дежурили мои солдаты и сержанты по два часа, и ночь прошла без приключений.
А утром мои разведчики обнаружили, брошенный хозяевами, магазин по продаже часов и принесли мне в подарок, что-то вроде шкатулки с тремя выдвижными ящиками, в каждом из которых было по двадцать разных часов, там были и наручные и карманные. Я потом эти часы дарил знакомым или производил так называемый, «шусь не глядя». Как это переводится на нормальный язык, и откуда появился этот термин, я не знаю. Но суть его заключалось в следующем. Два участника зажав к кулаке, или держа в руке за спиной, какую либо вещицу предлагали этот самый шусь, а попросту обмен не глядя. Иногда это был обмен, как говорится шила на мыло. Бывали случаи, когда таким образом обменивали часы или золотое кольцо на спичку или травинку. Просто так расслаблялись после тяжелых, смертельных боев, забавлялись как малые дети. Однажды на марше к следующему рубежу обороны немцев, на нашу колонну неожиданно налетели два «Мессера». Я на этот раз ехал на крыле со стороны шофера и когда почувствовал, что будет пулеметная очередь прямо по нашей машине, рванул руль на себя, и в этот момент она раздалась. Пули скользнули по крыше кабины. Пули были разрывные и несколько мелких осколков попали мне в лицо. Все лицо было в крови, и мои ребята сразу побежали за медиками. Пришел санитар, промыл лицо, и там оказалось два очень мелких осколка, следы, от которых сегодня трудно разглядеть. Один из них попал чуть ниже левого глаза. Попади он немного выше и я остался бы без глаза. В Ростоке наш полк разместили в так называемом больничном городке (Кранкштадт, кажется, так называли это место немцы). Но нам почему-то не разрешили поселиться в больничных домах. Привезли довольно большие палатки, в которых мы оборудовали из подручных материалов нары, натащили туда перин, постельного белья, столики, стулья и даже небольшую кафельную печурку и устроили довольно комфортное жилье.
Через день отдыха меня вызвал командир дивизиона и сказал, что ему поручили заняться разведкой восточных окрестностей города, а он поручает это мне с моими людьми.
Приказ надо выполнять. На следующий день мы сняли с кузова нашего Шевроле брезент и установили там пулемет ДШК на треноге. Я отобрал несколько разведчиков и двух радистов с рацией. Все это были люди, которые принимали со мной участие в форсировании Одера.
По фамилиям помню командира отделения разведки ст. сержанта Закатенко, разведчиков Голикова (он знал немецкий язык) и Шаронова. Было еще два разведчика, фамилии которых не помню. Помню командира отделения радистов сержанта Прибыткова. Эту фамилию я запомнил хорошо. Этот парень был хорошим служакой и отличным товарищем. Он любил рисовать и подарил мне несколько своих рисунков, на которых есть его подпись. Я эти рисунки храню до сих пор.
Вот такие рисунки. Конечно это не шедевры мирового искусства, но мне они очень дороги.
Был еще один радист, фамилию которого не помню.
Все вооружились автоматами ППШ, погрузили солидный запас дисков к ним, гранат и даже два трофейных фаустпатрона, я сел в кабину, остальные разместились в кузове таким образом, чтобы был круговой обзор, и поехали. Выехали из города через его восточную окраину и почти сразу въехали в лес. Пока ехали по лесу, где обзор был крайне ограничен, лично мне было не по себе. В одном месте мне показалось, что из кювета торчит ствол, а за ним два немца. Я крикнул шоферу «Стоп», и он резко затормозил. В кузове кто-то свалился, и сердито начали спрашивать, что случилось. Я в это время вышел из кабины и смотрел в бинокль. Вот тогда я разглядел, что это не ствол, а просто срубленное молодое деревцо. Когда я все это рассказал своим солдатам, кто-то сказал, что у страха глаза велики. Но эти разговоры резко пресек Володя Закатенко, сказав, что все сделано правильно. Лучше ошибиться, чем нарваться на настоящий пулемет.
Когда мы выехали из леса, то увидели, что дорога, по которой мы ехали, примерно, метрах в 250-300 от нас упирается в другую дорогу, образуя с ней Т-образный перекресток.
Мы остановились у кромки леса и стали наблюдать.
Понаблюдав минут 10-15, решили ехать дальше. Не успели проехать и 3-х минут, как по кабине застучали. Мы остановились. Вместо разговора Закатенко показал мне на Восток. Внимательно посмотрев в бинокль в указанном направлении, я увидел, что-то напоминающее колонну. Я тут же велел шоферу развернуться и вернуться к лесу, и мы стали наблюдать за колонной от кромки леса. Закатенко и другие одобрили мое решение. Примерно через полчаса наблюдения за колонной мне показалось, что колонна не вооружена, хотя отдельные люди были с винтовками. Когда я высказал это вслух, Голиков заявил, что это гонят пленных. Посоветовавшись, мы решили ехать навстречу колонне. Когда мы приблизились к ней метров на триста, в колонне раздались крики, колонна рассыпалась, и мы увидели, как были мгновенно разоружены и связаны конвоиры. Когда мы подъехали ближе, то услышали выкрики на разных языках, в том числе и на русском. Нас окружили плотным кольцом, говорили все сразу, да еще на разных языках. Особенно усердно пробирались к машине двое, которые повторяли одно слово: «юде, юде». Кто-то на русском объяснил мне, что это французские евреи, которых в лагере выдавали за французов, и поэтому они выжили. Все остальные евреи в лагере были уничтожены. А рвутся они, потому что им показалось, что я тоже еврей. Я сказал, что я действительно еврей, но это не имеет значения, и попросил поближе подойти людей, говорящих по-русски. Подошло несколько человек, которые рассказали, что их гонят неизвестно куда из лагеря в окрестностях города Барта. Потом сказали, что в лагере осталось много обессиленных и умирающих людей. Рассказав это, спрашивали, что им делать дальше и куда идти. А я и сам не знал.
Потом сообразил, что надо связаться с начальством. Когда командир дивизиона подошел к рации, я рассказал ему о случившимся и спросил, что с ними делать. А он вместо ответа сам спросил: «А ты что думаешь?» Я немного растерялся, а потом вдруг неожиданно для себя сказал, что я назначу старшего и направлю колонну самостоятельно в Росток к коменданту, а там пускай разбираются с ними. Кроме того, я сказал, что следует срочно послать медиков и продовольствие в лагерь под Барту. Командир дивизиона согласился. Я назначил старшими людей, с которыми разговаривал и велел им идти по дороге на Росток.
Позже медики рассказывали нам, что, приехав в лагерь пленных под г. Барту, обнаружили там несколько десятков живых еще скелетов, которые шепотом произносили одно слово: «соли». Всех их отправили на санитарных машинах в специальный госпиталь, предварительно влив каждому в рот по столовой ложке какого то раствора.
Когда колонна ушла, мы, посовещавшись, решили ехать в сторону города Барту. Проехав несколько километров, мы увидели дорогу, которая вела снова в лес, и решили поехать туда. Проехав немного по лесу, мы увидели, впереди какие то строения. Снова посовещавшись, прежде чем ехать, решили выслать разведку. Пошел Закатенко с одним разведчиком. Вернувшись, они рассказали, что это не строения, а высокий метра на два с половиной каменный забор и похоже, что за забором какой то старинный замок. А вокруг ничего не слышно.
Мы решили, соблюдая максимум предосторожностей, двигаться вперед. Подъехав к забору, мы увидели за ним большое здание, похожее на дворец. Проехав вдоль этого каменного забора метров 50, мы увидели большие железные ворота, которые были открыты, въехали в них и сразу по тормозам. Во дворе рядом с замком стоял строй стариков и детей в немецкой военной форме. Я сразу крикнул «Хенде Хох!», это был почти весь мой запас немецких слов.
Одновременно из кузова прозвучала короткая очередь в воздух. Весь строй, дружно присев и бросив оружие, подняли руки, а к нам направился их командир и тоже с поднятыми руками. Подошел и начал что-то говорить. Голиков переводил, что батальон фольксштурма под командованием его командира гауптмана (назвал фамилию), в полном составе (назвал цифру в двести с чем-то человек), сдаются в плен, и протянул мне кобуру с пистолетом. Это оказался 16-ти зарядный Вальтер. Я пистолет забрал и потребовал планшет, который висел на нем. Пистолет этот отобрали у меня, когда уволили из армии, а планшет до сих пор храню у себя как память о молодости и войне.
Потом скомандовал все оружие сложить в общую кучу на землю, а самим встать в строй. Голиков переводил, и все было выполнено. А я мучительно думал, что мне делать дальше. Хотел связаться с командиром дивизиона, а потом подумал, что он и сам не знает, и я поставлю его в неловкое положение. А потом принял решение самостоятельно.
Назначил командира первой роты, обер-лейтенанта, (кстати, по моим понятиям, лет шестидесяти) старшим, дал ему записку, в которой написал, что его батальон в составе (написал цифру, которую назвал гауптман) добровольно сдался в плен и направляется на сборный пункт в город Росток, и скомандовал: «Шагом марш в Росток».
Командира батальона я решил оставить у себя. Сами мы немного задержались. Я послал Закатенко с двумя разведчиками осмотреть замок. В замке оказалось что-то вроде музея, и ничего ценного, на взгляд Закатенко там не обнаружилось. После этого мы посадили в кузов немецкого гауптмана, поехали к себе в Росток. По дороге мы своих пленных не обогнали и решили, что они или разбежались по домам, или пошли другой дорогой. Во всяком случае, договорились начальству ничего не докладывать, пока они не явятся. К моей радости они явились примерно через полчаса, пока мы обедали.
Потом выяснилось, что они пришли по ближней тропе прямо через лес. Я привел немца к командиру дивизиона, тот сразу повел нас к командиру полка. Вызвали замполита полка и начали обсуждать, как использовать немецкого капитана. Приняли «гениальное» решение. Позвали переводчика и написали листовку на немецком языке с призывом к немецким солдатам и офицерам сдаваться в плен. Там говорилось, что им гарантируется жизнь и питание, а после фильтрации и регистрации их отпустят по домам.
В случае обнаружения их дома без такой регистрации последует наказание. На следующий день мы с немцем поехали по лесам. Он под нашим контролем входил метров на 20-30 в лес, громко читал листовку, добавляя к тексту свое звание и фамилию. В большинстве случаев, из леса выходило человек 70-100 обезоруженных немцев, я назначал старшего, как правило, офицера, писал записку и отправлял в Росток. Я их не считал, но мне потом говорил начальник штаба полка, что они приняли за все эти дни около 2500 пленных. Я и моя группа занимались этим делом с утра до вечера. Однажды мы заблудились и вернулись домой уже в полной темноте, поужинали и завалились спать в своей палатке. Проснулись мы от сильной перестрелки.
Схватив свои автоматы и карабины, мы залезли под нары и приготовились к отпору ворвавшимся, как мы решили, СС-овцам. Через некоторое время услышали возле нашей палатки, как кто-то сказал, что надо разбудить ребят, дескать, потом выспятся. Дверь палатки откинули и заорали «Подъем». Мы начали смущено вылезать из под нар, и нас подняли на смех. Вот таким способом наша группа встретила день Победы, запомнившийся всем нам на всю жизнь. Еще бы, весь день, и не только в этот день, в голове бродила радостная мысль: Война кончилась, а я живой! Живой! Живой! И буду жить!
Я теперь уже не помню, сколько времени мы после этого дня бездельничали. Но вот появилась совершенно неожиданная и непривычная работа. Нам объявили, что все наши автомашины, полученные от Америки по ленд-лизу, мы должны вернуть и вернуть полностью, в том виде, в каком их получили, т. е. полностью укомплектованными, в том числе и инструментом. А вот с этим было очень плохо. Почти весь американский инструмент разворовали и пользовались нашим, советским. Что было делать, никто не знал. Наконец кто-то предложил применить старый испытанный и эффективный российский способ: воровать инструментальные сумки с инструментом у самих американцев.
Для этого в каждом дивизионе выделили группу, которая должна была отправиться в Берлин и заняться этим «общественно полезным» делом. В нашем дивизионе старшим группы назначили меня.
Приказ есть приказ и его надо выполнять. Я начал с того, что выявил в дивизионе всех шоферов, бывших воров. Таких обнаружилось 6 человек. Кроме этих шестерых, я взял себе в помощники старшего сержанта Закатенко. Приехав в Берлин, мы начали изучать проблему. Выяснилось, что, видимо, американцы уже набрались опыта общения с нашим братом. У американских машин все ящики с инструментом оказались на замках. Оставалось одно: угонять машины. Один из бывших воров предложил следующую методику. Собрали все часы, которые были у нас в наличии. Один надевал их на руку под рукав гимнастерки, подходил к американскому водителю в машине, задирал рукав, приглашая водителя по дешевке купить их. Если американец выходил из машины, его звали войти в соседний двор. Все это конечно при помощи жестов. Иногда некоторые из них, в основном негры, соглашались. Как только они входили во двор, его напарник, заводил машину и уезжал. А «продавец» быстро уходил из двора в другую сторону. Иногда аеиканец, выходя из машины, оставлял там ключи. А если не оставлял, то наши умельцы, быстро подключая зажигание напрямую, и быстренько в путь - на условное заранее место.
Так мы ездили в Берлин 5 или 6 раз и за это время угнали 11 Студебекеров. Почему-то эта цифра застряла в памяти.
В каждый приезд промышляли в другом районе города. Заодно побывали у рейхстага, но расписываться там уже было негде. Там были подписи одна на другой, и разобрать там было ничего нельзя. Побывали мы у Бранденбургских ворот и в других местах.
После очередной нашей поездки в Берлин нам сказали, что машины сдавать не надо и поэтому угонять их тоже больше не требуется. Возвращать угнанные машины законным владельцам никому не пришло в голову. Точно не помню, но где-то в конце июня или в начале июля нашу бригаду передислоцировали в район города Бунцлау (ныне это территория Польши и город этот называется Болеславец). Штаб бригады расположился в старинном замке, а наш полк неподалеку в сельском поселке. Пребывание в этом месте запомнились двумя, если так можно выразиться, банкетами. Первый банкет был организован прямо в поселке, где расположился наш дивизион, а проводился он в честь присвоения звания майора нашему командиру дивизиона. Мы звали его за глаза, Костя Львов.
Столы стояли прямо на улице. Присутствовали, наверное, все офицеры, и не только офицеры, дивизиона, были и женщины, как наши медики, так и польки. Обмывали майорские погоны, как положено: произносились тосты, пели песни, играли два аккордеона, танцевали до упада. Никаких особых происшествий не было.
Через некоторое время у меня на стопе левой ноги, появилась, какая то неприятная сыпь, которая ужасно чесалась. Вылечить ее в нашем медсанбате не сумели и отправили в госпиталь. Как называлось место расположения госпиталя, я не помню, но помню, что госпиталь был кожно-венерический, и меня поразило огромное количество больных венерическими болезнями, как мужчин, так и женщин. Мою сыпь на ноге определили, как болезнь, которая называется эпидермофития. Прокантовался я в этом госпитале недели две. Сыпь мою залечили какими - то мазями, и вернулся я в свою часть, как раз подоспев к свадьбе. Женился офицер из штаба бригады, а меня туда привел командир дивизиона, который был приятелем жениха. Свадьба была как свадьба. А запомнилась она мне на всю жизнь тем, что со мной там случилось. А случилось следующее. Дело в том, что я пил спирт, не разводя его водой, как некоторые, а запивая водой. Вода на столе была в графинах. Когда в нашем графине вода кончилась, я начал оглядываться и увидел, что через несколько человек слева от меня принесли наполненный графин, и там его начал разливать какой - то капитан. Я его попросил передать графин, и через минуту он крикнул: «Держите графин».
Произнесенный тост уже выпили, и я, догоняя компанию, выпил свой спирт, налил в стакан из графина и запил. Как вы понимаете, я просто задохнулся. Через несколько человек от меня справа сидел помпотех бригады полковник Кац. Я его хорошо запомнил, так как это был очень крупный, высокий и толстый человек, и я с ним встречался, когда мы угоняли у американцев машины. Так вот я стою ни живой, ни мертвый, не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть, а он кричит: «Младшой! Давай сюда воду». Я мотаю головой и руками, что мол, нельзя, а он кричит: давай. Я отдал ему графин, а сам с помощью соседки вышел из-за стола, и меня отвели в какую-то комнату. Как меня отхаживали, я не помню, но свадьба на этом для меня закончилась. А полковник, повторив мой номер, как мне потом рассказывали, долго меня искал.
Потом потекли обычные будни. Где-то в первой декаде августа меня вызвал майор Львов и объявил, что я должен явиться к командиру полка, который приказал откомандировать меня в штаб артиллерии 2-го Белорусского фронта для выполнения какой-то работы. Командир полка никакой ясности о работе в штабе фронта не внес, а только говорил о том, что я обязан поддержать репутацию полка и выполнять всю порученную работу четко и добросовестно.
В заключение разговора он велел мне явиться к начальнику штаба артиллерии фронта.
Штаб фронта размещался недалеко, в г. Лигнице (или Легница), на разных картах по-разному. На следующий день я явился по указанному адресу. Доложил адъютанту о прибытии, получил направление в гостиницу и указание явиться к начальнику штаба завтра к 10-00. Когда я назавтра явился, адъютант велел мне немного подождать. Потом явился майор, как выяснилось, сотрудник штаба артиллерии фронта, и адъютант ввел меня с этим майором к полковнику. После соответствующих представлений, полковник посадил нас и объяснил задачу. Майор назначался начальником, так называемой вертушки, а я его заместителем. Это эшелон из 50-ти открытых платформ и крытых товарных вагонов, оборудованных для перевозки людей, один из которых выделяется для нас с отделением солдат во главе с сержантом. В нашу задачу входит перевозить артиллерийские полки на новое место их дислокации по утвержденному плану. Майору и мне выдали соответствующие удостоверения, в приемной нас ждали шесть солдат во главе с сержантом, и все мы направились к коменданту станции.
Комендант с кем-то переговорил по телефону, и мы пошли принимать вагоны. Проверяли их целостность, работу дверей, внутреннее оборудование и количество вагонов. Закончив с приемкой, майор взял с собой двух солдат и, сказав, что надо прибарахлиться, ушел.
Через некоторое время они приехали на машине и привезли десять кроватей с матрацами, с постельным бельем и одеялами, стулья, небольшой столик, тумбочки, вешалки и даже два зеркала.
Кроме того, они привезли посуду, кастрюли, сковородки и много другого. Печка в вагоне была. Одну половину вагона заняли мы с майором, вторую солдаты. Расставили кровати и тумбочки, прибили вешалки и повесили на них шинели.
Обеспечив себя приемлемыми бытовыми условиями, майор решил заняться непосредственно делом, которое нам было поручено. Из своей полевой сумки он вытащил стопку врученных ему в штабе документов и позвал меня принять участие в их изучении, как он выразился. Документы оказались очень простыми. В них просто было перечислено наименование частей и указано, откуда и куда их следовало передислоцировать, причем последовательность перевозок должны были определять мы сами. На погрузку и разгрузку устанавливался срок в три дня. Особо оговаривалось, что грузить разрешалось только табельное имущество и вооружение.
Ознакомившись с этим документом, майор свистнул и сказал, что здесь работы хватит на полгода. Потом спросил меня: «Ну, что будем делать?» Я, немного подумав, сказал, что, по-моему, следует разработать наиболее короткие маршруты и тогда можно ускорить дело, но для этого нужна более подробная, чем обычная карта.
Майор (фамилию его я не помню, в неслужебной обстановке он велел называть его Федор Иванович, что я и делал) сказал, что карта это не проблема и в тот же день привез настоящие жд карты территорий Германии и Польши. Я такие карты увидел впервые в жизни. На этих картах были обозначены не только все станции и полустанки, но даже все разъезды и переезды. Кроме того, там были обозначены расстояния между всеми обозначенными объектами. Работа оказалась несложной. Просто я нашел ближайшую к Лигнице станцию, на которой нам следовало производить погрузку артиллерийской части. Потом нашел место разгрузки и далее снова пункт ближайшей погрузки. И т.д. Майор одобрил мою работу и позвал меня с собой к коменданту станции. Выяснилось, что самое главное в нашей работе, это получить паровоз и получить согласие соседней станции принять эшелон. А все это зависело в первую очередь от военных комендантов станций, которые в свою очередь руководствовались документами, которые имелись у руководителей эшелонов. Тогда я впервые услышал название литерный эшелон. Веный комендант Лигницы, майор, ознакомился с документами, которые ему предъявил Федор Иванович и обещал отправить наш эшелон утром следующего дня. Кроме того, комендант предупредил нас о необходимости тщательно охранять хвостовые вагоны, так как в последнее время, особенно на территории Польши, наблюдается воровство вагонов. Федор Иванович поручил мне организовать охрану вагонов на стоянках. Я в свою очередь поручил нашему сержанту (фамилию я не помню, я его звал просто Виктором), организовать охрану вагонов. Виктор резонно заявил, что вагоны хвостовыми будут только во время остановок на станциях и на это людей хватит, а во время погрузки в течение 3-х суток надо будет охранять оба конца поезда, да еще круглосуточно. Я подумал, что надо будет во время погрузок и разгрузок, возложить охрану вагонов на саму часть, а мы должны будем сдавать под охрану и принимать вагоны по счету. Майор одобрил наше решение, а утром мы получили паровоз и отправились к первому клиенту.
Прибыв на место, мы с Федором Ивановичем явились к командиру полка в звании подполковника, представились, доложили о подаче эшелона, о сроке и правилах погрузки, о необходимости охраны вагонов во время погрузки и разгрузки. Командир полка тут же велел начальнику штаба отдать необходимые распоряжения дивизионам и пригласил нас на обед.
Во время обеда, после нескольких чарок, командир полка начал уговаривать Федора Ивановича разрешить погрузку нескольких трофейных автомашин. Федор Иванович упорно сопротивлялся, а потом заявил, что сначала надо погрузить все табельное имущество, а там видно будет. Командир полка что-то сказал начальнику штаба, и тот сразу ушел. Когда мы вернулись к себе после обеда, охрана вагонов уже была выставлена. Погрузка началась в тот же день. На этой станции была рампа с пандусом, с которой можно было грузить сразу две платформы. Погрузка продолжалась и ночью. Видно было, что в полку все было подготовлено к погрузке.
Утром следующего дня ко мне подошел Виктор и сообщил, что наш эшелон вырос на пять вагонов. Федор Иванович к этой новости отнесся спокойно и сказал мне, что в нашу задачу входит проследить, чтобы не было брошено табельное имущество и что он уже принял необходимые меры.
Паровоз был выделен вовремя. Погрузка была закончена в установленный срок, даже раньше. На пять дополнительных платформ были погружены трофейные автомашины и какие-то большие ящики. Слышал разговоры, что в них была мебель.
Весь первый рейс прошел без сучка и задоринки. Нашу команду, в том числе и солдат, всю дорогу кормили горячей пищей и даже угощали спиртом. Однако Федор Иванович лично выдавал всем нам, в том числе солдатам по небольшой чарке, только на ужин, перед сном.
Разгрузившись, мы по разработанному плану отправились за новыми пассажирами. Приобретенные дополнительно пять платформ отправились вместе с нами и стали как бы нашей собственностью.
Так проходил рейс за рейсом, ничем особенным не отличаясь, друг от друга. Я не помню всех городов и поселков, в которых мы грузились и разгружались. Но один небольшой городок мне запомнился тем, что он был в горах с очень красивыми видами. А еще тем, что в местном ресторанчике был необычный пол. Он был сделан из плиток прозрачного и разноцветного материала, похожего на современное оргстекло. В центре зала пол представлял собой несколько красивых букетов цветов. Кабинки со столиками располагались вдоль стен, а в центре посетители танцевали.
Причем во время танцев свет в зале гасился и одновременно зажигался под полом. Получалось очень красиво. Городок этот, если не изменяет память, назывался Гетесберг, или что-то похожее.
Такая сравнительно спокойная жизнь продолжалась примерно до конца сентября, когда у Федора Ивановича случился сердечный приступ, как тогда говорили. Его срочно увезли на санитарной машине, в какой то госпиталь, а я побежал к военному коменданту с просьбой связать меня с начальником штабом артиллерии.
Ответил адъютант. Начальника штаба на месте не оказалось. Я доложил адъютанту о случившимся, и просил срочно назначить нового начальника вертушки. Адъютант помолчал, а потом велел мне взять в полку, который разгружался, машину и к 10 утра следующего дня прибыть к ним в штаб. Я ему в ответ сказал, что машину мне никто не даст. Тогда он велел передать трубку коменданту. Комендант, переговорив с адъютантом, велел мне идти с ним. Пришли к командиру полка, полковнику по званию, и комендант сказал ему, что по распоряжению командующего артиллерией генерала Соколовского он должен немедленно выделить «Виллис» или «Додж» для срочной поездки в штаб фронта. Через некоторое время ко мне пришел шофер - мл. сержант и доложил, что машина заправлена и можно ехать. Дело было к вечеру, и я сказал ему, что ехать нам около 200 км. И, что если мы выедем в 5 часов утра, то к 10 утра должны прибыть на место.
Шофер со мной согласился и обещал к 5 утра быть готовым.
Когда мы к 10 утра прибыли на место, мне велели явиться через час. Когда я пришел к 11 часам, то меня сразу провели к начальнику штаба, и тут произошло совершенно неожиданное. Полковник заявил мне, что начальником вертушки назначили меня.
Я решил, что это шутка, и сказал, что будет очень интересная сцена, когда младший лейтенант будет стучать кулаком по столу майора-коменданта, требуя паровоз. Полковник усмехнулся и молча протянул мне бумажку, в которой было написано примерно следующее. Предъявитель сего мл. лейтенант Новаковский В.М. является представителем Верховного главнокомандования и выполняет ответственное задание. Всем военным комендантам жд станций на территории Германии и Польши предписывается оказывать ему всемерное содействие.
И подпись Рокоссовского.
И все же я думаю, что сделано это было смеха ради. Когда мы закончили эти перевозки, адъютант мне со смехом говорил, что было несколько звонков от военных комендантов, которые спрашивали, не с фальшивкой ли ходит тут какой - то младший лейтенант.
Документ этот меня заставили сдать по окончании работы. А жаль, был бы уникальный сувенир.
Проездили мы до начала ноября. Все шло нормально, без особых происшествий. В памяти сохранились неприятные сцены, когда командиры полков, подполковники и полковники, заискивали перед «сопливым» младшим лейтенантом, добиваясь разрешения грузить нетабельное имущество. Запомнилась еще одна история. Последним рейсом мы привезли очередной полк в польский городок, (название не помню), в котором недалеко от станции был небольшой сахарный заводик, на который наткнулись Виктор со своими солдатами, бродя по окрестностям станции. Так вот, они пришли оттуда с предложением продать лишние пять вагонов. Хозяин сахарного заводика за вагон предлагал мешок сахара. Поскольку вагоны были не наши, более того, я подумал, что из-за них могут быть неприятности, я разрешил.
Когда разгрузка была закончена, эти пять вагонов отцепили, а пять мешков сахара доставили прямо к нам в вагон.
Виктор предлагал мне мешок сахара, но я категорически отказался.
Когда мы приехали в Лигницу, я пришел в приемную начальника штаба. Адъютант вошел доложить. А когда вышел, дал мне талон в гостиницу, велел сдать вагоны и приходить послезавтра к 13-00. Почему запомнилось именно это? Это загадки памяти.
Мы вместе с Виктором сдали вагоны, составили соответствующий акт, сдали в АХО, они прислали свою машину, все имущество, которое привез Федор Иванович. Я распрощался с Виктором и его солдатами. Они служили, в каком - то штабном подразделении. А сам пошел устраиваться в гостиницу. Вечером ко мне в гостиницу явился Виктор с вещмешком, в котором было килограммов 15 сахара в бумажных пакетах и, не обращая внимания на мои возражения, просто оставил его и ушел. Когда я в назначенное время явился к полковнику, он поблагодарил меня за успешную службу, и в награду вручил пригласительный билет на банкет в честь 28-й годовщины Октября. Потом он ошеломил меня, сообщением о расформировании нашей 19-й бригады, но сказал, что мой полк в полном составе влили в 76 гв. стрелковую дивизию и что меня пошлют для дальнейшего прохождения службы в свой полк.
Банкет прошел как обычно, за исключением того, что в разгар банкета явился командующий маршал Рокоссовский, который поздравил всех с праздником, а потом, подняв рюмку, произнес: «А теперь выпьем за тех, кто действительно воевал, за артиллеристов!». Раздались буне аплодисменты и восторженные выкрики. Потом мы узнали, что такой тост Рокоссовский произносил на банкетах всех управлений фронта.
Получив все документы, в том числе аттестат и проездные документы, я отправился искать свой полк. 76 гв. стрелковая дивизия, в состав которой вошел мой полк, располагалась, это я хорошо помню, в городе Растенбурге.
К сожалению, на тех картах, которые есть у меня, я такого названия не нашел. Помню, что этот город был недалеко от города Аллеинштеин. Еще помню, что мы ездили посмотреть ставку Гитлера, под названием Волчье логово. Ставка эта тоже была недалеко от Растенбурга.
Когда я прибыл на место, то моего полка уже не было, но мой дивизион в полном составе вошел в новый артполк № 653. Командир полка был подполковник Масленников. Как мне говорили, он был раньше командиром одного из полков в нашей 19-й бригаде.
А бывший командир нашего полка полковник Степанов отбыл на учебу в академию. Командир дивизиона майор Львов был на своем месте и встретил меня очень радушно и велел приступить к своим обязанностям начальника разведки дивизиона, должность эта оставалась свободной. Жить меня определили к двум офицерам, которые жили неподалеку от расположения части, в квартире в которой раньше жили немцы, сбежавшие в Германию. Один из них был капитан-комбат, а второй ст. лейтенант - старший по огневой позиции этой же батареи. Обеих звали Владимирами. Когда меня к ним подселили, нас стали называть три Володи.
Время проходило однообразно. Днем проводили разные занятия с солдатами, а вечерами или играли в преферанс, на который в нашей квартире собирались соседские офицеры, или сидели в ресторане. А еще ездили изредка на экскурсии, в том числе побывали в ставке Гитлера, недалеко от Растенбурга.
Пока я работал на «вертушке», мы с мамой опять потеряли друг друга, но, теперь осев на месте, мы списались через Цилю Григорьевну.
Я узнал, что мама с Нелей уже приехали в Москву. Мама работает начальником отдела кадров на маргариновом заводе. Прописаны они в Москве, а живут фактически на станции Строитель в общежитии. Это следующая станция за Мытищами.
Однажды, в самом конце декабря, мы, три Володи и еще один офицер, сидели в ресторанчике, который был по соседству с нашим домом, поэтому мы были в одних кителях. Сидели мы около окна, выпивали, ужинали, беседовали, обсуждая вчерашнее событие.
Вчера в этом же ресторане сидели офицеры-пехотинцы. Как водится, ужинали с обильной выпивкой. Потом у них возникла ссора. Они начали кричать, угрожая друг другу, потом кто-то разбил тарелку. Хозяин покрутился около их, пытаясь успокоить, а потом побежал на улицу и привел подвернувшийся кстати патруль.
Патруль демонстративно снял с ругавшихся офицеров ремни, объявил их арестованными и увел. А утром нам рассказали, что арестованные офицеры и патруль были в сговоре, и они разыграли просто спектакль, чтобы не заплатить за ужин.
Не успели мы до конца обсудить мелочность пехотинцев, как увидели, что по улице двигается воинская часть. Присмотревшись, поняли, что это части нашей дивизии. Мы забыв о приличии и не заплатив за ужин, выскочили на улицу и узнали, что части дивизии подняли по тревоге и все двигаются на несколько разных жд станций в окрестностях Растенбурга для погрузки в эшелоны. Мы довольно быстро нашли свой дивизион, получили нагоняй от командира и тронулись к своим подразделениям. Майор Львов остановил меня, объявил, что я назначен руководить погрузкой, сказал мне, на какой станции мы будем грузиться и велел, взяв свою машину с людьми, ехать на эту станцию. Приехав на эту станцию, я нашел коменданта, выяснил, какой эшелон предназначен для нашего полка и пошел его искать. Найдя эшелон, послал двух солдат встречать наш полк и привести его к эшелону. Погрузка продолжалась двое с небольшим суток. Мне повезло. Мои товарищи по ужину в ресторане, когда мы выскочили из ресторана, разделились.
Один побежал в батарею, а другой домой и забрал все наши вещи.
Я не помню точно всех дат, но помню, что мы прибыли на станцию где кончилась узкая европейская и начиналась широкая колея как раз под новый год, 29 декабря 1945 года. К сожалению, эшелона на широкой колее не было, и никто не мог сказать, когда он будет.
Поэтому, разгрузившись и устроившись в каких-то домиках, мы начали думать о встрече нового года. Майор Львов вызвал старшин всех батарей и дал поручение достать спиртного, а мне поручил организовать стол. Я подумал и решил, что надо сделать, что-нибудь необычное. Пошел к нашим полковым пекарям (была у нас своя полковая хлебопекарня) и попросил теста для пельменей. Они обещали. Мясом, луком и всякими специями разжился у поваров. Один из поваров даже взялся полностью приготовить фарш, если ему дадут мясорубку. Я послал своих солдат искать ее у немногочисленных местных жителей. Нашли у одного местного железнодорожника, но он ее не дал на вынос, а предложил делать фарш у него дома. Повар согласился, если ему дадут помощника. За этим дело не стало. Короче, с самого утра 31-го я с тремя своими солдатами засел за приготовление пельменей. Когда были готовы первые три десятка, я решил, что надо снять пробу. В доме была плита с котлом, но первую партию я решил сварить в котелке. Вскипятил воду, засыпал пельмени и минут через пятнадцать мы дружно уплели первую партию.
Всем очень понравилось. И мы принялись за работу. Мы очень старались, и к вечеру было готово около 1000 штук, хотя и не все они были идеальной формы. Главная проблема, которая у нас возникла, это на чем их раскладывать. Вышли из положения, найдя несколько листов фанеры и покрыв их газетами. Закуска была фактически готова. Дело было за спиртным. Двое старшин вернулись ни с чем. Третий привез две четверти самогона. Решили этот самогон (четверть- это три литра) разлить по бутылкам, чтобы распределить их равномерно по столам. Однако, когда открыли четверть, то появился такой запах, что просто дышать было нечем. Мы все же, зажав носы, разлили самогон по бутылкам, а там пускай каждый решает, что с этим делать.
В самую большую комнату этого дома мы натащили столы и стулья, сколько влезло, а влезло около 25 стульев. Всех приглашенных предупредили приходить со своими кружками и котелками или мисками. Около 22 часов я велел затопить печь и начать греть воду в котле. Когда почти все офицеры дивизиона и другие приглашенные собрались, явился вестовой из штаба полка и сказал, что меня вызывает начальник штаба.
На случай, если меня задержат, я напомнил своему солдату, что пельмени надо бросать в кипящую воду. Он подтвердил, что помнит это. Однако, когда я явился еще до 24 часов, то обнаружил, что мои пельмени едят отдельно мясо и отдельно вареное тесто.
Правда, меня никто не обвинял, а, наоборот, со смехом успокаивали и требовали налить мне штрафную за опоздание проводить старый год. Оказывается, кто-то из офицеров заявил, что не обязательно ждать, пока вода закипит, можно варить и так. Вот и сварили.
Пишу об этом так подробно, так как за неделю пребывания на этой станции, это единственное, что запомнилось.
А начальник штаба сообщил мне приятную новость: из штаба артиллерии Северной группы войск пришло письмо в котором предлагалось за хорошую работу объявить мне благодарность по полку, о чем мне и было объявлено.
Через неделю мы погрузились и поехали в Россию. Ехали без приключений, за исключением Минска, где на стоянке, наш эшелон пыталась ограбить какая-то банда. Часовые открыли огонь - и бандиты разбежались. Среди них были раненые. Это определили по следам крови, которые обнаружили утром. Говорили, что это была какая-то банда с названием «Черная кошка», которая тогда наводила навех страх. Вскоре приехали в Вязьму, в которой простояли несколько суток. Видимо решали, куда нас двигать дальше.
В Вязьме у меня вдруг начал пропадать голос. Или я простудился, или накричался во время погрузки. Так или иначе, но голос пропал, чуть ли не полностью. Я начал говорить почти шепотом.
Куда едем - неизвестно. Потом поехали, но не в сторону Москвы, а на Юг. Наконец сказали, что едем в г. Киров, Калужской области.
Штаб дивизии расположился в городе Киров, а наш полк в селе Воскресенское, в 5-6 км. от города. Личный состав разместился в огромных землянках длиной метров 40 и шириной метров 6-7. В этих землянках было хорошее отопление, была даже специальная сушилка для обмундирования и обуви, была отделенная от общего помещения каптерка старшины. Кровати стояли вдоль стен, облицованных досками. Перекрытия - бревна, изнутри тоже облицованные досками, а сверху засыпанные землей почти вровень с поверхностью. С поверхности наличие землянок выдавали только входы, дымовые и вентиляционные трубы. Все землянки были оборудованы электрическим освещением.
В каждой землянке размещался полностью личный состав батареи. Кроме того, на каждый дивизион была хорошо оборудованная штабная землянка.
Некоторым неудобством были умывальники, размещенные на улице возле каждой землянки, и туалеты, устроенные на значительном удалении от землянок.
Штаб полка разместился в домике на окраине села, неподалеку от землянок. Если мне не изменяет память, командир полка и начальник штаба, разместились на жительство в одной из комнат этого же дома.
Общеполковая столовая размещалась в большом, видимо специально построенном для этой цели бараке. Там же разместилась столовая для офицеров. Все офицеры расселились по частным домам. Я поселился в доме, который был расположен примерно в середине села. Мне там выделили отдельную комнату, в которой была кровать, небольшой столик, два стула и небольшой шифоньер. Видно, в этой комнате давно уже жили офицеры, сменяя один другого. Хозяева были очень приветливы и доброжелательны. Хозяина звали дядя Костя - сухорукий. Он был тяжело ранен в 1915 году на фронте 1-й мировой войны. У него была полностью удалена плечевая кость левой руки, но все остальное осталось. Он любил всех поражать тем, что брал правой рукой за кисть левой и поворачивал ее вокруг оси на 180 градусов, потом отпускал, и она сама возвращалась с нормальное положение. Более того, он этой рукой немного работал. Рубил правой рукой дрова, а левой поддерживал полено. Выполнял и многие другие работы. Было ему тогда года 52-53. Жена его тетя Настя была лет на 6-7 моложе. Была у них дочь Лена, лет двадцати. Она работала бригадиром в колхозе. Была у них еще одна дочка Катя, которой было годика три. Она постоянно бродила по дому в одном платьице и вечно путалась у всех под ногами. Был у них еще сын, который погиб во время бомбежки их села немцами. Жили мы со своими хозяевами очень хорошо. Даже питались вместе. Я получал сухой паек и отдавал его тете Насте. Единственное, что она просила, чтобы я вместо крупы, в основном пшена, просил побольше соли, перца, горчицы и других специй. Начпрод полка в этом шел мне навстречу.
Прошло около месяца, а голос не появлялся, и меня послали в гарнизонный госпиталь в Калугу. Госпитальные эскулапы, осмотрев и опросив меня, сделали заключение, что голоса у меня теперь никогда не будет. Я страшно расстроился и решил, что теперь меня выгонят из армии. Но, когда я вернулся в полк, меня приняли таким как есть и, похоже, выгонять не собирались.
Среди местных девчонок я никого не выделял. Танцевал в местном клубе со всеми по очереди, Провожал после танцев ту, с которой танцевал последний танец. Никому особого внимания не оказывал. В душе, как заноза, сидела Октябрина, и мне казалось, что, симпатизируя кому-нибудь из девчонок, я становлюсь изменником по отношению к Октябрине. Ведь я не получил еще достоверных сведений о ее гибели. Были только слухи. Все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что Лена, чем дальше, тем больше начала оказывать мне внимание. Я думаю, что ее мать все видела, и ее очень беспокоило, что я с ней побалуюсь, использую и брошу. Ну и если быть честным, то так оно и могло случиться. Тетя Настя была простой крестьянкой, но женщина она была очень умная.
Где-то в конце апреля или в начале мая меня вызвал майор Львов, велел подобрать двух надежных человек из своих подчиненных и готовиться к командировке в Москву вместе с командиром полка.
Я с согласия командира полка подполковника Масленникова подобрал двух человек, у которых в Москве или в ближайших окрестностях есть родственники.
В Москве, нас разместили в гостинице штаба Московского военного округа. На другой день командир полка пошел в штаб округа, а нам велел ждать в гостинице. Часа через два он явился и сказал, что у нас три свободных дня, так как человек, который его вызвал, срочно уехал на три дня и велел ждать его. Нам разрешалось ехать куда угодно, но нигде ничего не нарушать, чтобы не быть задержанными патрулем. Особенное внимание уделить внешнему виду и особенно чистоте обуви. Ночевать обязательно приезжать в гостиницу.
Я сразу поехал к Никитским воротам к тете Роне. Ведь я даже не знал точного адреса, по которому жили на станции Строитель мама с Нелей. Меня радостно встретили и объявили, что именно сегодня мама должна после работы приехать сюда, и сюда же должна придти из школы Неля, чтобы вместе ехать домой.
Вскоре произошла радостная встреча. Не избежали и слез. Меня особенно удивила сестренка. Я ее оставил шестилетней девчушкой, такой и запомнил, а на меня вдруг набросилась 11-тилетняя почти девушка, заканчивающая 4-й класс
Были бесконечные взаимные расспросы обо всех 5-ти годах, в течение которые мы не виделись. Выяснилось, что заботу о маме взял на себя бывший главный инженер треста, которым руководил отец. Фамилию его я не помню, но знаю, что вскоре после ареста отца, его перевели в Москву, где он занимал большие должности в наркомате пищевой промышленности. Это он помогал маме в эвакуации, и он же устроил ей вызов в Москву, устроил на работу начальником отдела кадров маргаринового завода, прописку в Москве и жилье в общежитии на станции Строитель. Смелый был человек и видимо очень уважал отца.
Потом я решил, что поеду вместе с мамой и Нелей, посмотрю, где они живут, а завтра, если будет возможность, приеду к ним.
Когда приехали на станцию Строитель, я посмотрел, в каком бараке и в каких условиях они живут.
Одновременно мама сказала, что отец просил, чтобы я ему не писал, а держал связь с мамой и все узнавал через нее.
Я оставил маме все деньги, которые мне удалось скопить, и просил приобретать на них все необходимое для посылки отцу, которую я повезу ему, когда получу отпуск. Оставил себе только жалование за полмесяца. О том, что мы вскопали огород, я не сообщил, чтобы это явилось для матери приятным сюрпризом.
Уехали мы часов в девять и на этот раз хорошо выспались.
Утром пришел командир полка и сказал, что нужда в нашей командировке отпала, и вечером мы едем к себе в часть.
Поскольку днем все на работе или в школе и повидаться ни с кем не удастся, я решил сходить вместе с ребятами в ресторан «Прага», в котором давно мечтал побывать.
В ресторане, внимательно изучив меню, а главное цены, мы заказали, как водится, по 100 грамм водки, украинский борщ, отбивные и мороженное. Но самое главное не в названиях. Главное в том, что все это настоящее, на самом высоком гастрономическом уровне. Моего полумесячного жалования должно было хватить с небольшим запасом. Поглощали мы свой обд млея от удовольствия. По ходу дела, я учил своих ребят на отбивной котлете пользоваться вилкой левой рукой, а ножом - правой. Меня самого этому научили еще в училище. Я забыл об этом рассказать, когда писал об училище. Да и применять это умение на практике, кроме как в учебных целях, мне до сих пор не приходилось. Официант, наблюдая за нашими усилиями в освоении этой науки, только улыбался в усы. Но к концу обеда мы все же освоили это искусство, и все были довольны.
Когда мы приехали к себе в Воскресенское, меня сразу вызвал командир дивизиона майор Львов и неожиданно начал извиняться. Я не сразу понял, о чем речь. Оказывается, что, когда он приказал мне исполнять обязанности начальника разведки дивизиона еще под Данцигом, он забыл это назначение оформить официально, и сделали это только сейчас, когда на должность командира взвода управления 2-й батареи прибыл молодой офицер. Я на этой ошибке потерял какие-то деньги, но меня тогда это не очень волновало.
Наоборот, я даже обрадовался, что получу небольшую добавку к жалованию.
Вскоре мой хороший товарищ еще с фронта, мой первый фронтовой комбат Бекен Далабаев получил еще по одной звездочке на погоны и стал капитаном. Это дело традиционно отметили, и Бекен подарил мне свою фотокарточку.
Вскоре после этого события была еще одна массовая попойка. Всем нам вручили, наконец, награды за форсирование Одера. Как я уже писал, мне вручили орден Красной Звезды, вместо обещанного ордена Красного знамени.
Сразу после приезда на новое место, я начал зондировать почву насчет отпуска. Я хотел не только повидаться с мамой и сестренкой, но и мечтал съездить в лагерь к отцу.
На обороте написано: Владимиру Новаковскому.
Бекен Далабаев 12.06.46г. г.Киров Калужской области.
Я выяснил, что билет до города Мариинска, недалеко от которого был лагерь, где сидел отец, мне выпишут.
Поэтому решил использовать момент и попросил ускорить мне отпуск. Майор Львов обещал мне похлопотать. И он выполнил свое обещание. С 1 июля я получил отпуск на месяц.
Мне захотелось привезти матери, хоть что ни будь, но полезное.
Я пошел на полковой вещевой склад, где хранилось всякое немецкое барахло, которое понавезли в качестве трофеев. Его выдавали, в основном, демобилизующимся солдатам и сержантам, особенно из областей, которые побывали в оккупации.
Ничего более подходящего, чем мягкий матрас от кровати. я не обнаружил, и решил взять его. Матрас оказался довольно тяжелым, но до дома я его дотащил. До станции матрас мне довезли на машине. Уговорили молоденькую проводницу поставить матрас в тамбуре, и так я в тамбуре вместе с матрасом доехал до Вязьмы. А вот в Вязьме все оказалось значительно сложнее. В московский поезд меня с моим матрасом категорически не пустили, несмотря ни на какие мои уговоры. Эту сцену наблюдал какой-то парень, который посоветовал мне ехать на товарном поезде и показал эшелон, который скоро должен отправиться на Москву. Я дотащил свой матрас до этого эшелона. Погрузил матрас на тормозную площадку, залез сам и стал ждать: выгонят меня или повезут.
Через некоторое время поезд тронулся, и я облегчено вздохнул, резонно подумав, что на ходу не высадят.
Когда приехали в Москву, уже начало темнеть. Остановились, на какой-то товарной станции. Я выгрузил матрас и стал редких прохожих расспрашивать, как мне добраться до станции Строитель. Несколько человек ничего мне сказать не могли. Потом подвернулся пожилой железнодорожник, который, выслушав мою проблему, сказал только одно слово: «Пойдем». Он даже помог мне тащить матрас. Подвел к какому-то товарному составу, помог погрузиться на тормозную площадку и сказал, что надо сойти в Мытищах, а там одна остановка на электричке до Строителя.
Меня смущало только, как я узнаю, что это Мытищи. Но меня упокоили, что Мытищи это первая остановка.
Добрался я до места уже поздно ночью. Будить маму не стал. Ночь была довольно теплая. Я уложил свой матрас в кустарнике и проспал до утра.
Утром обнаружил, что у меня солидно побаливает и немного даже кровоточит моя рана на лопатке. Я пошел к маме, которая уже встала. Мы все вместе затащили матрац к комнату, и я отправился в местный медпункт.
Сестра сказала, что у меня лопнул шов, вызвала неотложку, и меня отвезли в Московский гарнизонный госпиталь.
Я совсем скис. Рушились все мои планы поездки к отцу. Когда мне зашили шов и сказали, что придется полежать недельку, я чуть не заплакал.
Когда доктор спросил, что со мной, я ответил, что погибает мой отпуск, первый за пять лет. Военврач улыбнулся и сказал, чтобы я не волновался и, что когда меня будут выписывать, дадут телеграмму в часть и мне продлят отпуск. А я и не знал, что есть такое правило. Потом он спросил, что у меня с голосом. Я ответил, что это ларингит, и с ним ничего нельзя сделать.
Военврач снова усмехнулся и послал меня к специалисту «ухо, горло, носа». А тот мне сказал, что такое мог сказать или пьяный или дурак, и назначил мне физиотерапию на горло. Короче, через неделю меня выписали с зажившей раной и с голосом. В часть дали телеграмму о продлении отпуска, а мне выдали справку и сказали не носить большие тяжести в течение месяца.
Вернувшись к матери, я узнал, что посылка отцу готова и поехал компостировать билет на поезд Москва-Владивосток. Закомпостировал и ухал на следующий день. До Мариинска добрался нормально. До села Баим, в котором был лагерь, было около 20 км. Предписание врачей не поднимать тяжести мне выполнить не удалось. Со мной был довольно тяжелый чемодан и «сидор». Я прошел пешком километров 6-7. Шел часа два. Потом мне повезло, подвезли на попутной машине.
Подходя к проходной лагеря, я очень волновался. Этот момент я продумал заранее. Надел на себя портупею, которую постоянно никогда не носил, надел свой единственный орден и медаль, пистолет. Я взял с собой свой табельный ТТ. Взять с собой пистолет посоветовал мой хороший товарищ, мой первый, на два дня комбат Бекен Далабаев. Он научил меня как пистолетом открывать запертую на ключ дверь пассажирского вагона. Когда я вошел в проходную, сидевшие там трое охранников вскочили. Я им жестом указал садиться, а сам подумал, как они будут вести себя, когда узнают, зачем я приехал. Когда я сказал, что приехал навестить отца, который сидит в этом лагере, и спросил, к кому я должен обратиться, они, прежде всего, спросили как фамилия. Я сказал, что Новаковский. Они чуть не хором сказали, что, конечно, знают Марка Борисовича, и один из них вызвался отвести меня к начальнику лагеря. Когда я взялся за чемодан, они сказали, что здесь он не пропадет. И мы пошли налегке.
Когда мы пришли к начальнику лагеря, это оказался майор, раненный под Сталинградом и ходивший на протезе. Он начал меня расспрашивать о фронтовых делах. Выяснилось, что мы воевали в разных армиях, но ранены были почти одновременно, в августе 1942 года. Потом неожиданно спросил, сколько мне надо времени на свидание с отцом. Видя, что я замялся, спросил: «Три дня хватит?» Я, конечно, сразу согласился, хотя не очень понимал, как это будет. Но дело разрешилось очень просто. Начальник лагеря сказал охраннику: «Возьми к себе. Ведь у тебя одна комната свободна». Тот сразу согласился, и, поблагодарив майора, мы пошли в проходную. Вскоре этот же охранник привел отца.
Как прошла наша встреча, я описывать не буду. Для этого надо быть настоящим писателем. Я подходящих слов не нашел.
Когда мы пришли в дом нашего нового хозяина, нас ввели в комнату, предназначенную для нас. Туда внесли вторую кровать, заправили ее чистым бельем, поменяли белье на крвти, стоящей в комнате, через час пригласили на ужин и, сказав, что не будут нам мешать, закрыли дверь. Отец забросал меня вопросами. Мне пришлось рассказывать почти все, что я написал о себе здесь. Рассказывал почти час, а потом нас позвали на ужин. Я привез с собой 2 бутылки водки, и мы решили, что сейчас самое время достать одну из них. Кроме бутылки я взял две банки консервов, но если бутылка нашла достойное место на столе, то консервы меня заставили убрать.
Более того. Хозяин предложил все продукты, которые я привез, хранить у него в погребе, а по мере надобности он будет приносить отцу. А для верности он предложил все продукты и их количество переписать. Отец на хранение согласился, но переписывание отверг. Сразу скажу, что эта договоренность безупречно потом выполнялась.
Стол был традиционный. Винегрет, помидоры, огурцы, грибы, капуста и прочие солености. Но главное блюдо - пельмени.
Я видел, как отец изменился в лице, но ничего не сказал. Во время ужина я обратил внимание, что он немного пригубил водку и ел всего понемногу. Когда ему предлагали, есть побольше, он отвечал, что свою норму знает. Потом, когда мы вернулись в комнату и остались одни, он объяснил, что на уровне ежедневного питания ему нельзя много есть, иначе можно угробить желудок. А у него он и так больной.
Во время ужина мне снова пришлось отвечать на вопросы о себе. Хозяин (не помню его имени) попросил меня купить в Москве и выслать ему посылкой до сотни разных орденских планок, так как здесь их не достать, а желающих приобрести много. Я обещал и потом выполнил свое обещание.
Отец потом рассказывал, что охранник был очень доволен моей посылкой, и продукты он получал нормально, как договорились.
Спать легли поздно, а утром после завтрака, которым нас угостили хозяева, наступила моя очередь задавать вопросы и слушать рассказы отца. Первое, о чем я спросил отца, били ли его при допросах. Отец сказал, что он с первого допроса предупредил следователя, что любой допрос с применением силы, будет последним. По этой причине, или по другой, но его не били. Основные обвинения, которые были предъявлены отцу, заключались в показаниях второго секретаря Магнитогорского горкома партии Хитарова и других партийных работников, расстрелянных в 1937 году. В этих показаниях говорилось о том, что секретарь горкома Новаковский был руководителем троцкистской террористической организации.
Отец говорил, что ему давали читать эти показания. Они были очень похожи друг на друга, и у него сложилось впечатление, и даже уверенность, что эти показания писались под диктовку следователей или вообще писались заранее, а арестованные их только подписывали. А может быть, и подписывали не они.
Отец говорил мне, что среди этих людей были твердые люди, которые вряд ли пошли бы на такой подлог и поставили свои подписи. Кроме того отца обвиняли в том, что он в 1923 году выступил на собрании партийной ячейки с троцкистской речью. Такое выступление действительно было, и отец указывал об этом в своих анкетах. Кроме того, в анкете было указано, что после беседы с Фрунзе он изменил свою точку зрения. Отец рассказывал, что во время той беседы Фрунзе сказал: «Тов. Новаковский, я думаю, что, вряд ли в Красной Армии найдется кто-нибудь умнее Льва Давидовича Троцкого. Но то, что он выступил с антиленинской оппозицией, - этого я не одобряю. Фрунзе в то время был прямым начальником отца и пользовался у него непререкаемым авторитетом и уважением. Отец рассказывал, что Фрунзе никогда не скрывал своего мнения по многим вопросам, и отец глубоко убежден, что это и привело к его гибели на операционном столе. Отец рассказывал, что его беседы со следователем проходили довольно мирно. Более того, отец тоже задавал вопросы. В частности отец сказал следователю, что он вряд ли сам верит в его виновность, и не лучше было бы использовать его военный опыт и послать его на фронт. Следователь на это ответил, что такие вопросы решаются не на его, а на более высоком уровне.
Я уже писал и еще раз напомню. Отец спросил у следователя, почему по материалам 1937 года его арестовали только теперь в 1941 году. На это Ребров нахально ответил, что если бы его взяли в 1937 году, то сразу же поставили к стенке, а теперь дадут лет 8-10 - и поедешь в свою любимую Сибирь. Еще отцу было предъявлено обвинение в том, в 1929 году он выступил против А.С.Бубнова, который тогда был начальником ПУР КА (Политуправление Красной Армии), и против К.Е.Ворошилова - наркома обороны по вопросу единоначалия в Красной Армии. Отец с группой товарищей выступили за отмену комиссаров и за единоначалие. Когда отец на это обвинение ответил, что Бубнова расстреляли как «врага народа», и этот факт ему должны записать в плюс, следователь, нахально улыбаясь, заявил, что в 1929 году Бубнов еще не был «врагом народа».
Суда над отцом никакого не было. Ему просто сообщили, что «тройка» присудила ему 8 лет лагерей, и он действительно поехал в Сибирь. Следователь, как в воду смотрел…
Отец мне рассказывал, что в Мариинске был пересыльный и сортировочный пункт, где их и разгрузили. Их построили, в каком-то большом помещении. Через некоторое время в помещение вошла большая группа начальства, которая, оглядывая заключенных, переговаривались между собой. Отец посмотрел в сторону этой группы и неожиданно встретился глазами с Завенягиным - бывшим директором Магнитогорского металлургического комбината, с которым они вместе работали, когда отец был секретарем Магнитогорского горкома партии. В то время Завенягин был зам. наркома внутренних дел и ведал лагерями.
Отец говорил мне, что Завенягин явно узнал его и сразу опустил глаза. Отец подозревал, что Завенягин как-то повлиял на то, что он попал именно в этот лагерь, а не на лесоповал, где он со своим здоровьем не прожил бы и месяца. Так или иначе, но отец попал в лагерь, в котором главным производством было изготовление одежных, сапожных и других щеток. Сначала отец работал около года на изготовлении щеток, потом его назначили бригадиром.
Рассказал мне отец и некоторые подробности инцидента, который произошел в Новосибирске, когда приходили, как тогда сказал отец, «бандиты». Оказывается, все, что делал и говорил тогда отец, это соответствовало инструктажу Роберта Эйхе. Отец рассказал мне, что тогда он позвонил Эйхе, доложил о случившемся. Эйхе ему сказал, что он сделал правильно, и к нему больше не придут, что он об этом позаботится. За отцом действительно больше тогда не пришли.
Отец считает, что Эйхе спас его трижды. Первый раз, когда перевел его с партийной работы в Ойротии на хозяйственную в Новосибирск. Второй раз в описанном выше эпизоде, а третий раз, когда принял меры по переводу его из Сибири в Рязань. А когда в 1940 году Эйхе расстреляли, отец начал готовиться к аресту. Отец, правда, говорил мне, что он сам не понимает, каким образом действовал Эйхе, когда предотвратил арест в 1937 году в Новосибирске. И еще отец говорил мне, что у него сложилось впечатление, что следователь Ребров знал об инциденте в Новосибирске, хотя он об этом прямо и не говорил.
Как сидел в начале войны в лагерях мой отец…
Приведу цитату из одной газетной статьи. Рассказывает Меер Лурье: «Состав барака был очень интересный: одних только ученых и инженеров химиков здесь набиралось на целый научно-исследовательский институт! Тут же отбывал заключение и знаменитый литературовед-социолог Валерьян Переверзев.
Марк Борисович сумел так поставить себя в лагере, что с ним считались даже уголовники. Однажды, когда уголовники проиграли в карты его вставную челюсть, без которой он был бы обречен, так как не мог бы есть, тамошний «пахан» приказал уголовникам вернуть ее владельцу. А Марку Борисовичу сказал: «Если у тебя что пропадет, обращайся ко мне». Я думаю, что уважение он заслужил своей выдержанностью, самообладанием, которого он не терял ни при каких обстоятельствах. Кстати, что по слухам, в соседнем лагере сидел Рокоссовский - «служил водовозом». Потом Сталин выдернул его из заключения и вернулвармию»…
Отцу после войны несколько раз предлагали «расконвоирование», но он постоянно отказывался от этой чести. Он резонно считал, что заключенные, когда их расконвоируют, сразу попадают под двойной удар. С одной стороны уголовники навязывают задания принести в лагерь или вынести из лагеря противозаконные вещи, вплоть до наркотиков, под угрозой расправы, а с другой стороны, если на этом поймают, то добавят срок.
Отец рассказывал много разных мелких эпизодов из своей лагерной жизни, но теперь я их не упомню. В заключение, после долгого обсуждения, отец порекомендовал мне вскрыть свой обман. Он говорил, что это может кончиться плохо. Если теперь, когда кончилась война, обнаружат это сами, без меня, то это будет намного хуже.
Три дня пролетели как одна минута, и отец засобирался обратно на нары, заявив, что договоренности надо соблюдать.
Хозяин квартиры - охранник велел мне самому отвести отца до проходной лагеря и вернуться к нему. Обещал помочь добраться до Мариинска.
Я довел отца до проходной и обещал ему приехать в следующем году, мы попрощались, и он сам пошел в проходную. Помахал мне и вошел в проходную. Я вернулся к нашему хозяину, и он отвел меня к шоферу, который ехал в Мариинск. По дороге выяснилось, что шофер бывший заключенный этого же лагеря. Освободился два года назад, женился и остался жить в этом селе. Хорошо знает моего отца и очень высокого мнения о нем. Довез он меня до самого вокзала, и я сразу пошел к военному коменданту компостировать билет. И вот тут меня ждало разочарование. На все поезда в Москву, на сегодня и на завтра нет ни одного свободного места. Единственное что для меня могут сделать, это постоянное место с ночевкой в зале ожидания для военнослужащих. И еще обещали дать справку для продления отпуска. А приходить мне велено послезавтра.
Я подумал, что нет никаких гарантий, что места в поезде будут через 3, 4 и 5 дней, и решил использовать свой ТТ. Я выяснил по расписанию прибытие ближайшего поезда и встретил его не со стороны перрона, а с обратной стороны. Когда поезд остановился, я поднялся к двери и обнаружил, что именно с этой стороны проводница открыла дверь. Тогда я побежал к другой двери, выяснил, что в тамбуре никого нет, оголил ствол, всунул его в замок, повернул, и дверь открылась. Я влез в тамбур, запер дверь и уселся на чемодан у противоположной двери, где меня не будет видно из двери, ведущей в вагон. Через некоторое время поезд тронулся, и я облегчено вздохнул. Уже наступила ночь, и я начал думать, что делать дальше. Решил, что когда все уснут, войду в вагон и сяду на откидной стул в проходе.
Не успел я все это продумать, как из соседнего вагона открылась дверь, и вошел мужик. Он сразу спросил меня, кто я такой и что тут делаю. Я ответил, что я офицер, опаздываю из отпуска, что билет у меня есть, но мне его не закомпостировали, так как нет мест, а я и не занимаю никакого места. Он спросил, как я попал в вагон, я ответил, что прошмыгнул, незаметно для проводницы. Он немного подумал и вдруг спросил: «А зачем ты влез в мягкий вагон?» Я ответил, что влез в другой вагон, а сюда просто перебрался. Он потребовал у меня билет. Проверив его, позвал с собой. Этот мужик оказался начальником поезда. Привел он меня к проводникам, объяснил ситуацию и спросил, что со мной делать, ведь до Москвы ехать четверо суток. Я сказал, что меня устроит и третья полка. Пожилая проводница сказала, что если начальник не возражает, то я могу занять третью полку у них в купе. На том и остановились. Я даже удивился, что все разрешилось так просто. Я еще раз убедился, что хороших людей больше чем плохих. Всю дорогу до Москвы проводницы меня опекали. Они мне подсказывали, на какой станции мне можно дешевле пообедать, утром и вечером поили меня чаем, расспрашивали о войне, об отце и о многом другом. Короче, до Москвы доехал весьма комфортно.
В Москве побыл еще несколько дней, купил две бутылки «Московской» и уехал к себе в часть.
Дома и в части все были удивлены тем, что я приехал с нормальным голосом. Во вторых выяснилось, что Лену только что выдали замуж за местного парня. Свадьба состоялась, и теперь нам предстоит принимать гостей. Так что мои две бутылки сразу пошли в дело.
Когда окончательно пришел в себя после отпуска, я засел писать свое признание в обмане. Писал и переписывал несколько раз. Написал не только признание, но и перечислил все причины, которые вынудили меня это сделать. Прошло еще несколько дней, пока я рискнул идти к командиру полка. Наконец решился.
Пока подполковник читал, я почему-то дрожал как осиновый лист. Кончив читать, он произнес: «Ну и дела». Потом взял телефон и приказал вызвать командира дивизиона. Посмотрел на меня и сказал: «Ну что ты трясешься, за это же не сажают». Подошел майор Львов, и подполковник со словами «на читай», протянул ему мою бумагу.
Майор, прочитав мое признание, заявил: «Ну, ты даешь!», потом, немного подумав, твердо сказал: «Товарищ подполковник, у меня к нему по службе претензий нет». Тогда подполковник заявил, что у него претензий тоже нет, а с партийной организацией придется разбираться отдельно и что парторгу полка мое письмо он передаст сам. А мне сказал: «Ну, ладно, иди, служи дальше и не переживай, все образуется». Когда я поделился этой историей с Бекеном Далабаевым тот, успокаивая меня, сказал, что ничего плохого мне не грозит.
Через некоторое время пошел слух, что нашу дивизию расформировывают, а нас всех распределят по другим частям. Сразу возникли новые волнения, а что будет со мной в другой части, где меня никто не знает. Ведь мое заявление придет в новую часть вместе с моим личным делом. Начались новые переживания.
Потом пришло новое сообщение, что нашу дивизию не расформировывают, а переформировывают из стрелковой в воздушно-десантную дивизию. Я вздохнул спокойно. Это с одной стороны меня даже обрадовало. Хотя ВДВ и не авиация, но ближе к небу. С другой стороны начались новые волнения, так как предстояла медицинская комиссия, а у меня левая рука еще не полностью работала. Кроме того, началась массовая демобилизация солдат и сержантов и увольнение офицеров в запас и что будет со мной, снова покрылось мраком неизвестности. Из моих солдат и сержантов осталось всего два молодых солдата и сержант Прибытков.
Медицинскую комиссию я прошел благополучно. Я там рассказал, как было дело, как лечился в госпитале, как я разрабатывал руку, как стало теперь. Хирург сказал, что мне надо продолжать разработку руки, и что он надеется, что рука полностью восстановится.
В конце июля стало известно, что наш командир полка подполковник Масленников назначен начальником штаба артиллерии дивизии. Это меня снова огорчило. А еще через несколько дней появился приказ о моем назначении командиром взвода КАД (командующего артиллерией дивизии). Я опять не знал, как это расценивать. С одной стороны это вроде повышение (должность, как мне говорили, капитанская), а с другой, в дивизионе меня все знают и хорошо относятся, а там, в штабе дивизии, люди новые, которые меня не знают, кроме подполковника Масленникова, да и то он на фронте меня не знал.
На мое место пришел старший лейтенант, который прибыл в нашу дивизию из 8-й бригады ВДВ. У него было уже несколько прыжков с парашютом, он был старше меня и выглядел солиднее.
Надо сказать, что одновременно с демобилизацией солдат и сержантов и увольнением в запас офицеров, в нашу дивизию вливались солдаты, сержанты и офицеры из расформированных 8-й и еще одной (номер не помню) бригад ВДВ.
Взвод КАД олчался от обычного взвода тем, что он считался отдельным подразделением. Он был в полтора раза многочисленнее обычного взвода, и там была штатная должность старшины взвода.
Когда я принял этот взвод, там было всего 7 человек во главе со старшиной. Все они прибыли из 8-й бригады ВДВ и имели по 2-3 прыжка. Несмотря на это, я не заметил, чтобы они этим как-то гордились передо мной.
Через несколько дней ко мне пришел сержант Прибытков с заявлением о переводе в мой новый взвод. На заявлении была резолюция командира дивизиона майора Львова с согласием. Я, конечно, очень обрадовался. Будет хоть один человек, на которого я могу опереться с полным доверием. Я сразу пошел с заявлением к подполковнику Масленникову, который оставил заявление у себя и сказал, что он все сделает. Через несколько дней Прибытков стал командиром второго отделения радистов в нашем взводе.
Очень скоро после всех этих событий дивизию передислоцировали в Новгородскую область. Штаб дивизии разместился в самом Новгороде, стрелковые полки в его окрестностях, а штаб артиллерии дивизии и артиллерийский полк, который был преобразован в артиллерийскую бригаду, разместился в деревне, официальное название которой я не помню, но ее все, в том числе и местные жители, называли Аракчеевкой. От этой деревни до Новгорода было километров 30. Там были старые, со времен Аракчеева, большие, добротные, кирпичные казармы и другие армейские постройки, в которых комфортно разместились все подразделения бригады и штаба артиллерии дивизии. Правда, все это я узнал позже, так как переезжали без меня. Я в это время был в командировке в Москве. По какому поводу я ездил в тот раз, я не помню. Когда я вернулся к себе в часть, на меня навалилось сразу несколько проблем. Во-первых, начало поступать пополнение. Почти все прибывающие были призывниками, с которыми надо было проходить первичный курс подготовки бойца. Во-вторых, сам я должен был пройти курс подготовки прыжков с парашютом и совершить два-три прыжка с тем, чтобы самому вести занятия с молодыми солдатами.
Вскоре, я успел научиться укладывать парашют и совершить два прыжка. Один с аэростата, как все новички, а второй с ЛИ-2. (фактически это была точная копия Дугласа). Оба прыжка дались мне значительно легче, чем прыжок, который я совершил в аэроклубе с У-2. Там надо было вылезать из кабины на крыло, что само по себе не так просто. И тогда я очень боялся раньше времени рвануть кольцо и преждевременно открывшийся парашют мог зацепиться за костыль самолета. Так называлась третья точка приземления. Говорили, что такие случаи были.
Тогда в аэроклубе мы прыгали с парашютами ПД-6 с ручным раскрытием, а теперь с парашютом ПД-42 с фалом и веревкой, которая обрывается при рывке, что намного проще. Сразу скажу, что самым страшным для меня прыжком оказался 9-й. Это было уже во Пскове во время учебного десантирования в тыл условного противника.
Дело в том, что после этих учений мне обещали отпуск, во время которого я собирался снова ехать к отцу. Мне все время казалось, что во время прыжка случится такое, что сорвет мне отпуск. Во время прыжка меня хлестануло лямкой по лицу, а все остальное закончилось благополучно.
Всего в Аракчеевке я совершил пять прыжков. Кроме двух прыжков, о которых я сказал, были еще прыжки с раскрытием запасного парашюта, ночной прыжок и прыжок в воду.
За всеми этими заботами: прием новобранцев, строительство дома, обучение парашютному делу, прыжки и другими делами, я совсем забыл о своем заявлении, об обмане с отцом. Но мне напомнили. Вызвали в партком бригады и сообщили, что такого-то числа состоится заседание бригадной парткомиссии по рассмотрению моего письма с сообщением об обмане партии. Начались новые волнения.
Числа я не запомнил. На заседании парткомиссии меня заставили подробно рассказать биографию, расспрашивали о родителях, особенно об отце, но и о матери тоже. Все были удивлены тем, что она не исключена даже из партии. Задавали много вопросов. Один из членов комиссии, узнав о строгом выговоре, вынесенном мне в училище, возмущено заявил: «Да он еще и драчун!» Были и другие возмущенные реплики. Все это не сулило мне ничего хорошего, и я совсем скис. Выслушивали меня более часа. Потом велели выйти и ждать решения. Ждал я около часа. Потом меня вызвали и огласили решение об объявлении мне строгого выговора с последним предупреждением. Я едва сдержался, чтобы не подпрыгнуть от радостного удивления. Потом один член комиссии, комбат из моего бывшего дивизиона рассказал мне: один из членов парткомиссии, начхим бригады (фамилию не помню), по поручению парторга бригады собирал обо мне отзывы офицеров, знавших меня по фронту. Собрал он таких отзывов 38, и все они оказались положительными. И это решило дело в мою пользу.
Сначала я как-то не обратил внимания, но потом начал перебирать офицеров, которые могли дать такие отклики. Я мучительно вспоминал офицеров, с которыми мне пришлось встречаться на фронте и у меня получилось максимум 26 человек. Думаю, что кто-то из крупных начальников, моих благожелателей, приложили к этому делу свои добрые руки.
Во время еще одной командировки, я выстоял очередь в Генеральную прокуратуру и попросил о пересмотре дела отца. Пошел я туда в полной форме со всеми регалиями и с пистолетом. Пистолет меня заставили сдать в бюро пропусков под расписку. Я все сомневался, имею ли я право сдавать пистолет, но когда увидел, что сдал один майор, я тоже сдал. Внешний вид мой не произвел никакого впечатления. Мне довольно грубо велели придти через три дня. Я снова выстоял огромную очередь и оказалось только для того, чтобы услышать, что дело отца уже пересматривали и не нашли оснований для освобождения.
Время шло своим чередом. Комплектование взвода полностью было закончено. Проводились плановые занятия с личным составом. Изучали уставы, занимались строевой подготовкой, изучалось оружие. Проводились стрельбы в тире, занятия по тактике в поле, укладка парашюта, политзанятия и многое другое. К тому времени каждый парашютист, будь то солдат или офицер, парашют для себя должен был укладывать лично сам. За каждым укладывающим парашют кто-то должен был наблюдать. Я наблюдал за укладкой солдатами и сержантами, а за мной наблюдал старшина. На каждый уложенный парашют составлялся короткий, стандартный акт. Его подписывали укладчик и наблюдающий.
Такой порядок был введен после несчастного случая с одним опытным парашютистом. Парашют укладывался в то время в определенном порядке. На специальном столе, из плотного брезента, расстилаемом на земле, укладывается купол, причем не как попало, а начиная с определенной стропы. Потом этот уложенный купол за стропы подтягивается к ранцу, на котором устроены соты, в которые специальным крючком затягиваются и укладываются в определенном порядке стропы парашюта. Так вот для того, чтобы в процессе подтягивания строп не нарушить укладку купола, стропы у основания купола следует скрепить. По инструкции это полагалось делать мешком для хранения парашюта.
Но иногда, особенно старые парашютисты, для упрощения пытаются делать это просто веревкой или обрывком стропы. Вот так сделал погибший старшина, который имел в активе более трехсот прыжков. Он завязал стропы веревкой, а перед укладкой купола в ранец, его, видимо, отвлекли разговором, и он забыл развязать веревку. Естественно, что со связанными стропами парашют у него не раскрылся, и он погиб. Раз в месяц проводились офицерские стрельбы из пистолета. Я обычно стрелял на четверки.
Организовалось несколько волейбольных команд в дивизионах, которые соревновались между собой. В штабе артиллерии дивизии не удалось сформировать приличную команду, и я играл за команду своего бывшего дивизиона. Однажды к нам приехал начальник ПДС (парашютно-десантной службы) дивизии, подполковник Белоцерковский, мастер спорта по волейболу. Он фрировал сборную команду дивизии. Посмотрев игры наших команд, двоих наших игроков, в том числе и меня, пригласил в сборную.
Во время нашей беседы я решил воспользоваться случаем. Рассказал ему об отце, упомянув о решении парткомиссии, сказал, что все свое жалование отправляю матери, которая ежемесячно посылает отцу посылки. Учитывая все это, я попросил у него разрешения совершать внеплановые прыжки. Ведь в то время за прыжки платили деньги. Он к моей радости согласился и дал соответствующее указание начальнику ПДС нашей бригады. Чтобы не возвращаться к этой теме скажу, что вместо восьми по норме прыжков в год, я за два года совершил 43 прыжка, и это значительно облегчило мое финансовое положение. Вместе с прыжком в аэроклубе в моем активе всего 44 прыжка.
Что касается сборной дивизии по волейболу, то мы играли со сборными командами дивизий своего корпуса и выезжали играть со сборной, если не ошибаюсь, 102 дивизии, в городе Раквери. Это в Эстонии. Ездили играть и в Тулу. Там дислоцировалась, как мне помнится, 106 дивизия ВДВ. Играли с городскими командами г. Новгорода, а потом и Пскова.
Из жизни в Новгородской области запомнилось нашумевшее дело об ограблении Новгородского банка. Там была большая сумма денег, предназначенная для выплаты жалования военнослужащим нашей дивизии.
В связи с этим была на целый месяц задержана выплата жалования. Воров обнаружили где-то в Прибалтике, а ворами оказались два офицера штаба дивизии. Так это или нет, но такие разговоры я помню.
Зимой мы снова передислоцировались. На этот раз в город Псков, где наша 76 гв. дивизия ВДВ находится, и по сей день. Мне приятно сознавать, что я был участником рождения этой дивизии в июле 1946 года (если не перепутал месяц), которая существует, и сегодня. Значит, и теперь это хорошая дивизия и в ней сохраняются боевые и другие традиции, заложенные ее первым командиром генералом Василием Федоровичем Маргеловым, Мне довелось с ним общаться, и у меня сохранились о нем самые теплые воспоминания.
Я знаю о подвиге, совершенном ротой из этой дивизии в Чечне.
В Пскове вся дивизия разместилась в большом добротном военном городке. Штаб дивизии со всеми своими подразделениями, в том числе командующим артиллерии со своим штабом, разместились в одном корпусе.
На более высоком уровне началась подготовка по физической и по парашютно-десантной подготовке личного состава. У каждого полка здесь была хорошо оборудованная спортивная площадка. На этих же площадках были различные снаряды и приспособления для развития вестибулярного аппарата, тренировки приземления и другие. Появились занятия рукопашным боем, на которых нас специальные инструкторы обучали разным приемам рукопашного боя с оружием и без него. Хочу остановиться на способах приземления. Сейчас наблюдая по телевизору парашютные прыжки, я вижу, что приземление осуществляется с растопыренными ногами. А в те времена, о которых я рассказываю, нас учили приземляться с плотно прижатыми коленками. Было даже такое упражнение. У нас были построены такие возвышения с площадками на высоте 1,5, 2,0 и 2,5 метра прыгая с которых, отрабатывались правила приземления. Так вот перед прыжком между коленок зажималась спичка или щепка, которые после приземления должна было оставаться зажатыми коленками. Если спичка или щепка вываливалась, то упражнение считалось не выполненным. Было много и других упражнений.
Мы сразу включились в интенсивную подготовку к предстоящим учениям и вскоре у нас состоялись масштабные дивизионные учения с массовым десантированием. В задачу нашего взвода входило после приземления разведать местность и выбрать подходящую площадку для приземления самолетов с артиллерийской техникой и совместно со стрелковой ротой, которая десантируется вместе с нами, оборонять эту площадку от возможного нападения условного противника.
Учения прошли благополучно. Никаких серьезных происшествий не случилось. Все поставленные задачи были выполнены. После окончания учений мне присвоили звание лейтенанта.
В июне я получил долгожданный отпуск и снова поехал к отцу. Добрался до места благополучно, но там меня ждало разочарование. В лагере поменялся начальник, на место майора пришел капитан, а с ним и новые порядки. Мне разрешили свидание с отцом в течение двух часов в землянке недалеко от проходной лагеря и в присутствии охранника. Все продукты, которые я привез, отцу пришлось взять с собой и многое раздать, чтобы не разворовали все. Поговорить о чем хотелось, тоже не удалось.
В Москву я приехал без особых приключений. А когда я шел по вокзалу, на мне неожиданно сзади повисла с криком «Володька», женщина в военной форме. Оказалось, что это Зоя Чихачева, вторая после Октябрины отличница нашего класса. Она училась в военном институте гидрометереологии в Ленинграде. Перешла на последний курс и была в звании ст. лейтенанта.
Конечно, сразу завязалась оживленная беседа, в основном об одноклассниках.
Я рассказал о себе. Она сразу сказала, что Октябрина погибла, что из ребят нашего класса домой вернулся весь израненный Юра Камышев, женился на Лене Иванцовой, но вскоре умер от ран. О Саше Горбачеве она ничего не знает, а на всех остальных ребят нашего класса пришли похоронки. Таким образом, в живых остался один я, и ничего неизвестно о Саше Гобачеве. Отец Зои тоже погиб.
Проговорили мы долго. Потом обменялись адресами и разошлись.
В этот приезд в Москву у меня в трамвае исчезли карманные часы. Осталась только часть перекусанной цепочки. Работали, видимо, профессионалы. Я совершенно ничего не почувствовал и обнаружил пропажу только, когда пришел домой.
Когда мой отпуск подошел к концу, я вернулся к себе в дивизию. Вот тут меня ждало неприятное известие: уехал на учебу в академию подполковник Масленников, а вместо него назначен полковник (фамилию не помню), который прибыл в нашу дивизию из резерва Минобороны. Буквально через месяц меня направили в свой дивизион 154 артполка, в который преобразовали артбригаду.
Сдал я свой взвод КАД, назначенному вместо меня капитану, который прибыл из другой дивизии.
На новом месте меня назначили на должность командира взвода управления во второй батарее. На этой должности я уже был несколько дней, прибыв из училища на фронт. К сожалению, командир батареи был новый, капитан Бекен Далабаев уволился в запас. Фактически из моих фронтовых начальников остался только командир дивизиона майор Львов. Я познакомился с личным составом взвода. Это были почти все новобранцы.
Просились ко мне Лапин и Прибытков, но их новое начальство не отпустило.
Вскоре они и еще несколько старослужащих пришли ко мне прощаться: они были демобилизованы. Прощание было очень трогательным.
Не помню точно, для какой цели, но кажется для оформления личного дела, я тогда сфотографировался, и у меня сохранилась фотокарточка, заверенная на обороте.
Личность гв. лейтенанта Новаковского заверяю. Нач. штаба 154 гв. АП гв. майор Юдин.
Вскоре, это, наверно, уже был июнь месяц, весь полк выехал в летний лагерь, который находился в районе станции Струги Красные. Там был настоящий палаточный городок, в котором разместились все подразделения полка. Офицеры, в том числе и я, разместились по частным квартирам.
Недалеко от лагеря находился артиллерийский полигон, на котором с нашим приездом начали сооружать учебные цели: ДОТы, ДЗОТы, траншеи, командные пункты, огневые позиции артиллерии и др.
После окончания строительства целей состоялись боевые стрельбы. Стрельбы проводились побатарейно и дивизионами. Когда подошла очередь нашей батареи, я выполнял обязанности командира взвода управления. Со своими разведчиками я производил разведку местности, обнаруживал закрепленные за батареей цели и производил целеуказание.
Стрельбы батареями, когда данные для стрельбы готовили комбаты, стрельбы прошли, как говорят, ни шатко, нм валко. Комбаты, пришедшие на эти должности с других, часто более высоких должностей, имели довольно смутное представления о подготовке данных для стрельбы, впрочем, как и о правилах пристрелки. Я их, разумеется, не осуждаю. Откуда им все это знать, если никто этим премудростям их не учил. Когда дело дошло до стрельбы дивизионами, майор Львов вызвал меня и, по старой памяти, приказал готовить данные для стрельбы и на этот раз вести пристрелку. Я с удовольствием взялся за эту работу. Достал свои конспекты еще из училища, (эти конспекты храню до сих пор, как память), проштудировал их, восстановил в памяти то, что за последние два года подзабылось. Не хочу бахвалиться, а просто констатирую факт. По стрельбе наш дивизион занял первое место в полку. Командир дивизиона получил благодарность в приказе по полку, а мне объявили благодарность по дивизиону.
Вскоре после этих стрельб, командир дивизиона приказал мне подготовиться и провести со всеми офицерами дивизиона, в том числе с комбатами, занятия по подготовке данных для стрельбы и правилах ведения пристрелки. Я провел такие занятия 8 или 9 раз.
Сначала опасался, что некоторые офицеры, особенно комбаты, которые были значительно старше меня по званию, один комбат был майором, будут меня игнорировать. Но ничего плохого не случилось. Командир дивизиона майор Львов тоже приходил на эти занятия и даже задавал вопросы.
Вскоре после возвращения из лагерей, командира дивизиона майора Львова перевели в другую дивизию на должность начальника штаба полка, а к нам назначили нового, в звании подполковника. Фактически в дивизионе, да и в полку не осталось ни одного моего фронтового начальника или просто сослуживца.
Во Пскове было подразделение гидрометеорологов, которое снабжало погодными сводками нашу дивизию и авиаполк, который обслуживал нашу дивизию. Я съездил к тамошнему начальству прозондировать возможность перевода Зои в это подразделение.
Там мне сказали, что у них нет ни одного вакантного места, поэтому они не могут ходатайствовать о переводе к ним кого бы то ни было.
Где-то в начале сентября 1948 года я обратился к новому парторгу дивизиона и завел разговор о том, что являюсь кандидатом в члены партии, уже пятый год, и что прошел год со дня вынесения мне партийного взыскания. Поэтому пора снимать взыскания и собирать рекомендации для вступления в партию. Он обещал посмотреть мое личное дело, потом будем говорить. Через несколько дней парторг вызвал меня и с удивлением начал расспрашивать, почему при таких согрешениях меня не исключили из партии. Я ответил, что это зависело не от меня, что это решала парткомиссия и в ее протоколах наверно все это изложено. На этом разговор был окончен и я ушел с тяжелым предчувствием. Мои предчувствия оправдались. Примерно через неделю после разговора с парторгом, меня вызвали в полковую административную часть и объявили, что меня увольняют в запас. Когда я спросил, за что, мне коротко ответили, что увольняют за невозможностью использовать. Мне велели срочно решить, куда оформлять проездные документы.
Перебирая свои бумаги, я обнаружил открытку, в которой меня поздравлял в прошлом году с днем рождения мамин сводный брат, мой дядя Рома. Он служил в Риге, там уволился в запас и остался жить. Дядя Рома был старше меня всего на пять лет, и я подумал, что мы найдем общий язык. На конверте был обратный адрес и, не смотря на то, что мы никогда не виделись, я дал ему телеграмму с запросом, можно ли к нему приехать. Через два дня получил короткий ответ: приезжай. Я написал письмо матери и пошел оформлять увольнение.
Уволили меня 29 сентября 1948 года. Семилетняя служба в армии закончилась.
----------Воспоминания переданы сайту «Я Помню» ветераном лично.