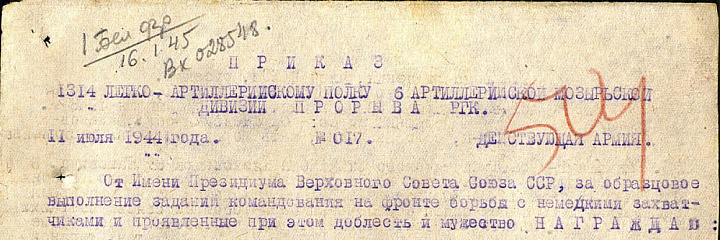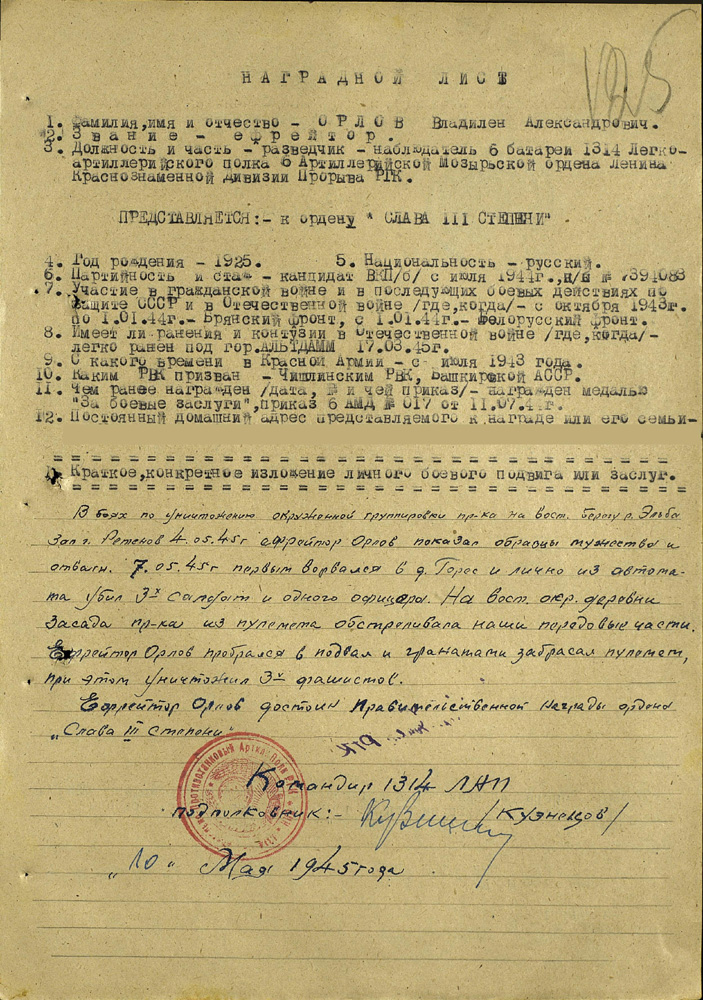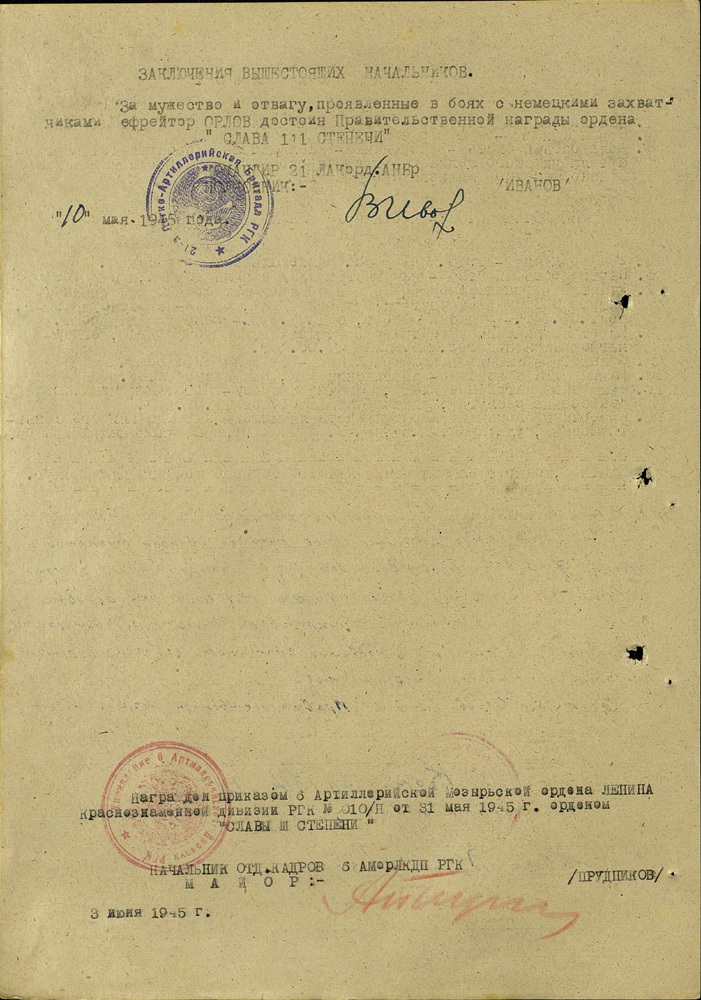ВОСПОМИНАНИЯ РЯДОВОГО АРТИЛЛЕРИСТА О ВОЙНЕ 1941-45 гг
Я, Орлов Владилен Александрович родился 24 сентября 1925 года в Москве в советской семье среднего достатка, где родители были убежденными противниками капитализма и столь же убежденными сторонниками построения нового, справедливого общества без эксплуататоров и эксплуатируемых и "церковной мути".
Отец, Щепоткин А.Л. был родом из Твери, старшим сыном в рабочей семье. Рано, уже в 16 лет, перед 1-ой мировой войной отправился на заработки в Петербург. Там он стал одним из многих питерских рабочих, поддержавших большевиков. Участник революции и гражданской войны (артиллерист Красной армии), член ВКП(б) с 1918 г. он в начале 20-х годов после демобилизации приехал в Москву, где вскоре окончил курсы по радиоделу и до ареста и гибели в ужасных репрессиях 1937-38 годов работал по радиофикации страны в системе наркомата связи (НКС).
Мать, Орлова А.И. была служащей. Счастливо, скорей случайно, избежала упомянутых репрессий 1937-38 годов.
Жили мы на Арбате в коммунальной квартире. Моё детство было обычное для московской детворы того времени. Детсад. Потом, до самой войны, учеба сначала в старой школе, а потом в одной из новых школ десятилеток, которые тогда росли, как грибы. Пришлось, как и многим, пережить тяготы, связанные с индустриализацией, коллективизацией страны и, конечно, с упомянутыми репрессиями. Однако, общий настрой был положительным. Будущее представлялось мне, моим друзьям, товарищам, да и моему взрослому окружению, радужным, полным больших возможностей. Я увлекался математикой и физикой. Мечтал пойти после школы в МГУ. Только угроза надвигающейся войны и череда "перегибов" в строительстве социализма в т.ч. репрессий, коснувшихся и нашей семьи, омрачали перспективу.
В июне 1941 года я только окончил 8 классов, как через пару дней 22-го числа началась эта тяжелая война, унесшая столько человеческих жизней и поломавшая жизнь большинства семей. Мне повезло, остался жив. Войну для меня можно условно разбить на 3 периода: московская жизнь (1941г.), эвакуация (1941-43гг.) и фронт, точнее армейская служба в годы войны (1943-45гг.). Поделюсь своими воспоминаниями и, главное, той атмосферой, в которой мы тогда жили, конечно, в моём представлении.
МОСКВА, лето - осень 1941года
НАЧАЛО
Итак, утро воскресения 22-го июня 1941 г. в Москве. Было ясно, солнечно, обещался жаркий день. Наша семья встала, как всегда в выходной, позднее обычного, где-то около 9-10 часов. Мама пошла на кухню готовить завтрак и обед. Я включил радио - "тарелку" на стене и, слушая передачу, сделал физзарядку. Потом подошел к окну, выходящему на юго-запад нашего 7-го этажа дома 51 на Арбате. Как всегда, окинул бесконечную панораму крыш. Хорошо на улице! Привычный и такой родной, не назойливый, чем-то даже успокаивающий, шум проснувшегося города. Я оторвался от окна и прислушался к "тарелке". Заканчивалась очередная передача, потом начались "последние известия". Традиционные сообщения об успехах в колхозах, на заводах и фабриках. Затем сообщения с фронтов войны, разразившейся в Европе в сентябре 1939-го года. Правда, сообщения однобокие, только по германским данным (!), типа: "Берлин. По сообщению газеты "Фелькишер-Беобахтер" немецкая авиация нанесла бомбовые удары по городам (следует перечень) Великобритании и где-то в Африке или на Ближнем Востоке. Потери составили 2-3 самолета (или вообще без потерь), сбито столько-то самолетов противника... В Африке успешное наступление... Японские войска опять продвинулись в глубь Китая, правда незначительно, но они подбираются в район Сингапура и, кажется, нацеливаются на Бирму и Индию - основным колониям Англии". Еще какие-то незначительные события. Больше ничего существенного. После пакта 1939 г. с Германией (пакт Молотов-Риббентроп) о нейтралитете и последующего договора "о дружбе" в печати и по радио приводились данные только из германских и итальянских источников. Сообщений из Англии, Америки ни-ни или совсем урезанные новости. Прошедший год и особенно последние месяцы после захвата Германией почти всей Европы многих и меня, в частности, всё сильнее мучила мысль, кто следующая жертва? Англия или наша страна?
С этими мыслями я сел завтракать. Обычное меню: каша, кажется манная, чай с сахаром, батон, на который намазывалось повидло. Но в честь выходного еще понемногу очень вкусного творога, который мама изредка приносила с продовольственной базы (Продбазы в просторечии), где она работала счетоводом или помощником бухгалтера.
За завтраком решили пойти в кино в "свой" кинотеатр "АРС", что в нашем доме, вход рядом с подъездом. Вдруг прервалась очередная передача и голос, кажется Левитана, сообщил "Внимание, внимание, в 12 часов будет важное сообщение!" На мгновение мы замерли.
- Что это? Неужели...? - неуверенно произнесла мама, не говоря слова "война".
- Скорее всего, наверное, это так - ответил я, также, не говоря "война", а в душе уже появилась уверенность, что это так, что все прошлое рухнуло и как слабая соломинка маячило сомнение: "может, обойдется".
Передача, было, возобновилась, но вскоре опять прервалась и в 12 часов голос диктора сообщил: "Внимание! Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза... сейчас выступит Председатель Совнаркома В.М. Молотов...". И вот мы услышали его знакомый слегка заикающийся голос:
"Сегодня в 6 часов утра германские войска... нарушив договор... коварно... без объявления войны напали на нашу страну ... бомбили Киев, Одессу, другие города... Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" Однако ощущение от речи у меня было двоякое. Правильные, четкие слова, но некоторая растерянность в голосе. Или показалось?
После выступления Молотова нормальная трансляция прекратилась и по радио пошли марши, один за другим, которые чередовались с потоком указов и распоряжений о мобилизации в Армию, о введении военного положения и еще, и еще, и еще... Пока никаких сообщений о положении на границе. С этого часа мы больше не выключали радио-тарелку, если кто-то был дома, жадно, с тревогой ждали сообщений.
Так кончилась, оборвалась мирная жизнь, жизнь "до" и началась новая, неизвестная, как вскоре оказалось, тяжелая, временами страшная, жизнь "после".
Небольшое отступление
Было ли начало войны неожиданным и внезапным? Неожиданным нет, а внезапным, как посмотреть. Все сознательное детство я, как и большинство моего окружения, жил в ожидании неизбежности войны. Об этом говорила наша пропаганда, утверждавшая неизбежность новой мировой войны в окружающем нас капиталистическом мире. Реально складывающаяся обстановка в мире полностью подтверждала эти тезисы. По существу в конце 30-х годов война уже начиналась. На Востоке Япония захватила Корею и попробовала "крепость" нашей страны на Дальнем востоке (события на озере Хасан, где наша Красная армия с трудом одолела японцев). Затем была попытка захватить дружественную нам Монголию. Здесь, в отличие от Хасанских событий, японцы были полностью разгромлены. На Западе в Италии и Германии к власти пришли фашисты первыми начавшие войну и захваты. Они помогли Франко разгромить республиканцев в Испании и установить там фашистский режим. Далее, итальянские фашисты напали на Абиссинию (Эфиопию) и Албанию. Немецкие фашисты присоединили Австрию, затем аннексировали Судетскую область Чехословакии при попустительстве главных тогда держав, Англии и Франции. Затем гитлеровцы оккупировали всю Чехословакию, "уделив" за поддержку часть земли фашиствующим режимам Польши и Венгрии. Война представлялась неизбежной.
В стране шла непрерывная подготовка к вероятному нападению. Модернизировалась армия. На оборону шла львиная часть бюджета. Главным и наиболее опасным противником считалась фашистская Германия. Летом 1939 года назрел конфликт Германии с Польшей, имевший целью захват ее территории. Вот-вот начнется вторжение в Польшу. Война, как и предсказывалось нашей пропагандой, приближалась к границам СССР. Была объявлена частичная мобилизация и вавгусте 1939г. Красная армия сосредоточилась у польской границы. Вот-вот начнется. И началось, но как!
Казалось, столкновение с немецко-фашистскими войсками неизбежно, хотя в войну не хотелось верить. Но вдруг произошло необъяснимое. Был заключен договор с фашистской Германией, главной силой империализма, нашим "трижды заклятым" врагом! Сам Сталин присутствует при подписании договора. Он рядом с Рибентропом! Договор с фашистами, который, как все мыслящие люди считали, они способны разорвать в любой подходящий для них момент. Немыслимо! Что это? Большая война временно откладывается? Нет, она началась 1 сентября 1939г., но без нас, если не считать "освободительный" поход в Западную Украину и Белоруссию, находившихся в составе Польши после проигранной польской компании в конце Гражданской войны. Да, пожалуй, мы получили передышку, но столкновение с фашистской Германией всё равно неизбежно. Так думал я, так думали многие. Ну, а немалая часть населения не задумывалась, избежали войны и, слава богу, можно спокойно жить дальше.
Настал 1940 год. Немцы быстро захватили почти всю Европу. Сначала Норвегию, Данию, Голландию, разорвав, как пустые бумажки договоры о ненападении. Франция и Англия, на удивление, легко вдребезги разбиты на континенте. Остались Швеция, Швейцария и Финляндия. Итальянцы, хотя и с трудом, добивают противника в Албании. В Румынии и Венгрии профашистские режимы диктаторов Антонеску и Хорти соответственно. Обе страны - союзники Германии. Германия оккупировала Грецию и Югославию и уже бьет англичан в северной Африке. Японские войска продвигаются в глубь Китая и угрожают английским колониям. В общем, фашистская ось Рим - Берлин - Токио торжествует, а значит, она способна на новые захваты и мы, наша страна, естественный объект нападения.
С другой стороны, после присоединения (официально "освобождения") Западной Белоруссии и Украины и включения Прибалтики и Молдавии в СССР, после тяжелой позорной финской компании (выиграть то выиграли, но какой ценой!) прошли кадровые перемены в армии. Заменили наркома Ворошилова (главного, по официальной версии, героя Гражданской войны!) на малоизвестного широкой публике Тимошенко. Изменили подготовку в Армии. Началась интенсивная подготовка к войне, усилившаяся весной 1941 года. Шло массовое сооружение бомбоубежишь. Ввели на всех предприятиях номенклатуру и технологию производства военной продукции на случай военного положения. Увеличили выпуск военной продукции. В 1940 г. резко поднялись цены на промтовары и продукты, помнится на 50-100%!!! В результате исчезли очереди за продуктами, более того, самих продуктов стало больше, и расширился их ассортимент. Ввели плату за учебу в институте и даже в школе для 8-10 классов. Большинству стало туговато жить. Всё на оборону! Таков был негласный, точнее, полугласный лозунг. Но зато почти исчез дефицит и ночные очереди за промтоварами. Стало возможным купить почти все, что тебе по карману. Поэтому в войну и после, многие, вспоминали это время, как "золотое".
Весной, где-то в апреле-мае 1941г., в нашем доме собрали жильцов на субботник и очистили подвал - бывшую котельную, переоборудовав её под бомбоубежище. Мы подростки и часть взрослых таскали мусор. Остальные взрослые забивали узкие окна, готовили простенькие лавки. Такие же бомбоубежища сооружали в подвалах всех многоэтажных домов. В школе из старшеклассников (8-10 классы) организовали санитарную и противопожарную дружины, увеличили часы военной подготовки. Участились учебные воздушные тревоги с занавеской окон и синими лампами дома и на лестнице. Недавно, 15 июня, было тревожное сообщение ТАСС, что участились случаи нарушения границы самолетами Германских ВВС, переброшено большое число войск в Польшу к нашим границам. Требовали разъяснений от германской стороны, но пока ничего не слышно. Вот и моя школьная подружка сообщила, что услышала от отца (скорее подслушала), а он ответственный работник ЦК (недаром же они живут в отдельно квартире нового "цековского" дома в Староконюшенном переулке), что в ЦК только и разговоров о скорой войне с Германией! Она очень тревожиться. Неужели, правда? Может слухи? Немецкие рабочие не захотят воевать с единственной страной рабочих и крестьян! Да и наша Красная Армия сильна! Это будет конец фашизму! Так нас учили, так писали в газетах, так я и многие думали или хотели думать, так я и написал ей в ответном письме.
Так что неожиданной войны с фашистской Германией не было!
А внезапность была, но искусственно созданная. И кем? Я и многие из моего окружения во время и особенно после войны считали, что это "организовал" наш вождь И. Сталин. Только благодаря его ненормальному, параинальному, преступному неверию в нападение гитлеровских войск наши войска были захвачены врасплох 22 июня. Тех немногих военачальников, кто на свой страх и риск, вопреки приказу свыше, пытался подготовить оборону на границе, за немногим исключением, тут же арестовывали. В результате этой непростительной слепоты была потеряна почти вся авиация в первые часы боев и, по существу, был учинен разгром нашей армии на западной границе, повлекший огромные жертвы среди войск и гражданского населения. Конечно, всё это было осознано позже, а тогда, в первые дни войны, возникло недоумение и непонимание ходом происходящих событий.
Вернусь к повествованию. Прослушав Молотова и не дождавшись хотя бы какой-либо сводки о положении на границе, мы задумались: что надо делать? Мать сказала: "Немедленно за продуктами, я знаю, сейчас начнется паника и надо запастись, так, на всякий случай!". Впрочем, весь предшествовавший опыт говорил: запасайся! Мама сразу подсчитала деньги, а их было, как всегда, немного, и я пошел купить муки, какой-то крупы и соли. Вот большой гастроном №2 на углу Арбата и Смоленской площади, где мы, в основном, делали покупки. Это 2-ой по значимости и "крупности" магазин Москвы после 1-го, по-старому Елисеевского магазина на улице Горького (теперь улица вновь переименована на прежне название - Тверская). Вхожу в бакалейный отдел. Обычно в нем мало покупателей, а сейчас уже огромная очередь. Значит, все кинулись в магазины запастись на неопределенное будущее. А ведь и часа не прошло! Встал в хвост. Народ все пребывает и пребывает. Довольно просторное помещение набивается до отказа. Я оказываюсь уже посередине очереди. Берут всё и помногу, некоторые покупатели набирают столько, сколько могут унести. Сдержанный шум, говорят вполголоса, в основном, молчат. Вышел заведующий и с укоризной произнес:
- Ну что вы паникуете? Товара много, стыдно всё хватать, идите домой, всем всё достанется, продуктов много, запасы большие и т.д. и т.п.
Очередь не откликается, никто не уходит. Словам не верят.
Простояв минут 40, покупаю 2 или 3 пачки соли и 3-4 кг муки, немного крупы, больше нет денег. Возвращаюсь домой и к "тарелке". Передают указы о мобилизации и различные приказы, в промежутке музыка, всё те же бодрые марши. По прежнему ни слова, что на границе. Только на следующий день первая сводка Главного командования за 22 июня, в которой сказано, что наши части подтянуты к границе и вошли в соприкосновение с противником, отбивают атаки, отбросили противника с большими для него потерями. Но где и как непонятно. Только на одном направлении противник занял несколько населенных пунктов. Тогда мы еще не знали о неразберихе первых дней, но уже вскоре, через пару дней, стали подозревать неладное.
Вечером, часов в 10, завыли сирены воздушной тревоги. Затарахтело множество зениток со всех сторон Москвы. Грохот невероятный. Забегали по небу прожектора, хотя было еще светло. Неужели большой налет? Многие бросились в метро и в уже готовые бомбоубежища (в основном это подвалы больших домов). Мы остались дома, хотя подготовились к спуску в бомбоубежище (узелок с хлебом и еще чем-то, подстилка, если придется прилечь, документы). Бомбоубежище было рядом в подвале нашего подъезда.
Однако тревога оказалась "учебной", о чем вскоре сообщили по радио. Шла пристрелка зон ответственности средствами противовоздушной обороны (ПВО) после их размещения на заранее отведенных позициях. Это зенитные орудия - "Зенитки" разного калибра, зенитные пулеметы, прожектора, слуховые устройства, засекающие приближение самолетов (радаров еще не было), позднее появились аэростаты воздушного заграждения. Напротив наших окон, прямо на плоской крыше недавно построенной гостиницы "Интурист" (сейчас это крыло МИДа, выходящее на Арбат) расположилось 2 или 3 зенитки (очевидно батарея). В окно хорошо видно, как суетятся, что-то делают расчеты. Однако, еще целый месяц до 22 июля были только учебные или "ложные" тревоги ("ложные" - это подлет одиночных немецких самолетов к Москве, случайно или с целью разведки). Только ровно через месяц, 22.07, когда фронт здорово приблизился (уже были захвачены Минск, Смоленск, вся Белоруссия, вся Прибалтика, Западная Украина с Молдавией, часть центральной Украины), начались настоящие ежедневные бомбежки.
С мыслями о войне я лег спать. Что теперь делать? Конечно, вся обстановка говорила о неизбежности войны, но все равно как то внезапно получилось. Во вторник пойду в школу, узнаю, чем можно помочь. Ведь нас только что учили противовоздушной защите и я в противопожарной дружине. Завтра поеду в Кратово к подружке по классу и обсудим с ней этот вопрос. Утром 23 июня встал довольно рано, тут же включил радио и, наконец, услышал первую сводку Главного командования. Короткая сводка, в которой сообщалось, что немцы заняли незначительную часть территории, но регулярные части их вскоре отбросили, сбито около 20 самолетов. Все! Странно как-то! Даже сводки с Западного фронта были много подробнее. А тут такая громада навалилась и ничтожная информация. Как-то тревожно.
Быстро позавтракав, поехал на Казанский вокзал и сел в электричку. Народу совсем мало, наверно на работе или призываются. Только отъехали, как навстречу появился воинский эшелон, за ним другой и еще, еще, почти впритык! И так до моей станции Кратово. Сплошной поток товарных составов, изредка прерывавшийся электричками. На платформах орудия, разные машины, повозки, тачанки и еще всякая всячина. В товарняках спокойные, даже веселые красноармейцы, лошади, кухни. Техника, накрытая и не накрытая брезентом, прикрыта сверху ветками. "Для маскировки" - догадался я. "Вот какая силища сразу двинулась! Значит, мы были готовы, только ждали команды, сейчас как двинут по этим фашистам!" - думал я, да и многие так считали. Однако, очень скоро мы поняли, что что-то неладно, наших бьют и крепко.
Вот и Кратово. Сошел с электрички и зашагал вдоль дачных заборов, с удовольствием вдыхая теплый хвойный дух и наслаждаясь ясным теплым днем, наступившей тишиной и каким-то покоем вокруг (только слышался не сильный гул от потока эшелонов, затухающий по мере удаления от станции). Как хорошо! И настроение поднялось. Навстречу никто не попадался, да и на участках тихо, только изредка тявкнет собака и вскрикнет кто-то из ребятни. Здесь еще мир. Вот и дача. Сразу же заговорили с подружкой о войне и гадали, что теперь делать. Я сказал, что завтра же иду в школу, надо помочь в противовоздушной обороне и, вообще, понять, что делать. День прошел тихо и мирно. Вечерело. Надо успеть домой, вдруг будет налет немецкой авиации. Подружка проводила меня до станции. Опять шли по пропитанным теплым июньским воздухом, сосновым ароматом улочкам поселка, было хорошо и о войне не думалось. Это было последнее мирное настроение. У станции договорились о встрече в школе, я сел на электричку и вновь нахлынуло ощущение чего-то безвозвратно теряемого. Это ощущение тревоги, смешанной с тоской по мирной жизни, то усиливаясь, то уходя куда-то вглубь, больше меня не покидало.
Доехал быстро, несмотря на непрерывный поток воинских эшелонов. Воздушной тревоги не было. Пришла мама, поужинали, поговорили о событиях, все время, прислушиваясь к тарелке репродуктора, и легли спать. Мама сказала, что всех детей до 10-12 лет собираются отправить в деревни к родственникам или в подмосковные лагеря подальше от возможных бомбежек и моего младшего братишку надо тоже отправит. Работать теперь придется по 10-12 часов, т.к. много мужчин (почти все здоровые до 40 или 45 лет) ушло в Армию. Вскоре братика отправили в пионерлагерь "Дорохово" по Белорусской дороге от Наркомзема, Провожали его я и мама. Помню толпу провожающих у входа в наркомат, гора вещей, плачущие малыши, утешающие их родители. Брат был немного взвинчен, но не хныкал, пожалуй, ему это было интересно. Вскоре детвору увезли и я вернулся домой, а мама на работу.
ШКОЛА
Утром после Кратово, на 3-й день войны, я отправился в школу. Там уже собралась группа ребят из нашего 8-го А класса, теперь мы уже 9-тиклассники! Вот Дима Шибаев, Валя Митрофанов, вечный хулиган и полу-двоечник Харин, кто-то из девчонок. Завтра придут еще и из 8-го Б. Все жаждали что-то делать. Военкоматы полны добровольцев. Такая была атмосфера! Вскоре появился директор и сказал, что все окончившие 9 и 10 класс не придут. Их, кого уже призвали в армию, кого в училища, кто пошел добровольцем. Поэтому "вся надежда по защите школы от налетов на вас восьмиклассниках и, больше некому. Возможно, и меня призовут или уйду добровольцем... Так что вы теперь здесь хозяева... В школу регулярно будет приходить наша уборщица, все вопросы к ней, а в первую очередь надо занести на крышу и на этажи песок, который уже свален у школы, подвезут еще и поставить бочки с водой... Песок и вода для тушения зажигалок (зажигательных бомб)...". Он отдал нам ключи от школы и всех классов, дал несколько советов, свой телефон, списки учащихся за 7-8 класс, телефоны пожарных и скорой помощи. Мы восприняли все это с энтузиазмом, тут же организовались в дружину, выбрали штаб (вошел я и мои товарищи), обменялись телефонами и наметили план действий:
- обзвонить всех 8-и и 7-миклассников и пригласить в дружину;
- организовать круглосуточное дневное и ночное дежурство; тут же составили список дежурств, начиная с этого часа;
- немедленно разнести песок и бочки на чердак и на этажи;
- наполнить бочки водой для тушения зажигалок;
- еще что-то.
С этой минуты мы почувствовали себя хозяевами и защитниками школы! Появился небывалый прилив сил. Сразу же закипела работа.
Нашлось несколько лопат, совков, щипцов для захвата упавшей зажигалки, просто кусков фанеры и кровельного железа и мы стали грузить песок в школьные деревянные урны из-под мусора, таскать эти урны на чердак и этажи. Обедать ходили домой по очереди. От непривычки скоро устали, но каждый прекращал работу только, когда совсем обессиливал. Отдохнув, опять таскали урны (на чердак вдвоем). В перерыве я зашел в свой класс. В окна било яркое солнце. Взгляд останавливался на всем таком знакомом и близком, на слегка покоробленной и потертой коричневой доске, на тряпке с мелом, на исцарапанных партах, своей и товарищей, на трещинах деревянного пола, стенах с картами и портретами. Все такое родное и уже бесконечно далекое. Прощай детство! Больше не видать ни класса, возможно и школы. Защемило и стало как-то тяжело на сердце. Я вышел и больше в класс не заходил. К вечеру натаскали много песка, установили бочки с водой, организовали дежурство по 3-5 человек, порядок смены, завели журнал, куда заносили все подряд (почти дневник). Штаб разместили в учительской у телефона, там же был диванчик для отдыха. Поздно вечером, где-то около 23 часов все, кроме дежурных, разошлись по домам. Так продолжалось еще 2-3 дня, но уже стало легче, поскольку пришло еще несколько ребят, да и все емкости заполнились. Всего наша самостийная дружина насчитывала 15-20 человек. В перерывах обсуждали ситуацию. Ежедневные сводки с фронта были неутешительными. Вначале, вообще, трудно было понять, что происходит. 23 июня уже сообщалось, что оставлен Брест и еще несколько пунктов, "уточнялось" число сбитых за 1-й день самолетов противника (30 вместо 20). О наших потерях - ничего. О положении на разных участках или ничего или не убедительными обрывками.
Позднее сводки "упорядочились": кратко о неудачах и много об успехах. Никогда мало-мальски полной или хотя бы достоверной информации не было, за исключением сводки за 15 октября 1941 г., но об этом позже. Очень быстро мы научились читать между строк. Плюс рассказы беженцев. Все сводки (вначале "Главного командования", а затем "От советского информбюро") делились на 2 неравные части. Первая, короткая, об общей ситуации и вторая в несколько раза длиннее о подвигах отдельных частей и лиц. По существу, главное было в 1-й части сводки.
Общая часть, обычно, начиналась со слов: В течение прошедшего дня наши войска вели ... бои.... и далее перечислялись направления. В содержании прилагательного к слову бои и названиях направления содержалась основная информация. Например:
Фраза "...наши войска вели упорные бои на Смоленском направлении..." означала, что немцы атакуют, но пока их сдерживают, однако, Смоленск уже захвачен.
Фраза "...наши войска вели тяжелые бои..." означала, что немцы наступают.
Фраза "...наши войска вели ожесточенные бои ..." говорила, что немцы ведут крупное наступление и прорвали нашу оборону, возможно, разбили и окружили наши части. Теперь жди появления "нового", более восточного направления.
Фраза "...наши войска вели бои местного значения..." означала, что там временное затишье.
Вернемся к школе. На 3-й или 4-й день войны пришел военрук, вручил мне и еще кому-то все снаряжение своей комнаты (учебный карабин с разрезом, противогазы, учебные плакаты, еще что-то) и поручил сдать всё это на склад. Он дал адрес где-то в районе ул. Герцена (теперь вернули старое название: Большая Никитская). Пошли пешком от школы, через Арбат, Арбатскую площадь, переулками к ул. Герцена. Везде заклеенные бумажным крестом витрины магазинов, необычно мало транспорта, озабоченные лица прохожих. Вот и склад во дворе. Сдали вещи, получили расписку и пошли в центр посмотреть на маскировку, благо близко. Вся Манежная площадь, Красная площадь и прилегающие к Кремлю улицы расписаны под крыши домов. Неужели это маскировка для самолетов и они примут роспись за настоящие крыши и не опознают Красную, Театральную и Манежную площади, Кремль? Не верится. Тут же понаблюдали за подъемом аэростатов воздушного заграждения. Позднее на Театральной площади разместили для всеобщего обозрения, изрядно помятый фюзеляж с обломками сбитого немецкого бомбардировщика.
На 3-й или 4-й день войны поступило распоряжение всем сдать радиоприемники для Армии! За нарушение - наказание, кажется, трибунал. На самом деле, приказали сдавать, чтобы не слушали зарубежных передач. В Германии было аналогичное распоряжение. Причем там только за прослушивание "вражеских" передач сажали в тюрьму. У нас было что-то похожее. Поскольку мы не имели приемника, подробности я не помню. Помню только, что снес чей-то приемник на почту, которая была напротив нашего дома, получил расписку и был удивлен множеству сданных приемников. Просто завал, сотни аппаратов лежали в огромной куче. А приемники тогда имели единицы!
Огромное впечатление на всех произвела песня Александрова "Священная война", исполненная на Белорусском вокзале при отправки частей на фронт. До сих пор она вызывает какой-то трепет, а тогда это был мощный набат, поднимающий людей, вселяющий надежду и уверенность в победе. Уж больно точные слова, музыка, ритм, прямо в сердце!
Общий подъем на борьбу с фашистами был колоссальный! Очереди добровольцев, быстрый переход всех предприятий на военную продукцию. Неработающие женщины и подростки пошли на предприятия. Как-то, идя в школу на дежурство, повстречал наших 10-класников, в основном, активных комсомольцев. Все в новенькой военной форме, торопились забежать домой и потом обратно на курсы, кажется младших командиров. Сказали, что скоро идут на фронт, дадим прикурить фашистам, еще что-то бодрое и убежали. Больше их не видел, почти все вскоре погибли.
С первых дней войны возник вопрос, а где Сталин, почему молчит, негоже так поступать вождю! Должен же выступить и разъяснить: почему отступаем и что будет дальше. У меня и у некоторых друзей даже появилось ощущение, что здесь что-то неладно, не растерялся ли он, может, допустил серьезный просчет? Впрочем, свалившиеся заботы отодвинули эти мысли на 2-ой план. Следует отметить, что после 22 июня, через день или через несколько дней по радио и в "Правде" сообщили, что выступил премьер Великобритании Черчилль и предложил нам всяческую поддержку, в том числе военную. Это выступление Черчилля, которого всё время поносили, как "злейшего врага советской власти" (так, впрочем, оно и было), вселили надежду, что мы не одиноки, что нам помогут, что объективно мы наверняка станем союзниками (общий враг!), а это уже шаг к победе. Вот Черчилль выступил, а наш Сталин молчит! Наконец, 3-го июля он произнес свою прочувствованную и, как всегда, ясную и деловую речь, отметив коварство, неспровоцированность и внезапность нападения. Потребовал организации "на временно оставляемой территории" поголовной эвакуации предприятий, оборудования, транспорта, скота... Призвал к политики "выжженной земли" при отступлении, организации партизанского движения... Стало понятно, сколько мы потеряли территории, но появилась уверенность, что скоро наступит перелом. Правда, точил меня и многих червячок: что-то вы Правители прошляпили, какая внезапность? Всё говорило, что война не за горами, а коварство у фашистов в крови! Как они захватывали малые страны Данию, Норвегию, Чехословакию и другие, нарушив все договоренности и обещания, не говоря уже о нарушении Мюнхенских соглашений. Однако, заботы и дальнейшие события заглушили эти мысли, не до них тогда было.
Через несколько дней, придя в школу, мы обнаружили, что она отдана под госпиталь и нам там делать нечего. На этом наше "управление" школой закончилось. Но нас поджидали из райкома ВЛКСМ и предложили пойти на призывной пункт в одну из школ на Дорогомиловке в качестве помощников, точнее рассыльных.
НА ПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ
Утро. Собрались мы в райкоме комсомола и командой человек 10 (из наших Неля, Валька Митрофанов, Шибаев, еще кто-то; остальные из других школ). Пошли на призывной пункт в одной из школ, где-то в переулках у Дорогомиловской улицы. Перед школой уже толпа провожающих. Подходят призывники с котомками, чемоданчиками, рюкзаками, прощаются с провожающими и исчезают в дверях школы, многие навсегда, хотя это "навсегда" еще плохо осознается. Тревожные лица женщин, немного детишек. Все смотрят в окна. Оттуда машут и что-то кричат. Кому-то отвечают из толпы. Никто из провожающих не расходится, несмотря на увещевания комендантской команды. Все ждут, когда выйдет маршевая команда и еще раз можно увидеть и проводить родных или близких. Ведущий нашей команды предъявил бумажки и часовой пропустил нас в школу, теперь здесь призывной пункт. Распределили по бывшим классам, где формировались маршевые команды в Армию. Каждому дали № команды. Наша задача передавать записки и передачи призывникам от провожающих и обратно. Вышли на улицу и стали принимать записки и передачи в "свою" команду. Нам называют фамилии, приметы. Тщательно записываем и бегом в школу. В классах вынесена вся мебель, несколько лавок, на полу бумажки и обрывки газет. Из "моего" класса команда только что ушла, а новая еще не сформировалась. Только один мужчина, лет 30-35, задержался и спешно упаковывает вещмешок. Кому передать записку и передачу? Обратился к мужчине. Он машет рукой "это не мне" и выбегает догонять команду, которая уже построилась во дворе школы. Я за ним и кому-то в строю все отдал. Раздалась команда, открылись ворота и строй двинулся на улицу. Провожающая толпа кинулась к строю. Окликают своих, последние напутствия, кто-то навзрыд плачет. Вернулся в школу. Там царит порядок. Динамики почти непрерывно извещают призывников в какой комнате можно срочно починить обувь, подлатать одежду, побриться, навести справки, зарегистрироваться. Передаются различные объявления. Играет музыка, в основном марши. Прибывают новые призывники, быстро формируются команды и вскоре уходят в части. Большинство призывников озабоченно-бодрые. Обстановка уверенности, что все идет правильно. Панических настроений нет. В перерыв мы собрались перекусить в одной из комнат. К вечеру уходим усталые, но довольные, что чем-то помогли в общем деле.
НАДО РАБОТАТЬ!
Дома поговорили, что надо искать работу. Уже ввели карточки на продукты (заверения завмага в 1-й день войны не сбылись!): больше рабочим, поменьше служащим и еще меньше иждивенцам.
Утром поехал устраиваться на авиационный завод на Большой Дорогомиловской улице (сейчас Кутузовский проспект, около метро "Кутузовская"). В отделе кадров очередь женщин перед окошком. Мужчин, в основном пожилых, единицы. Подошел к окошку, подал справку об окончании 8 классов, комсомольский билет, т.е. все мои наличные документы на тот час. Спросили паспорт. "Я еще не получал, мне нет еще 16, только в сентябре получу". Из окошка ответ: "Иди парень домой, пока без паспорта не принимаем". Уговоры не помогли и я вернулся домой. Тогда мама, придя с работы, позвонила своему брату - моему дяде. Он обещал все устроить. Через пару дней дядя сообщил, что договорился через знакомого о приеме меня учеником слесаря на фабрику Звукозаписи. Она недалеко от дома, на малой Никитской улице, можно ходить пешком. "Получишь рабочую карточку! Вот тебе телефон..." и он назвал кому и когда звонить.
НА ФАБРИКЕ ЗВУКОЗАПИСИ
На другой день, утром я взял справку из домоуправления, комсомольский билет, аттестат за 7 класс, справку об окончании 8 класса, бутерброды на обед и пошел на фабрику.
20-25 минут ходу по так мне знакомым переулкам между Арбатом и Малой Никитской и я уже у новенького, недавно построенного 7-этажного здания фабрики. Удобный маршрут! Да и фабрика не походила на скучное производственное здание. Подъезд и небольшой холл на входе с барьером вместо проходной, скорее напоминали вход в кинотеатр, а вахтерша - билетершу.
Позвонил из проходной и вскоре ко мне вышел кругленький, приветливый, веселый человек. Это и был Годик. Он много что сделал для меня: помог заполнить анкету и заявление о приеме на работу в качестве подсобного рабочего, отнес документы в отдел кадров и все оформил. Объяснил мне, что буду учеником слесаря или токаря, а должность подсобного для большей зарплаты. Это 400 руб. против 150 или 200 руб. для ученика, да еще рабочая карточка вместо иждивенческой. Я был очень доволен, т.к. моя мать получала 600 рублей и мы еле сводили концы с концами. Теперь наше материальное положение должно существенно улучшиться.
Через пару-тройку дней я, с некоторым трепетом, вышел на свою первую работу. Меня встретил Годик и повел по паркету 1-го этажа в конец коридора, где мы спустились в полуподвал здания. Почти весь полуподвал был занят мастерскими. Годик представил меня наставнику (кажется Александру Владимировичу) и ушел.
Наставник, высокий благообразный, даже интеллигентный человек, с довольно большой лысиной, обрамленной пышными волосами, одетый в рабочую спецовку, был Старшим мастером и по возрасту (лет 35-40) и по квалификации. Он весьма благожелательно отнесся ко мне, сказал, что теперь мастерская выполняет, в основном, военные заказы, подвел к тискам, коротко, но толково объяснил, что и как делать и где брать инструмент и заготовки для работы. Взяв одну заготовку и, закрепив ее в тисках, показал, как работать напильником и ножовкой. По его указанию я взял в инструменталке (инструментальный склад), по выданной мне карточке, набор инструментов, а на рабочем месте заготовку и начал её обрабатывать. Долго у меня плохо получалось. Наставник, да и другие слесаря терпеливо показывали и поправляли, но дело двигалось туго. Оказалось, что мои способности к слесарной работе не ахти какие, не то, что к учебе, и это меня огорчало, досаждало, раздражало. Более того, я терял интерес к слесарной работе и думал о работе на станке.
Коллектив мастерской состоял из 5-7 молодых ребят - рабочих, но старше меня (20-25 лет) уже понаторевших в своей работе. Все они, как и Старший мастер, имели броню от призыва и работали теперь по 10-12 часов, а при срочных заказах ночью, во 2-ю смену. Для меня они были взрослыми, со своими интересами и взглядами, которые я не воспринимал. Был только один крепкий белобрысый паренек 17-ти лет, с которым я как-то сдружился и находил взаимный интерес. Нас часто посылали на подсобные и временные работы, не требовавшие хорошей квалификации: принести - отнести материалы, переместить оборудование, подежурить или покараулить. Иногда работали грузчиками, погрузить и разгрузить тот или иной товар, перевезти оборудование на товарную станцию, когда началась частичная эвакуация фабрики при приближении фронта.
Помню, меня как-то оставили на вечер испытывать новые светофоры для железной дороги с огромными козырьками сверху (чтобы не засекли с самолетов). Все или почти все сотрудники и рабочие фабрики ушли домой. Мы, конструктор и я, поднялись на 2-ой или 3-й этаж абсолютно безлюдный и расположились в длиннющем, чистеньком с паркетными полами коридоре, который тянулся посередине всего здания. Перетащили туда испытываемые светофоры, кое-какое оборудование и не хитрую аппаратуру. Я встал в одном конце коридора, конструктор с аппаратурой и светофорами в другом, выключили свет и стало абсолютно темно, хоть глаз выколи. Он включал варианты светофоров менял яркость, козырьки и положение, а я кричал ему "вижу" или "не вижу", или "плохо видно", он что-то записывал. Так продолжалось около 2-3-х часов и я здорово устал от однообразия и стояния на ногах, почему-то не было стула. Затем мы зажгли свет и все убрали. По дороге я заглянул в несколько зал, которые были залами звукозаписи. Это были чистенькие, в чем-то даже уютные помещения без окон с паркетными полами, новенькими стульями, столами, диванчикам и микрофонами с аппаратурой. В войну в этих залах часто проходили конференции антифашистского комитета, других подобных организаций и, конечно, проводились записи, как этих совещаний, так и музыкальных коллективов, артистов. Акустика была отличная, стены обиты специальным материалом.
Возвращался я домой около 12 ночи. Шел по знакомым абсолютно темным и тихим переулкам, почти на ощупь. Ведь в Москве было полное затемнение и всякий огонь вызывал подозрение у патрулей. За свет в окнах ночью строго наказывали. Патрули мне не попались, я почти добежал до дому и, наскоро поев, свалился спать, ведь вставать рано.
В последствие я часто поднимался на верхние этажи и "обследовал помещения". Мне было все в новинку и интересно, не хотелось уходить вниз в нашу полуподвальную мастерскую. Вообще Дом звукозаписи мало походил на фабрику. Все этажи с паркетными коридорами и массой дверей налево и направо с табличками и без, за которыми производственные помещения.
Как-то днем в обед, проходя по очередному коридору, прочитал "Гальваническая". Зашел, никого. Кругом кафель большое окно, ярко светит солнце. Слева кафельные ванны, в них что-то лежит (обычно матрицы грампластинок), покрытое жидкостью. Кругом почти стерильная чистота. Просторно. Наверно здесь хорошо работать подумал я и тут, вдруг, запершило в горле, сильнее и сильнее, стал кашлять. Я выскочил из комнаты, непрерывно кашляя, и столкнулся с работницей, несущей молоко в бутылке. Она, спросив, что я тут делаю, разъяснила, что мой кашель от серной кислоты в ваннах, что это вредный цех, где до войны был сокращенный рабочий день, им дают молоко, они уже привыкли, хотя часто болит голова.
В конце июля меня перевели на простенький токарный станок и я, после краткого обучения стал "токарить", точил фланцы для каких-то узлов танков. Здесь у меня дело пошло лучше, работал с удовольствием.
В жизни семьи наступила некоторая стабильность, даже относительное благополучие. Из-за моих заработков и рабочей карточки стало хватать на пропитание, исчезло ощущение постоянной стесненности в средствах, тем более, что потребности сводились к пропитанию, а на будущее не загадывали.
Шли военные будни. Вставал в 7 часов вместе с мамой, слушал новую сводку с фронтов, обычно неутешительную. Затем завтракал (каша манная или пшенная, чай с куском сахара и хлеба), готовил бутерброды на работу (по куску черного и белого хлеба с чем-то, приготовленным из продуктов, которые давали по карточкам: яйцом, селедкой, отварным мясом, повидлом, редко маслом). Заворачивал их в газету или грубую бумагу, бросал в "авоську" и выскакивал на Арбат. Дальше шел через Спасопесковский переулок пешочком по знакомым переулкам на Малую Никитскую в Дом звукозаписи. Погода в то лето стояла теплая, солнечная, дождей было мало, и эта утренняя прогулка была приятна. После работы возвращался тем же путем. Дома ужинал (опять каша, реже картофель в мундирах с селедкой или маслом, чай с куском сахара или ломтиком хлеба с повидлом), слушал радио, переваривал информацию и разные пересуды на моей и маминой работе, соседей о войне и что дальше будет. Звонил своей школьной подружке Неле, тете или её дочери. Кроме своих новостей и забот всё сводилось к войне, к непрерывному отступлению наших войск, к тревоге за родственников, попавших под оккупацию, к непредсказуемости дальнейших событий.
Плохие сводки с фронта, где почти всегда говорилось про упорное сопротивление, значит, наши отступают, или ожесточенные бои - значит, немцы прорвали оборону. Каждые 3-5 дней появлялись новые "направления", все ближе, ближе к Москве, к Киеву, к Ленинграду, плодились слухи о шпионах. Из Москвы выселили (интернировали) всех немцев. В соседней квартире забрали и увезли старушку - немку около 70 лет. Ну, какая она шпионка! А в голове одна и та же мысль, когда же наступит хоть какой-нибудь успех на фронте?! И так каждый день.
Где-то в середине июля началась частичная эвакуация из Москвы, сначала мало заметная. Вывозили, в основном, детей и престарелых родителей к родственникам в глубокий тыл (Северный Кавказ, Закавказье, Заволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия). Дядя и тетя отправили своих детей, к родственникам в семью Доценко, которая жила в комфортных по тем временам условиях, в центре Уфы в просторной 2-х или 3-х комнатной квартире хорошего дома. Так что принять эвакуированных на время было куда. Семья Доценко состояла из 4-х человек: отец, мать и двое мальчишек. Отец, Петр Доценко - командир полка (позднее дивизией), был известным и уважаемым в Уфе красным командиром, награжденным в Гражданскую войну редким тогда, высшим(!) орденом "Красного знамени". Кстати, это было одной из причин по которой он получил отдельную квартиру. В июле его полк в составе одной из дивизий уже был на фронте.
БОМБЕЖКИ
22 июля исполнился месяц, как началась война, как перевернулась вся жизнь. В этот день, вечером я прощался с моей школьной подружкой, которая по настоянию родителей, эвакуировалась в Куйбышев (Самару). Где-то в 7-8 вечера я, по договоренности со Старшим мастером, раньше обычного, ушел с работы. Был чудесный, ясный и теплый июльский вечер. Я шел по своему обычному маршруту по милым арбатским переулкам и как-то по особому чувствовал полноту жизни, хотя уже месяц шла война и вести с фронта было не утешительными. Молодость брала своё. Я работаю на фронт, нужды не испытываем, жизнь размеренная, всё уже перестроено на военный лад, откуда-то появилось ощущение, что положение улучшится (вот уже договорились с англичанами и американцами о помощи, теперь мы не одни, а весь мир смотрит на нас: выстоим или нет), а о будущем не хотелось думать. Просто было хорошее настроение. Вот скверик у мрачновато темно-серого здания церкви в Спасопесковском переулке, выход на Арбат, ярко освещенный вечерним солнцем и потому кажущийся нарядным, редкие троллейбусы, мало прохожих. Вот и мой солидный многоэтажный дом №51. У подъезда меня уже ждет Неля, вся встревоженная предстоящим отъездом. Прошлись по Арбату. Поговорили о положении на фронтах. Свернув в Калошин переулок, прошли мимо нашей 58-ой школы вспомнили класс, учителей, уроки, далекие теперь школьные события. Вот уже Староконюшенный переулок. Только дошли до Нелиного подъезда, как внезапно, истошно с характерным завыванием заревели сирены воздушной тревоги и почти следом раздались хлопки зениток. Опять учебная? Что-то не похоже, при всех предыдущих учебных зенитки начинали стрелять позже и не так все сразу. Было около 10 вечера. Быстро попрощался с Нелей. Она вбежала в подъезд, а я, что было духу помчался домой. Только бы успеть, чтобы не схватил патруль или дежурные и не запихнули в ближайшее бомбоубежище (при тревогах никого не пускали на улицу, т.к. помимо бомб сверху сыпались осколки зенитных снарядов и была велика вероятность получить осколком по голове). Пробежал Сивцев-вражек, при повороте с которого на Плотников переулок, выскочивший дежурный с криком "стой" пытался схватить меня, но я увернулся. Грохот зениток усиливался, сыпались осколки. Вот угол Плотникова и Арбата, до дома несколько шагов, всего 1 дом, но не вышло. Бдительные дежурные (тетка и двое с повязками схватили меня) и с криком "Куда несешься ненормальный" втолкнули меня, мимо дежурившего у входа милиционера, в подвал этого дома, переоборудованный под бомбоубежище. Как я не умолял пропустить меня: вот мой дом рядом, я должен там дежурить! (соврал, конечно), дружинники меня не пустили. На предложение помочь ответили: "Еще успеешь, нам ты не нужен, своих хватает". Еще несколько мужчин просили пустить их к ближним домам, но тщетно. Пришлось спуститься в подвал. Он был плотно набит стариками, женщинами с детьми, школьниками, в основном младших классов, немногими мужчинами и женщинами более молодого возраста. Все сидели на простых лавках и ящиках с маленькими и большими узелками или чемоданчиками. Было здесь 3-4 ряда лавок в середине и остальные вдоль стен. Часть людей стояло, прислонившись к стенам. Все говорили мало в полголоса, в основном прислушивались: что там наверху. Большинство лиц было напряженно - ожидающими. А там вдруг стихло, только отдаленно звучали редкие залпы, приглушенные толщей подавала, вход в который закрыли.
Я прошел вглубь к крепко забитому окну (мелькнуло: значит это не подвал, а полуподвал!), пристроился у торчащего тут деревянного столба и с досадой огляделся. Страха не было, хотя я представлял, что всё очень серьезно (уже потом я хорошо усвоил, что "представлять" и "знать" совершенно разные вещи). Рядом оказались две девушки примерно моего возраста с футлярами музыкальных инструментов. Разговорились. Нашу беседу прервал нарастающий гул зениток. Все ближе, ближе, как нарастающая волна. Раздались удары все мощнее и мощнее. Все поняли, что это бомбы и как-то напряглись. Вот яростно застучали зенитки и следом оглушительный удар, стены и пол встряхнулись, просыпалось немного штукатурки, закачались потолочные лампочки, почти все зачем-то отхлынули от стен, охнули взрослые, заплакали дети. Рвануло где-то рядом. Через несколько дней я проходил, за чем-то, по Сивцев-вражеку и обнаружил, что недалеко от моего 1-го бомбоубежища на углу со Староконюшенным переулком та жуткая бомба (говорили 250 или 500 килограмовая) прошила все 8 этажей одной секции недавно построенного дома и разорвалась на первом этаже или чуть глубже в подвале. Весь первый, второй и частично третий этажи секции были разворочены с полностью выбитыми рамами и пустотой внутри, заполненной внизу грудой камней. Остался один каркас. Менее разрушены были верхние этажи, на 8-мом кое-где даже сохранились окна с частично разбитыми стеклами. Неужели там можно было сохраниться? И сколько погибло?
Было еще 2-3 волны налета, но не такие страшные, рвало где-то в стороне. В этот 1-ый день налета я еще не почувствовал страха, он пришел позже. Но вот прозвучал сигнал отбоя. Это был короткий, непрерывный звук сирены и объявление по радио: "Граждане воздушная тревога окончена, отбой!". Сигнал отбоя стал потом надолго таким желанным. Мы вышли. Было 3 или 4 часа, уже рассветало. Пришел домой, а мама с Феликсом волнуются, куда я пропал! Быстро разъяснил и спать! В 7 вставать и на работу.
Утром по радио сообщили, что в этом первом налете участвовало около 300 самолетов, несколько сбито, большинство рассеяно, прорвались одиночки, ущерб незначителен. Никаких данных о "незначительном ущербе". Была и сохранялась долгие годы установка "не пугать народ!". Но мы уже привыкли, что правды, тем более плохой не сообщают или очень дозируют. Научились извлекать эту правду из официальных сообщений по разного рода признакам, рассказам очевидцев, друзей, сослуживцев, которым доверяли. Конечно, возникали ошибочные представления, но, в общем, удавалось понять объективную реальность.
На работе, сопоставив наблюдения каждого, пришли к выводу, что серьезных разрушений не было, противовоздушная оборона Москвы оказалась эффективной. Этот вывод в глазах граждан сохранился до конца войны, включая наиболее тяжелый период, когда немцы прорвались до ближних подступов к столицы. Хотя были весьма драматические и трагические случаи. Бомбы угодили в Большой театр, театр Вахтангова, даже пробили тоннель метро между Смоленской и Арбатской. Было и еще ряд разрушений, но нарушений жизни города от бомбежек не произошло.
Теперь ночные налеты стали почти ежедневными и мы постепенно к ним приспособились.
23 июня, в первый день после бомбежки, я после работы поехал к тете на Каретный ряд за собранными ей для нас продуктами с мясокомбината Микояна. Там работал ветврачом ее муж и время от времени получал за небольшую цену набор мясопродуктов, как правило, вторичных (кости, ножки свиные и говяжие, иногда печень, легкие и другие субпродукты). Это было хорошим подспорьем к карточкам. Уже начало темнеть, тетя спешно все собрала и я, почти не поговорив, направился к двери, чтобы до темноты вернуться домой. Но тут заревели сирены, по радио, прервав передачу, неоднократно раздалось: "Граждане воздушная тревога! Граждане воздушная тревога!...". Тетя остановила меня: "Скорей в убежище!. Захватив сумку с пожитками (наверно документы, сверток с едой, лекарства, бутылочка с водой), какую-то подстилку, мы сбежали с 3 этажа и под вой сирен, пристрелку зениток, вспыхнувших и бегающих по небу лучей прожекторов, быстро прошли в Лихов переулок к 8 этажному дому, подвал которого был бомбоубежищем.
К убежищу быстро шли и бежали с узелками и свертками много народу из соседних малоэтажных домов (здесь защищает высота и толща дома!). Вот и вход в бомбоубежище в подъезде у лестницы. У входа дежурная с красными повязками. Все стремительно сбегают вниз. Дежурная тщетно взывает к пробегающим: "Мужчины! Давайте на дежурство! Ну, не стыдно разве? Кто будет тушить зажигалки? Что же это такое..., все трусят!" и еще что-то в этом роде. Никто не откликается. Я отстал от тети и к дежурной: "Я подежурю, дайте повязку и куда идти?". Она с сомнением посмотрела, ведь щуплый мальчишка! Куда ему! С колебанием дала мне повязку и еще подвернувшемуся юноше 17-18 лет. Затем сказала, чтобы поднимались на чердак, там "Старший" укажет, что делать. Добавила еще что-то о здоровенных лбах и трусах, которые бегут и бегут вниз в бомбоубежище. Что мной двигало? Тут и любопытство (все увижу сам, как выглядит налет...), и сочувствие, точнее согласие с дежурной, и смутное ощущение долга и, конечно, отсутствие страха на тот момент. Страх пришел, но позже, когда я увидел, почувствовал запах смерти от свистящих бомб, летящих с бомбовозов.
Еле поспевая за напарником, запыхавшись, взлетел на площадку 8 этажа, где на ступеньках сидела девушка (или двое, не помню) с повязками и санитарной сумкой. Я еще подумал: зачем здесь сумка? Они (она) дали нам рукавицы, примитивные длинные (около полуметра) щипцы для захвата зажигалок и указали на последний марш, за которым была крохотная площадка и дверь, открытая на чердак. При подъеме я заметил, что почти на всех площадках стояли ящики с песком и кое-где бочки с водой. Такие же ящики и бочки с водой были на чердаке. Там нас встретил "Старший" и пояснил, что и как делать, предупредил, что при подлете самолетов заработают зенитки и из-за осколков снарядов надо сидеть и наблюдать из чердачного окна и только при падении зажигалки надо тут же ее хватать щипцами и бросать в бочки с водой или ящики с песком.
Вдруг замолчали зенитки и сирены, стало тихо, и мы вылезли из чердачного окна на крышу. Прилегли на теплую кровлю. Стало уже темно, только слабые остатки вечерней зари. Почти не чувствовался легкий теплый ветерок, небо было чистое с редкими облачками и, так как дом возвышался над окружающими домами, было очень далеко видно. Тепло, тихо, ни одного огонька, хорошая, чем-то уютная, июльская ночь. Начали высыпать звезды. Но вот вдалеке появились вспышки, подобные зарнице. Они все расширялись и приближались, сначала беззвучно, затем донеслось все усиливавшееся тарахтение зениток, мелькающие разрывы снарядов и отдельные вспышки на земле от рвущихся с характерным звуком бомб. Лучи множества прожекторов шарили, перекрещиваясь, по небу: туда сюда. Иногда их перекрестия останавливались - значит захватили цель. Сначала вдалеке, потом все ближе вспыхивали, разрастаясь, отдельные очаги пожаров. Мы насторожились и впервые почувствовали: вот оно, приближается! Заработали ближайшие зенитки, грохот стал оглушительным, посыпались осколки. Мы ретировались в чердачное окно и стали напряженно прислушиваться и вглядываться. Сквозь непрерывный грохот послышался нарастающий гул приближающегося бомбардировщика, затем свист падающих бомб и взрывы, взрывы! Гул, свист и взрывы все ближе и ближе. Тогда я впервые испытал страх, замер и, кажется, судорожно вцепился в край чердачного окна. Появилось ощущение полной беззащитности. Вой самолета был, казалось, над самой головой. Раздался короткий свист и страшный грохот разрыва. Здание содрогнулось, но нет, это не на нас, а где-то рядом. Вскоре там начался пожар, затем рев пожарных машин и скорой помощи.
Оказалось, что бомба угодила в одно из зданий Оружейного переулка. На нас упало несколько зажигалок, но все они полетели во двор. Сверху видно было, как там внизу кто-то хватал, разгорающиеся зажигалки и бросал в бочку или песок, одну за другой. Самолет пролетел и ближние зенитки стихли. Затем все повторилось вновь и, так волна за волной, больше часа или двух. При каждом приближении очередной волны всё внутри напрягалось и хотелось сжаться и куда-то забиться. Но вот частота волн уменьшилась и как-то внезапно всё прекратилась. Только вдалеке были отдельные всполохи. На наш участок крыши не угодила ни одна зажигалка, только сыпались осколки зенитных снарядов. Налет кончился. Мы вылезли на крышу. На фоне сплошь темных домов и кварталов, то там, то сям ярко светились очаги пожаров, но их было немного. Некоторое время ожидания и раздался сигнал отбоя. Я скатился вниз к входным дверям и стал высматривать, среди покидающих убежище, тетю с дядей. Вот появились и они. "Куда ты делся, мы же волновались?" - с укором и облегчением твердила тетя. Я объяснил, что дежурил, но всю дорогу до дому она упрекала, что мне надо было их предупредить. А я как-то оправдывался, хотя в душе думал: ну да, так бы вы меня и отпустили! Пришли в квартиру, было около 3-х или 4-х ночи, позвонили домой на Арбат, сообщили, что всё в порядке, мама сказала, что у нее тоже нормально. Коротко поговорив о распорядке на день, я, не раздеваясь, лег поспать. Радио не выключали. Рано утром, наскоро перекусив, я захватил авоську со свертком продуктов и поехал на работу. Остановка автобуса и троллейбуса ("Б" или 10) на садовом кольце была недалеко от Оружейного переулка. Там еще работали пожарные, но дыма не было. По дороге до площади Восстания (теперь Кудринской), где я слез, вертел головой, отыскивая следы налета, но никаких признаков не обнаружил.
На работе обменивались новостями и слухами о прошедшем налете, положением на фронтах и пришли к выводу: разрушений мало, но налеты теперь будут, очевидно, каждую ночь. Так оно и случилось! Встал к станку, растачивал знакомые мне теперь фланцы, проверяя каждый фланец на допуск, выбрасывал бракованные (с каждым днем их становилось меньше и меньше, вскоре портил 1-2 заготовки за 3-5 дней), относил их контролеру, сдавал, брал новые заготовки. Все, как обычно, кроме усилившейся тревоги из-за приближения фронта. По окончании работы быстро собирался (мылся в душе и переодевал рабочую одежду) и почти бежал домой по своим переулочкам, чтобы засветло успеть поесть и поспать до тревоги. Разрушений по дороге не заметил. Быстро поужинав, я завалился спать.
Около 10 вечера 24 июля вновь завыли сирены. Настал 3-й подряд вечер бомбежек. Мама, брат Феликс, которого тогда еще не отправили за город, и я быстро собрались и спустились вниз. Там, мама с Феликсом вместе с другими жильцами спустились в подвальное помещение - домовый клуб, переоборудованный в бомбоубежище, а я остался дежурить в подъезде, но уже без прежнего энтузиазма. Опять был грохот пристрелки зениток и затем тишина. Вместе с другим дежурным я получил рукавицы и вышел из подъезда. Задача - та же - хватать зажигалки и в бочку или ящик с песком. Прислушались. Вот, как и в прошлую ночь, раздались все приближающиеся залпы зениток и одиночные разрывы падающих бомб. Ближе, ближе. Вот послышались усиливающиеся завывания бомбардировщика, грохот зениток стал оглушающим, по асфальту забарабанили осколки снарядов. Сжалось сердце и всё внутри напряглось. Мы ретировались в подъезд и прижались к стене. Где-то в стороне грохнули разрывы бомб. Гул самолета стал удаляться. Пронесло! Но вот загрохотало вновь, опять заунывный и теперь такой устрашающий вой очередного бомбардировщика. Я присел на лавочку у лифта и тут раздался короткий свист и страшный грохот взрыва, от которого заложило уши. Зазвенели и вылетели стекла нашего парадного, двери распахнулись от взрывной волны, которая внесла в подъезд пыль улицы и какой-то смрад. Стены и пол задрожали. Казалось, сейчас рухнут стены. Из подвала бомбоубежища раздался вой голосов и плачь детишек. Они подумал, что рвануло в доме и их засыпало. Выждав несколько секунд, мы выскочили на улицу и увидели оседающее облако темной пыли и разгорающееся пламя пожара. Где? Куда попало? Из облака пыли вынырнул милиционер или кто-то из дежурных, который крикнул, что попало в театр Вахтангова, рядом всё разрушено. Позднее узнали, что туда угодила 500 или 1000 килограммовая бомба (тогда самая мощная). Недалеко разгорались зажигалки, но, почти сразу, были потушены дежурными. Пожар в театре и около быстро ликвидировали дружинники и прибывшие пожарные. Было еще несколько волн налета, но рвало вдали. Через час или два наступил отбой и все поплелись в свои квартиры, переживая случившееся и надеясь, что сегодня днем налета больше не будет.
Теперь налеты совершались почти ежедневно и начинались с немецкой педантичностью около 10 вечера. Бомбился в основном центр Москвы, промышленные зоны и густонаселенные кварталы. По ежедневным сводкам в налетах участвовало от 200 до 300 самолетов, но прорывались одиночки, остальные "рассеивались" или сбивались (5-20 ежедневно). Сообщалось о нескольких таранах вражеских "Юнкерсов" нашими ночными истребителями (Талалихиным и другими), их наградили орденами, но главное они были настоящие герои в глазах москвичей. Успешные отражения налетов породили робкое ощущение, что не за горами перелом в войне. Разрушения и жертвы были, но не массовые, как в Киеве или Ленинграде. Помниться, что обычно сообщалось о жертвах, но не больше 2-х десятков. В эти цифры не особо верили, как и во все официальные сообщения потерь и наших (конечно, преуменьшены!) и немецких (ну, эти преувеличены!). Одна бомба (говорили, 250 кг) попала в Большой театр, другая пробила тоннель метро между Смоленской и Арбатской станциями. Воронка от последней оказалась на моем пути на работу, в скверике Спасопесковского переулка. Так себе, ямка 3-4м в диаметре. Её быстро заделали, метро заработало в обычном режиме и больше попаданий в метро не было. Этот случай послужил одним из оснований параллельного строительства в конце войны нынешней глубокой линии от площади Революции до Киевского вокзала. В целом, мощная противовоздушная оборона Москвы оказалась достаточно эффективной, чего не скажешь об оборонительных боях первых месяцев войны на фронте.
К ежедневным бомбежкам привыкли, т.е. каждый выработал свой режим, когда собираться в бомбоубежище, когда оставаться дома. Число последних неуклонно увеличивалось из-за малой вероятности попадания бомбы и притупления страха. Помню толпы женщин с детьми, стариков с узелками, собиравшихся около 9 вечера у станций метро глубокого залегания (там где были эскалаторы) и ожидавших сигнала тревоги, после которого их пускали в вестибюль и вниз на платформу.
Я тоже иногда "пропускал" бомбежки из-за желания как-то выспаться перед работой. Тем более, что мы вскоре временно переехали на окраину Москвы в квартиру дяди, который эвакуировался вместе с институтом в Кзыл Орду (Казахстан). Квартира располагалась на 1 этаже 7-ми этажного дома на Красностуденческом проезде в малонаселенном тогда районе около опытного поля и большого дендрария (лесного массива) Тимирязевской академии. Там было значительно спокойнее, бомбы падали совсем редко и где-то в стороне (зачем бомбить пустое место!) и надобность в бомбоубежище, расположенном в подвале, прямо под квартирой, представлялась не обязательной. Далеко было ездить на работу (почти час на трамвае, хорошо, что без пересадки!), но это компенсировалось более спокойным сном. Там мы пробыли до октября месяца.
ЭВАКУАЦИЯ
Сводки с фронта и рассказы очевидцев были, по-прежнему, неважные (немцы у Киева и под Смоленском; Ленинград, кажется, вот-вот будет окружен), но мы ждали, надеялись на перелом, верили в него. И дождались! В начале сентября сводки сообщили о крупном успехе под Ельней (юг Смоленской области) и применении там нового, всё сметающего оружия (это были первые "Катюши"). В сводках стало меньше сообщений о тяжелых, упорных боях на других направлениях, увеличилось количество сообщений о "боях местного значения", или сообщений, что "существенных изменений не произошло". Отлегло немного от сердца, первый успех! Хотя по всему мы понимали, что пока это местные, не радикальные успехи (впоследствии не раз убеждался, что субъективное представление редко было ошибочным). Продолжалась эвакуация детей, институтов, отдельных предприятий, а это не к добру!
Радость была кратковременна, Ельнинская операция (30.08-06.09) не получила развития. С середины сентября вновь появились фразы об упорных, тяжелых, даже ожесточенных боях на Украине (вскоре был сдан Киев и немцы продвинулись аж до Донбасса и далее до Ростова), ухудшилось положение под Ленинградом. Почти каждый день сообщалось, что после упорных боев наши войска оставил очередной крупный город (мелкие города даже не назывались). А в начале Октября пошли сообщения об упорных, напряженных тяжелых, ожесточенных боях на Смоленском направлении. Значит, опять немцы наступают, а наши бегут! Почему опять? Ведь нет внезапности, как в начале! Резко усилилась эвакуация детей, части предприятий. До 14-16 октября мы не знали, что произошла катастрофа. Только в 90-х - 2000 годах были приведены цифры катастрофы; 5 армий и ряд частей еще 3-х армий были окружены под Вязьмой и вскоре полностью разбиты, 300-500 тысяч пленных, потери около 1 миллиона. Почти вдвое больше, чем под Сталинградом!
Участились бомбежки, хотя их эффективность не увеличилась. К ним привыкли и приспособились. Пока мы были в дядиной квартире, то почти не ходили в бомбоубежище. Я, обычно, спал, просыпался при близком грохоте, прислушивался и когда он стихал, вновь засыпал.
В конце сентября или начале октября нескольких молодых ребят из нашей мастерской отправили с одной из команд на сооружение оборонительных рубежей под Москвой (рыть окопы, противотанковые рвы, ставить ряды "ежей" против танков). Тогда отправили много народу от каждого учреждения и предприятия. Все поняли, что на фронте плохо, опасность приближается. Меня не трогали, т.к. мал, только - только оформляю паспорт.
Паспорт я получил 26 сентября, а вот прописаться не успел. Пришел в милицию на прописку где-то в начале октября (раньше не получалось то по работе, то по домашним делам), а ведавший этим пожилой, довольно упитанный капитан или майор с каким-то очень тревожно-печальным лицом повертел его в руках и сказал: "Не до прописки сейчас, видишь какая обстановка, погоди 1-2 недели пока всё проясниться". Он наверно уже знал о разгроме наших войск под Вязьмой. Но через неделю я был уже далеко от Москвы. Однако всё по порядку.
10-15 октября шла массовая, еще не плохо организованная, эвакуация детей. Моего братика Феликса определили в одну из партий эвакуируемых и я, для проводов, договорился на работе перенести меня во 2-ю смену. Собрав чемодан вещей и сверток с продуктами, с тяжелым сердцем, мы с мамой повезли его утром на Речной вокзал. Был пасмурный, холодный осенний день 15 Октября. Временами падали снежинки. Всю дорогу в метро мы как-то утешали Феликса, напутствовали как себя вести и неоднократно повторяли, чтобы сразу, по приезде на место, написал, где и как устроился и немедленно сообщил адрес. А Феликс в свои 11 лет не грустил, хотя и был возбужден. Ему было интересно это "приключение".
У пристани шикарного по тем временам Речного вокзала стояли тоже шикарные, красивые, чистенькие теплоходы, предназначенные теперь для эвакуации детей. У нас приняли документы, дав взамен справку об эвакуации, зачислили брата в одну из групп и назвали № каюты. На вопрос, куда их повезут, ответили, что сами не знают, поэтому не могут дать адреса (подозреваю, что было указание "не говорить", то ли из-за незнания точного места прибытия, то ли из-за соблюдения "тайны", что тогда широко практиковалось, где надо и где не надо).
Нам позволили проводить Феликса в каюту. Шли по слегка и как-то успокаивающе покачивающейся палубе, по устланному ковром, очень чистенькому коридору, и вот тоже чистенькая, уютная, кажется, 2-х местная каюта. Расположились на мягких кожаных диванах, опять пошли напутствия и утешения, которые Феликс слушал невнимательно, его возбудила и заинтересовала вся эта новая обстановка. Вскоре появился сосед его возраста, тоже с родителями. Раззнакомились. Заглянули еще несколько ребят, с которыми Феликс быстро нашел общий язык (он был очень компанейский) и перестал обращать на нас внимание. Слёз не было. Взрослые понимали трагизм положения и необходимость эвакуации, старались держаться бодро. А ребята не чувствовали этого трагизма и просто были возбуждены и даже воспринимали все с повышенным интересом: первый раз, на таком теплоходе, который они видели только в кино или на плакатах! Не помню, сколько мы так просидели, поговорили с воспитателем с другими родителями, но вот раздался гудок и через пароходные динамики провожающих попросили удалиться. Попрощались, немного постояли у пристани, наблюдая, как теплоход отшвартовался и стал медленно удалятся. На палубе стояли дети, махали нам, а мы им. Было как-то тревожно - грустно. Что ждет их впереди, а что нас, когда и как увидимся?
Возвращались с мамой прямо на работу, каждый на свою. Вначале был обычный рабочий ритм, каждый занимался своим делом. Я растачивал и складывал в лоток свои фланцы. Начало темнеть. Вдруг в мастерскую с тревожно-растерянным видом с дорожным вещмешком за плечами вошел один из наших ребят, отправленных на рытье укреплений. Он прошел прямо к начальнику мастерской, сбросил рюкзак и стал рассказывать, что с ним и остальными приключилось. Все, кто был в мастерской, поняли, что произошло что-то скверное и сбежались послушать. Вот краткое, по памяти, изложение его рассказа.
"Я только что с поезда. Все дни по прибытии на место под Можайском мы рыли противотанковый ров, днем и ночью с перерывами на отдых и а жратву прямо на месте, народу было уйма, мужиков побольше, баб поменьше, и ров рос прямо на глазах. Последние дни нас часто бомбили и обстреливали, прятались во рву, никого вроде не убило, говорили, что есть раненые, я не видел. Сегодня утром послышалась редкая стрельба и вдруг сообщили, что всем немедленно надо уходить, недалеко немцы сбросили десант или появилась какая-то прорвавшаяся группа. Все схватили свои пожитки и кто куда. Я помчался к Можайску и еле успел на последний поезд, уже набитый людьми. В пути несколько раз обстреливали, но поезд не останавливался и прибыл на Белорусский вокзал. Я сразу сюда, узнать, что теперь делать...". Пока наш начальник куда-то звонил, паренька засыпали вопросами. Но вот он оторвался от телефона и распорядился, чтобы все и паренек отправились поскорей по домам, пока нет бомбежки. Я почти бежал по уже темным переулкам к себе на Арбат, а в голове стучала мысль: Можайск рядом, неужели всё так плохо? Мама была уже дома, но она ничего не знала и не слышала. По радио тоже ничего нового не сообщалось, повторение утренней сводки об ожесточенных боях на вяземском направлении, успехах под Таганрогом, всяких эпизодах. В доме не топили, в комнате было холодно, хотя мы завесили наши 2 окна одеялами. Поговорили, как там наш Феликс едет, скоро выберется в безопасное место! Надо скорей спать, наверно будет тревога! Быстро сбросил ботинки и одетым, на случай тревоги, забрался под одеяло. За окном выл ветер и временами продолжал идти мелкий снежок. Но в эту ночь, впервые за последние недели не было налета и я, также впервые за много дней, крепко выспался.
Утром, 16 октября, как всегда, заговорило радио и сразу необычайно краткое почти паническое сообщение, единственное по своему безнадежному содержанию за всю войну(!), которое ударило, как обухом по голове и потому, наверное, запомнилось почти дословно: "В течение 15 октября положение на западном фронте ухудшилось. Превосходящим силам противника удалось прорвать нашу оборону ... Наши войска ведут ожесточенные бои на ближних подступах к Москве". Всё! Ни слова о других фронтах и направлениях, ни обычного в каждой сводке перечня отдельных боевых эпизодов. Сразу за сводкой заиграли марши, один за другим, и никаких передач! Ничего подобного больше никогда не было. Сразу вспомнился вчерашний разговор на работе. Мы с мамой быстро умылись и позавтракали и все прислушивались к тарелке репродуктора: ну, скажите еще что-то, что нам делать? Бежать или ждать разъяснений? Что предпринимает власть? Из репродуктора никаких сообщений, только марши, один за другим. Мама звонила сестре, чтобы обсудить, что делать, а я поспешил на работу, захватив хлебные карточки, чтобы отоварить дневной паек на обратном пути.
На улице было еще мало народу, а те, кто попадался, быстро шли куда-то с озабоченным лицами. Было пасмурно, временами шел снег в виде крупы. Весь мой маршрут пролегал по переулкам, на которых располагалось ряд посольств и разные иностранные представительства. Во дворе каждого из них, начиная с резиденции посла США в Спасопесковском переулке, стояли машины, в них что-то спешно грузили, кое-где во дворах жгли бумаги. Кругом машин было сильно намусорено, бумагами, папками, какими-то обрывками. Ветер разносил этот мусор по переулкам. Нагруженные легковые и грузовые машины тут же уезжали. Чувствовалась торопливость и спешка. Эвакуация, к тому же спешная! - понял я. Вот и Дом звукозаписи. Спускаюсь в мастерскую. Тихо, станки не работают, Все, кто пришел, читают вывешенный приказ, тихо обмениваются новостями. В приказе сказано, что все(!) сотрудники с сегодняшнего дня увольняются с выплатой 2-х месячного содержания. Остается небольшая группа по охране и эвакуации оборудования, им выплачивается 3-х месячное содержание. Прилагался список остающихся, остальным предлагается срочно эвакуироваться своим ходом.
В этот день уволили всю Москву! Закрылось метро (говорили, что перевозят раненых), к полудню перестал работать наземный транспорт, троллейбусы замерли, где их бросили водители. Я с напарником поднялся на крышу и стали прислушиваться, не слышно ли канонады. Но нет, тихо. Изредка в разных концах города стреляют зенитки, тревоги не объявляют. По Садовой торопливо идут прохожие, мимо планетария прошла большая колона грузовиков без кузовов, это едут с ЗИСА. Похоже, всё, что может само двигаться, уезжает - предположили мы.
Спустились вниз, всем выдали трудовые книжки с пометкой об увольнении, ждем расчета по зарплате. Час, другой, кассира нет. По радио марши, но вот диктор сообщил, что сейчас выступит председатель Моссовета Попов и опять бодрые марши и никаких сообщений. Наконец нам говорят, что в банке жуткая очередь и вряд-ли сегодня удастся рассчитаться, кто может, ждите. Я не стал ждать и пошел домой. В переулках усилилась суета; грузятся и тут же отъезжают машины, оставляя за собой ворох бумаг, разносимых ветром. Идут группами и по одиночке люди с чемоданами, баулами, узлами. Вот и Арбат. Мой магазин "ХЛЕБ" стоит с настеж распахнутой дверью, внутри пусто и за прилавками и в подсобках, и никого нет. Кинулся на Смоленскую площадь в большой Гастроном №2 на углу площади. Перед ним сиротливо стоит покинутый пустой троллейбус. Увы, та же картина: распахнутые двери, пустота, только обрывки бумаг, картонок, тряпья. "Всё уже растащили, опоздал...Паника...Все магазина открыты, бери что и сколько можешь..." говорил случайный прохожий. Я понял, что отовариться не придется. Но то, что я увидел на Смоленской площади, меня поразило и удручило. Нескончаемой лентой с Бородинского моста, а значит, с Можайского шоссе, двигалась необычная, нескончаемая колонна телег, повозок на конной тяге, между которых гнали отары овец, стада коров, свиней. Часть животных лежала на соломе на подводах, вперемежку с домашним скарбом и птицей в корзинках ("очевидно, не выдержали дороги", подумал я), на некоторых телегах сидели и лежали ребятишки и женщины. Колонна заворачивала на Садовое кольцо к крымскому мосту и ни начала, ни конца этой колонны не было видно. Прохожие и я засыпали сопровождающих мужиков вопросами: "откуда, далеко ли немцы, что там делается...". Отвечали устало, часто с какой то безнадежностью: "мы из под Можайска... от Кубинки, (еще откуда-то), всё бросили, захватили только то, что успели наспех, с воздуха обстреливали, но обошлось, что дальше будет не знаем, военные есть, но ничего не поймешь, одни туда, другие сюда... ". Немцы рядом, подумал я и побежал домой. Опять затарахтели зенитки, недалеко, низко пролетел самолет (наш, не наш, не поймешь), но никто не обращал внимания. Все магазины распахнуты, в них кто-то копошится, что-то находит и поспешно уходит. Чувствовалась полное отсутствие власти, милиция исчезла и, если что-то делалось, то стихийно. Вот навстречу, молча, беспорядочным строем прошла довольно жалкая группа в гражданской форме, часть которой были с винтовками (ополченцы!). Шли на Бородинский мост, навстречу беженцам и растворилась во встречной толпе. Что они могут сделать? Где войска, артиллерия и прочее, куда всё подевалось? Где власть, наш вождь Сталин, наконец? Возникло ощущение вселенской катастрофы.
Мама была на месте и лихорадочно собирала вещи, продукты, что достались с её продбазы. "Уезжаем с эшелоном, что идет с Микояновского мясокомбината, где работает дядя, собирайся. Они позвонят, когда и куда ехать...". Я тоже стал собираться. Взял несколько книжек, в.т.ч. Л. Феербаха, философия которого меня тогда интересовала, собрал свои скудные личные вещи (2 пары белья, 2-3 пары чулок (носки тогда не носили), 1 или 2 рубашки, байковые лыжные брюки, еще что-то) и уложил их в потрепанный, но вместительный чемодан с постельным бельем. Затем собрал и сжег, чтобы ненароком не досталась немцам, карты Москвы, доставшиеся от отца и служившие мне для пометок о моих "походах" по Москве. Глупость, о которой я потом страшно жалел (подробные были карты и интересные). Всего набралось: чемодан с моими и мамиными вещами, узел, кажется с одеялами, вещмешок с продуктами и самой необходимой утварью (ложки, вилки, ножи, туалетные принадлежности...), пара сумок. Свои основные документы (паспорт, комсомольский билет, трудовую книжку) я разместил в сшитом мешочке и, как было принято, всю дорогу носил мещочек, не снимая, на груди, подвешенным за шнурок на шее.
Все квартиранты (3 семьи), кроме нас, уже уехали, заперев комнаты и отдав ключи Елизавете Петровне Зауэр (Е.П.) - дореволюционной хозяйке всей квартиры. "Куда мне старухе, будь что будет, а я все поберегу, не волнуйтесь, никого не пущу, если все обойдется" говорила она и сдержала слово, хотя были попытки пошарить в наших комнатах и помародерствовать. В частности, приходила наша бывшая домработница Зина со своим хахалем и требовала от нее ключи от комнаты, якобы поискать свои вещи. Е.П. резко отказала и потребовала, чтобы они удалились, а то вызовет милицию или дружинников. С ними шутки плохи, сразу под трибунал!
Наша радиотарелка в перерывах между маршами несколько раз сообщала, что сейчас выступит председатель Моссовета Попов, но опять и опять шли бодрые марши. Почему молчит власть? Растерялась? Ведь нельзя бросить всех на произвол! Наконец, уже к вечеру вместо Попова передали Постановление Моссовета, в котором говорилось о недопустимости паники, остановки транспорта, грабежей и предупреждалось, что все нарушения будут строго наказаны (вплоть до расстрела за мародерство), назывались ответственные. Слегка отлегло на сердце, появилась надежда, что установится порядок. Действительно, 17-го заработал, хотя и плохо, транспорт, а к вечеру установился относительный порядок, но магазины на Арбате были пусты или закрыты.
Вечером 16-го мама созвонилась с тетей и получила указание, когда и куда завтра приезжать. Встречаться наметили у мясокомбината имени Микояна, где работал дядя и где на товарной станции Бойня формировался эшелон для эвакуации.
Спали не раздеваясь, тем более, что стало совсем холодно (не топили!), а на улице уже ниже нуля градусов. Утром мы встали, наскоро поели, оделись потеплее (я, кажется, натянул 2 рубахи, двое, кальсон и еще что то), прослушали сводку. Она была уже близкой к обычному стилю. Сообщалось, что наши войска ведут упорные (или ожесточенные) бои на ближних подступах к Москве, на Волоколамском, Нарофоминском и Можайском направлении. Значит, города уже сданы, а это совсем близко - рукой подать! Забрали документы и вещи, закрыли дверь. Всё! Вернемся ли и когда? Отдали ключи Е.П. попрощались с ней и она осталась опять единовластной хозяйкой квартиры.
Тоскливо было покидать свой дом, уезжать в неизвестность! Вот спустились по такой родной лестнице, вышли на улицу, немного прошли по Арбату к Смоленской площади, пересекли ее, вышли на Плющиху к трамвайной остановке и стали ждать трамвая. Нашего маршрута, №15, долго на было. Было пасмурно, хмуро, временами стреляли зенитки, то ближе, то дальше. Тревоги не объявляли. У меня даже закралась мысль, что трамвая не будет и мы вернемся в свою квартиру. Ни тогда, ни тем боле позднее я не верил, что немцы возьмут Москву (была какая-то внутренняя уверенность, что Москву ни за что не сдадут!). Но вот подошел, наконец, наш трамвай мы сели и долго ехали до ближайшей к мясокомбинату имени Микояна остановки. Потом шли по переулкам, встретили в условленном месте тетю и уже с ней пошли дальше, по каким-то задворкам, потом по железнодорожным путям и, в конце концов, вышли к товарному эшелону. Вот и наша теплушка, где дядя уже разместил свои вещи. Теплушка была обычным товарным вагоном, в котором возили скот на бойню. Вагон вымыли внутри, соорудили полати по обе стороны от двери, установили буржуйку с трубой, выходящей в дверь, уже запасли сколько-то угля. По тому времени это были шикарные условия. Помимо нас и еще одной родственницы, в теплушке размещалось еще 3 или 4 семьи сослуживцев дяди. Раззнакомились, делились новостями, слухами.
Из этих разговоров и позже, от очевидцев, я узнал, что творилось в Москве 16-17 октября. С полудня 16 октября вся площадь 3-х вокзалов, Казанского, Ленинградского и Ярославского, была запружена людьми, яблоку упасть негде. Поезда брали с бою, использовали даже электрички, прицепив впереди паровоз. Служащие вокзалов и милиция с трудом сдерживали этот, временами прорывающийся, поток беженцев. В самом городе все (или почти все) продовольственные склады были раскрыты. Якобы, было указание открыть склады для населения. Все, кто узнал это, услышал, увидел, ближайшие жители, бросились на склады. Оттуда мешками тащили муку, крупы, сахар, ящики с провизией, связки колбас, кому что досталось. Вакханалия кончилась только 17-го к вечеру. Многих директоров потом засадили, расстреляли, так говорили, хотя в печати об этом ни слова! Тетя потом рассказывала, что у них на работе, в ветеринарной лаборатории Асколи, позавчера (перед паникой) поздно вечером 15-го собрали актив на партсобрание и сообщили, что немцы прорвались к Москве, положение неясное, всем надо эвакуироваться, захватив, кто может, часть оборудования лаборатории. Тете под расписку выдали микроскоп, который впоследствии очень пригодился в ветлечебнице. Такие собрания были на всех предприятиях и в учреждениях. Всех уволили. Там, где был хоть какой либо транспорт, его использовали для эвакуации людей и оборудования. Оснований для паники было хоть отбавляй!
Пока устраивались, стемнело, наступил вечер. Только перекусили всухомятку, запивая чаем, приготовленным на буржуйке, как раздался знакомый и, увы, ожидаемый вой сирен воздушной тревоги. Большинство народу залезло в теплушки, часть расположилась у вагонов, тревожно наблюдая за небом, готовая нырнуть под вагоны, если рванет рядом. Кругом пути, пути и пути, спрятаться больше негде. Зато обзор отличный и слабая надежда: сюда вряд-ли сбросят, кругом пустошь, только линии и линии, да одинокие вагоны на путях. Я вылез из теплушки и стал наблюдать. Заполыхало небо, сначала отдаленно, потом ближе, ближе, лучи прожекторов непрерывно шарили в небе. Грохот зениток приближался. "Смотри поймали!" - закричали несколько голосов. В перекрестии 2-х, а затем нескольких прожекторов, на фоне абсолютно черного ночного неба, довольно высоко медленно, словно сонная муха, двигался бомбовоз, вокруг которого вспыхивали пучки разрывов, все гуще и гуще. Казалось, что он неуязвим. Грохотали зенитки, сыпались осколки, а бомбовоз все двигался и двигался. На земле вспыхивали, правда редко, разрывы бомб и то тут, то там, разгорались пожары от зажигалок, которые, в большинстве, вскоре после падения были погашены (противопожарная служба, добровольная и профессиональная, работала хорошо). И тут раздался крик "сбили, сбили!". Действительно, самолет, накренился и все ускоряясь полетел к земле, упав где-то вдалеке в районе ВДНХ. Вскоре все стихло, налет кончился, прозвучал сигнал отбоя. Я забрался на 2-ю полку теплушки около окошка и задремал. Кажется, была еще 1 или 2 тревоги, но я не вылезал больше. Проснулся от толчка вагона. Прицепили паровоз. Начало светать. Толчок, еще толчок и мы поехали все быстрее и быстрее. В окошке замелькали знакомые места. Вот платформа Люберцы. Значит, едем по рязанской дороге! Вот такие знакомые остановки, Малаховка, Кратово, Раменское. В окошко видно, как по дороге прочь от Москвы идут небольшие группки и одиночки, все с рюкзаками и вещмешками. Едут редкие машины. Беженцы! Дожили! За Раменским пошли незнакомые мне места, всё дальше и дальше от дома! Было пасмурно, к счастью, висела низкая облачность и вероятность налета на эшелон была минимальна. По дороге, правда редко, попадались сожженные остовы вагонов, уже сброшенные аварийными бригадами в кювет, а под вечер мы остановились прямо напротив длинного состава, стоявшего на соседнем пути и состоявшего из пустых полу и полностью сгоревших остовов вагонов и платформ. Вот кому досталось! Тихо. Кругом кусты и лесок. Спрыгнул на землю. Из других вагонов тоже попрыгали люди, кто поразмяться, кто в кусты. Впереди под длинным колпаком ярко горел красный свет светофора. Вспомнил коридор в Доме звукозаписи и наши испытания... Зажегся желтый, затем зеленый свет, кто-то крикнул "По вагонам!", паровоз загудел все попрыгали в свои теплушки и состав двинулся дальше.
На следующий день следов бомбежек уже не попадалось, напряженное ожидание беды ушло, тоска по оставленному дому усилилась. Навстречу все чаще и чаще стали попадаться эшелоны с войсками и техникой. Шли подкрепления, говорили, что из Сибири и Дальнего востока. На одной из остановок из соседнего эшелона заглянули бойцы с наивным вопросом: далеко ли немцы? И, выслушав нас, бодро добавили: "Не горюйте, сейчас двинем их, скоро вернетесь". Нет, Москву не сдадут, подумал я, да и многие так считали. Через несколько дней доехали до Сызрани на Волге, долго стояли и затем, переехав длиннющий мост через Волгу, прибыли в Куйбышев (раньше и теперь Самара). Теперь здесь столица! Разгрузились и покинули наш товарный эшелон. Приехали к каким-то родственникам в центре города, там с удовольствием помылись с дороги, перекусили и отдохнули, подстелив пальто на полу, кто в комнате, кто в и коридоре. Прослушали сводку с фронта боев. Под Москвой по-прежнему ожесточенные бои на Нарофоминском, Можайском, Волоколамском направлении, под Калининым (Тверью). Но чувствуется, что немцев задерживают, нет, не видать им Москвы! Взрослые хлопотали о дальнейшем житье-бытье, долго, горячо и по многому что-то обсуждали с хозяевами, а я пошел посмотреть город, набережную, Волгу. Мирно, необычно, ходили трамваи, сновали по своим делам люди. На огромном песчаном пляже за набережной было пусто, никого, и неприятно намусорено. Холодный ветер носил множество обрывков бумаги и какого-то тряпья. Было неуютно, ощущение чужого города, своей ненужности здесь, и я вернулся в дом, где мы остановились. Здесь уже всё решилось: мы едем дальше в Уфу, в семью Доценко, к Евгении Захаровне (тете Жени) сестре жены моего 2-го дяди, туда, где сейчас живет в эвакуации дочь моей московской тети. Билеты уже куплены, утром посадка на поезд Куйбышев - Уфа. Переночевали и рано утром, как мне показалось, к облегчению хозяев, поехали на вокзал.
Перроны были буквально забиты эвакуированными. "Как они и мы поместимся в поезд, как бы не остаться?" - подумал я. Подали состав на Ташкент. Толпа ринулась к вагонам. Крики, толчея, пробки на площадках, вещи засовывают в окна. Где-то разбили стекло. Но вот набитый людьми и вещами поезд отошел, на перроне стало свободней, хотя не всем удалось сесть. Вот подают и наш состав. Опять суета, крики, все стремятся к еще двигающейся площадке вагона. Мама впереди, я впритык за ней с чемоданом и сумкой в руках, за спиной вещмешок с продуктами (буханки хлеба, банка меду, крупа, еще что-то). Толчея жуткая, но вот мама уже на ступеньках, я за ней, ухватившись за поручни. Лезу, меня толкают и чувствую, что сзади взрезают и лезут в мешок. Оглянутся невозможно. Дергаю плечами, бью чемоданом в кого-то сзади, рывком вваливаюсь на площадку и в вагон. Все места уже заняты? Удается плюхнутся на боковое место рядом с мамой, чемодан поставил между ног, вещмешок на колени. Дядя с тетей умудрились занять нормальное место. Хватаюсь за мешок, вот дырка, вытащили банку с медом! Первая потеря. Досадно, продукты на вес золота, но в такой толчее итак, слава богу, обошлось, основное в мешке осталось! Пассажиры всё прибывают, заполняя собой и вещами все проходы, становиться совсем тесно. "Счастливчики" залезли на 3-ю, вещевую полку и там блаженно развалились. Кондукторша пытается остановить лезущих в вагон. Кричит: "некуда, некуда, все забито!...". Пытается перегородить вход. Но куда там! Никто не слушает, её оттеснили в вагон и набились в тамбур. Всё! Коробочка переполнилась. Кто-то хнычет на ступеньках вагона, но влезть некуда. Раздался гудок паровоза и мы тронулись. Постепенно все утряслось и стало свободнее, можно повернутся и пристроится поудобнее. Я наспех зашил прореху в мешке, предусмотрительно захваченной иголкой с ниткой (всегда хранилась в шапке) и затем, перекусив всухомятку куском черного хлеба с кусочком колбасы. Под стук колес, обняв вещмешок, я заснул, просыпаясь от сильных толчков и неудобного положения. Утром прибыли в Уфу.
II. БАШКИРИЯ (жизнь в эвакуации)
УФА
Захватив вещи, мы вышли на пристанционную площадь Уфы к трамвайной остановке. Ждали довольно долго, но вот пришел трамвай, такой же, как московский, сели и медленно поползли в гору к центру города. Площадь в центре, где мы слезли, была завалена множеством ткацких станков, эвакуированных с фабрики, кажется, из Белоруссии. Они лежали довольно долго, 1 или 2 месяца, пока им подготовили помещение. Дом, в котором жила семья Доценко, оказался недалеко и, вскоре, мы были уже у них на квартире. Обычная при приезде суета, расспросы, знакомства прошли быстро. Мы с облегчением свалили вещи в довольно большом коридоре, помылись, поели (каша, хлеб, чай) и расположились отдохнуть. Уже в товарном эшелоне я начал испытывать скудость пищи, еще не голод, но частое желание еще бы поесть, которое глушил кружкой воды. Но, когда меня спрашивали наелся ли я, всегда отвечал "да, да", "конечно" и т.п., понимал, что при скудном карточном пайке рассчитывать на большее неприлично. Слегка позавидовал своей двоюродной сестре, которая жила здесь с июля и уже ходила в школу (вот бы мне снова сесть за парту, пусть и не в своей школе!).
Надо было определяться с устройством на новом месте (работа, жилье, карточки на продукты!) и тетя с дядей уже на другой день приезда пошли в республиканское Земельное управление для трудоустройства. Я также отправился на поиски (ведь токарные и слесарные навыки получил!). Поблизости обустраивался цех какого-то эвакуированного авиационного завода. Мне сказали, что меня могут взять попозже, но общежития пока нет, и этот вариант отпал. Недалеко я обнаружил авиационный техникум. Там давали небольшую стипендию, рабочую(!) карточку и возможность подработать, но опять: "пока" нет общежития. Тогда я просто побродил, как в Москве, по городу и ни с чем вернулся домой. Там мама с тетей Женей готовили обед и что-то обсуждали.
После скудноватого обеда я задумался, что дальше делать? На душе было тоскливо, очень хотелось домой в Москву. В один из дней поиска работы я, никому ничего не сказав, пошел в военкомат и попытался записаться в добровольцы. С начала войны это было довольно массовым явлением, хотя к осени стало затихать, т.к. все уже как-то определились. В военкомате было много народу, но они толпились только у определенных дверей. Чувствовалась какая-то казенная атмосфера и ощущение, что ты лишний. Я не захотел никого расспрашивать и выбрал кабинет, около которого никого не было, постучал и вошел. За столом сидел пожилой военный, и я протянул ему паспорт с комсомольским билетом и довольно сбивчиво стал излагать свою просьбу. Сказал, что попал с мамой в эвакуацию (надо было ее вывезти), а теперь хочу на фронт под Москву. Он посмотрел документы, задал несколько вопросов, затем встал и стал расхаживать по кабинету, о чем-то думая. Потом резко повернулся ко мне, отдал документы и заявил, что я еще не дорос, что еще успею, а пока иди и береги маму и ищи брата. Я с непонятным облегчением покинул военкомат.
Через день или два, придя домой, я увидел, что все, мама, тетя Женя и ее ребятишки были радостно возбуждены - только что получили письмо от мужа и папы (дяди Пети), он жив и здоров, его полк уже на фронте и все нормально! Гадали, где они, под Москвой или в ином месте, обсудили новости с Фронта. Там все еще шли тяжелые бои под Москвой. Ленинград окружен, но вроде немцы дальше продвинуться не могут. Может, намечается такой желанный перелом? Строили прогнозы.
Через несколько дней, вернувшись после очередных поисков работы, тетя с дядей и сказали, что в Уфе есть работа, но нет жилья, и им предложили любой ближайший к Уфе район. Они остановили свой выбор на Чишминском районе (ближайший к Уфе, удобное сообщение): тете быть главным врачом районной ветлечебнице, дяде тоже ветврачем в том же районе в "Кумыспроме" - совхозе недалеко от райцентра Чишмы. Завтра же мы (я с тетей) рано утром едем в Чишмы, осмотреться и определиться.
ЧИШМЫ
Поездка на пригородном поезде "Уфа-Чишмы" заняла 2 или 3 часа. В дальнейшем я не реже раза в месяц совершал этот маршрут: туда - сюда, поскольку Чишмы явились последним пунктом нашей эвакуации, где я прожил полтора года до призыва в Армию, а все остальные прожили до возвращения в Москву.
Чишмы, центр одноименного района, представляли собой довольно крупный поселок и железнодорожный узел, растянувшийся на 2-3 километра по обе стороны железной дороги, которая здесь раздваивалась: одна шла на Куйбышев (Самару), откуда мы приехали в Уфу, другая шла на Ульяновск. Вокзал был недавно отстроен и был достаточно большим для райцентра, с довольно чистым залом ожидания, рестораном, билетными кассами и служебными помещениями.
Правая половина поселка, считая от Уфы, была заселена, в основном, русскими, украинцами, было немного белорусов, татар и евреев, еще кого-то, которые работали на предприятиях и в учреждениях. Левая сторона была заселена татарами - колхозниками. Там же жило часть эвакуированных, которые не смогли расселиться в правой части поселка.
Чишмы считались дешевым, по сравнению с Уфой местом жительства. Существовала местная пословица c легким татарским акцентом: "Деньги есть - Уфа гуляем, денег нет - Чишма сидим".
В начале мы направились в РАЙЗО, где тетя оформила свое назначение и жизненно важные документы (карточки, талоны) на продукты, как эвакуированным и как работающим. Ветлечебница, куда мы направились после оформления всех необходимых документов, была последней, западной постройкой центральной улицы, как раз напротив железнодорожной развилки на Куйбышев и Ульяновск. Рядом уже не было домов. Кругом была бескрайняя, слегка холмистая степь уже припорошенная снегом. Только вдалеке, небольшой полоской, виднелось подобие леска или рощи. Ветлечебница представляла собой приличную территорию с рядом построек, огороженную дощатым забором. Главная из них и самая большая, собственно ветлечебница, представляла новое, недавно отстроенное, с еще свежей краской, типовое одноэтажное здание с небольшим манежем для приводимого скота, аптекой, коридорчиком для посетителей с окошком в аптеку и дверью в служебное помещение. Служебное помещение занимало крайнюю, левую часть лечебницы, имело отдельный вход с улицы и состояло из тамбура и 3-х комнат для бухгалтерии и главврача. К манежу примыкала конюшня с несколькими стойлами для подлечиваемого скота и лошадей лечебницы, которые мирно жевали сено. На территории находились еще бревенчатый жилой дом с двумя изолированными квартирами для персонала с русской печкой в каждой из них, склад медикаментов, сарай, дощатый туалет и, конечно, колодец, из которого черпали воду для людей и скота. На дворе стояло несколько саней, рабочих и для выезда (кошевки), телег и еще какая-то утварь. В жилом доме обитали в одной половине фельдшер Ананьев, в другой полуглухой конюх лечебницы. Мне, московскому мальчику, все здесь было непривычно, необычно, в чем-то даже чуждо.
Персонал ветлечебницы состоял из 2-х фельдшеров, Антипина и Ананьева, бухгалтера, тоже эвакуированного из Москвы (фамилия Палей, а как звать не помню, кажется, Борис), конюха и уборщицы (жены или родственницы конюха).
Антипов, рыжеволосый мужик среднего роста с неприветливым лицом, временно исполнял обязанности ветврача и аптекаря. Ананьев, крупный, крепкий мужчина с густой шевелюрой был, наоборот, приветлив и сразу располагал к себе. Он тут же предложил нам переночевать у него, т.к. обратный поезд шел только рано утром. Тетя осмотрела всё хозяйство, договорилась о передаче ей дел после переезда всей семьи, поговорила о делах, о том, что жить мы будем в ветлечебнице в 2-х смежных комнатах, предназначенных для главврача, рядом с комнатой бухгалтера.
Занять служебное жилье, где проживал Антипин, она постеснялась, хотя у него был свой дом, правда расположенный далеко и, помнится, перенаселенный родней. Она договорилась о дровах и прочих условиях жизни (где взять мебель, временно посуду, примус, керосинку, ведра и другую домашнюю утварь). Стало темнеть, пошел снег, подул неприятный пронизывающий ветер и мы, усталые и голодные (у меня нещадно сосало под ложечкой), пошли к Ананьеву. Как хорошо было очутиться в его теплой избе! Приветливая хозяйка и хозяин сразу усадили за стол, хотя мы из приличия отнекивались, говоря, что привезли еду с собой (несколько бутербродов из черного хлеба с копченой колбасой) и выложили её на стол. С каким аппетитом я ел вкуснющие, густые, наваристые щи и гречневую кашу с мясом! Обед запивали молоком от собственной коровы хозяина. Меня разморило и хозяйка отправили меня спать, а тетя еще продолжал расспросы о местном житье-бытье.
Рано утром мы отправились обратно в Уфу и через несколько дней переехали в ветлечебницу. Началась непривычная, сельская жизнь. Разместились, конечно, стесненно в упомянутых 2-х смежных комнатах рядом с бухгалтерией. Все 3 комнаты отапливались встроенной круглой печкой-голландкой. Из-за тесноты мое спальное место определилось на бухгалтерских столах! Каждый вечер я сдвигал 2 стола, заносил и расстилал на них огромный казенный тулуп, предварительно убрав чернильные приборы и счеты и подложив под изголовье стопку книг. Клал под голову или надевал ушанку, накрывался каким-то суконным одеялом, поверх которого набрасывал 1-2 пальто, в зависимости от холода, и, не раздеваясь, спал. В сильные морозы накрывался полушубком или тулупом. Утром, до прихода бухгалтера, все возвращал на место. Было неуютно, но что поделаешь!
Тетя стала, своего рода главой своей и нашей семьи, почти каждый день разъезжала по колхозам и совхозам по своим ветеринарным делам, оставаясь часто ночевать в хозяйствах. Мама, вспомнив свое детство и юность в Копаткевичах (местечко в Белоруссии), готовила еду на всех, убиралась и даже пекла хлеб, поскольку вместо хлеба мы получали муку. Пекла не в лечебнице, где это было невозможно, а в русской печке у фельдшера Антипина или у конюха. Дядя работал и жил в "Кумыспроме" и приезжал только на 1-2 дня в неделю. Так что, тесно становилось только, когда все собирались.
Сразу по приезде, на 2-ой или 3-й день, я пошел устраиваться в МТС. Идти пришлось далеко, на противоположный край поселка (около 2-3-х км). Там охотно согласились принять меня на работу и провели в мастерскую. Мастерская представляла собой большое, типа ангара, довольно холодное, грязноватое здание, где стояло несколько станков и ремонтируемые машины. Там меня подвели к маленькому токарному станочку. Боже, что я увидел! Допотопный, наверно, еще дореволюционный, примитивный станок с ременной передачей, соединенной ступенчатым шкивом с общей трансмиссией под потолком, от которой вращался шпиндели нескольких станков. Изменение числа оборотов шпинделя осуществлялось вручную перемещением приводного ремня по 2-м или 3 ступеням шкива при остановленном станке. Станок был ржавый и казался совсем неработоспособным. Я оглянулся и увидел, что почти все станки работают так же, от общей трансмиссии. В общем, техника начала века или еще раньше. Мне предложили почистить станок, отремонтировать и потом на нем работать. Я что-то пробормотал по поводу сложности ремонта, о котором не имел ни малейшего понятия, и сказал, что подумаю и завтра - послезавтра дам ответ, хотя в душе уже решил, что эта работа мне не подходит. Обратная дорога, занявшая около 40 минут хода по замерзшим колдобинам при холодном пронзительном ветре, окончательно укрепила меня в решении отказаться от этой затеи.
Дома (теперь надолго лечебница стала моим, нашим домом), мне предложили стать ветсанитаром в лечебнице, а в дальнейшем заведовать аптекой. Всё будет рядом, кроме того, я получу рабочую карточку, точнее паёк, а что делать научат. В общем, токаря из меня не получилось, другого выхода не было и с некоторой опаской и внутренним несогласием (ведь никогда не занимался животными и ничего не понимал в ветеринарии!) оформился на этой должности (зарплата 125 р. при стоимости буханки хлеба на рынке 40-70 р.!) и приступил к работе.
Я ВЕТСАНИТАР
В мои обязанности входила помощь ветврачу и фельдшерам при лечении приводимых животных и уход за оставленными в ветлечебнице больными особями. Когда мне поручили аптеку, то добавился почти ежедневный отпуск лекарств по рецептам фельдшеров и ветврача и запросам местных ветсанитаров, которые обслуживали скот в хозяйствах района (свыше 20 хозяйств!) и приезжали из колхозов и совхозов почти ежемесячно за лекарствами и консультациями. Кроме того, 1-2 раза в месяц я ездил в Уфу за пополнением аптеки. Вскоре добавилась еще работа на бойне. Но обо всем по порядку.
В первый же день работы мне вручили серую в яблоках лошадь, приведенную из военной части и страдавшую, как быстро установила тетя, опоем. Она еле держалась на ногах и её тут же поместили в одно из стойл конюшни, где она сразу легла. В мою задачу входило 2 или 3 раза поить ее из поллитровой бутылки раствором саллицилловой кислоты и задавать сена в стойло (чистил стойла конюх) и дозировано поить.
Фельдшер Ананьев, с которым у нас установился хороший, по человечески, контакт, быстро научил меня "вливать" лекарство лошадям и коровам и многим другим навыкам. В последствие, я наловчился и делал это достаточно быстро.
День за днем моя лошадь поправлялась, встала на ноги, стала больше есть, и я испытал удовлетворение, что всё идет хорошо. Курс лечения заканчивался и тут я допустил оплошность. Выходя из стойла за очередной порцией сена или воды, я закрыл дверцу, но не накинул запорную петлю. Делал я это часто, чтобы возвращаясь с пуком сена или ведром воды можно было ногой открыть дверцу (руки ведь заняты). Моя "пациентка" обычно лежала или стоя жевала сено, не обращая внимания на мои действия. А в этот раз, только я набрал во дворе сено (или налил воду в ведро), как увидел, что она выходит из полураскрытой двери конюшни. Бросив всё, я кинулся к ней и, если бы на ней была уздечка, успел бы остановить. Но уздечки не было, окрика она не послушалась и, всё убыстряя ход, выбежала в обычно открытые ворота. Я погнался за ней, но куда там! Перейдя на рысь она быстро удалялась по дороге в сторону железнодорожного переезда. Я кинулся обратно за помощью, но пока конюх запряг нашу лошадь в кошевку и погнал к переезду, моей "пациентки" и след простыл. Лошадь сбежала, я страшно расстроился, не зная, что теперь делать и чем это грозит. Однако все обошлось как-то совсем спокойно. Приехавший фельдшер Ананьев даже посмеялся и сказал, что ее выловят и вернут, нечего нервничать. Другой "противный" фельдшер, наоборот, позлорадствовал. В результате, лошадь не нашли, её списали, меня слегка пожурили, и инцидент был исчерпан, но он оставил у меня неприятный след.
День за днем стал проходить в обычных заботах. Первой, около 7 утра вставала мама, будила меня. Я убирал свою постель из бухгалтерской в нашу комнату, умывался под умывальником, который висел в холод в тамбуре, а в тепло на дворе. Зимой заносил дрова и затапливал печку, обязательно забегал в коридорчик лечебницы и слушал новую сводку с фронта, прильнув ухом к тарелке репродуктора, т.к. часто хрипело или была малая громкость, затем завтракал. За завтраком обсуждали последние известия с фронта и семейные дела. Днем, по обстоятельствам, я колол (рубил, если хворост) в запас дрова, сваленные во дворе, или шел в аптеку отпускать лекарства, помогать фельдшерам, когда приводили или приносили животных. Им я ассистировал, готовил и поил животных лекарствами, убирал манеж. Время от времени, ходил за причитавшимися нам, продуктами, а когда научился запрягать телегу или сани, то изредка ездил с разными поручениями. Особо следует отметить работу на бойне свиносовхоза, которая позволила нам получать в достатке свинину, что было в то время почти роскошью.
Кстати, бухгалтер совхоза, Борис Михайлович(?) Палей, тоже москвич, работал у нас по совместительству. Он и его жена очень переживали за сына Женю только окончившего 10 классов, который был уже призван в Армию и уже воевал, вроде под Москвой, чему я, какое-то время несколько завидовал. Они с понятным нетерпением и страхом ждали каждое письмо. Мы быстро сошлись с ними, обсуждали житье-бытье. Надо понимать, что у эвакуированных из одного и того же города было много общего.
Сводки, по-прежнему, были тревожными, но чувствовалось, что немцы застряли под Москвой (новых направлений боёв не появлялось) и возможно вот - вот наступит перелом. Это "вот-вот" превратилась в уверенность 6-го и 7-го ноября. Вечером 6-го репродуктор внезапно прервал передачи и стал транслировать торжественное заседание из Москвы, посвященное 24-ой годовщине Октябрьской революции. Всё, как и в мирное время! Доклад делал сам Сталин, говорил убедительно и очень обнадеживающе. Но главное потрясение мы получили 7-го, когда утром вдруг прервались передачи и стали транслировать парад с Красной площади! Немцы под Москвой, а у нас парад, как всегда до войны! Значит не все так плохо и дело пошло на лад. С этого дня настроение поднялось и мы, уже уверенно, ждали сообщений о контрнаступлении.
Старое, одряхлевшее деревянное здание ветлечебницы находилось около станции. Его надо было разобрать и весь материал перенести во двор нашей ветлечебницы, и поскорее, пока не разворовали по частям (часть досок уже обломали и унесли). Где взять рабочую силу и чем расплачиваться? Главврач, моя тетя, сама или скорее по подсказке, нашла выход. Договорилась с кем-то из властей использовать заключенных(!), которых сокращенно окрестили зеками. Они все сделают за еду при своем полуголодном и просто голодном существовании! В один из дней ноября, уже выпал первый снег и настали еще легкие морозы, привели под конвоем 2-х охранников 15-20 заключенных, в основном, лет за 40-45 (для меня пожилых), каких-то забитых, понурых, многих с затравленным взглядом. По скупым словам охранников и самих зеков большинство из них попалось на мелком воровстве продуктов. Они получили не очень богатый инструмент (лопаты, ломы, несколько топоров и пил), собранный в ветлечебнице и взятый взаймы, и дружно, без понуканий принялись за работу. Сравнительно быстро, за 1-2 дня, разобрали старое здание и на плечах, частично на наших санях, перетащили и сложили всё во дворе ветлечебницы. Работали с перерывом на вожделенный обед.
Готовили и раздавали обед уборщица и мама. В огромный котел, вмурованный в печку манежа, засыпали приготовленный для заключенных провиант: около 2-х ведер картошки, столько же овощей (морковь, капуста, свекла, лук). Заправив в эту смесь немного постного масла, сварили густющий суп. Всех заключенных собирали в манеже и они, получив порцию супа в свои котелки, рассаживались на занесенные нами чурбаки и с жадностью набросились на еду. Охранники были довольны, что всех собрали в закрытом помещении, а не на улице, где труднее присматривать. Они со своими винтовочками расположились в воротах манежа и тоже поели супа, но без жадности, скорее по убеждению: почему не заправиться на дармовщину. Супу было много, заранее решили кормит "от пуза", и особо оголодавшие употребили по несколько порций. Наевшись, некоторые осоловели, но после короткого отдыха споро принимались за работу. Многие из заключенных благодарили за обильное питание и говорили: вот бы так каждый день! Видно было, что в заключении было им весьма голодно.
Вечером строем эта команда возвращалась в своё место содержания.
За окраиной Чишмов, недалеко от ветлечебницы, находился свиносовхоз, постройки которого хорошо просматривались в ясную погоду на фоне бескрайней, заснеженной степи. В конце декабря 1941г., начале января 1942г. там начался забой свиней для Армии и понадобилось ветеринарное обслуживание: каждая забитая туша должна быть осмотрена ветеринаром и оформлена заключением. В случае пригодности, на туше ставилось соответствующее клеймо, а непригодные туши выбраковывались. Работа считалась ответственной, а в тех условиях еще и весьма выгодной, т.к. появилась возможность покупать остающиеся после разделки части туши по очень низкой государственной цене (это головы, ножки, печень, почки и прочая требуха). Тетя, как главврач, взяла эту работу на себя и организовала её на высшем, в тех условиях, уровне. Вначале она после каждого забоя ездила на совхозную бойню сама, осматривала свиней с фельдшером совхоза, брала с каждой забитой туши пробы для микроскопического исследования, привозила их к нам в лечебницу и анализировала под микроскопом (вот где он пригодился!), на финноз и трихиноз (тяжелые глистные заболевания). Только после микроскопического исследования ставилось клеймо. Вскоре пошел массовый забой, по нескольку десятков туш в день, и каждодневные поездки стали ей не под силу. Ведь была масса работы в районе! Тогда приспособили меня. Каждый день, утром, я одевал старенький белый халат (точнее уже серый от многократных стирок), брал ящичек с ячейками для проб, клал туда ветеринарный нож, тряпку для протирки рук и инструмента, клеймо и шел на бойню совхоза, расположенную, к счастью не очень далеко, на окраине совхоза, ближе к ветлечебнице.
Вот и бойня. Покосившееся, нелепое сооружение, которое и зданием не назовешь. Врытые в землю столбы, небрежно обитые досками и покрытые низкой, меньше 2-х метров примитивной крышей, покрытой металлической кровлей с множеством заплат и провалов. Внутри сооружения было несколько огороженных отсеков с земляным полом. Вот загон для скота. Рядом бойцовская, где здоровенными молотами забивают свиней два бойца - два крепких молодых парня. Потом, разделочная с примитивными столами, куда заволакивают туши из бойцовской. Далее, нечто вроде склада продукции, где на крюках висели уже готовые туши, еще склад всякой утвари, несколько подсобных помещений (отсеков). Кривой коридор, соединял все помещения и имел в середине пространство с грубо сложенной печкой, в которую был вмазан здоровенный чугунный котел. В котле грели или кипятили воду, в обед варили для всей обслуги гору обрезков мяса, печени и прочей требухи, ешь до отвала, но с собой ни-ни!
Я заходил к висевшим тушам, здоровался с разделочницами и вырезал из каждой туши 2 пробы: Клал пробы в ячейки ящичка, помечал номером ячейки каждую тушу и затем клеймил туши, пробы из которых были взяты в предыдущий раз и уже проверены под микроскопом. За стеной то и дело раздавались глухие удары бойцов и визг забиваемых свиней. Вначале было не по себе, потом привык, хотя всякий раз напрягался. Затем уходил обратно. Иногда обедал со всеми, вытаскивая ложкой из котла куски сваренного мяса на захваченную из дома посуду с куском хлеба. В ту зиму я, как никогда в жизни (ни до ни после), отъелся мяса, что было здорово после осенней голодухи. Вначале туша представлялась мне сплошным куском одинакового мяса, но вскоре я стал довольно хорошо отличать различные части.
Уже в конце ноября наступили морозы под 40 градусов, сменявшиеся метелью и свирепыми буранами. Погода обычная для Башкирии, но не для нас москвичей. Сразу вспомнился, почему-то, Пушкин с его "Метелью", "Бесами" и "Капитанской дочкой". В лечебнице, а значит и у нас, часто бывало холодно, большие окна плохо держали тепло, из щелей дуло, особенно в буран. Топили нашу голландку нещадно, часто почти круглосуточно. В особое ненастье не снимали валенки и пальто. Однако, 40 - градусные морозы переносились легко из-за сухого климата. Помню, вышел вечером, на градуснике больше 40, а дышится легко. На улице ни ветерка, в чистом небе ярко мерцают звезды, слышимость обалденная, тишина, нарушаемая только гудками, свистками и шипением паровозов да редким лаем собак. Какая-то особая красота в природе, невозможная в Москве. А в хорошую метель (буран), в нескольких шагах ничего на видно и дорогу заметает моментально. Только просматриваются мутные пятна мощных прожекторов станции.
БУДНИ 1941-42 ГОДОВ
ЖИЗНЬ В ЧИШМАХ
Декабрь, первая декада. Проснулся, а вставать ух как холодно, печка уже остыла. Вскакиваю, натягиваю полушубок, ноги в валенки и скорей растапливать печку. Убрал постель со столов, привел бухгалтерскую в рабочий вид. Помылся ледяной водой из умывальника и бегом к репродуктору. По последним сводкам чувствуется, что там, под Москвой происходит что-то серьезное, но теперь в нашу пользу. И вот в один из декабрьских дней раздалось долгожданное сообщение Левитана: "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой" и далее подробности событий последних дней (об успехах, как и о неудачах, сообщали спустя 2-4 дня, когда результат становился очевидным). Освобождены: Можайск, Нарофоминск, Волоколамск и еще много населенных пунктов. Наши войска продвинулись на десятки километров, большие трофеи, пленные и т.д. Ура! Разбудил всех своих, наконец, настоящая победа под Москвой!
Возможно, сейчас трудно представить воцарившее тогда настроение и у нас и во всем мире. Впервые с сентября 1939 года немцы, разгромившие польские, французские и английские войска, захватившие почти всю Европу, потерпели такое сокрушительное поражение! Миф о непобедимости немецкой армии, в который многие и здесь и за рубежом уже поверили, вмиг разрушился. С хорошим настроением, с подъемом я приступил к своим ежедневным обязанностям.
Время от времени приводили заболевших лошадей, коз, коров, баранов, овец. Лечил фельдшер или врач - тетя, а я поил лекарствами, смазывал и заклеивал раны, держал закрутку при операциях.
Фельдшер Ананьев пытался обучить меня кастрации поросят и ягнят, которых время от времени приносили жители Чишмов и окрестных сел. Работа была весьма выгодная, платили обычно продуктами (1-2 десятка яиц, хороший шмот сала, бидон молока, мешок картошки или овощей...). Операция грубая и примитивная, всего 10-15 минут. Но я не мог такое делать и наотрез отказался, несмотря на настойчивые и справедливые уговоры доброго Ананьева: "Ведь очень выгодно, всегда будет хороший кусок хлеба...".
Много времени занимала аптека и эта работа шла у меня легко. С интересом читал ветеринарную энциклопедию, справочники, пособия. Готовил и отпускал лекарства и перевязочный материал, часть из которых превратилась в дефицит (сода, спирт, марганцовка, криолин (от чесотки), бинты, вата, еще что-то). Выручку сдавал бухгалтеру и аккуратно вел приходно-расходную книгу, чтобы не попасть впросак. Время от времени сверял фактические запасы с записями в книге, памятуя рекомендацию: небольшую недостачу при проверке спишут, а излишки будут рассматриваться, как подозрительный мухлеж, вплоть до возбуждения уголовного дела. Правда, в той военной ситуации было не до проверок. Дефицит почти не пополнялся и, вскоре, отпуск дефицитных лекарств разрешался только по распоряжению главврача, что вызывало известные трения с фельдшерами.
Время от времени мне приходилось развозить препараты по колхозам, что, наряду с поездками за продуктами, помогло мне узнать и как-то понять жизнь разных деревень: татарских, русских, украинских, чувашских. Вскоре я, уже на подъезде к поселению, легко определял, кто там живет. Добротные, высокие просторные бревенчатые дома (в основном пятистенки) под железной крышей, тянущиеся вдоль широкой ровной улицы - это русские или украинские села. Только в русском селе крытые бревенчатые колодцы с воротом для подъема воды, а в украинском - традиционный "журавель". Все(!) русские и украинские колхозы справедливо считались зажиточными. По-иному выглядело татарское селение. Уже на подъезде видно, что оно состоит из хаотично расположенных низких мазанок с еще более примитивными надворными постройками, причем почти все дома выглядят бедновато. Большинство татарских колхозов считались малозажиточными. Совсем нищими и неприглядными выглядят чувашские деревни. Самыми зажиточными и богатыми были немецкие хутора, но сейчас всех немцев выселили в Казахстан. В целом, села района на 50-60% татарские, на 35-30% русские и украинские. В остальных селах, не считая совхозов, - немного чувашей и, кажется, 2-3 башкирских поселения (я их не видел). В совхозах, в основном, работают русские и украинцы, немного татар.
Комментарий
Во время войны и после я побывал во многих селах Нечерноземья и меня поражала убогость большинства из них. Низкие, покрытые, в основном, соломой крыши избушек с крохотными оконцами, беднота убранства помещений и хозяйственных построек, редко у кого крыша покрыта дранкой, еще реже железом. Всё это резко контрастировало с русскими селами Башкирии. Для меня это было загадкой. Здесь и там русские люди, причем Нечерноземье искони своя земля, а Башкирия это сравнительно недавно заселенная русскими и украинцами земля и то частично! Почему такая разница? Порядочно прочитав разной художественной и исторической литературы и не найдя прямого ответа, поразмыслив над этим феноменом, сопоставив разные факты, я пришел вот к какому убеждению. Башкирские земли, как и другие (приуральские, сибирские, казахские) заселялись русскими, бежавшими от безземелья и нищеты еще до, во время и после Столыпинских реформ. Это были энергичные, работящие люди, ставшие на новых, кстати, благодатных черноземных землях, более свободными и независимыми. Они и создали тот благоустроенный быт, который стал здесь традиционным и который я увидел. А в Нечерноземье остались менее работящие, более привыкшие к бедноте и терпеливые люди - середняки, бедняки и немного кулаков.
В УФУ ЗА МЕДИКАМЕНТАМИ
В ту зиму, ездил 1-2 раза в месяц за медикаментами. Вставал в 5 утра, быстро перекусывал, надевал теплую рубашку с потайным карманом для документов и денег, натягивал валенки на теплые портянки, брал ушанку и облачался в теплый овечий полушубок, а в сильный мороз в огромный, очень теплый тулуп, доходивший мне до пят с огромным меховым воротником. Вскидывал полупустую котомку для лекарств на плечи, реже брал еще и сумку, и по морозцу шел по темным улочкам на ярко освещенный прожекторами железнодорожный узел с теплым и в чем-то даже уютным вокзалом. В морозном воздухе четко и резко слышалось пыхтение паровозов на станции. Мимо, почти непрерывным потоком, шли на запад эшелоны с вооружением и воинскими частями. Вот и вокзал. Народу, стало мало, т.к. фронт стабилизировался и эвакуированных стало меньше. А то в октябре и начале ноября вокзал был забит усталыми людьми, в основном женщинами, стариками детьми, которые кое-как располагались на грудах вещей и в глазах многих читалось: когда же это кончится и как скоро удастся где-то осесть, пусть временно, но в своем углу. Покупаю билет и залезаю в слабо освещенный одним фонарем со свечкой вагон, уже поданного состава, плохо или совсем не отапливаемый, забираюсь на 2-ю или 3-ю, полку, если 2-я занята, котомку под голову, закутываюсь и досыпать! Ведь ехать 3 часа! Вот поезд тронулся и под стук колес задремлю, просыпаясь при толчках или каком либо шуме от входящих пассажиров. Вагон постепенно наполняется и в Уфу приходит совсем полный. Вот и вокзал. Я слезаю со своей полки и выхожу на перрон.
Уже рассвело, сажусь на трамвай и иду в в областное земельное управление, в ветеринарный отдел, выписываю лекарства по своему требованию или по уже готовой разнорядке и на склад. Возвращаюсь с набитой котомкой, оставлял ее у тети Жени и иду выполнять поручения (купить газет, сходить к родственникам и т.д.) или по задуманным мной делам. Обедал, обычно, в столовой для командированных, где не требовались карточки и выдавалось всегда одно и тоже, единственное недорогое и не очень вкусное блюдо - суп лапша на м\б (на мясном бульоне) - 1 порция, больше не давали. Но зато не ходил голодным. Когда обеды без карточек прикрыли, разбавлялся чаем у тети Жени, с захваченными из дома бутербродами. Возвращался в Чишмы, редко вечерним, чаще на другой день утренним поездом.
Помню, как в одну из поездок увидел афишу, извещавшую о концерте мировых знаменитостей, Эмиля Гилельса (фортепьяно) и Давида Ойстраха (скрипка) в местной консерватории (или концертном зале?). Тут же купил самый дешевый билет на откидное место балкона и вечером в валенках и тулупе потопал на концерт. Боялся, что не пустят, но война и все сошло, даже в гардеробе не обратили внимания. Какое же я испытал удовольствие! В зале было прохладно, но народу полным полно. Исполняли Чайковского, Бетховена и Моцарта и как исполняли! За душу, до слез захватывала музыка, реальность исчезала, попадал в какой-то большой новый, прекрасный мир, на душе становилось так хорошо!
ПОЖАР В САНИТАРНОМ ПОЕЗДЕ.
Напротив лечебницы расстилалось ничем не застроенное поле, на котором метрах в 300-400 хорошо просматривалась железная дорога с развилкой на Куйбышев и Ульяновск, по которой, почти непрерывно двигались воинские эшелоны и техника на запад, на фронт. Как не взглянешь, то танки везут, то почти весь состав с орудиями, машинами, частями самолетов, каким-то, накрытом брезентом, грузом, или воинская часть едет. В теплушках солдаты, на платформах техника. Этот поток не иссякал ни день, ни ночь и вселял уверенность, мы должны победить!
Как-то в морозный вечер сидим, ужинаем. Вдруг я увидел, что темное, полностью заиндевевшее окно окрасилось красноватым цветом, все ярче и ярче. В чем дело? Пожар? Выбежал на крыльцо. Вдалеке, 1-1,5 км, за въездом на станцию со стороны Куйбышева (Самары) горит состав, не поймешь какой, товарный или пассажирский, причем пламя все усиливается. Раздались тревожные гудки паровозов на станции, такое привычное, непрерывное движение составов прекратилось. Только проехала к пожару какая-то сцепка. Подумалось, пожарные. Хотел пробежаться туда, но очень морозно и домашние не пустили (Мало ли что!). Горело долго. Потом постепенно угасло. Утром узнали, что горел санитарный поезд. Машинист, вроде, не увидел красный свет на въезде на станцию, перед развилкой двух дорог, Куйбышевской, по которой он ехал, и со стороны Ульяновска (возможно, он задремал) и состав налетел на маневренный паровоз, не то на входящий по другой ветке товарный состав. Удар! В вагонах попадали свечки, прямо на постельное белье и загорелось. В пассажирских вагонах редко было электричество, в основном 2, редко больше, керосиновых или со свечкой фонаря, которые зажигал проводник. Два или три вагона сошли с рельс и опрокинулись, а везли, в основном, тяжело раненых, не ходячих. Сбежались местные жители, давай вместе с сестрами вытаскивать раненых и в ближайшие дома, а они за 100-200 метров и мороз под 40 градусов! Пока подъехала пожарная бригада с цистерной воды, которую еще надо было набрать (в мороз воду в них не держат), пока начали тушить, сгорело 2 или 3 вагона, пока спасали, как могли, раненых, часть из них сгорели или замерзло или погибло от шока. Вот тебе и очутились в тылу! Движение восстановилось только к концу дня и еще долго были разговоры и пересуды сколько погибло и кто виноват.
Приближалась весна 1942г. Установился более или менее устойчивый ритм жизни. Утром слушал очередную сводку с фронта, судя по которым наше наступление затормозилось. Затем после завтрака помогал фельдшерам при лечении скота или ходил на совхозную бойню (пробы, клеймление), готовил и отпускал лекарства. Изредка запрягал кобылу ветлечебницы и ездил на санях по колхозам, в основном, завозил лекарства. Вечером пилил и рубил дрова, по возможности, еженедельно посещал со всеми деревенскую баню (впервые пробовал париться, но это дело у меня не пошло, не понравилось) и, как и все, непрерывно боролся со вшами. Вечерами, иногда, читал скудный набор книг, которые были в ветлечебнице или находились у образовавшегося круга знакомых. Регулярно командировался в Уфу за очередной порцией лекарств, после возвращения тщательно проверял белье и вычищал этих тварей - вшей. Кругом сыпной тиф (сыпняк в просторечии) косил людей. "Как в гражданку!", говорили все, кто хорошо помнил гражданскую войну.
ТИФ
Как ни старался, не уберегся я от сыпняка. Приближалась весна, первая военная весна 1942 года. Через день - два, после очередной поездки, почувствовал недомогание, заболела голова, все сильнее и сильнее, к вечеру температура подскочила до 40 градусов. Наутро вызвали врача, диагноз "тиф", немедленно в больницу, все белье прожарить или прокипятить. Помню, как меня укутали в тулуп, погрузил на сани, устланные толстым слоем соломы, и повезли в больницу, находившуюся чуть поодаль от Чишмов. Везли меня наш конюх и мама, которая всю дорогу говорила что-то утешительное. Я не слушал, мне было плохо.
Вот и больница в лесочке, приемная, холодная ванная комната, где меня быстро раздели догола, кое-как ополоснули, обтерли, одели в какую-то серую хламиду и повели по больничному коридору, забитому больными на кроватях и на полу. Я еле держался на ногах и в голове одна мысль: "скорее бы лечь". Вот и большая комната, также набитая больными, тюфяк с простыней на полу, рядом судно. Я брякнулся на тюфяк и отключился и сколько-то дней был в полу беспамятности. Смутно помню, что давали какие-то порошки и пилюли, пил воду, слышал стоны, бред, плачь окружающих, мужчин, женщин, детей. Сон, не сон, скорее бред. Рядом тоже на полу кто-то лежал, потом исчез (перевели или скончался?). Естественно ничего не ел, хотя что-то приносили, наверное, из дома. Наконец, очнулся и меня быстро перевели, точнее, перенесли (на ногах не стоял), в палату на троих. Запомнилась чистая с белыми простынями кровать, удобная подушка. Сказали, что кризис миновал и здесь все выздоравливающие. На какое-то короткое время почувствовал блаженство и уснул. Разбудили к завтраку или обеду. Есть не хотелось совсем. По настоянию сестры или нянечки взял пару ложек какого-то варева (супа или каши) и тут же меня вырвало. Больше я ничего не ел. Более того, через каждые 2-3 часа меня опять выворачивало. Осложнение после тифа! И так каждый день.
Приходил консилиум из нескольких врачей. Запомнилось лицо женщины - военврача (в больнице много призывников, военнослужащих), встревоженное, участливое и очень доброе. Начали колоть наркотик адалин (запомнил на всю жизнь), 3 раза в день. Вот подступает тошнота, становиться невмоготу. Укол и тебя отпускает, становится хорошо и покойно, дремлю или засыпаю. Приносят еду или передачу, но ничего в рот взять не могу, сразу рвет. Сосед, молодой парень старше меня на 2-3 года, поляк по национальности, естественно из полностью обрусевшей семьи, пытается заставить меня есть, но ничего не выходит. Правда, могу съесть чуть-чуть свежего творога 2-3 чайных ложки, даже приятно и совсем не рвет. Почти каждый день мама приносит творог (где только они достали?) и еще что-то, подходит к окну, уговаривает. Я вижу её, но встать не могу. Когда она уходит, я отдаю все, кроме ложки творога, моему поляку, он протестует, предлагает, что-то из своей скудной передачи. Я отказываюсь, говорю, что не могу, пусть он съедает мое, а то пропадет, а это грех не брать при такой голодной обстановке. Слабею с каждым днем, уже не могу сам сесть в кровати, приступы тошноты учащаются, я прошу, умоляю сестру сделать укол. Мне постепенно увеличивают дозу, пытаются дать какие-то порошки и пилюли. Напрасно, проглоченная еда тут же вызывает очередную рвоту, совсем обессиливающую меня. Кушать я, практически, перестал совсем и постепенно слабел, стал похож на скелет, обтянутый кожей. В общем, загибался. Врачи не знали, что делать.
Родные нашли в Уфе, оказавшегося в эвакуации, известного светилу профессора Штиммельмана (или Штильмана), и уговарили его приехать и помочь (он очень загружен, но его уговаривают и, очевидно, одаривают продуктами). Мне сообщают об этом.
И вот через пару дней он пребывает, но не просто, а с инспекционной и консультационной поездкой от горздрава или облздрава. Обходит всю больницу в сопровождении врачебного персонала, дает указания и рекомендации.
Вот дверь моей палаты открывается и входит толпа врачей с профессором во главе. Он садиться на мою койку, мнет живот, смотрит язык, глаза, заставляет самостоятельно сесть, что у меня с трудом получается только с 3-й или 4-й попытки, что-то выстукивает и выспрашивает. Затем вдруг как-то убедительно говорит (примерно, по памяти):
- Молодой человек, ты уже здоров, у тебя с этого дня все прошло, запомни это хорошенько! Все лекарства отменить, кушать всё, что захочется, обязательно вставать с койки, через несколько дней, скорее всего уже завтра, никаких рвот не будет и ты быстро пойдешь на поправку, кончили болеть!
- Дайте ему, что попросит - сказал он, обращаясь к персоналу - и никаких лекарств! У него это нервное осложнение после тифа. Увидите, что больше этого не будет!
Он улыбнулся, похлопал меня по плечу, пожал руку и все ушли. Позднее мне объяснили, что это было внушение, психотерапия.
Я повалился на подушку, но вдруг почувствовал себя лучше, появилась уверенность, что действительно я поправлюсь, тошнота не появлялась. Через несколько минут вернулся мой лечащий врач и спросил, что я хочу.
- Черный хлеб с солью!
Врач вышел и вскоре принес пару кусочков, посыпанных солью. Я с удовольствием съел один кусок. Какое торжество было на лице врача. Молодец! - сказал он и тут... меня вырвало. Ну что же ты! - проговорил он с отчаянием. Однако я почувствовал, что эта реакция случайна, так, с непривычки и даже сказал ему, что больше такого не будет. Он согласно кивнул головой и ушел, но видно было, что ушел с сомнением... Однако, рвоты действительно кончились и я начал понемногу есть все подряд и как бы возвращался к жизни.
Через пару дней стал вставать с постели и, при поддержке моего поляка, прошелся от койки до окна и обратно. Сильно кружилась голова, скорее в постель! Через какое-то время стал вставать и прохаживаться сам. Вот уже и в столовую могу пройти, хотя жуткая слабость. И тут вторая напасть. Стали трястись руки и немного голова. С трудом доношу ложку до рта. Опять осложнение - трясучка. Сыпной тиф, опасный сам по себе (не редко смертельный исход), почти всегда дает разные осложнения, иногда очень тяжелые. Вот и я не избежал. Не помню как, но самовнушение (не буду трястись!) и какие-то лекарства помогли. Трясучка кончилась, а вот слабость долго не проходила.
Как-то разговорился с поляком, спросил почему он не в Армии? Не берут пока - ответил он - хотел добровольцем, но в военкомате категорически отказали и сказали, что организуется польская армия и меня туда возьмут. Действительно, через какое-то время из этнических поляков (многие уже не знали родного польского языка) и остатков пленных поляков образовали 1-ю польскую армию, с которой мне пришлось встретиться под Варшавой.
На улице уже весна, май. Уже больше месяца я в больнице. Тиф пошел на убыль, больница постепенно пустеет. Уже освободились коридоры. Выхожу посидеть на лавочке, подышать таким свежим, приятным воздухом. Как хорошо чувствовать себя выздоравливающим, только вот слабость проклятая не проходит. Чуть походишь и тянет прилечь. Наконец, меня выписывают. Приезжает подвода, ложусь на мягкую солому и вскоре я дома в своей ветлечебнице.
Первое время часто лежал, выходил на крыльцо, на солнышко погреться, подышать степным воздухом. Вдалеке, как и прежде ползли на запад составы с техникой для фронта, несколько реже эшелоны с воинскими частями, редко пассажирские поезда. Немного окрепнув, начал опять работать в аптеке, а затем возобновились поездки в Уфу за медикаментами. В одну из поездок увидел на площади перед вокзалом "Студебекер", по тем временам супергрузовик с 3-мя парами ведущих колес, не чета нашим ЗИС-5 на 5 тонн и, тем более полуторке (на 1,5 т), которые выглядели бледными плебеями. "Это чудо поставляют американцы - сказал водитель - по Ленд-лизу, скоро всю нашу Армию союзнички снабдят такими машинами. Машина - вседорожник и по бездорожью имеет хорошую проходимость".
СТЕПЬ
Где-то в конце июня - начале июля фельдшер Ананьев взял меня на сенокос, заготовить сена для лошадей лечебницы. На мои возражения, что я косить не умею, он сказал: "не волнуйся, научу, да и удовольствие получишь". Поехали рано утром на телеге, груженной 2-мя косами и сумочками с едой. Вот и покос. Вначале не получалось, все время утыкался в землю, потом пошло лучше, к концу совсем приловчился, хотя руки быстро уставали, да и двигался медленно. Воздух был весь пропитан запахом цветов и сочной травы. Впервые я почувствовал прелесть степи. Устал, но поездка оставила хорошее впечатление.
ОПЯТЬ ПЛОХИЕ СВОДКИ
Летом 1943 сводки с фронта опять становились все тревожнее и тревожнее. В мае, впервые не зимой, было наше наступление под Харьковом. В начале сообщали о больших успехах, прорвали фронт...продвинулись до 100 км... освобождены десятки населенных пунктов... много пленных и вражеской техники... Потом сводки стали скупыми: идут упорные бои... противник контратакует... И вдруг странное сообщение: операция закончилась... наши потери 10 или 20 тысяч убитых и, впервые в сводке, примерно столько же "пропавших без вести", т.е. пленных(!). У немцев (по сводке) наши потери, конечно, больше. Мы поняли, что операция провалилась, у нас большие потери и назревает немецкое наступление (в действительности их наступление уже началось). Так оно и случилось. Опять разгромили южный фронт, немцы ринулись на Воронеж, Ростов и дальше, дальше на Кавказ и по степи на Волгу к Сталинграду. Отрезают Кавказ с его нефтью от остальной России. Почти каждый день новые направления, как в прошлом, 1941 году. В чем дело? Опять просчитались?
Эти события не увязывались со слухами и письмами от дяди Пети, в которых говорилось, что у них скопилось много войск и техники и скоро немцам дадут прикурить. Правда, по намекам и косвенным признакам эти войска были под Москвой, на Центральном и Калининском фронтах. Уже много после войны мы узнали, что был просчет, ожидали удар немцев здесь, а не на юге, где оказалось преступно мало сил для отражения мощного удара немцев.
Слабым утешением было только то, что уже нет наступления немцев по всему фронту, как в прошлом году. Значит, есть надежда, что положение может исправиться.
Этой же весной появился с искалеченной рукой сын нашего бухгалтера Виктор Палей. На него смотрели, как на героя. Особенно гордились родители. Мы быстро сдружились и с жадностью слушали не прикрашенные рассказы Виктора о битве под Москвой. Помниться, он участвовал в наступлении на Калининском фронте в пехотной части. В первый же день наступления, во время атаки, был ранен при минометном обстреле. В начале, кое-как перевязался из индивидуального пакета, потом полз сам, затем его перевязала санитарка и, уже на телеге, он был отправлен в госпиталь, удачно пережив бомбежку на дороге.
Весной и летом начали прибывать из блокады ленинградцы, истощенные, хмурые, не разговорчивые. Им сразу же выдали рабочий паек и кое-что дополнительно. Позднее, придя в себя, они, правда, с оглядкой и не всем, рассказывали об ужасах блокады.
В июле и августе, слушая сводки с фронтов, мы поняли, что положение на юге стало совсем скверным. Сообщалось об ожесточенных боях (знаем, что это значит!) под Майкопом и Грозном о подходе немцев к Сталинграду. Почти весь северный Кавказ, Калмыкия, большая часть Сталинградской области под немцем! Когда же их остановят? Поползли слухи о заградотрядах, о предательстве, о власовцах, о калмыцких и чеченских отрядах, воюющих на стороне немцев, даже о немыслимом, что часть татар, здесь, в глубоком тылу, ждет прихода немцев. Говорили о большом числе дезертиров (даже в нашем районе поймали несколько человек). Конечно, это слухи, но становилось очень тревожно и неуютно. Но вот к октябрю перестали появляться новые направления, хотя сообщения об упорных, тяжелых, ожесточенных боях у Майкопа, Грозного и в Сталинграде продолжались. Значит большие потери, но немцы выдыхются, а наши крепнут и к зиме надо ждать перелома, думали мы, и опять не ошиблись.
1942-43. ОСЕНЬ И ЗИМА
Наступала осень 1942г. и, к моей радости, было решено, что я возобновлю учебу в 9-ом классе местной школы, продолжая работать ветсанитаром. Вот и просторное, но неказистое из-за множества пристроек, деревянное здание школы. Почти все преподаватели были высокого класса эвакуированные из Одессы, Киева, Москвы. Часть из них даже преподавала раньше в институте. Учился я легко и с удовольствием, истосковался по школе. Иногда пропускал занятия из-за работы, но быстро нагонял. Я сдружился с одноклассником Милявским (на год моложе меня), одесситом, мать которого работала официанткой в привокзальном ресторане. Мы часто и помногу обсуждали текущие события, готовили уроки, строили прогнозы. Время от времени он водил меня в ресторан к маме, что было для меня хорошим подспорьем.
В сентябре 1942 г. большинство служащих направили в колхозы на уборку картофеля и овощей, ведь не хватало рабочих рук из-за призыва почти всех мужчин в Армию. Я, вместе с 10-15-ю сотрудниками РайЗО, попал в хороший русский, зажиточный, по тем понятиям, колхоз им. Ленина. Был ясный, но уже прохладный день конца сентября, начался листопад. Все дружно копали картошку, высыпали в мешки и отволакивали их к дороге. К середине дня всё убрали и, по указанию старшего по уборке, собрались на огромной веранде, пристроенной, кажется к правлению колхоза. Там был добротный дощатый стол на 30-40 человек, вокруг которого мы расселись на столь же добротных лавках. Пришел председатель колхоза, тепло поблагодарил нас и сказал: "сейчас угощу вас нашим, только что собранным, медом и свежим хлебом. Ешьте столько, сколько сможете". Принесли несколько тазиков с ароматнейшим медом и пышные, свежие, местной выпечки буханки белого хлеба, который я не видел больше года с начала карточной системы. Такой вкусный, пышный, еще теплый, ароматный хлеб! Это был единственный за всю войну раз, когда я ел белый хлеб, да еще такой свежий. А вот мед я никогда не ел и пары ложек мне, оказалось более чем достаточно. Пахнет вкусно, а в рот не лезет.
Осенью, в октябре или ноябре, случилась беда. Еще в Августе или Сентябре тетя была по вызову в одном довольно богатом колхозе. При одном из выездов на ферму в её тарантас запрягли красивого, нетерпеливого жеребца. Только они отъехали, как лошадь понесла и возчик не смог с ней справиться. Понесла, не разбирая дороги прямо в крутой враг. Тарантас на полном ходу опрокинулся, выкинув возчика и нашу тетку. Она страшно перепугалась, получила сильные ушибы, а возчик чуть не погиб ударившись о дерево. Правда, перед оврагом жеребец замер, как вкопанный, возможно, под тяжестью волочившегося тарантаса. Нашу тетю перевязали и срочно отправили к нам домой. Мы все сильно перепугались, но она отлежалась и через несколько дней опять приступила к работе. Ушибы постепенно зажили, кроме одного на груди и осенью диагностировали рак груди! Требовалась срочная операция. Начались хлопоты, в результате которых нашли в Уфе отличного хирурга, опять среди эвакуированных. Тетя слегла и была, к счастью, удачно прооперирована. На это ушли почти все наши средства.
В связи с болезнью тети наша жизнь в корне изменилась и с неумолимой остротой встал вопрос, как жить дальше?
Перед отъездом тети в больницу, уже в ноябре, к нам прибыл временно назначенный главврачом, некто Цветков, ветеринарный военфельдшер, помниться, комиссованный из Армии по какой-то статье. Тетя передала ему дела и уехала на операцию. Новый главврач никому не понравился, вел себя бесцеремонно, неуважительно и заносчиво. Он привез семью, жену и ребенка, сразу же выгнал Антипина из служебной квартиры, где поселился сам, заявив, что нечего жить на 2-х квартирах, время военное, всем тесно. Фельдшеров он гонял по всему району, а сам выезжал редко, предпочитая заниматься на месте выгодными работами (отбраковкой скота, обслуживанием частников, дававших приличную мзду и т.п.) и личным благоустройством.
Как-то привезли из одного колхоза на отбраковку партию свиных туш, сданных колхозами и колхозниками по государственным поставкам (госпоставкам). Туши были весьма тощие, очевидно, этих свиней держали впроголодь из-за отсутствия кормов. Они походили на падаль по сравнению с совхозными, которые мы обслуживали прошлой зимой. Он отобрал 2 более или менее приличные туши, признал их негодными и конфисковал. Остальные туши бегло осмотрел (не так тщательно как при тете), мне показалось вообще халтурно, и приказал мне заклеймить их, как годные. Я, было, спросил, а как же проверка на финноз и трихиноз? Он обрезал меня, сказав, что и так, без анализа всё увидит (врал, конечно), а мне нечего вмешиваться. На протест председателя колхоза, у которого отбраковали туши наш Цветков заявил, что забракует все, а его, председателя, еще могут и привлечь за поставку в Армию негодной продукции. Тот испугался и на все согласился. Уже наступила зима и, по указанию Цветкова, я уволок эти замороженные туши на наш не отапливаемый склад медикаментов во дворе "до особого распоряжения".
У тети операция прошла удачно, но она здорово ослабела. Мы покупали и возили в Уфу минимум необходимых продуктов (масло, котлеты, колбасу, готовые овощи, еще что-то, даже с трудом достали кое-что из фруктов и икру!). Дядя все свободное время жил в Уфе, дежурил у тети в больнице и носил передачи. У нас он почти не появлялся. Мы жили втроем, я, мама и теткина дочь - моя двоюродная сестра. Говорили, что вот тетя окрепнет и в ближайшее время вернется.
Наступил декабрь. Запас хвороста и дров подходил к концу и мы попросили Цветкова организовать, как при тете, заготовку и привоз дров в ветлечебницу и на нашу долю, но он только отмахнулся, организуйте сами, мне некогда. Как организовать мы не знали. Себе же Цветков завез кучу дров, а на ветлечебницу и тем более на нас ему было наплевать. Что делать? Опыта у нас не было, к кому обратиться мы не знали, и я предложил авантюру. Во дворе огромной грудой лежали, вывезенные еще год назад, остатки прежней ветлечебницы, бревна, доски, куски кровли. Многие ветхие, подгнившие. Я предложил отобрать подгнившие чурбаки и пустить их на дрова, а чтобы не привлекать внимания (всё же грызло сомнение, что это нельзя, это казенное) пилить вечером. Так и поступили. Вечером, часов в 9-10, я зажигал коптилку (керосиновая лампа без стекла), выносил её в манеж, приносил со двора, присмотренные днем чурки, и мы с сестрой пилили чурки на короткие чурбаки для печки. Затем я колол их на поленья, заносил в большую комнату, запихивал под кровать, чтобы не мешали, подметал и выбрасывал из манежа мусор. На этом "заготовка" дров заканчивалась. Хватало на несколько дней, после чего операция повторялась. В душе было смутное ощущение, что это добром не кончиться. Я надеялся, что вот-вот приедет тетя и как-то решит наш дровяной вопрос.
Но все вышло иначе. В один из вечеров нашей заготовки дров, раздался громкий стук в ворота манежа и требование немедленно открыть. Мы бросили пилу, открыли и в манеж ввалились Антипов, Цветков, конюх и председатель РАЙЗО. Разразился скандал. Председатель ругался, неоднократно повторяя, что мы не имеем права использовать казенные вещи, да еще стройматериал в личных нуждах, что составим Акт и заведем дело, что надо было решать этот вопрос с ним и т.д. и т.п. Антипин ухмылялся и поддакивал. На мои оправдания, что это уже негодное, гниль, да и не знал я к кому обращаться, а топить ведь надо, на улице мороз до 30 градусов, Цветков отмахнулся. В общем, никакого понимания, одни угрозы. Мне было не по себе, ведь обвиняют в воровстве государственного имущества. Утром я пошел к председателю РАЙЗО. Он опять меня пожурил, пристыдил, но уже как-то дружелюбно и выписал ордер на заготовку воза дров, сказав на прощание, что так делать нельзя, могли и приписать хищение, а Цветков безобразник, мог легко решить это дело.
На следующий день я запряг лошадь в сани, взял топор и двуручную пилу, довольно туповатые (инструмента для заточки в лечебнице не было, да я и не умел тогда точить), веревку и мы с моей двоюродной сестрой поехали к видневшейся вдали рощице заготавливать воз дров. Рощица оказалась довольно большим молодым дубняком. Выбрали деревья потоньше (10-15 см), но все равно пилился дуб с трудом, да и мы были дровосеки - неумехи. Только ближе к вечеру (начало темнеть) с трудом, выбившись из сил, мы кое-как набрали воз стволов и сучьев и измученные вернулись домой. Но теперь это были наши дрова. И их с лихвой хватило до возвращения не полностью окрепшей тети из Уфы.
После истории с дровами возникли новые проблемы. Нам урезали хлебный паек, точнее перестал выдавать паек, как эвакуированным, остался только скудный служебный паек, 400 г. хлеба или 300 с лишним грамм муки на брата в день. Кончались запасы картошки и колбасы, которую привезли еще из Москвы, мяса не было, остался небольшой кусок сала. Становилось голодно.
Тогда, по моему предложению решили, что заберем себе одну из отбракованных Цветковым туш, благо они хранились у меня на складе, а вторую оставим ему. Так и сделали, хотя, зная Цветкова, его желание грести все под себя, я понимал, что будет шум, скандал, но был готов дать отпор. По мере надобности, довольно экономно, я отрубал кусок туши на варево (предварительно, посмотрев под микроскопом на финноз и трихиноз). Хватило мяса надолго. Через какое-то время, когда туша уже заканчивалась и я, на всякий случай, спрятал остатки в дальний угол склада, Цветков решил взять часть мяса для себя. Открыли склад и он, увидев только одну тушу, завелся. Состоялся примерно такой диалог:
- Где вторая?
- Мы съели. - не моргнув глазом, сказал я.
- Как это? Без моего разрешения? Какое право ты имел забрать то, что я забраковал!
- Браковали мы вместе и я имею такое же право! - со злостью ответил я - Одна мне, другая вам, так справедливо. Что ж, нам подыхать с голоду, а вам всё!
Он что-то ворчал, но крыть было нечем, и, забрав "свою" тушу удалился. А мы спокойно доели "свою" долю.
Для пополнения запасов картошки и муки мы решили обменять часть вещей, кажется кусок материи или пальто, на продукты. В один из не очень холодных дней встали рано, еще еле забрезжил рассвет. Скудно перекусили чаем с ломтем домашнего черного хлеба ("черняшки") и я запряг нашу "казенную" лошадку в сани, застелил сеном. Начало светать и мы, с мамой и узелком с вещами, поехали по чьей-то рекомендации, на север от поселка в чувашское или марийское село, отстоящее от нас на 5-10 км. Был хмурый день, слегка сыпал снежок. Вскоре исчез наш поселок и возникло ощущение одиночества. Справа и слева расстилалась степь с редкими деревцами и кустиками и никакого жилья, никаких построек. Лошадь, подгоняемая кнутом и окриками "Но-но, Но...", бежала легкой рысцой по безлюдной проселочной дороги, слегка запорошенной снегом. Следов саней почти не было, что говорило о редкой здесь езде. Вдруг справа, немного впереди, в 100-200-х метрах от дороги, я заметил какую-то живность, вроде несколько собак. Когда поравнялись, то поняли - это волки! Лошадь нервно зашевелила ушами. Сразу вспомнились многочисленные рассказы старожилов об участившихся нападениях волков на одиноких путников. Съедали и путника и лошадь! Рекомендовалось в одиночку не ездить в темноте. Хотя уже рассвело, стало несколько не по себе. Мама, видевшая хуже меня, встревожилась: "Кто это?". Я ответил, с кажущимся равнодушием, что это собаки, а может волки, но они далеко и лежат, скоро проскочим. Я внимательно наблюдал за волками и усиленно подгонял конягу, хотя она и так припустилась во все свои слабые силы. Пара тварей приподнялось и, было двинулось в нашу сторону, но потом остановились, уставившись в нашу сторону. Мы благополучно удалялись от этой несимпатичной компании. Вскоре появилось чувашское село и мы благополучно въехали в массив хаотично расположенных убогих построек, где жилье, покрытое то ли соломой, то ли ветками, внешне мало отличалось от сараев.
Мама обходила дворы, предлагая в обмен на захваченные вещи дать нам продукты (крупу, муку). Я оставался у повозки. В первых постройках нам отказали, сославшись на отсутствие избытков, говорили "самим еле хватает". Наконец, мама нашла покупательницу, предложившую за кусок материи и еще чего-то (пальто или платье) мешок картошки и несколько килограммов пшена или зерна. Приветливая хозяйка - покупательница пригласила в дом обогреться и съесть горячего. Зашли через темный тамбур. Боже, какая беднота и убогость! Помещение с очень низкими потолками и почерневшими от старости и копоти бревенчатыми стенами было разбито перегородками на несколько отсеков. В первом отсеке была кухня. Закопченная печь с плитой, с чугунками, горшками и прочей утварью, грубый стол, узкая лавка, несколько примитивных полок с нехитрой посудой - вот и вся мебель. Под потолком и у стен веревки, увешанные каким-то серым бельем и еще чем-то. Во втором отсеке просматривалась тряпичная люлька, подвешенная к балке, из которой то и дело раздавался писк младенца. Хозяйка то и дело толкала люльку и она непрерывно покачивалась. Виднелась лавка и довольно широкая постель в углу (несколько широких досок на подставках, сверху соломенный матрац, лоскутное одеяло), подвешенные к потолку пеленки и какое-то тряпьё. Вот и всё! Остальные отсеки не просматривались. Было ощущение глубокой бедности и хотелось поскорее уехать. Хозяйка усадила нас на лавку в кухне и вскоре подала подогретую местную тюрю (густой суп из смеси чего-то мучного с небольшой дозой гороха и корками черного хлеба), приговаривая, что больше у нее ничего нет, но нам необходимо подкрепиться в дорогу, небось, наголодались. Чувствовалось, что она, хоть и сама бедна, но нам сочувствует. Есть действительно хотелось, но тюря показалась мне совсем безвкусной, разве приглушил голод. Наскоро поев, заторопились домой, чтобы засветло вернуться. На обратном пути волков не встретили и уже в сумерках вернулись домой с нашей скудной добычей.
А под Сталинградом и на Северном Кавказе все шли и шли упорные бои. Все чувствовали, что от исхода этой битвы зависит судьба страны, судьба каждого из нас. Весь мир замер в ожидании развязки. Поговаривали, что Турция готова присоединиться к Гитлеру, если мы проиграем Сталинградскую битву.
Однако, в сводках Октября уже много дней подряд говорилось о боях на одном и том же месте, на Малаховом кургане, у тракторного завода, еще в 2-3-х одних и тех же точках, которые все знали наизусть. Одни и те же пункты называли и в предгорьях Кавказа - Нальчик, Грозный, Майкоп. Все поняли, что противник остановлен, надо ждать нашего контрнаступления, как и в прошлую зиму под Москвой. В конце октября - начале ноября наш главный информатор - черная тарелка репродуктора - изменил тон сообщений. Всё реже говорилось об атаках противника и ответных контратаках, все чаще о боях местного значения, как под Сталинградом, так и на Кавказе. Вот-вот что-то случиться! Все, каждая семья ждали развязки. Понимали, да и просто чувствовали, что твоя судьба и судьба твоих близких зависит от исхода этого грандиозного, пожалуй, самого тяжелого сражения 2-ой мировой войны.
Наконец, в 20-х числах ноября Левитан зачитал такое долгожданное сообщение о начале 19 ноября огромного наступления нескольких наших фронтов севернее и южнее Сталинграда! А дальше пошло и поехало. Окружение 6-ой немецкой армии под Сталинградом, провал попытки деблокировать эту армию, угроза окружения всей кавказской группировки немцев, их бегство с Северного Кавказа и потеря всех завоеванных летом 1942 г. территорий. Началось освобождение Донбасса. Наступил переломный и победный 1943 год. Разгром и пленение 6-й армии фельдмаршала Паулюса кардинально изменили ход войны! Многие, в том числе и я, еще задолго до официального разъяснения, поняли, что настал перелом в этой чудовищной войне.
По-прежнему мимо нас шли эшелоны, эшелоны, эшелоны! На Куйбышев и Ульяновск, на Запад! Мы точно победим!!
Вернусь к нашей жизни. Где-то в феврале - марте 1943 г. тетя вернулась из больницы и, хотя была еще слаба, сразу приступила к исполнению обязанности главврача ветлечебницы. Постепенно наш быт вернулся в прежнее состояние, хотя прошлогодних массовых забоев свиней в совхозе больше не было, так, мелкими партиями от случая к случаю. Но еще давно, до больницы у тети образовались устойчивые контакты с хозяйствами района и, с её приездом, нам удавалось закупать там продукты по низким, доступным для нас ценам. Решился и вопрос с дровами.
Запомнилась одна поездка за мукой в отдаленный, богатый русский колхоз (им. Ленина?). После посещения и успешной работы в этом колхоза наша тетя сказала о том, что договорилась с председателем и он отпустит нам по мешку (!) муки, крупы и еще что-то. Ехать должен был я, больше некому, и ехать было далеко, около 30 км или больше. За день не обернуться. Я изучил маршрут по карте района, висевшей в нашей бухгалтерии, подготовил теплые вещи и с вечера набил сеном сани для своей коняги. Мне дали лучшую лошадь ветлечебницы и рано утром, после плотного завтрака я отправился в путь.
Был хороший зимний день с легким морозцем, часто выглядывало солнце, лошадь бежала хорошей рысью и по сторонам, то и дело, менялся новый для меня ландшафт. Ровная, казавшаяся бескрайней, степь менялась на дубовые и лиственные перелески, сейчас голые, но все равно живописно расположенные на холмах и в лощинах. Изредка попадались большие и малые деревушки, по постройкам которых я определял, кто там проживает: татары, русские, украинцы, марийцы или чуваши. На полпути я сделал небольшую остановку в ветеринарном пункте крупного поселения Х..., слегка подкормил лошадь сеном и предупредил знакомого местного ветсанитара Н..., что на обратном пути я вынужден буду у него заночевать. Он показал свой дом и сказал, чтобы я не беспокоился, примет меня в любое время дня и ночи.
Уже во 2-ой половине дня я добрался до пункта назначения и поехал с местным ветсанитаром К... к председателю колхоза. Привязал у крыльца правления свой возок, задал сена лошадке и явился с запиской от тетки к председателю. Он прочитал записку, расспросил о житье-батье, выписал мне муки и еще что-то, а затем, хитро сощурившись, но доброжелательно прочел нравоучение.
- Что же ты ничего не привез, вату, йода, марганцевки, ну еще что-нибудь необходимого. Глядишь, разжился бы мясцем, маслом, сальцем ... и далее в том же роде.
- Я не знал, первый раз еду, никто не подсказал, надо ведь знать что требуется, а то бы выписал - растеряно лепетал я.
- Ох уж эти мне городские, особенно москвичи, не умеют устраиваться, а это так просто. Привез мне, я дал тебе и все довольны.
- Пусть ваш К... сделает заявку и приезжает, а я подготовлю всё, что нужно (а мысленно думал, как же тетка мне не подсказала как вести себя, она ведь всё знает!).
- Ладно, иди и получай у кладовщика продукты, К... тебя проводит. Заночуешь здесь?
- Нет, нет, хочу быстрей вернуться.
- Понимаю, но смотри, поторопись, скоро начнет темнеть, а ночью по дороге здесь волки бродят, опасно!
Я поблагодарил и побежал с К.. искать кладовщика. Получил выписанные продукты и погрузился, вроде быстро, напоил лошадь. Однако уже начало вечереть и я, несмотря на уговоры К... зайти попить чайку, перекусить, закутался в тулуп и погнал свой возок обратно.
Отдохнувшая лошадь, сразу взяла резво, как будто поняла, что надо быстрей домой. Начало темнеть, а еще ехать и ехать. Дорога была пустой, только вначале попался встречный возок. Погода была безветренной, кругом тишина, только хруст снега под копытами лошадки, да поскрипывание телеги, мороз усиливался. Вот проехал через растянувшийся на 1-2 км безмолвный лесок, волков, слава богу, не слышно. Дальше дорога шла полями, оставляя редкие перелески в стороне. Наступали сумерки. Вдруг слева из одного перелеска раздался вой. Волки! Стало страшновато. Я хлестнул свою лошадку, она побежала еще резвей. Вой остался позади. Взошла луна и вместе с закатом освещала дорогу. Проехали небольшую деревушку, оставалось несколько километров до поселка Х..., где я намеревался переночевать. Солнце совсем село, луна зашла за облака и стало совсем темно. Я уже не различал дороги и, исходя из небольшого опыта, положился на мою лошадку, лишь изредка ее подгоняя и напряженно вслушиваясь и вглядывался вперед, ждал появления огонька. Вот впереди мелькнул слабый огонек, на душе отлегло, подъезжаю! Поясню, что электричества тогда не было и огоньки - это свет керосиновых ламп в окошках домов. Появились еще огоньки и вот я въезжаю в поселок. Нахожу дом Н..., стучу, он открывает и впускает меня в теплую хату. Уже около 10 вечера. Заносим мою поклажу. Н... распрягает коня, ставит его в свой сарай (конюшня, коровник, птичник - все под одной крышей), задает корм и возвращается в хату. Хозяйка ставит на стол, рядом с яркой керосиновой лампой - трехлинейкой, кувшин своего еще теплого молока, краюху вкусно пахнущего свежего пышного серого хлеба, картошку. Как всё вкусно и как тепло! Немного поговорили и меня устраивают спать. К полудню следующего дня я возвращаюсь к себе домой и начинается обычная жизнь; аптека, поездки в Уфу и колхозы, школа, домашние заботы.
Вскоре начались трения с Цветковым и его отправили на один из отдаленных участков района. Ближе к весне он, вообще, покинул район с семьей и мы, наконец, переселились в добротный дом с русской печкой и менее стесненной жилплощадью. Стало тепло и значительно уютнее.
Опять появилась работа на бойне, только районной. Она была на другом конце поселка и я ездил туда на санях-розвальнях несколько дней за пробами и клеймением свиных туш. Такое же, как и совхозное, примитивное помещения довольно грязное и обшарпанное, правда, с дощатым, а не земляным, полом. Но главное тощие, худосочные колхозные свиньи. Не то, что совхозные! В одну из поездок, ко мне подошел один из работников бойни и предложил тайно подбросить в мои сани свиную тушу, а потом разделит поровну. Воровство! Этого еще не доставало! Я отказался, как он меня не уговаривал, обвинял в трусости и неумении жить. Все кругом тащат, а ты, имея такую возможность (я подъезжал прямо к дверям бойни и уезжал без досмотра) боишься ее использовать. Я видел, что он искренне недоумевает, не понимает меня. Наверно, семья голодает, пытался я оправдать его предложение. Все, или почти все работавшие на бойне были вынужденными "несунами" для поддержания своих семей, но я категорически отказался, хотя и выглядел белой вороной. Такое было время.
ГДЕ МОЙ БРАТ?
Теперь о моем брате Феликсе и как мама привезла его к нам в Чишмы.
Сразу после устройства в Чишмах, еще осенью 1941г., усилилось беспокойство за Феликса. Где он, здоров ли? Как с ним связаться? Послали несколько запросов в Москву. Долго не было никакого ответа, нервничали, особенно мама. Только весной или в начале лета 1942 года сообщили, что он в интернате в Республике немцев Поволжья (автономия в РСФСР) в городе Марксштадт (теперь здесь один из районов Саратовской области). Напомню, что после начала войны в 1941г. всех давно обрусевших немцев выселили из этой республики на Восток в Казахстан и Сибирь, как опасный анклав немецких шпионов, а саму республику ликвидировали, передав территорию Саратовской области. Вот тебе и интернационализм! На словах одно, а на деле другое.
Списались с интернатом. Наконец Феликс прислал письмо, довольно скупое, но с просьбой скорей его забрать, прислал официальный вызов. Между строк чувствовалось, что ему там голодно (писать открыто о чем-то плохом побоялся, т.к. вся почта вскрывалась и его письма могли не отправить). Без этого вызова и других подтверждающих документов (метрики, запись в мамином паспорте, еще что-то) по законам военного времени нельзя было получить пропуск на любую поездку на транспорте по территории прифронтовых областей.
Далее последовали хлопоты о пропуске, билете до Саратова, что тоже проблема. Сборы мамы в дорогу, приличный мешочек продуктов с собой и обязательно пара тройка баночек с медом для возможных взяток в пути. Где-то весной (кажется в марте или начале апреля 1943 г.), она уехала. Долго не было вестей (около 3-х недель), но вот в один из теплых весенних дней они появились, мама и Феликс с небогатым набором вещей. Было много рассказов, мамы о перипетиях дороги, Феликса о житье - бытье в интернате: голод, холод, болезни.
По приезде Феликса сразу же возник вопрос, где ему жить и учиться, как сделать, чтобы не болтался. Остановились сначала на расположенном неподалеку недельном интернате для эвакуированных детей. Феликсу там понравилось. Он, в отличие от меня, был компанейским парнем и тянулся к сверстникам. Утром в понедельник Феликс отправлялся туда с учебниками, неделю учился, питался и жил там, а в субботу вечером возвращался. Потом, когда начались каникулы, он стал оставаться дома дольше, на время пока в доме была мама или ездил в Алкино, расположенное на полпути от Чишмов до Уфы. Дело в том, что к началу лета, с приездом брата, маме над было зарабатывать и она устроилась бухгалтером в Алкинском запасном полку, работая и живя там в отведенной ей землянке. В это время я был страшно занят и не мог уделить брату достаточно внимания: школа, работа в ветлечебнице, поездки в Уфу, ежедневные уколы от бешенства, а позднее военные сборы, но об этом дальше.
В конце марта или начале апреля случился со мной история с бешеной лошадью. В один из дней, когда все фельдшера и тетя были в разъезде, уже к вечеру пришел в лечебницу ветсанитар Хайрулин из расположенного рядом Чишминского колхоза, наш постоянный клиент и верный помощник в трудную минуту. Он сказал, что случилась беда с его служебной лошадью, она второй день не ест и не пьет, просил срочно посмотреть и помочь, конюшня здесь недалеко. Я имел уже некоторый опыт в похожих случаях с лошадьми. Обычно это были колики и требовалось срочно промыть желудок слабительным. Надев халат и захватив на всякий случай бутылку со слабительным (обычный раствор глауберовой соли), я пошел с Хайрулиным в его конюшню, благо не далеко. Лошадь лежала и тяжело дышала, живот был раздут. Осмотрев её, я засомневался в диагнозе, даже зачем-то полез в рот, чтобы посмотреть язык (вдруг увижу налет, часто сопровождающий колики). Однако никаких особенностей не заметил и, на всякий случай, предложил залить слабительное. Решили, что не повредит. Мы с трудом подняли коня, забросили уздечку на ворота натянули, чтобы поднять голову повыше и я стал пытаться запихнуть горлышко бутылки в рот. Долго ничего не выходило, лошадь билась брызгала слюной. Кое-как я все же залил часть бутылки и мы её отпустили. Хайрулин остался дежурить, а я вернулся домой. Вечером вернулась тетя и отругала меня за самоуправство, а утром прибежал Хайрулин и сказал, что лошадь сдохла. Тетя тут же отправилась в конюшню и диагностировала подозрение на бешенство! Выяснилось, что недавно ее укусила, выскочившая из кустов лисица, похоже, что бешенная. Тушу изолировали и сожгли, предварительно отрубив голову или её часть, которую немедленно отправили для подтверждения диагноза в Уфу в лабораторию Асколи. Тетя тщательно обследовала мои руки на трещины и твердила "зачем лезть в рот, если ничего не понимаешь!" Диагноз подтвердился и мне назначили, на всякий случай, уколы от бешенства, каждый день в течение месяца, потом перерыв и повторный сеанс! И стал я каждый день ходить в больницу за 2 км на инъекции. За ампулами регулярно ездил в Уфу. Прочитал в справочнике много страшного и интересного про бешенство. Первый сеанс я принял полностью, а вот второй лишь частично, слишком много навалилось. Потом долго тревожился и прислушивался, не появились ли симптомы! Только через 3-4 месяца успокоился окончательно, да и то благодаря крутому изменению в моей судьбе.
ПРИЗЫВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
В мае всех юношей, учеников 9 и 10 класса нашей школы, допризывников 1925 года рождения, вызвали в военкомат и сообщили, что после окончания занятий всех призовут в армию и направят в училище связи готовить офицеров-связистов. Сначала нас направили на медицинскую комиссию и тут, неожиданно (шла война и призывали всех здоровых, не имевших брони) я был признан негодным к воинской службе по зрению. Мне был выдан белый билет! Всё! С армией покончено. Возникло ощущение ущербности по сравнению с другими. Правда, у меня было подспудное ощущение, что возможна перекомиссия и меня все же призовут, но уже не в училище, а это обидно. Тем временем на военные сборы после экзаменов, кажется, на 3-5 дней, я в составе допризывников попал, но по возвращении со сборов возник вопрос, что делать дальше?
Было решено, что я экстерном сдам за 10 класс и поступлю в ближайший институт. Стал усиленно заниматься и к середине июня, при поддержке преподавателей, которые отнеслись ко мне с пониманием, сдал все предметы за 9-й класс и частично за 10-й. В Уфе был авиационный техникум и, кажется, институт или филиал МАИ. Однако там, несмотря на острую нехватку абитуриентов, сразу сказали, что общежития нет. Возникла идея поступить хотя бы в МИМЭСХ (Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства), находившийся в эвакуации в Кзыл Орде (Казахстан), где преподавал мой дядя и где я мог жить. Связались с Кзыл Ордой, куда я отослал заявление о приеме, справки об окончании 9 класса и несколько позже о сдаче 3-х или 4-х предметов за 10 класс (русский, алгебру и геометрию). Однако, вскоре обстановка резко изменилась. Началась тотальная мобилизация, по которой сокращалось много статей медицинских показаний, признававших негодными службу в армии по разным болезням. Негодные признавались ограничено годными или даже вообще годными.
Вскоре, действительно, получаю повестку из военкомата. Меня направляют в Уфу на перекомиссию и после второго в этом году медицинского обследования признают уже абсолютно пригодным к несению воинской службы по 1-ой (высшей!) категории, правда, с припиской, "в очках". Однако в дальнейшем, эта приписка не играла никакой роли. Очков у меня не было и достать их было практически невозможно, т.ч. служил и воевал я без очков, что часто очень мешало. Итак, сначала признали вообще негодным к службе в армии, а теперь годным по 1-ой категории! Теперь жди повестку о призыве в армию, только уже не в училище, как мои одноклассники, а скорее всего простым солдатом. В эти же дни пришло письмо с документами о зачислении меня на 1-ый курс факультета электрификации МИМЭСХ и вызов, по которому я мог приобрести билет и ехать в институт. Но все теперь рухнуло, прощай учеба.
Вскоре получил повестку о призыве: явиться утром к таким-то часам, иметь при себе документы, смену белья, ложку, кружку... Начались сборы. Я сделал обычную для того времени нехитрую, но просторную котомку, типа вещмешка. К нижним углам мешка из плотной материи привязал прочную, толстую, мягкую веревку, которую петлей завязывал на "горле" мешка. Мама испекла в русской печке несколько круглых караваев черного хлеба. Сложил в мешок эти караваи и другие продукты (сухари, баночку с маслом, баночку с медом, кусочек сырокопченой колбасы из московских остатков), белье, полотенце, портянки, бритву, мыло, зубной порошок с щеткой, тетрадку с парой химических карандашей и ручку с перьями для писем, книгу Феербаха по диалектическая философии, которую привез из Москвы и не успел прочитать, самодельную записную книжку или тетрадь с адресами, иголку с белыми и черными нитками, намотанными на бумажку. Ух, как пригодились эти нитки, которые в войну были страшным дефицитом. Получился увесистый мешок. Подготовил на шею мешочек для документов (комсомольский билет, повестка, пока еще белый воинский) и немного денег. Вот, кажется и всё.
В последний вечер устроили прощальный чай (помниться, бутерброды с кусочками мяса и остатками колбасы). Поговорили немного и легли спать. Спал тревожно. Еще бы! Покидаю дом и ухожу на фронт, в неизвестность. Встал рано, помылся, оделся по-летнему, поел и настал момент прощания. Ох уж этот момент! Я твердо сказал, чтобы меня не провожали до военкомата, так будет легче. Сразу, как определится место пребывания, напишу обо всем подробно. Последние напутствия. Слез не было, только тревожные глаза. Я надел вещмешок на плечи, обнял всех и быстро вышел. Оглянулся только при выходе за ворота ветлечебницы. Все стояли у крыльца и смотрели в мою сторону. Махнул прощально рукой и быстро, уже не оглядываясь, пошел к военкомату.
III. АРМИЯ
НУ И ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ!
Весь призывной путь от военкомата до запасного полка, куда я прибыл в составе маршевой команды, оставил у меня удручающее впечатление. Последние остатки идиллического представления об армии, которые мы впитали в школе, улетучились.
В военкомат я пришел загодя, до назначенного времени, сдал документы. Военком сказал: подожди, сейчас соберем команду, старшим будет сержант, он довезет вас до призывного пункта в Уфе и там сдаст, надо успеть к поезду.
Команда подобралась небольшая, несколько человек. Я, мой одногодок крепкий, коренастый, но пугливый, крестьянский парень Степа (может другое имя, не помню), три или четыре пожилых (по моим понятиям) татарина, лет 40-45. Сопровождающий нас сержант был в новенькой форме, начищенных до блеска сапогах, не злой, но малоразговорчивый. Степа был одет в какую-то непонятную, видавшую виды одежду. Он крепко держал, похожую на мою, котомку и всю дорогу пугливо, точнее затравленно, озирался, говорил мало и как-то несвязанно. Я пытался заговорить с ним, но только уяснил, что он из глухой деревни с 3-х классным образованием уже женат (в 18 лет!), почти никуда не выезжал и обстановка, в которую он сейчас попал, была для него дика и страшна. Пожилые татары, с огромными мешками (мы их называли сидоры) за спиной, общались только между собой и на своем языке и никакого интереса у меня не вызывали. Вскоре мы отправились на станцию, сели в поезд и поехали в Уфу. Я с тоской перемалывал в себе новую ситуацию и не видел впереди ничего хорошего. Вот и Уфа. Сели в трамвай и по так знакомому мне маршруту доехали до центра города. Слезли, и сержант повел нас в городскую баню, где мы быстро помылись в полупустом зале. Затем сержант долго вел нас по малолюдным улицам на окраину города, застроенную, в основном одноэтажными деревянными частными домиками. На одной из улочек, наконец, остановились перед двухэтажной школой, огороженной забором, с часовым у ворот. Теперь здесь был призывной пункт. Сержант с заметным облегчением сдал нас в караульном помещении (караулке) и исчез, бросив на прощание что-то вроде "счастливо устроится". Этот призывной пункт я никогда не забуду!
В караулке нас зарегистрировали и сказали: идите устраивайтесь где-нибудь на 1-м этаже, на довольствии будете поставлены завтра, слушайте объявления по радио, за ворота не выходить, запрещено! Мы взвалили свои мешки за спину, вышли и тут же разбрелись, кто куда. Я остался один в этой незнакомой обстановке и ощутил какую-то враждебность вокруг, причину которой никак не мог понять. Стал осматриваться вокруг, не найду ли сверстников и где пристроиться. Вечерело. Все классы и коридор были заполнены, сидящими на полу, группками призывников по 5-10 человек. Но что это были за призывники! Большинство групп составляли, в основном сельские жители, "пожилые" мужчины 40-50 лет, татары, которых все называли бабаями. Они сидели у стены плотным полукругом, хмурые и молчаливые, подпирая спинами кучку из своих вещмешков, изредка бросали одну две фразы и зорко и недружелюбно оглядывались вокруг. Что они всё озираются? - не понимал я, но вскоре узнал в чем было дело. Совсем стемнело, но света в школе не было. Бабаи вытащили свечки (надо же, как они сообразили захватить?), зажгли их и приладили на мешки, по 2-4 штуки на кучку. Я выбрал в коридоре группу бабаев, показавшуюся мне более добродушной, и уселся напротив, у окна, подложив мешок за спину. Стало совсем темно. Только там и сям мерцали свечи, оставляя колеблющиеся тени на стене. Временами в разных концах коридора и из классов раздавался чей-то возмущенный голос иногда переходящий в крик, слышался шум, потом все смолкало. Вот из темноты коридора показались двое парней по 20-25 лет, без вещей (странно, подумал я). Они остановились и сели на пол вплотную к "моей группе", сказав как-то бесцеремонно: "вот здесь светло, поиграем" и один из них привычным движением вынул из кармана колоду карт и стал ловко тасовать. Из темноты с другого конца коридора к ним присоединился еще один парень. Они стали азартно играть, выкрикивая всякие непристойности. Урки! - промелькнуло у меня в голове - неужто и они призваны в армию? Бабаи насторожились и как-то напряглись, собираясь дать отпор, если что. А эта компания, не обращая на них внимания, продолжала яростно резаться в карты и даже, вроде, ссорились. Вдруг из темноты быстрым шагом вынырнули двое и быстрым, молниеносным движением выхватили по мешку из-за спины опешивших бабаев и бегом, мимо меня, скрылись в темноте противоположного конца коридора. Бабаи вскочили и двое из них бросились вслед, но не тут-то было! Игравшие, как бы невзначай подставили ножки и оба с диким криком рухнули на пол. Образовалась куча. Бабаи и игроки вскочили и стали орать друг на друга, грозя кулаками, а похитителей и след исчез. Бабаи попытались схватить хотя бы одного из игроков и уволочь его в охрану, но тот при поддержке дружков вывернулся и был таков. Оставалось пожаловаться охране караула.
Пришел комендант караула или его помощник, выслушал молча всех, пожал плечами и, как-то безнадежно сказал, что они поговорят с возможными участниками, но, скорее всего, ничего сделать не смогут. Не смогут, т.к. контингент молодых призывников состоит, в основном, из осужденных, которым тюрьму заменили отправкой на фронт, скорее всего, в штрафбаты, и им море по колено. Тем более, что уголовники сбились в шайки. Стали понятны эпизодические крики из темноты, там происходило аналогичное "представление" по добыче провизии голодными шайками. На другой день из расспросов и наблюдений я понял, что весь контингент, находящихся сейчас на призывном пункте, состоял из двух основных социально-возрастных групп. Колхозники в возрасте, в основном татары и башкиры, ранее не призванные, как раз, по причине возраста и молодежь. Молодежь была, в основном, из осужденных, которым заменили "срок" на армию (большинство) и ребят, освобожденных ранее от службы по разным болячкам (меньшинство). Вот в какую компанию я попал из-за моего белого билета! "Какой-то сброд", сказал, в сердцах один из караульных. "Нормальные" призывники были еще зимой и в начале весны, их уже давно отправили в части. Шла тотальная мобилизация
Постепенно все успокоилось шум стих, все стали приспосабливаться ко сну, бодрствовали только по очереди дежурные у каждой кучки. Мне безумно хотелось спать, надо было устраиваться, но как после всего увиденного? Было, наверно, около 12 вечера. Необычный, нервный день, уже далеко от дома, первый день после призыва заканчивался. Я навалился на свой мешок, буквально обнял его, опустил голову, прижавшись к стенке у подоконника, и в этой неудобной позе мгновенно уснул тревожным сном. Не прошло и часа или двух, как я почувствовал, что куда-то проваливаюсь. С усилием открыл глаза и обнаружил, что мешок "похудел", уменьшился, а с другой стороны к нему притулился кто-то щуплый, мгновенно замерший, как только я поднял голову. Мерзавец! - не то крикнул, не то подумал я и со всей силой треснул кулаком по башке лежащего. Раз, два, три... "Мерзавец" по-заячьи пискнул, отполз, вскочил и исчез в темноте. Никто из окружающих не отреагировал. Подумаешь! Не такое видывали, да и своя рубашка ближе к телу. Ощупав мешок, я обнаружил, что он распорот и вытащена буханка хлеба. Сон прошел, болела голова. Забрезжил ранний июльский рассвет, я достал иголку, заштопал прореху и проверил свои припасы. Слава богу, успели вытащить немного, всего 1 буханку. Побрел с мешком за спиной в туалет, помылся. Голова посвежела и я вышел во двор школы. Наступало свежее июльское утро. Ну и ночь! Как же быть дальше? Ведь так я долго не выдержу, ограбят или отнимут обязательно, я ведь одиночка и что тогда делать?
Динамик проорал "подъем!" и вскоре приехала полевая кухня. Каждый получили по списку половник перловой каши, кусок черного хлеба (черняшки) и столовую ложку сахарного песку. Добавили домашних припасов и кипяточку (этого бери вдоволь) и получился завтрак, хоть куда. До обеда мы побродили по двору, выбирая место ночлега. Забрались на поленицу и решили там обосноваться, как раз место на троих, а если кто полезет, то сразу услышим.
После завтрака только устроились отдохнуть, как вдруг динамик несколько раз повторил: "Орлов, быстро в караулку". Оказалось, что приехала мама, ждет за воротами, а меня никак не найдут! Вот это сюрприз, совсем не ожидал. Куда девать мешок? Справился в караулке можно ли его оставить, не пропадет-ли? Старший сержант любезно сказал, чтобы не беспокоился, клади в угол, всё будет в сохранности. Получил увольнительную записку до вечера и выскочил за ворота. Вот и мама! Где устроиться? Напротив ворот, на другой стороне улицы был одноэтажный домик с большим крыльцом с крышей.
День выдался теплый и солнечный и мы удобно расположились на ступеньках крыльца. Мама стала расспрашивать. Я сказал, что пока никуда не определили, плохо спал из-за воровства, но вот появились 2 приятеля и теперь устроимся, пусть не волнуется. Мама стала пичкать меня привезенными гостинцами и все сокрушалась, что ничего не вышло с отсрочкой призыва. Было хорошо, спокойно, спало напряжение прошедших суток и тут же сказалась бессонная ночь, я неудержимо захотел спать. Сказал, что хочу подремать немного. Устроился на ступеньках, положил голову на мамины колени и мгновенно заснул. Мама не будила меня и я проснулся, когда солнце стало клониться к вечеру. Боже, сколько я проспал и ведь скоро свидание кончиться! Еще немного поговорили и мама заторопилась на поезд, пообещав еще приехать. Мы попрощались и я вернулся в караулку за мешком. Мне его как-то суетливо вернули. Караульный, пряча глаза, сказал, что все в целости. Я почувствовал, что что-то не так. Выйдя из караулки, проверил мешок и обнаружил, что умыкнули полбанки меда и кусок хлеба. Вот так караульные! Никому нельзя доверять. В плохом расположении духа вышел во двор.
Во дворе высилась пирамида дров, возле которой в обнимку с вещмешками притулились два парня моего возраста. Я подошел и мы, слово за слово, быстро раззнакомились. Они тоже испытывали одиночество и растерянность. Первый, назовем его Виктор, полу русский - полу башкир, был местный, уфимский, кончил 7 классов, после начала войны работал в типографии. Отец в армии, давно нет вестей. Мать часто болеет, сестра маленькая, стало голодно. Он подделал в типографии продуктовые карточки и попался. Его поймали по доносу..., дали срок..., теперь заменили на армию. Мы с ним, как-то быстро сдружились. Второго, назовем Павел, кажется десятиклассник, помню хуже. Его тоже сначала комиссовали, а теперь вновь призвали. Решили держаться тройкой вместе, сразу повеселели и появилась уверенность. Втроем не пропадем.
Новые приятели сообщили, что завтра нас срочно отправят на комиссию для распределения по частям. Срочно отправят, т.к. коменданту надоели постоянные грабежи молодых уголовников, он боится возможности крупных инцидентов, поножовщины, дезертирства, а ему отвечать. Заодно, отправят и остальную молодежь, т.е. нас "гражданских", а "старички" подождут, никуда не денутся.
Надвигался вечер, было еще совсем тепло, но мы взобрались на нашу лежанку, обустроились, пресекли попытку подозрительной личности присоединиться к нам и забаррикадировали лаз, чтобы успеть проснуться, если кто полезет. Перекусили своими припасами, поговорили и спокойно уснули.
Проснулись мы рано, т.к. к утру небо заволокло, стало весьма прохладно, даже, было, брызнул дождь, но быстро прекратился. Мы слезли, умылись, дождались приезда полевой кухни и только позавтракали, как из динамика раздалась команда всем нижеперечисленным, куда попали я, Павел и Виктор, собраться с вещами у входа в школу. Нас построили в колонну, набралось 30-40 человек, и повели к центру города на призывную комиссию. В команде одна молодежь, в основном, 17-20 лет. Только трое "гражданских", т.е. несудимых. Это я, Павел и Степа, с которым я приехал. Где-то в строю идет и ночная шайка. Никогда не думал, что попаду в такую компанию. Привели нас в пункт распределения мобилизованных. Это было довольно замусоренное помещение, где нас поместили в зал, уставленный рядами стульев, в конце которого была небольшая сцена. В противоположной сцене стене было несколько дверей, за которыми заседали комиссии. В зале уже расположились другие команды и время от времени подходили новые. Вскоре стали вызывать каждого из команды. Дошла очередь и до меня. Зашел в комнату с несколькими столами, за которыми сидели члены комиссии. Подошел к указанному мне столу. За столом сидел довольно приятный и располагающий к себе дядька (комиссованный по ранению фронтовик). Спросил фамилию, достал мои документы и стал просматривать. И тут случились два момента, каждый из которых определил всю мою дальнейшую судьбу.
Пробежав, выданный мне белый билет с последней резолюцией о пригодности к военной службе, он поднял на меня глаза и, улыбаясь, как-то по-хорошему, спросил:
- Хочешь домой?
- Как? - опешил я и сердце у меня ёкнуло.
- Да вот так! Негоден пока. Вот мамка обрадуется - ответил он и стал размашисто писать красным карандашом на билете. "Отпущен до особого распоряжения".
- Но почему? Как так получилось? - продолжал я в недоумении глядя на резолюцию.
Если бы промолчал, то вся дальнейшая моя судьба повернулась иначе!
- Вот непонятливый - ответил он - здесь же написано, что по зрению ты негоден, смотри... Подожди, я кажется спутал, да ты прав, годен в очках. - произнес он, как-то огорченно, и зачеркнул резолюцию - образование какое?
- 9 классов и часть десятого - пролепетал я упавшим голосом.
- Ну, тогда направляю в Тоцкие лагеря.
- А нельзя в Алкинские лагеря? Там мама моя работает.
- Чудак человек, я тебе лучшее предлагаю - ответил он - в Алкино - пехота, а в Тоцких лагерях будут из тебя готовить артиллериста, возможно для дивизии резерва Главного командования (РГК). Ты сейчас не понимаешь, но потом поймешь, что это хороший вариант и жалеть не будешь. Я ведь лучшее предлагаю. Потом не раз вспомнишь меня с благодарностью. Ну, решай!
- Ладно, вы лучше знаете, согласен - решил я, подумав, что очень убедительно и сочувственно он говорит, не стоит испытывать судьбу.
Вот примерно такой состоялся диалог. Как сложилась бы судьба, если бы я промолчал? Скорее всего, ошибка вскоре бы обнаружилась и меня вновь призвали, причем велика вероятность, что попал бы я в пехоту. А с моим зрением, несколько замедленной реакцией и неловкостью я, скорее всего, погиб в первом же бою. То же самое произошло, если бы я определился в Алкино. А я очень туда хотел, ведь под боком мама работает! Впрочем, что гадать, но повезло мне точно и я не раз вспоминал того фронтовика добрым словом, особенно, когда видел, как гибли в первые же дни, прибывшие с пополнением не обстрелянные еще ребята-пехотинцы.
Фронтовик еще раз сказал, что я не пожалею о выборе, дал подписать какую-то бумагу, очевидно моё согласие, назвал номер моей команды, предупредив чтобы я не отлучался и не пропустил, когда по динамику вызовут строиться. Он тепло попрощался со мной и я вышел в зал. Стало как-то спокойней на душе, всё определилось. В эту же команду попали мои новые приятели.
Между тем в зале, на сцене появились артисты или самодеятельность и начали петь, танцевать, декламировать. Все места были заняты и мы встали за последним рядом. Концерт, то и дело прерывался динамиком, вызывавшим призывников на комиссию. Вдруг сзади, совсем рядом раздался возмущенный возглас "украли ...", перешедший в вопль. "Неужто из нашей команды поработали?" мелькнула мысль, я оглянулся и увидел, как молодой парень рухнул на пол и забился в падучей, изо рта пузырилась пена. Раздались крики: "Врача, санитара! Держите голову, а то разобьет ...". Мы придержали голову и пытались успокоить парня. Довольно быстро пришел медработник, сделал укол, парень стих и его увели. "И таких эпилептиков в армию берут! Что же это такое? Неужели уже некем пополнять армию?..." - такие мысли бродили у меня в голове и не только у меня. Концерт возобновился, но мы не слушали, а обсуждали происшедшее. Вскоре динамик объявил номер нашей команды и приказал выйти во двор строиться.
В ТОЦКИЕ ЛАГЕРЯ С УГОЛОВНИКАМИ
Нас набралось человек 40-50. Всех построили в колонну, проверили по списку и старший сержант, объявив, что он старший нашей маршевой команды ("Старшой" обозвали мы его), повел нас станцию. Замыкал колонну еще один сержант - второй сопровождающий. Вот и знакомый вокзал. Не останавливаясь, мы вышли на подъездные пути и подошли к каким-то пакгаузам. Там каждому выдали "сухой паек" на 4 или 5 дней дороги. Паёк показался нам внушительным: несколько буханок черного хлеба исходя из нормы 900 (!) грамм в сутки, кулек сахарного песку, с десяток воблин на каждого. Я, как и все, пополнил свой похудевший мешок. Затем, старший сержант ("Старшой") отвел нас к 2-м сцепленным вагонам-теплушкам, приказал самим определится, кто с кем едет, занять теплушки и не отлучаться, т.к. нас скоро прицепят к составу и повезут в Тоцкие лагеря. И тут однородная наша команда распалась на 2 группы по 20-25 человек в каждый вагон, выделились свои вожаки, авторитеты и парии.
В одной группе сосредоточились настоящие уголовники (матерые воры, жулики, мошенники, входившие в ту или иную шайку) и тяготевшие к ним одиночки, осужденные за мелкое воровство. Там сразу определился Авторитет, Пахан - высокий крепкого сложения парень, лет 25-ти с нагловатыми повадками и таким же наглым взглядом, с насмешливо улыбкой и чувством превосходства над всей этой мелюзгой. Вторая группа состояла из сторонившихся от этих уголовников осужденных, имевших статьи за различные правонарушения того времени (мелкое воровство на предприятиях, хулиганство, самовольный уход с рабочих мест и т.п.) и гражданских лиц, признанных годными к службе в армии по новому положению о призыве. "Гражданских" оказалось только 4 человека(!) - я, мой приятель Павлик, вечно затравленный Степан, с которым я призывался в Чишмах, и еще кто-то. Вот так! Я еду в армию с уголовниками! Раньше я и в страшном сне не мог себе это представить.
Наш старший сержант, поглядев в список, вдруг назначил меня ответственным за 2-ой вагон, возможно как "гражданского" и наиболее грамотного. Не осужденных же назначать или полуграмотного Степана! Сам "Старшой" расположился в 1-ом вагоне с уголовниками, очевидно, думал я, для пригляду за этой непростой командой. В дальнейшем оказалось, что это не совсем так.
Начали занимать места. Я, как ответственный за вагон, распределил места, чтобы не было толкучки, учитывая пожелания, кто с кем хочет находиться. Сам я занял "элитное" место на полатях (нарах) у окошка. Рядом расположился Павлик, напросившийся ко мне Степан и еще кто-то, всего 4 человека. В общем, организовалась отдельная гражданская полка. Всю дорогу Степан чурался всех, кроме меня, возможно, боялся остальных, не доверял никому. Его травмировали постоянные насмешки в свой адрес, иногда безобразно - унижающие, иногда довольно добродушные. Эта затравленность и неумение приспособиться к новой среде привела впоследствии его к дезертирству из запасного полка в Тоцких лагерях.
Второй приятель, Виктор, устроился на противоположной полке. Обустроившись на своих местах, все выпрыгнули из вагон и расположились рядом, кто где. Был теплый вечер, солнце клонилось к закату и пока светло мы (я, Виктор и Павел), как и остальные, решили перекусить, усевшись на штабеля шпал. Сбегали за кипятком разделали по 1-2 воблы, нарезали только что полученного свежего хлеба, посыпали сахарным песочком - вот и весь ужин. Поговорили о том о сем и тут я заметил, что один, сидящий одиноко, призывник из моего вагона все ест и ест, хотя все уже давно закончили, причем ест с жадностью, уплетая одну рыбину за другой, один ломоть хлеба за другим, насыпая на ломти горку песку.
- Ребята, смотрите, он не может остановиться - сказал я и, вспомнив прочитанное на эту тему, добавил:
- Наверно с голодухи. Ведь он объестся, ему станет плохо и он может вообще загнуться. Надо его остановить, а то беда будет.
Мы встали, подошли к нему. Это был худой, костлявый белобрысый парень, по тюремному, наголо остриженный, в черной навыпуск ситцевой рубашке и черных полотняных брюках. Всё до ужаса грязное и мятое. На ногах дырявое подобие ботинок на портянки или босу ногу. Так похож на беспризорников, которых мы видели по довоенным картинам, просто копия! Он уже уплел почти всю буханку. Стали уговаривать его передохнуть, но он, не переставая есть, ответил:
- Нет, ребята. Меня мобилизовали на шахты. Я не выдержал, там ужасно, и я убежал. Меня поймали, как дезертира. Несколько дней гнали из тюрьмы в тюрьму. Потом дали срок за бегство с шахты, но заменили срок на армию. Семь дней я почти ничего не ел.
- Подожди, все понятно, но тебе будет плохо, - сказал я - разве ты не знаешь, что с голода нельзя наедаться. Станет плохо и можешь умереть. Поел, теперь передохни час - другой. Потом опять немного поешь. Постепенно надо.
- Не могу - ответил он - надо наесться, ведь семь дней не ел, думал сдохну, да еще били.
- Нельзя, брось, подожди, успеешь еще поесть, нельзя же все сразу сожрать! - наперебой увещевали мы.
Примерно так протекала беседа. Однако, всё было напрасно, он ел и ел, отказываясь нас слушать. Тогда я сказал ребятам, что он себя погубит и мы будем виноваты, ничего не предприняли. Предлагаю, отобрать у него весь паек и 1 день выдавать понемногу, а потом оставшееся вернуть и пусть делает что хочет. Ребята тут же согласились и забрали, точнее, выхватили у него всё, оставив только недоеденный кусок хлеба в руках. Он не сопротивлялся, но заплакал горько, навзрыд, плечи так и тряслись. Сквозь рыдания бормотал:
- Зачем вы так, зачем забрали, что я вам сделал?
- Чудак, мы все вернем завтра, мы же объяснили... - говорил я.
- Знаю я эти обещания, заберете и всё - продолжал он, рыдая.
- Надо же - удивился и разозлился я - ему лучше делают, а он... Отдайте ему все и пусть погибает. Мы предупредили.
Получив обратно свой мешок, наш подопечный успокоился и даже воздержался от еды. Как он вел себя и как себя чувствовал дальше, я не помню. Возможно, он внял совету, увидев, что его не собираются грабить. Короче всё обошлось. Я приготовил открытку с Чишминским адресом, чтобы на ближайшей остановке дать о себе весточку, ведь дома беспокоятся. Написал, что еду в запасной лагерь (название из предосторожности не написал), что все в порядке, напишу уже с места.
Между тем, темнело и "Старшой" устроил вечернюю поверку. Нас выстроили в 2 ряда перед вагонами и провели перекличку. "Старшой" и второй сопровождающий нас сержант, стоя перед строем, являли собой резкий контраст. Оба в новенькой, даже щегольской форме, в начищенных сапогах, выглядели образцовыми военными. Напротив этих щеголей стоял полуоборванный строй новобранцев, имевших одновременно жалкий и пугающий вид.
"Отбой! Всем по местам!" - сказал наш главный сопровождающий и мы разошлись по своим местам, задвинув дверь нашего временного жилища - товарного вагона. Я вскочил на свою полку, посмотрел в окошко, подложил мешок под голову поудобней и быстро заснул. Пока что тревожится было не за что. Проснулся от толчка. Была уже глубокая ночь. Догадался, что нас прицепили к составу. Вскоре, после нескольких толчков, состав двинулся и я, глядя в окошко, пытался определить куда мы едем. Вот замелькали пролеты моста над рекой Белой. Все ясно, идем на Куйбышев, мимо моих Чишмов. Если там остановимся (все же узловая станция!), надо бросить открытку. Только бы не проспать! С этими мыслями я уснул, изредка просыпаясь от толчков.
В Чишмах остановились рано утром, часов в 5-6, очень удачно, прямо у первой платформы, напротив вокзала. Наружи было светло, я уже не спал и, как только состав встал, соскочил с вагона на пустой перрон, бросил открытку в знакомый мне почтовый ящик на фасаде вокзала. Жаль, что рано, а то успел бы перекинуться словами с матерью Милявского, которая выходила на работу в станционный ресторан в 7-8 часов. Только вернулся в вагон, как наш товарняк тронулся. Мелькнула вдалеке моя ветлечебница, где все еще, наверное, спят и наш состав пошел по Куйбышевской ветке. Довольно долго шли без остановки. В раздвинутых настежь дверях теплушек мелькали деревушки, небольшие перелески, слегка холмистые или совсем плоские поля, степь, местами прорезанная извилистыми речушками и грунтовыми дорогами. Непрерывно меняющаяся панорама как всегда, притягивала и под стук колес успокаивала, убаюкивала. Мелькали столбы железнодорожной связи и километровые столбы, время от времени с грохотом проносились встречные составы.
Около полудня остановились на большой станции, кажется Белебей. Тут же к нашим вагонам вплотную сбежались местные торговки и торговцы со своими нехитрыми домашними припасами, приготовленными для проезжающего люда: буханки хлеба, фунтовые куски масла, сало, молоко, сметана, огурцы, традиционные отварные и жареные куры и т. п. Шум, гам. Не знают они, кто едет в этих вагонах, а то бы разбежались, думают, небось, что мобилизованные всегда готовы что-то купить. Что-то сейчас будет - думал я с грустью и сожалением, глядя из теплушки на бойкую толпу продавщиц и редких продавцов - старичков. Думал и не ошибся.
Вот из соседней теплушки спрыгнули несколько "братков" - урок во главе со своим Паханом. Они стали уверенно расхаживать среди торгующего люда, заинтересованно рассматривая товар и даже торгуясь. Сейчас начнется представление - подумал я - и оно началось. Один из братков взял на ладонь завернутый фунт масла, стал подбрасывать его и что-то говорить бабке-торговке, похоже, что не хватает веса или цена высока. Бабка, живо жестикулируя, доказывала обратное. Вдруг, браток резким движением ловко швырнул этот фунт через плечо прямо в свой вагон, где оно и исчезло. Бабка завизжала, а парень быстро отскочил и был таков. Другой браток подошел к деду, торговавшему огурцами из мешка, взял пару или тройку и стал спокойно удаляться. Дед метнулся за ним, оставив без присмотра мешок, который тут же подхватил третий браток и также швырнул в свой вагон. С разных сторон полетели в вагон свертки с кусками провизии. Я вспомнил первую ночь на призывном пункте - тот же почерк! Поднялся страшный шум, крики "караул", "милиция!", "грабят!"... Часть торговцев с проклятиями убежали, часть, яростно махая кулаками и жутко ругаясь, столпилась у дверей вагона. Но что они могли сделать? А где же сержанты, почему не прекратят безобразие? - не понимал я, хотя закралось подозрение, что они "умыли руки", но почему? Появился наряд железнодорожной милиции с человеком в форме с красной фуражкой (дежурный, помощник или начальник станции). Наряд оцепил наши вагоны. Поодаль сгрудились ограбленные торговки, громко переговариваясь и ожидая разрешения конфликта. Старший наряда подошел к дверям вагон и стал требовать нашего сопровождающего. И только тут появился "Старшой", спрыгнул и стал объясняться, разводя руками, что я мол не в силах ничего сделать, замучился, этих урок везу в армию, они голодные, нет с ними сладу, отправляйте скорей, как бы большей беды не было. Что было делать? Старший наряда чем-то грозился, но потом плюнул и с человеком в форме пошел к толпе объяснять безнадежность ситуации. Толпа что-то возражала, неслись проклятия в нашу сторону, но вскоре она рассеялась. Только дед, у которого украли мешок с огурцами, подошел к соседнему с нашим вагону и стал просить, чтобы отдали хотя бы мешок. В дверях появилась наглая рожа Пахана и состоялся примерно такой диалог:
Пахан. Что тебе дедушка надо?
Дед. Мешок с огурцами ваши забрали.
Пахан. Безобразники. (обращаясь в глубь вагона) Кто взял мешок с огурцами у деда, суки? Молчат! Дед не помнишь, кто взял?
Дед. Где там упомнить. Кинули в ваш вагон. Отдайте хоть мешок, он у меня один.
Пахан. Хорошо, я сейчас всех перещупаю. (Он отошел вглубь, послышалась возня и он вернулся к дверям) Огурцов не нашел, а вот мешок какой-то валялся. Твой?
Дед (обрадовано). Мой, мой.
Пахан (кидает мешок). Тогда забирай. Больше ничего не могу.
Дед (поднимая мешок). Спасибо, хоть на этом.
Дед понуро уходит. Оцепление осталось до отхода состава. Нам запрещено выходить, а если по нужде, то только в сопровождении караульного. Сержанты довольны, инцидент исчерпан и не нужно следить, не убежал ли кто.
Я забрался на полку. На душе было скверно, гадко. Вскоре состав тронулся и до вечера нигде не останавливался. Только, когда совсем стемнело прибыли на крупную станцию, сплошь заставленную составами (помниться, Бугуруслан) и наш товарняк стал. Стоим минут 5-10. В теплушке кто уже спал, кто готовился ко сну. Собирались закрыть дверь, как вдруг появился запыхавшийся сержант и закричал: "Подъем! Быстро строится и бегом на отличный обед! Через 20 минут состав поедет, надо успеть". Спешно выгрузились и почти в полной темноте, цепочкой, во главе с сержантом, побежали мимо каких-то составов, складов, заборов. Вот столовая в плохо освещенном бараке. Столы, на 10 человек каждый, уже накрыты: миски, ложки и, главное, огромная кастрюля густого борща с хорошими кусками мяса на каждого, кастрюлька гречки. Самый шустрый быстро разливает горячий, вкусный, по-домашнему сваренный борщ. Так давно не было ничего горячего, кроме кипятка! Только успеваем съесть полтарелки, как вбегает сержант с командой: "Встать! Бегом к поезду, сейчас отправляется". Хватаем куски мяса, гущу, несколько ложек каши и, дожевывая на ходу, мчимся обратно. Эх, в спешке не захватили котелки, можно было слить оставшееся. Никак нельзя отстать, хлопот не оберешься, еще угодишь в штрафную роту. Только влезли в теплушку, лязгнули буфера и состав медленно тронулся в путь. Последние ребята из нашей команды залезали на ходу. Думаю, что с предыдущей остановки сюда сообщили, что едет голодная, неуправляемая команда и нас решили накормить во избежание возможных эксцессов. Поскольку связи с поездом не было, нас не смогли предупредить заранее и все прошло в страшной спешке. Больше нас нигде не кормили. Отпечатался этот борщ, больше нигде, ни в лагере ни в части никогда не пробовал подобного борща.
На другой день прибыли на крупнейшую узловую станцию Кинель, рядом с Куйбышевым (Самарой) и здесь застряли надолго. Наши вагоны отцепили и перевели на запасной путь. Вначале сказали, что до вечера никуда не поедем. Все вылезли из теплушек, оставив только дежурного в каждом вагоне. Побродили по станции, кое-кто сбегал на довольно большой базар, оказавшийся неподалеку. Естественно, что шпана из соседнего вагона пошарила по базару и кое-что умыкнула. Однако, ни вечером, ни на следующий день нас никуда не везли. То же повторилось и в последующие дни. Продовольственный паек заканчивался. Продукты оставались еще у тех, кто имел что-то из дома или имел деньги и мог прикупить необходимое. Я сходил на базар и истратил всю оставшуюся у меня небольшую сумму на пополнение похудевших запасов. Нас не кормили и новый паек не давали (что-то нарушилось, может просто головотяпство). Назревали голодные времена. Сержанты сбились с ног, уговаривая станционное начальство поскорей отправить нас в Тоцк, пристегнув к попутному составу, грозили неприятностями от нашего "контингента". Ничего не помогало. Железнодорожный узел огромный, основные заботы - это пропустить составы с воинскими эшелонами и боевой техникой. А тут мелочевка, подождут. Плохо с прокормом? Это не наши заботы говорило станционное начальство. Возможно, прослышав про художества "контингента" начальники попутных составов отказывались цеплять наши вагоны. Шпана уже навела шороху на базаре и там усилили патрули. Одного уже поймали и ему грозит штрафбат. А остальным что делать?
Мимо нас непрерывно, с короткими и длинными остановками, проходили составы. И вот однажды прибежал один член нашей команды и сказал, что на одной из платформ состава, стоящего напротив наших вагонов, везут подсолнечный жмых. Обычно он используется как концентрат для питания коров и прочей скотины, но тут, с голодухи и для нас подойдет. Можно сделать запас на случай, если ничего давать не будут. И потянулась наша команда поодиночке, чтобы не застукали, таскать этот жмых. Мой сосед приволок целую запазуху и предложил часть мне. Я согласился, взял эти пластины похожие на куски кунжута, попробовал, не понравилось. Конечно, с голодухи можно грызть и жмых, но у меня еще была пара буханок черняшки, порядочно сухарей, остатки масла в банке и баночка с медом, которую я берег, как НЗ (неприкосновенный запас) на крайний случай.
Один ловкач из "братвы" обнаружил вагон с продуктами, проник туда, сорвав пломбу и умыкнул что-то для себя и своей "братвы". Эти похождения обнаружили и железнодорожные власти усилили охрану состава с продовольствием и жмыхом, привлекли даже собак. Кстати, состав с продовольствием стоял на соседнем с нашими вагонами пути. Не взирая на усиление режима, все тот же ловкач повторил набег (возможно, мало взял для "братвы"), его засекли и началась погоня, но он умудрился улизнуть. Сцену погони со стрельбой, которую открыл один охранник, мы наблюдали из дверей вагона. Это было уже слишком и то же самое начальство решило организовать обыск наших двух вагонов. Нас предупредили о надвигающемся в ближайший час "шмоне" и встал вопрос, куда девать запасенный жмых. Выносить и выбрасывать было поздно, да и жаль, и тут я предложил всем выход. Надо полностью до упора открыть дверь нашего товарного вагона и через окошко, которое перекрывала открытая дверь, покидать все кулечки со жмыхом в пространство между дверью и стенкой вагона. Так и сделали. Вскоре появился наряд охранников, пожилых дядек, и под наблюдением наших сержантов стал всё осматривать и перетряхивать наши вещи. Видно было, что делать это им было неприятно (обыскивать голодных ребят), они провели операцию кое-как и быстро убрались. Ничего, естественно, не обнаружили. Немного погодя, мы отодвинули дверь и хозяева пакетов и свертков разобрали их по своим углам. Последствием этой истории было то, что уже поздно вечером нас, наконец, прицепили к одному из составов и отправили к станции назначения, выдав предварительно небольшой, скудный паек на сутки (кажется, по горсти сухарей). Перегон до Тоцка действительно укладывался в сутки, но это в нормальных условиях. Наш же поезд плелся двое или трое суток с бесконечными остановками на каждом разъезде, не говоря уже о станциях, пропуская более "срочные" поезда.
Отмечу, что почти всю дорогу до Тоцка, вечерами, перед отбоем, когда все уже лежали, я, по просьбе моих сверстников рассказывал по памяти что-то прочитанное мной еще в Москве: "Сердца трех" Джека Лондона, еще какие-то рассказы. Рассказывал "с продолжением", все слушали меня с интересом и каждый вечер просили "продолжить" или начать новое. Потом такие устные "чтения" повторилось уже в действующей части, совершенно в других условиях. Признаюсь, делал я это с удовольствием, т.к. отвлекался от ужасов настоящего, и мне было приятно, что слушают с удовольствием.
За все время пути я бросил на станциях пару открыток, где коротко сообщил, что жив, здоров, нахожусь в пути в запасной полк, адреса пока нет. В дальнейшем старался посылать весточку каждую неделю.
На следующий день после отъезда из Кинеля, на одном из перегонов, тихом и малолюдном, сержанты вдруг решили провести очередную поверку, хотя последнее время они делали ее крайне редко и не регулярно (полагалось проверять каждый день). Здесь это выглядело совсем бессмысленно. Я заподозрил неладное и опять не ошибся. Перед поверкой ко мне, один за другим, подошли двое, мой приятель Виктор из нашего вагона и другой из соседнего, где жили "братки" и сержанты. Они предупредили, что поверка липовая, делается по сговору между Паханом и сержантами с целью пошарить в нашем вагоне у гражданских лиц, короче ограбить, в том числе и меня. Во время поверки специально оставленный браток откроет заднюю дверь, влезет и быстренько "подчистит" наш вагон. Я опешил. Как? Не может быть! Своих! Сержанты спелись или подчинились уголовникам? Они же назначили меня старшим по вагону! Мои осведомители с грустью пожали плечами, мол, такова реальность, и сказали: мы предупредил, не выдавай нас, а дальше думай сам.
Далее разыгрался отвратительный спектакль. Объявили поверку. Все соскочили на землю и построились перед вагонами в две линейки. А я остался лежать на своих полатях, предварительно развязав мешок со своим барахлом. Лихорадочно билась мысль, что делать? Ведь сейчас обязательно вызовут, а я не имею права перечить представителям власти, тем более военной, приказ есть приказ, а за невыполнение... Тогда у меня еще работало довоенные воспитание и опыт: нельзя перечить власти, будет хуже! Было очень тихий, теплый, солнечный вечер. Каждый звук, даже шорох долетал до ушей. "Почему не все вышли, сколько раз приказывать!" услышал я голос старшего сержанта и он поручил одному из команды обойти вагоны. В дверях показалась голова посыльного. "Что лежишь? Слезай, "старшой" приказал немедленно в строй!". "Сейчас" ответил я и голова исчезла. Тут я принял решение разбросать все по настилу, не будут же все собирать - это требует время, а я потом соберу. Вывалил почти все из мешка, оставив в мешке для "приманки" половинку уже зачерствевшего домашнего каравая и еще какую-то мелочевку. Раскидал всё по настилу, прикрывая в беспорядке скудными, своими и соседскими, шмотками. Набил карманы брюк частью съестного, выпрыгнул из вагона, предварительно плотно закрыв заднюю дверь, и вяло пошел к строю. Сержант что-то рявкнул, но я, встав в строй, уже не обращал внимания и стал наблюдать за вагонами. Было горько и обидно. Сержант начал перекличку, нарочито медленно. Каждый отвечал "я", прекрасно понимая, что к чему.
Дальнейшее прошло, как и ожидалось. Из задней двери соседнего вагона прокралась фигура одного из "братков", он с усилием и, наверно, внутренне чертыхаясь, открыл заднюю дверь нашего вагона, влез, пошуровал немного (поверка заканчивалась!) и спрыгнул обратно, унося мой мешок. "По вагонам!" скомандовал сержант, поняв что "дело сделано". Я тут же залез к себе и стал определять потери. Мой расчет оказался правильным. Исчез только мешок и немного рядом разбросных вещей, в том числе опасная бритва, взятая мной в ветлечебнице. Торопился "браток". У Степана и моего соседа тоже исчезли мешки. Правда, там почти ничего не оставалось. Собрав в кучу все разбросанное и понимая, что без мешка мне не обойтись, я пошел в соседний вагон и вызвал Пахана. "Отдайте мешок, мне не на чем спать и бритву, остальное жрите" - сказал я. Пахан, как и в случае с дедом, состроил удивленное лицо, потом пошарил и выкинул мой мешок, сказав, что бритву не нашел. Схватив мешок, я вернулся к себе в вагон, запихнул обратно все, что осталось, и лег в плохом настроении. Мои приятели и кое-кто из обитателей вагона пытались утешать, говоря, что выхода не было, такова жизнь, завтра-послезавтра уже приедем и вся эта гадость кончится. Но на душе было скверно. Сержанты вызывали брезгливое, но и настороженное отношение к себе. Формировалось отрицательное отношение к командирам вообще, и укрепилась мысль, что надо рассчитывать только на себя.
На следующий день мы застряли на очередной станции и там запомнились два события: приобретение продуктов и дизертирство Пахана с единомышленником.
Мои продукты заканчивались, остались одни сухари и немного сахарного песку, и я решил загнать, точнее, обменять мои еще крепкие ботинки на съестное. На улице тепло, завтра-послезавтра должны приехать, можно походить и босиком. В лагере, все равно, всю одежду выбросим и получим полное обмундирование. Мои приятели и другие призывники уже спустили все, что было можно, в обмен на продукты и щеголяли босиком и в старой легкой одежде, только чтобы прикрыть тело. Пока поезд стоял, я пошел на станционный базарчик. После нескольких попыток, обменял ботинки на стакан ряженки, которую тут же выпил, и вареную курицу с куском хлеба. Вернулся и почти два дня "пировал", так надоела сухомятка!
Незадолго до отхода поезда, когда все уже собрались у вагонов в ожидании отправления, сержанты вдруг забеспокоились (что-то почувствовали!) и устроили поверку личного состава. Сразу обнаружилось отсутствие Пахана и его "помощника". Сержанты загнали нас в вагоны, запретили выходить, разве что рядом, по нужде. Младший сержант остался с нами, а "Старшой" помчался на станцию. Когда стал подходить встречный состав и наш паровоз дал сигнал к отправлению он вернулся удрученный, сказал, что никого не нашел и дал поручение местному коменданту разыскать беглецов. Позднее прошел слух, что "помощника" изловили и отправили к штрафникам, а Пахан исчез. Остальные "братки" притихли, а нам стало легче на душе, одним гадом, причем главным, стало меньше.
Вечером следующего дня или через день мы, наконец, прибыли на станцию Тоцк (Тоцкое?). Высыпали на пути и нестройной босоногой толпой вышли на пристанционную площадь. Солнце клонилось к закату. Нас вновь пересчитали и завели в пристанционный садик, приказав никуда не отлучаться без разрешения и устраиваться на ночь, т.к. в лагерь отправимся утром. Назначили часовых, а точнее дежурных, которые должны были следить за порядком. Некоторые ворчали, т.к. надеялись уже сегодня поужинать в казармах, а теперь приходилось поджать животы. Мы с приятелями разжились кипяточком на станции и доели остатки сухарей. Погрызли немного жмыха и стали устраиваться на ночь. Солнце заходило, стало свежо и стыли ноги. Мы раздобыли немного соломы и каждый устроил постель на траве садика. Я вытряхнул крошки из мешка, натолкал туда соломы, залез в мешок, положил кулек с оставшимися пожитками под голову и вскоре уснул.
ЗАПАСНОЙ ПОЛК, ГДЕ КОЕ-ЧЕМУ УЧАТ
Рано утром, только взошло солнце, нас подняли, построили и мы пошли по пыльной дороге к видневшимся вдали постройкам и рощице. Там располагались Тоцкие лагеря. Шли долго, мимо построек казарменного типа, землянок, складов, заборов, шлагбаумов с часовыми и уже совсем уставшие подошли к очередному шлагбауму. Сержанты что-то предъявили, шлагбаум открылся и мы строем, точнее подобием строя, вошли в расположение нашего запасного полка. Нас подвели к штабу и мы сгрудились у входа какой-то дикой, оборванной, запыленной толпой.
Вскоре на крыльце появился полковник или подполковник, кажется замполит командира полка, в сопровождении нескольких офицеров и стал толкать речь о службе в армии, о престижности артиллеристов, о порядках в части. Его слушали невнимательно и вскоре стали прерывать возгласами: "В баню ведите!", "Кушать хотим!" и т.п. Замполит быстро закруглился и дал слово другому офицеру. Тот объявил распорядок, нас вновь построили, проверили по списку, разбили на группы по образованию и определили каждую группу в свою учебную батарею. Все, имевшие (точнее заявившие) за плечами 7 и более классов, в том числе и я, попали в 10 батарею, где готовили вычислителей и разведчиков - артиллеристов. Возглавивший нашу группу офицер повел нас в баню, где передал старшине батареи. В предбаннике, где мы разделись догола, нас осмотрел врач, постригли под "нулевку", вручили кусок хозяйственного мыла (до конца войны я другого не видел) и запустили в баню. Всю одежду свалили в кучу и потом увезли. После того как мы хорошенько помылись, многократно мылясь и обливаясь водой из шаек, старшина выдал нам под расписку довольно чистую, но застиранную, б/у (бывшую в употреблении) одежду: нижнее белье, х/б гимнастерку и брюки, латанные солдатские ботинки с обмотками и 2-мя парами портянок, пилотку, белый полотняный, но достаточно прочный ремень. Пришлось учиться, как хорошо намотать обмотки, что у меня получилось не сразу. Они то и дело разматывались и сползали. Затем старшина приказал забрать, отложенные заранее личные вещи, и отвел в столовую, где нас накормили армейским завтраком: пшенной кашей с куском хлеба и чаем. После завтрака, строем старшина повел нас в казарму 10-ой батареи, где в своей каптерке переписал и выдал каждому довольно кургузое полотенце и шинель, тоже б/у. Далее он приказал устраиваться, отдохнуть, объяснил распорядок дня, ответил на вопросы и сказал, что нормальный режим начнется завтра.
Казарма представляла собой длинный, врытый в землю барак с маленькими, как в коровнике, окнами. Внутри он делился вдоль всей своей длины перегородкой на две половины, одну из которых занимала наша 10 батарея, а вторую 9-я, связистов. Помещение походило на длинный сарай. Из-за отсутствия потолка, сверху сразу шла двускатная крыша, а в противоположных торцах барака просматривались большие двери больше похожие на ворота. Вдоль длинного прохода тянулись сплошные 2-х ярусные нары на 60-70 человек, прерывавшиеся в середине подобием холла, в котором был стол в окружении скамеек и довольно большое окно. В холле писали письма, читали, проводили беседы. На нарах были набитые соломой жидкие матрацы и подушки, по одной на каждого. Мы, я и Виктор, заняли указанное нам место, бросив на постель шинель и мешок с привезенной личной мелочью, В этот же день мы отправили письма домой с нашим адресом.
Далее пошли будни, резко отличавшиеся двумя режимами дня: нормальный режим с занятиями и наряды с несением караульной службы.
Нормальный режим состоял из подъема в 7 часов, физзарядки, утреннего туалета, завтрака, строевой подготовки, занятий по специальности, обеда, короткого отдыха, опять занятий с обязательным политчасом, ужина, вечерней поверке на плацу, в котором участвовали все батареи полка, личного времени перед сном и отбоя в 11 часов.
Наряд начинался вечером и длился сутки. Обычно он состоял из собственно караула, куда направлялась большая часть батареи, и наряда на кухню для меньшей части. У меня осталось ощущение, что мы в основном ходили в караул, а занятия занимали значительно меньше времени.
Через несколько дней после нашего прибытия всю, ранее осужденную, молодежь как-то поспешно собрали и отправили с маршевой ротой на фронт. Так что вся наша, только что прибывшая команда с "братками" и другими, в том числе и мой приятель Виктор, исчезла окончательно. После их отъезда поговаривали, что их направили, в основном, в штрафные батальоны. В казарме стало пусто, всего несколько человек и я занял верхние нары поближе к холлу, чтобы читать, т.к. там было светлее. Весь распорядок нарушился, но всего на 1 день.
На место отбывших осужденных прибыл новый контингент и какой! Прибыли молодые, кубанские казаки, все с образованием не ниже 7 класса, особым менталитетом, интеллектуально развитые, с запасом знаний и практического опыта. Мне особенно запомнилось и изумило, что общий культурный уровень прибывших был значительно выше их одногодков - сельчан Башкирии и центральной России, с которыми я общался до и после армии. Возможно, это впечатление было получено по контрасту с командой, с которой я прибыл в запасной полк. Многие из прибывших, несмотря на свои 17 лет, были уже обстреляны и даже имели ранения, то есть имели небольшой фронтовой опыт. Дело в том, что в тяжелом, предыдущем 1942 году, когда немцы занимали донские и кубанские земли и почти весь северный Кавказ, всех допризывников срочно призвали, "загребли", как они выражались, чтобы не оставить у немцев это "ближайшее пополнение" и начали отправлять в тыл. Однако из-за беспорядочного отступления наших частей и больших потерь многих из "ближайшего пополнения" направляли в отступавшие части и они, совершенно не обученные и неподготовленные, сполна хлебнули фронтовой жизни, да еще в самом неприглядном виде, при отступлении. Я быстро нашел общий язык со всеми и наконец-то почувствовал себя в своей, понятной мне, среде. В казарме стало многолюдно, все знакомились, притирались друг к другу, рассказывали о себе, слушали новых знакомцев. Уже через день распорядок дня восстановился.
Я особенно сблизился с Коровиным, кажется из Краснодара или Пятигорска. Он окончил 10 классов и был очень близорук (6-7 диоптрий!), без очков плохо видел, его даже хотели комиссовать, но он, по молодости, отказался. Как же! Надо идти защищать Родину! А тут началась заваруха с немецким наступлением и он, вмести со всеми допризывниками, был вывезен в тыл и вот попал в нашу часть. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Он хорошо играл в шахматы, я неважно, хотя и любил эту игру. Вечером в свободное время мы часто просиживали за доской и я неизменно проигрывал, впрочем, как и все остальные.
Кубанцы просветили меня особенностям службы и поведения во фронтовых условиях. Один эпизод определил, по существу, мою дальнейшую судьбу. Вскоре по прибытии кубанцев, был уже вечер, старшина объявил нам, что завтра будет набор в школу младших командиров и мы, образованные и с опытом - первые кандидаты. Мы молча выслушали, а когда нас распустили на отдых, стали обсуждать эту новость. Все мои новые друзья в один голос заявили, что ни за что не пойдут в школу. Надо быть дураком, гробиться в этой школе на строевой подготовке, не знать ни минуты покоя, постоянные придирки - говорили они - и продолжали: а на фронте условия, как и у всех солдат, да еще и отвечай за подчиненных, тыкают в любую дыру. Потери среди сержантов самые большие, в основном из-за глупости и неумения старших командиров. Ни за что не пойдем.
На другой день, после завтрака нас построили за казармой, пришел офицер, помниться капитан, и сержант - писарь с бумагами. Офицер начал бодро, даже с пафосом говорить, что в школу отбирают только добровольно и не всех, отбираем только (назвал цифру 20...30?) человек, и только лучших, с хорошим образованием не ниже 7 классов, показавшим себя настоящими солдатами и т.д. Все молча слушали, правда сосед мой тихо ухмыльнулся: "ну и соловей, гладко стелет...". Окончив пламенную речь и сказав, что будет отбирать лично, офицер подошел к первому в строю и спросил фамилию и образование. Тот ответил, не моргнув сказав, 4 класса! Второй, назвал фамилию и 3 класса. Офицер двигался вдоль строя и получал один и тот же ответ: 3, 4, даже 2 (это уж перебор!) класса. Он даже поперхнулся, побледнел и, уже ожидая подобные ответы, двигался дальше. Очередь дошла до меня. У него был какой-то обреченный взгляд. 3 класса бодро ответил я, а сосед (десятиклассник!) с ухмылкой - 4 класса. Из всего строя только 3 или 4 не лучших парня назвали 7 классов. Офицер забрал их из строя и, обратившись к нам, нервно прошипел - прокричал: "Это саботаж, я доложу... Так просто это вам не пройдет!". Строй молчал и офицер с писарем и новобранцами ничего не оставалось, как удалиться. Старшина, довольно посмеиваясь, отвел нас в казарму, приговаривая "Ну и прокатили вы его!". Дело в том, что образование записывалось только со слов новобранца, никаких документов не было. Так я не стал даже младшим командиром, а ведь до призыва думал об офицерском училище связи!
Питание было не очень обильное, обычное для тыловой части. Поэтому мы ходили, не то чтобы голодные, но все время хотелось есть. Из-за нехватки еды выработался определенный "справедливый" ритуал приема пищи. Завтракали, обедали и ужинали мы не в столовой, а в батарее, где позади нашей казармы был сооружен длинный дощатый стол на врытых в землю столбах с лавками по обеим сторонам, также на столбиках. Назначались два дежурных, которые под наблюдением старшины приносили с кухни в обед хлеб и бачки с супом, кашей и компотом, а на завтрак и ужин только кашу и чай. Под наблюдением сгрудившихся вокруг стола батарейцев нарезались пайки хлеба, разливался в миски суп или раскладывалась каша. По команде старшины, каждый батареец брал, облюбованную им пайку и миску, и садился есть. Все видели, что лишних паек и мисок нет, все поделено поровну. Иногда создавалась толчея, когда пайку или миску хватали сразу двое. Тогда с прибаутками кто-то уступал. Дележка на равные порции требовала сноровки и, после первых раздач, выделялись наиболее удачливые в этом деле, которым все доверяли.
Удачей считался наряд на кухню. Тут отъедались и даже тайком прихватывали кое-что в казарму для себя и друзей, которые в это время были в караульном наряде.
В конце Августа нас послали на несколько дней в подсобное хозяйство и колхоз на уборку урожая. Здесь мы тоже отъелись овощами и арбузами и было не голодно. Как-то я отдыхал в обед с напарником у каких-то кустиков и зарослях высокой травы. Было тепло, работа кончилась, впереди отдых, потом возвращение в часть, все мирно, спокойно, а на душе как-то грустно и тревожно. Смотрю, напарник что-то счищает с травки и в рот. Оказывается, конопля. "Бери! Вкусно и приятно будет", сказал он. Я тоже стал счищать с травки в горсть мелкие семена и в рот. Показалось вполне приемлемо, даже, пожалуй, вкусно, но быстро надоело. Я бросил, а напарник все ел и ел. Последствий никаких не было, больше я никогда не пробовал конопли и таких зарослей никогда не встречал. Почему запомнился и часто вспоминался этот ничтожный эпизод, не знаю. Таковы особенности памяти.
Занятий, из-за частого несения караульной службы, было мало. Вел их наш комбат, капитан, фронтовик, только - только выписанный из госпиталя после тяжелого ранения. Он держал руку на перевязи. Забинтована у него была и грудь. Во время занятий он часто морщился от боли, повязка иногда промокала, приходилось прекращать занятия и идти на перевязку. Было видно, что ему не легко, но он старался не показывать вида. Занятия он проводил, обычно, в лесочке на лужайке. О фронте говорил мало, повторяя "сами узнаете". К нам относился по-доброму, как-то по отечески, никогда не показывал свое превосходство. Ни разу не слышали мы командирского окрика, скорее стыдил, если что не так. Обнаружив, что мы не высыпаемся от блох, разрешал прикорнуть всем на 40-50 минут. В общем, вел себя по-человечески, не то, что тыловики. Освоили мы при нем основы работы артиллериста-наблюдателя и кое-что по топографии, ознакомились с основными приборами разведчиков и вычислителей: стереотруба, теодолит, секстант, планшет с картой, еще что-то. Но вскоре он серьезно занемог и его отправили в госпиталь. Мы очень огорчились. Занятия по специальности практически прекратились. Остались только строевая подготовка, изучение уставов и политзанятия.
Строевую подготовку никто не любил. На нее отводились 2 занятия утром и вечером. Сразу после завтрака раздавалась команда "10 батарея строиться!", старшина проверял строй, кто и как заправился (гимнастерка, брюки, пилотка), у всех ли чистые подворотнички и правильно ли они подшиты, ровно и плотно ли замотаны обмотки, почищены ли ботинки. Нерадивый получал замечание, но мог и схлопотать наряд вне очереди (мыть полы в казарме, чистить нужник и прочее). Затем перестраивались в колону и "шагом марш!". Выходили на огромный плац и начиналась отработка строевых команд. Повороты, развороты, строевой и обычный шаг, приветствия и прочая строевая премудрость. Кому она нужна на фронте? - считал каждый и был, в общем, прав. "Запевай!" командовал старшина или старшие сержанты нашей батареи, чаще всего наш старший сержант Гусев, как только мы отходили от нашего жилища. Начинал запевала (у нас было даже два), остальные подхватывали. Мимо проходили строем другие батареи со своим репертуаром. Вечером все повторялось. Помимо занятий после ужина было построение на плацу всего полка, ритуал поверки подразделений и с песнями несколько кругов по плацу. Пели, разумеется, только строевые песни. Запомнились, даже иногда сейчас звучат в ушах мощные стройные голоса колоны школы младших командиров, которых, как и говорили мои кубанцы, гоняли нещадно:
"Школа младших командиров комсостав стране своей кует,
Смело встать они готовы за трудящийся народ.
..............................................................................."
Или такая бодрая, зовущая мелодия, возможно непонятная сейчас:
"Белорусия родная, Украина золотая.
Ваше счастье молодое мы штыками стальными отстоим!
.................................................................................."
Апофеозом была всегда, пробиравшая до дрожи, "Священная война" Александрова:
"Вставай страна огромная, вставай на смертный бой
С фашистской бандой темною с проклятою ордой.
Не смеют силы темные над родиной витать.
Поля её просторные не смеет враг топтать!
Дадим отпор губителям, душителям идей
Насильникам, грабителям, мучителям людей
.................................................................................."
После вечернего построения возвращались в казарму. Наступал час "личного (свободного) времени". Каждый занимался своим делом: чинил одежду, подшивал чистый, белый подворотничок к гимнастерке, писал письма, читал, играл в шахматы, шашки или беседовал с друзьями...
Принятие присяги следа не оставило. Смутно помню, что это произошло, кажется, в первые, не то последние дни прибытия в запасной полк на плацу. Было принятие присяги с "первичным", в основном, уголовным составом нашей батареи или после прибытия кубанских казаков, не помню. Скорее всего, до отбытия "уголовников", не могли же их отправить на фронт без присяги.
Политзанятия были своеобразным отдыхом и пополнением ежедневной информации о положении на фронтах, наших и союзников. По всем данным дела на фронте шли успешно. После колоссальной битвы под Орлом и Курском, где немцы потерпели стратегическое поражение, каждому здравомыслящему человеку стало ясно, что наступил окончательный перелом в войне, хотя предстояло освобождение колоссальных территорий, потерянных в ходе компаний 1941-42 годов. Были, конечно, скептики и напуганные предыдущими успехами немецких войск, но число их было ничтожно. Большинство вздохнуло с облегчением, впереди забрезжила Победа. Все это поднимало настроение и вселяло уверенность в грядущую победу. Конечно, очень хотелось выжить в этом кошмаре, но, помниться, все и, конечно, я старались не задумываться о будущем, слишком всё неопределенно и велики потери. Общий настрой был таков, что уничтожение не только фашизма, но германского государства считалось необходимым и неизбежным.
Комментарий
Нарастала и ширилась ненависть к немцам, как нации. Ненависть питалась не только и не столько официальными публикациями в печати, а рассказами беженцев о том как расстреливали мирных жителей, как бомбили колонны беженцев, как самолеты вермахта гонялись даже за одиночками женщинами и детьми и поливали их из пулеметов, так, ради забавы; как грабили селян, отнимая последнее и многое другое. Особенно усилились эти чувства позднее. Когда же стали известны массовые расстрелы на Украине и в Белоруссии, ужасы концлагерей, ненависть и ожесточение к немцам возросли до предела. Каждый немец стал рассматриваться, как фашист или их пособник, как личный враг. Когда мы оказались на фронте и шли через сожженные, разрушенные деревни и поселки, еще недавно оккупированные, когда освобождали Польшу и воочию увидели концлагеря, где уничтожались люди, отношение к немцам стало нетерпимым. Среди всех вояк, в той или иной степени, крепло убеждение о необходимости ликвидации, уничтожения Германии как государства и расселении всех немцев по всему миру с целью растворения их среди других народов. Поэтому выступление Сталина со словами "гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается..." вызывалj недоумение и не воспринималось, как справедливое большинством россиян. Тогда как статьи типа "Убей немца" Эренбурга вызывали понимание, сочувствие и даже одобрение многих. Я думал в те времена, до какого состояния довели немцев Гитлер и остальные вожди рейха, что признаться в том, что "я немец", было не только неприятно, но и опасно. Могли побить, а то и прикончить, не говоря уже о полном отчуждении окружающих и различных оскорблениях. Казалось, что очень и очень не скоро придет доверие к немцам, во всяком случае, не при моей жизни.
Однажды днем, прервав занятия, нас построили и сообщили, что поймали дезертиров, будет открытый суд и мы отправились к большой летней эстраде. Пришел весь полк. Расселись на деревянных скамейках. На сцене появился прокурор, затем под конвоем ввели 3-х дезертиров, среди которых был и бедный Степан, с которым я призывался. Не выдержал он армейской службы, постоянных насмешек, везде ему мерещились подвохи в его адрес и нетерпимая, враждебная атмосфера. Не выдержал он и сбежал домой, не подумав из-за ограниченности ума о последствиях. Дезертиров, по очереди допрашивали, они что-то лепетали в свое оправдание, но финал был ясен. Всех приговорили по законам военного времени к расстрелу, но(!) заменили расстрел на штрафной батальон с немедленной отправкой. Все разошлись по батареям в удрученном состоянии, было что-то театральное в этом суде, заранее предрешенное.
Львиную долю (50-70% в неделю) занимала в лагере суточная караульная служба. Вечером строем вся батарея шла в караульное помещение (караулку), сменять другую батарею. Там отделяли наряд на кухню, остальных распределяли по постам в 3 смены. Оружие, винтовки со штыками, выдавали только в караулке, когда идешь на пост. При возвращении с поста его ставили обратно в стойку, а по окончании караула, прежде чем сдать, обязательно чистили.
По уставу полагалось 2 часа быть на посту, 2 часа бодрствовать в караулке и 2 часа отдыхать. Но для лучшего отдыха мы, как правило, отводили периоды не 2, а 4 часа. Стоять 4 часа было утомительно, особенно ночью, но зато потом 8 часов отдыха позволяли хорошо отоспаться и чувствовать себя бодро. Четыре ночных часа были настолько утомительны, что, почти в каждое дежурство, кто-то ночью засыпал на посту. Это строго наказывалось нарядом вне очереди. На втором или третьем дежурстве случилась эта беда и со мной. Помню, разводящий поставил меня в 2 или 3 часа ночи у склада ПФС (продовольственно-фуражный склад) и пошел дальше менять посты. Еще в караулке не удалось вздремнуть и уже там тянуло ко сну. Я стал прохаживаться взад - вперед перед плотно запертыми дверями склада. Была тихая звездная ночь, прослушивался каждый шорох, стук собственных шагов. Первые 2 часа все шло нормально, но потом внимание притупилось и я буквально на ходу стал засыпать, ноги сами собой подкашивались. "Нельзя, нельзя, еще немного..." твердил я про себя. На беду у стенки стоял чурбак или ящик и я решил на минутку присесть, что категорически запрещалось. Присел, отперевшись на винтовку, и мгновенно провалился. Правда, я очнулся, когда сменный наряд только подходил и даже успел крикнуть обычное: "кто идет?", но было уже поздно. Меня засекли сидящим, было видно, что я только что проснулся. В караулке начальник караула сделал мне серьезное внушение, отстранил от нарядов, доложили комбату. По возвращении из караула мне объявили выговор перед строем, назначили наряд вне очереди, осудили на комсомольском собрании, старшина и наши сержанты пристыдили. Мне было очень не по себе, не покидало ощущение стыда перед товарищами и перед самим собой. Наказание как-то не очень беспокоило, просто неприятно. Наряд вне очереди состоял в мытье полов штаба до начала рабочего дня. Меня подняли в 5 утра и я вместе с другим "соней" продраил тряпкой на палке довольно большую и затоптанную площадь пола в штабе. Больше, такого не повторялось, я старался перед ночным постом сколько-то поспать, да и научился бодро держаться все 4 часа.
В карауле были моменты, которые меня смущали, хотя я видел, что для всех это в порядке вещей. Так, в один из дней августа привезли из подсобного хозяйства несколько машин арбузов и сгрузили их в овощехранилище. Около хранилища был один из постов караула. В день привоза арбузов или день - два спустя наша батарея заступила в очередной караул. Мой пост был у водокачки недалеко от овощехранилища, последний по обходу (по расстановке постов). Ночь. Прохаживаюсь вдоль водокачки с карабином за спиной. Скоро смена. Вот послышался шум шагов, окрики постовых, сначала отдаленные, потом ближе - идет смена. Приготовился встречать, но что-то они замешкались у склада, слышен говор и какая-то возня. Потом все смолкло и вот появилась смена с разводящим сержантом во главе. Далее обычная процедура. "Стой, кто идет?", окликаю я, и беру карабин на изготовку. В ответ: "Разводящий со сменой". "Пароль?". Разводящий называет пароль, я опускаю карабин и подпускаю смену к себе.
Но что это? Все сменяемые несут в полах шинели по 2-3 арбуза, кто сколько может. Я сдаю пост сменщику и тут же рядом все вываливают арбузы и усаживаются на траву. Достают ножи, с хрустом разрезают огромные, спелые арбузы на 3-4 части и начинают с присказками есть. "Каждому по арбузу, остальные отнесем в караулку" - говорит разводящий. Разве можно съесть целый арбуз, да такой большой? - думаю я и беру, пахнувшую свежестью четверть. Вкусно! Уплетаю и вторую четверть. Но как так можно? Они, охрана, в склад залезли? Там же замок! Оказывается, никто не залезал в доверху набитый арбузами склад. Просто в, выходящие наружу отдушины тыкали винтовкой со штыком, нанизывали попавшийся сверху арбуз и вытягивали наружу. Все так просто! Воровством это не считалось. Сами заготавливали, можем и попользоваться, все равно скоро в действующие части отправят. Большинство офицеров, не говоря уже о сержантах, смотрели на эти художества сквозь пальцы, даже сочувственно, а многие пользовались плодами таких "заготовок". Вот такая мораль господствовала. В действующей армии были случаи и похуже.
Наевшись вволю, мы отнесли оставшиеся арбузы в караулку, где остальной караул с удовольствием прикончил принесенное угощение. Было еще несколько подобных "заготовок" в карауле, но потом поставили решетки и всё прекратилось.
Сущим бедствием, которое отравляло существование всех батарейцев были блохи. Тучи блох в казарме не давали спокойно спать. Только ляжешь, как начинают кусать то на спине, то на груди, на ногах. Обычно плотно заворачиваешься, накрываешь лицо платком, лишь бы быстрее заснуть, но проспать ночь спокойно удавалось редко. По 2-3 раза встаешь ночью, "очищаешься" и вновь заворачиваешься, пытаешься быстрей уснуть. Утром "Подъем!" и встаешь разбитый. Клали на нары всякие травы, но помогало слабо. Когда стало невмоготу, нас, в один из теплых дней, вывели из казармы и зажгли там серу с какой-то примесью на целые сутки, чтобы вытравить эту пакость. Ночевали на улице в старых, заброшенных землянках, где блохи не так мучили. Когда вернулись, то дезинфекция действительно помогла, но первые дни мучил отвратительный запах. Вскоре блохи появились опять, очевидно вновь размножились, но нам оставалось здесь жить немного, сообщили, что на днях формируется эшелон на фронт и нас отправят в действующие части.
Новость об отправке на фронт, которую мы ожидали всегда, а последнее время чувствовали ее приближение, я, как и большинство в батарее приняли положительно. Наконец избавимся от замучивших нас блох, в действующей части получим фронтовой паек по 1-ой категории и ощущение голода пройдет, опротивевшие строевые занятия и тупое заучивание уставов прекратится, кончится неопределенность положения, когда неизвестно, что тебя ждет завтра. Конечно это фронт, опасно, могут ранить, а то и хуже. Но перелом в войне уже наступил, наши непрерывно наступают и теперь должно быть легче и должны мы, наконец, выполнить свой долг! Опасно? Страшно? Да, но тут уже как сложиться.
За пару - тройку дней до отъезда батарею выстроили, объявили, что наша подготовка закончена и зачитали приказ о присвоении звания ефрейтора мне и еще одному солдату "за хорошую подготовку" и назначили меня старшим по маршевой команде нашей батареи! Вот не ожидал, вроде я ничем не отличился. После построения наш старший сержант Гусев как то по-теплому, не казенно поздравил меня и на мои недоумения сказал, что из всего состава он считает меня наиболее ответственным, и подходящим. Далее он объяснил мои обязанности (связь с начальством эшелона, пополнение сухого пайка, поверка состава команды на остановках, утром и вечером) и дал несколько советов, как вести себя в эшелоне. Похвала, конечно, меня порадовала, а звание ефрейтора и назначение старшим команды не очень. Звание мне просто по-детски, по-глупому не нравилось, т.к., видите ли, Гитлер был ефрейтором. А командовать людьми я не любил, да и считал, что в нашей команде есть более опытные вояки, уже побывавшие на передовой.
За день до отправки была баня и полная смена обмундирования на новенькое, прямо со склада. Мы раздевались догола в тамбуре и сдавали все сержанту от пилотки до ботинок и портянок. Затем по очереди входили в каптерку старшины, получали под расписку новую, хрустящую амуницию от нижнего белья до ботинок, шинели, погон и вещмешка. Таков был порядок. Всех отправляющихся в действующую армию одевали во всё новое.
Утром следующего дня, после завтрака, выдали сухой паек на сутки или на несколько дней, точно не помню, всех построили побатарейно в длинную колонну с оркестром впереди, и мы двинулись на станцию. Прощайте Тоцкие лагеря, больше мы вас не увидим. Впервые мне пришлось отдавать так нелюбимые, но вот сейчас необходимые строевые команды своей батарее. Шли походным не строевым шагом, но, проходя мимо поселков с высыпавшими на улицу ребятишками, женщинами и редкими мужчинами - стариками, все охотно равнялись по команде и даже иногда давали почти строевой шаг. Часто запевали бодрые, военные песни того времени. Провожающие махали нам, что-то кричали. Настроение было приподнятое, а вид длинной колонны очередного пополнения, как бы показывал, что впереди еще новые успехи на фронте и есть еще запас сил у Красной Армии. В общем, нормальные проводы. Вот и станция. Уже подан эшелон теплушек, и мы быстро расположились в отведенных нам вагонах, не забыв запастись кипяточком на дорогу. Короткая поверка всего состава, раздался гудок, лязгнули буфера и мы двинулись к новой неизвестной нам жизни.
ДОРОГА НА ЗАПАД, НА ФРОНТ
Вначале эшелон двинулся на Восток к Оренбургу, затем свернул на Юг, перешел на ветку Уральск - Саратов и уже теперь двигался только на Запад. Бежали мимо плоские, уже пожелтевшие дикие степи северного Казахстана с редкими поселениями. Ближе к Волге появились возделанные поля, участились поселки. Остановки на полустанках были короткие. Там попадались, в основном, попутные эшелоны с пехотинцами, танкистами, все в новенькой, иногда щегольской форме, стояли и составы с техникой. Ощущение, что на Запад движется колоссальная армада. Сколько этих молодых ребят вернется домой, особенно пехотинцев и танкистов? Утром пересекли Волгу у Саратова и появились первые следы былых бомбежек, несколько искореженных огромных баков для горючего, рядом с уцелевшими или вновь поставленными. Пошли приволжские степи, появились перелески, станции, сначала целые, потом все чаще со следами бомбежки. Запомнился крупный железнодорожный узел Кочетовка. Наш эшелон остановился между двух искореженных составов, точнее остатков составов. В беспорядке валялись измятые сожженные остовы товарных вагонов и платформ. Кругом разбитые постройки или их остатки, заросшие и свежие воронки от бомб. Появилось ощущение, что, вот-вот, приближаемся к грозному и неизбежному. Гнетущий пейзаж. Хотелось побыстрее уехать. Вскоре, к нашему облегчению, состав двинулся дальше. Кончились степи, пошла среднерусская природа. Вот станция Лев Толстой. Остановились. Соскочили на платформу размяться. В углу гора картошки, рядом стоят девчата и с любопытством смотрят на нас. Попросили картошки. Берите сколько надо. Захватив по горсти картошки, все бросились бегом к вагонам, т.к. гудок паровоза дал сигнал отправления. На установленной в вагоне буржуйке кто сварил, кто спек картошку. Запах и вкус этого блюда был так приятен! Ведь питались только сухим пайком да кипятком.
Под стук колес у меня мелькнула мысль, может, поедем через Москву? Очень хотелось увидеть родные места. Однако мы свернули на Запад к Орлу. Вскоре пошли освобожденные от оккупантов земли. Всё разрушено, ни одного целого строения, сожженные деревни и поселки, и так до Орла.
В один из вечеров начала сентября наш эшелон подошел к Орлу и остановился на подходе к станции, которая была полностью разрушена. Весь эшелон высыпал на поле перед полотном железной дороги и по команде построился: несколько батарей огневиков (орудийные расчеты), батарея связистов и наша батарея, разделенная на 2 шеренги - вычислителей и разведчиков. Подошла делегация представителей 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов делить пополнение. Взмахом руки генерал, очевидно, руководитель делегации, делил шеренгу каждой батареи на 2 части. Правая часть шеренги на 1-й Украинский, левая на 1-й Белорусский. Вот и наша батарея. Половина вычислителей пришлась, как раз, между мной и Коровиным. Он на 1-й Украинский, я на 1-ый Белорусский. Просто, никаких формальностей. Можно было самому выбрать куда идти, перебежав в соответствующую половину. Я решил остаться там куда попал, а Коровин у себя, надеясь быть поближе к родному Киеву, вдруг попадет туда. Так мы расстались навсегда. Каждую половину построили в колоны и направили в разные стороны. Вновь, опять случайно, я попал на 1-й Белорусский фронт.
Уже стемнело, когда наша колона вошла в Орел. Кругом силуэты разрушенных зданий и ни одного огонька - светомаскировка! Затем нас делили по бригадам и полкам. Колона сокращалась как шагреневая кожа. Вот последнее деление и остатки колоны пошли к месту назначения. Мы долго шли через разрушенный город, вышли за город и совсем уставшие дошли до деревни Знаменка, на окраине которого остановились у штаба полка. Было совсем темно, только звездное небо. В стороне обозначались свежие скирды соломы. Стало совсем свежо. "Отдыхайте в скирдах, завтра окончательно определитесь" - скомандовал кто-то из штаба и мы рассыпались по скирдам. Я залез в небольшую скирду, приятно пахнущую свежей соломой, уютно устроился и быстро уснул.
1314 ЛАП (ЛЕГКО АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК)
Утром, когда раздалась команда "подъем" я вылез из своего гнезда и увидел перед собой широкую пойму с разбросанными на ней домиками из снопов соломы и небольшую речку Цон. Вдоль берега там и сям у редких кустиков были разбросаны землянки, из которых высыпали солдаты теперь моей части. Я быстро помылся в речке холоднющей и хорошо освежающей водой и вскоре, после завтрака на расположенной рядом полевой кухне, нас, новобранцев, собрали у штаба. Пришел командир, кажется, начальник штаба с писарем и несколько командиров из разных подразделений, явившихся за пополнением.
Нам объяснили, что мы попали в 1314 ЛАП (легко артиллерийский полк), входящий в 21 ЛАБр (легко артиллерийскую бригаду) 6-й артиллерийской дивизии прорыва РГК (резерва Главного командования), которая была образована недавно, в конце весны. Ранее 1314 ЛАП, оснащенный 76-и миллиметровыми пушками, короткое время был отдельным противотанковым полком, но вскоре его влили во вновь образованную дивизию. Полк, как и вся дивизия, участвовал в Орловско-Курской битве, понес большие потери, сейчас на отдыхе и пополнении людьми и техникой. Фронт отодвинулся на Запад в Белоруссию, далеко от этих мест, но, как только наметится очередное крупное наступление, нас перебросят на передовые рубежи. Вообще, полк (и вся дивизия) участвуют, как правило, только в крупных наступлениях или отражении крупных атак противника.
Затем всех переписали, заполнили наши красноармейские книжки, и стали распределять по подразделениям. Узнав, что я десятиклассник, командир обрадовался и предложил мне стать писарем полка. В полку было мало достаточно грамотных, каковыми считались окончившие 7 и более классов, т. к. они, почти поголовно, попадали в военные училища. Писарь считался "элитной" должностью, все время при штабе, а значит не очень опасно, нет строевых и прочих занятий, более "вольная" жизнь, все время при начальстве и в курсе всех событий. Но должность писаря мне претила, чем-то она казалась унизительной, совсем не престижной и даже презираемой солдатами, что в последствие подтвердилось. Писарь в действующей армии? Чтобы на тебя с усмешкой косились солдаты здесь, а после войны, если жив останусь, и гражданские! Нет, ни за что! Как отказаться и не навредить себе? Такие мысли проносились в голове, а командир, расписав выгоды этой должности, спросил:
- Ну, как, согласен?
- У меня плохой почерк - нашелся я.
- Давай посмотрим - он достал и положил передо мной кусок бумаги, ручку с пером №86 и подвинул чернильницу.
- Вот что получается, лучше не могу - сказал я, накарябав, с виду старательно, несколько фраз этим пером, которое я не любил в школе из-за того, что с ним у меня получался совсем плохой почерк.
- Да, совсем не важно, жаль - сказал начальник, как-то расстроено - иди вычислителем во взвод управления к Носову - и он подозвал белобрысого невысокого сержанта.
Носов отвел меня в землянку на троих, где отдыхал третий вычислитель, Нефедов. Землянка представляла собой ямку, примерно 3х2 м, вырытую в крутом откосе берега речки Цон. Сверху она была наспех, кое-как накрыта одним рядом довольно мелких стволов, на которых был настелен слой соломы и насыпана земля. Вход, как и у всех прикрыт плащ - палаткой. (Спустя 30 лет во время орловской встречи однополчан я нашел и даже сфотографировался в этой ямке.) Рядом весь откос был усеян подобными землянками полка. Наша троица составляла отделение вычислителей, наряду с более многочисленными отделениями разведчиков, связистов и радистов взвода управления полка. Носов и Нефедов расспросили меня о моей жизни, рассказали о себе и порядках в полку о непосредственных начальниках, кому и как подчиняться. Сразу установились нормальные дружеские отношения без дистанцирования командира от подчиненных, хотя в дальнейшем близких отношений не получилось. Эта вещь тонкая, требует совпадения взглядов на жизнь и еще чего-то неуловимого, что сближает людей. Носов еще на гражданке был топографом и много ездил по стране, занимаясь топографической съемкой. Слушать его было интересно. Нефедов казался мне неинтересным, кончил 7 классов, работал, помниться, не то в колхозе, не то на мелкой фабрике. Работал, пока не взяли в армию. Взгляды его крутились вокруг жратвы и баб.
Дальше пошли обычные армейские будни воинской части, расположившейся на отдых, чем дальше, тем больше похожие на жизнь в запасном полку. Занятия по специальности, чередующиеся с караульной службой и нарядами на кухню, каждодневная проверка на "вшивость" после утренней физзарядки, регулярные политзанятия и немного (совсем немного!) строевой подготовки, чтобы не забывали. В свободное время, обычно, после обеда или вечером отлучаться далее 100-150 метров категорически запрещалось.
Изредка, вечером показывали кино на улице. На большой полянке, близ лагерных землянок, натягивали на шесты огромное полотнище. Приезжала кинопередвижка, расставляла свою аппаратуру, нас собирали на этой полянке и начинался киносеанс. Сначала, как всегда, показывали кинохронику, а затем саму картину, обычно бодрую патриотическую. Как-то шла картина "Два солдата" и вдруг мы услышали гул приближающихся немецких ночных бомбардировщиков. Следует отметить, что мы, новички, быстро научились определять по гулу, чей самолет. В разных концах поляны закричали "Воздух!". Дело в том, что сверху виден свет, а это сигнал для бомбометания. Однако показ фильма продолжался. Гул нарастал, вот он над головой, я весь сжался, хотя стоящие рядом бывалые солдаты обронили: "ничего пронесет, не трусьте, по заданию летят...". Действительно, пронесло. Гул удалился в сторону Орла и вскоре послышалась лихорадочная стрельба зениток и бомбовые разрывы. Обычно, при пролете самолетов фильм приостанавливали, т.к. немцы бомбили и обстреливали каждую светящуюся точку, но последнее время они почти перестали гоняться за одиночными огоньками, уже здорово ослабели.
Как-то после умывания у нашей речки, я выронил комсомольский билет, который всегда носил в левом нагрудном кармане гимнастерки. Вскоре обнаружил пропажу и у меня, как говорят, похолодело сердце. Тогда это было серьезное ЧП (чрезвычайное происшествие), могли исключить из комсомола и, вообще, оценить это как враждебную попытку избавиться от документа. Глупость жуткая, но и последствия могли быть жуткими, мол, собирается дезертировать или даже перебежать к немцам (и не такое бывало в то время). Я заметался, стал всех опрашивать. Оказалось, что кто-то нашел билет и его передали уполномоченному контрразведки СМЕРШ (хуже некому!), нет, чтобы мне вернуть. Я скорей к уполномоченному. Он долго и подозрительно меня расспрашивал, но билет вернул, как бы нехотя, приговаривая, ладно бери, но береги, а то загремишь в штрафную. Его, как и всех из СМЕРШ (расшифровка: смерть шпионам!), побаивались и очень не любили, считали бездельником и трусом. На передовой он не появлялся, а как затишье тут как тут и все что-то ищет, подозревает. Многих склонял в осведомители, особенно среди офицеров. "Слабаки" из-за страха соглашались, а кто посмелей отказывались и даже посылали его к черту, как в последствии наш комвзвода Павел Соболев. От таких "принципиальных" он быстро отставал. После войны, при наших встречах однополчан, наш "смершист" все время оправдывался: такая у меня была работа вербовать, но я ведь никого не сдал, хотя на меня давили: плохо ищешь "неблагонадежных" (паникеров, распространителей ложных слухов, потенциальных дезертиров и перебежчиков и даже "лиц, читающих немецкие листовки"). Что правда, то правда, он никого не "засадил", ограничился вербовкой осведомителей. Правда, и это дело выглядело для "галочки". Осведомители числились в отчетах, но, за редким исключением, никогда ничего не находили.
На занятиях я быстро усвоил основы топографии и работу с приборами. Мне нравилось определять по приборам цели, определять их координаты и наносить на карту. Однако, львиную долю времени занимали караул, наряды на кухню и по хозяйству, заготовка дров, сооружение землянок.
Вскоре после прибытия в полк, появились некоторые поразившие и удручившие меня моменты нашего бытия.
Однажды, уже под вечер, старшина собрал команду из 3-х - 5-и человек, куда включили бывалого сержанта и новобранцев, включая меня. "Следовать за мной" скомандовал старшина, предварительно раздав каждому по мешку, и мы пошли в сторону деревни. На вопрос, куда и зачем идем, получили ответ, что на месте узнаете. Вот и деревня, стало совсем темно. Остановились у одной из хат. Старшина постучал, ему открыли и, по возгласам, было понятно, что там он свой. Как только дверь закрылась, сержант полушепотом скомандовал нам быстро и тихо идти за ним и чтобы ни звука! Бесшумно зашли на участок и остановились у темнеющей кучи. Сержант быстро разгреб, пошарил, шепотом чертыхнулся и подвел нас к другой соломенной куче. Опять разгреб, удовлетворенно хмыкнул и заставил нас быстро наполнить мешки лежащей там картошкой. "Операция" заняла несколько минут и затем полу-бегом мы направились в часть. Сержант бежал позади, предварительно слегка свистнув (сигнал старшине!). Отбежав метров 100-200, мы, запыхавшись, перешли на шаг. "Что же это такое? Как можно? Воровать, точнее, грабить, у своих граждан! Позор то, какой! - стучало у меня в голове - и ведь нельзя не подчиняться! Вот тебе и армия - освободители, образец для подражания!". Поняв, скорее предвидя, настроение новичков, сержант сказал, что продуктов не хватает, уговоры отдать излишки не дали результатов и мы по устному(!) указанию начальства (кто дал указание, сказано не было, догадывайтесь сами) участвовали в акции "реквизиция". "Берем понемногу у всех, ничего, они не обеднеют, а то начнутся грабежи и будет хуже, а то, что тайно, чтобы шуму поменьше и никто не придерется..." - примерно так закончил он свое объяснение. Выслушали мы эти откровения молча, пыхтя под тяжестью мешков, было противно и хотелось скорей сбросить эту ношу. Вот и кухня. Свалили все в кучу и скорей в землянку, забыться.
Такие "операции" проводили все части, редко проводили, когда приспичит, но частей-то много! Жители относились к этому по разному, кто с пониманием, кто, как к неизбежному злу, кто жаловался начальству, но, разумеется, безуспешно.
Еще раз меня взяли на подобную операцию по заготовке дров. Дело в том, что все пригодное для топки (редкие деревья, даже кустики, заброшенные остатки сгоревших построек) уже подчистили, наступили холодные ночи конца октября - начала ноября. Надо было найти топливо для кухонь и самодельных "буржуек". Верхнее начальство никак не шевелилось. Поэтому опять организовали поход в темноте в деревню к "намеченному" днем дому, опять старшина зашел к хозяевам, а мы, по указанию сержанта схватили по бревну и полу бегом прочь в наш лагерь. "Эти куркули не хотели добром отдавать, так ведь все равно взяли...", ворчал сержант, не испытывая никаких угрызений совести. А я, да и другие, правда, не все, испытывали эти угрызения и была горечь от содеянного по приказу.
Вскоре, наверное, из-за жалоб жителей походы в деревню прекратились, но заготовка дров приняла иной вид. В один из холодных дней, помниться выпал первый снежок, выделили команду человек 10-15 с топорами, пилами, лопатами и ломами, во главе с тем же старшиной и сержантом. Команда, в которой был и я, направилась куда-то в сторону от лагеря. Шли долго по присыпанным снегом полям и, наконец, вышли к железной дороге. Она представляла собой одну восстановленную колею, по которой уже ходили поезда, и другую разбитую разорванную на куски - это немецкие саперы взрывали пути при отступлении. Требовалось выкорчевывать шпалы из разбитой колеи, распиливать и уносить, как дрова, стараясь брать поврежденные, а целые оставлять. Заковыка была в том, как объяснил старшина, что делать это категорически запрещалось, вплоть до трибунала, штрафной роты и даже расстрела! Поэтому, сказал он, делайте всё быстро, а я и сержант понаблюдаем, не идет ли патруль. Тогда бросайте все и бегом отсюда. Кто попадется, я не отвечаю. Очевидно, годная часть шпал предназначалась для восстановления 2-ой ветки, но кто будет разбираться взяли годное или негодное. Опять тащим, теперь государственное добро - подумал я с горечью. Но делать нечего. Закипела работа, хватали, что легче было выковырять и освободить от кусков рельс. Набрав посильную ношу, мы поспешно удалились. Патрули, к счастью, не появились. Вскоре нам зачитали приказ, запрещающий подобные заготовки с упоминанием пойманных "заготовителей" и их наказанием. Но, на следующий же день, отправили очередную команду с максимальными предосторожностями. Приказ приказом, а как готовить пищу! С подобными казусами я еще не раз сталкивался по разным поводам.
Между тем, наступил ноябрь и становилось холодно, особенно по ночам, как мы не застилали толстым слоем соломы пол землянки и не затыкали вход. Наступление на 1-м Белорусском фронте, в отличие от 1-го Украинского, приостановилось, бои стихли и стало очевидно, что отправка на фронт откладывалась. Поступила команда разбить стационарный лагерь. Занятия прекратились. Мы рыли большую, глубокую, в рост человека, землянку - блиндаж на весь взвод управления (20-30 солдат с сержантами). Офицеры жили в отдельных землянках для 2-3х человек). Собственно, яма под землянку была двухступенчатая, широкая до 2-х метров ступень глубиной 1-1,5 м для лежанки и проход вдоль лежанки шириной до 1 метра и глубиной до 2-х метров. Это был первый мой опыт, пригодившийся в дальнейшем, когда пришлось много раз копать эти двухступенчатые ямы под блиндажи, большие и малые, тесные и просторные, с отделкой и без, в зависимости от обстоятельств.
Одновременно заготавливали бревна наката. По окончании рытья ямы укладывали накат сверху, укрепляли песчаные стенки сучьями с лапником, засыпали накат, вырытой землей, предварительно уложив толстый слой лапника, чтобы песок сверху не просыпался. Застелили общую лежанку соломой. В проходе у входа поставили печку - огромную бочку с отверстиями для дров и трубы, в другом конце - сбитый из жердей стол с лампой-коптилкой, смятой сверху гильзой от снаряда, в которую наливался бензин и вставлялся фитиль. Жилище, теплое и, по-своему, комфортное готово! Все землянки - блиндажи полка расположили в 2 ряда (для каждого дивизиона) в линейку вдоль берега речки. За несколько дней лагерь был готов. Решилась, наконец, и проблема с дровами. Вместе с бревнами для наката заготовили уйму дров в отведенной нам дубовой роще и набеги за шпалами прекратились.
В том же ноябре, когда стало совсем холодно, нам, после очередной бани, выдали зимнее обмундирование. Обмундирование включало теплое белье, теплые портянки, телогрейку, ватные брюки, зимние рукавицы, ушанку, валенки. Возобновились занятия, в том числе не любимые всеми строевые. Однако, не надолго.
Где-то после середины ноября, когда был освобожден Киев и 1-й Украинский продолжал наступать, прошел слух, что скоро и мы поедем на фронт. Очевидно, намечается операция и на нашем 1-м Белорусском фронте. Слух вскоре оправдался. В начале декабря рано утром мы проснулись от отдаленного шума моторов. Выбежали к берегу и увидели вдали, за речкой длинную колонну машин и тягачей с пушками, двигавшихся по дороге. "Наша гаубичная бригада пошла - сказал один из старослужащих - теперь очередь за нами, вся дивизия двинулась...". После завтрака, не прошло и часа, у нас объявили тревогу и начались быстрые сборы. Подъехал наш управленческий "Студебекер" и мы стали грузить вещи, катушки связи, ящики с приборами, печку с трубами, шанцевый инструмент (лопаты, ломы, грабли и прочее), шмотки старшины, личные вещи, в общем, всё военное барахло. Огневики также погрузились, прицепили к своим "Студебекерам" пушки и все выстроились в длинную колону машин с пушками и без таковых, летучками (штабными машинами с фанерными "салонами"). Прошла обычная проверка личного состава и колона двинулась в Орел на станцию.
Погрузились в знакомые нам теплушки еще до полудня и к вечеру двинулись в путь. Лучшие места в теплушке заняли старослужащие, а мы молодняк, что достанется. При погрузке мы, как и все, установили в теплушке печку трубой наружу, запасли дров на дорогу, поставили нашу коптилку, которую зажгли, когда стемнело, так что стало тепло и светло. Лежанки на полу и на полатях были застланы соломой. В общем, устроились нормально. Когда поезд тронулся, согрели на печке воду, кто в котелке, кто в кружке и запивали ею сухариками из сухого пайка. Перекусив, легли отдохнуть, задремали под стук колес, все кроме дневального. Но вот кто-то из "стариков" затянул казацкую песню, остальные, кто знал, подхватили. Потом еще и еще. Песни, в основном, старинные, дореволюционные, никогда я не слышал, т.к. обычно пели полюбившиеся песни уже советских времен или народные. Даже сейчас, как вспомнишь, звучат в ушах эти полузабытые песни:
"Ехали казаки со службы домой.
На плечах погоны, на грудях - кресты.
- Здо-ро-во папаша!
- Здо-ро-во сынок!
- Как живем папаша?
- Ничего сынок! Живем слава богу! - родитель сказал.
.................................................................................."
"Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка - жалобно поет!
Раз поет, два поет ...
.................................................................................."
Наступил серенький осенний день. Мы беседовали, гадали куда везут. По обоим сторонам железнодорожного полотна тянулись бесконечные леса с широкой полосой вырубленных деревьев, наваленных в беспорядке по обеим сторонам дороги. Это немцы устроили, чтобы партизанам было трудно подобраться к рельсам и подорвать железнодорожное полотно. По моим прикидкам мы ехали в направлении Бобруйска и к середине ночи должны были прибыть на место, если не будет остановок.
Действительно, наступила следующая ночь, и еще не рассвело, как мы прибыли на полустанок где-то недалеко от Мозыря и Калинковичей, дальше дороги не было. Стали спешно разгружаться при свете фар нескольких автомобилей. Погода была плохая, шел мелкий снег с дождем, но все радовались, т. к. погода не летная, бомбежек не должно быть и можно спокойно разгрузиться. Оставив у груды вещей команду для погрузки на машины, которые еще только снимали с платформ, нас построили и направили к месту дислокации. Ночь, глухое ворчание фронта впереди. Временами там, пробивается слабое мерцание зарева далекого пожара или сполохи разрывов. Стараемся идти по обочине, но то и дело попадаем в грязные лужи. Вот проходим деревню. Смутно обозначаются печи от сгоревших домов, развалины, изредка уцелевший дом или полдома. Ни одного огонька, все, как вымерло. Идем долго, стало светать. Ворчание фронта усилилось. Приближаемся! Устали, вещмешок с нехитрым скарбом и карабин за спиной стали, как будто, тяжелее. Скорее бы дойти или хотя бы привал. "Подтянись - кричит старшина - не отставать, скоро дойдем". Появился сплошной лес, пошли лесной дорогой и вскоре мы остановились. Через некоторое время прибыли машины, наш "Студебекер", кухня. Приказали разбить временный лагерь и мы, немного передохнув, стал сооружать подобие шалашей и навесов.
Пребывание здесь помню смутно. Запомнились, приход почтальона и караульная служба. Был серый день, падал редкий снежок, слышалось явственное ворчание фронта с редкими разрывами снарядов и едва различимыми пулеметными и автоматными очередями. Раздался громкий возглас "почта!". Весь взвод управления сгрудились в мелком ельничке, где почтальон высыпал из мешка на плащ-палатку груду писем и произнес, что еле нас нашел, совсем сбился с ног. Он брал один за другим знакомые треугольники, серые конвертики и выкрикивал фамилии. Вот и моя фамилия! Схватил и с жадностью прочел. Кажется, в этот раз мама сообщила, что они возвращаются в Москву и надо писать уже на наш арбатский адрес. Конечно, приветы от всей родни и пожелания беречь себя. Тут же пишу ответ, чтобы не беспокоились, пока здесь тихо и спокойно... Помню, что всю войну старался отправлять письма каждую неделю, редко 1 раз в 2 недели, чтобы не волновались! Писал, как правило, между боями или в периоды затишья, когда опасности уже позади, добавляя, что впереди отдых, даже если это было не так.
В караул меня, как и всех новичков, назначали часто. Запомнилась новогодняя ночь. Меня определили в смену с 10 вечера до 1-го часа нового 1944 года. Было, как всегда в последнее время, пасмурно, но без осадков. Я стоял на одном из постов, окружавших штаб полка и наш взвод управления. Невдалеке располагались дивизионы и другие подразделения полка, так что было не очень напряженно стоять, вряд ли кто-то незаметно подкрадется. Тем не менее, я, как обычно, примостился между 2-х елок так, чтобы меня было не видно, а окружение хорошо просматривалось. Правда, в темноте это окружение составляло 5-10 метров и я надеялся только на слух, прислушиваясь к каждому шороху. С разных сторон раздавался приглушенный шум вечернего лагеря, который постепенно утихал. Но вот раздался хор голосов, затем громкие возгласы "С новым годом!", кто-то запускал осветительные ракеты и я, с какой-то грустью, вспомнил такой далекий, последний, новый год до войны. В расположении наших воинских частей еще некоторое время продолжался шум и раздавались голоса. Ведь всем, кроме караула, выдали по стопке спирта. Потом все стихло, только на короткое время усилилась далекая стрельба на передовой, там тоже отметили новый год. На душе было тревожно, ведь завтра - послезавтра на передовую, как там всё сложится. Вскоре пришла смена и я отправился спать на свою лежанку из хорошей кучи лапника.
ВПЕРВЫЕ НА ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ.
В один из первых дней нового года, на рассвете объявили тревогу. Опять погрузка на машину, недолгий путь по лесной дороге, мимо выдвигающейся к передовой пехоты. Остановка на одной из лесных развилок. Наша задача оборудование штаба полка. Роем довольно большую землянку, точнее яму под блиндаж. Копать здесь легко, песок и земля не промерзла. А мимо всё идёт и идёт пехота. Повозка за повозкой, реже машины: штабные, с пушками, с каким-то скарбом. Но главное бесконечная лента пехоты, то реже, то гуще. Идут усталые, видно долго шли, тащат ПТРы, пулеметы, ноги заплетаются, совсем мальчишки. Лица усталые и какие-то безразличные. Идут молча. Изредка команда или окрик. Кажется, что некоторые вот-вот упадут под тяжестью в неглубокий снег. Значит, вот-вот начнется наступление. Погода полуслякотная, пасмурно, небольшой снег, иногда мокрый, иногда капает, где-то около нуля. Ноги в моих подшитых валенках промокают, хотя стараюсь не наступать в лужи и ходить по листве и траве, раз или два в день сушить у костра.
Только вырыли приличную яму под землянку штаба, команда "отбой". Уходим ближе к передовой, в чащу леса (грузимся на штабной грузовик - трехосный студебеккер и уезжаем на новое место). Близится полдень. Штаб располагается в осиновом мелколесье. Разгружаемся. Вновь копаем на маленьких лесных полянках, стараясь не трогать деревьев, образующих крону, чтобы сверху ничего не просматривалось с самолетов. (Сколько еще буду копать и копать! Бросать не докопанное и опять копать.). Копнули всего на 2-3 штыка и проступает вода. Землянки штаба полка не получаются. Просто обвалованная яма-площадка. Одна, вторая, третья...Щель (неглубокий ровик) для себя на случай обстрела. Устал. Ощущение своей ничтожности, ненужности, какого-то одиночества. Тоскливо, не с кем слово молвить. Где-то близко (так мне кажется) грохает снаряд (первый в моей жизни!), отчетливо слышны дальние, пока редкие, минометные разрывы, автоматы и пулеметы, наши и немецкие (подсказали и быстро научился различать). Ямы кое-как оборудуются, застилаются лапником, тянется связь в штаб бригады и в другую сторону, на НП (наблюдательный пункт) полка, а из дивизионов тянут связь к нам, в штаб полка. Строгий и очень важный порядок. Только заняли позицию, еще не разгрузились, а тут же связист или двое берут 1, чаще 2 катушки тянут линию ("нитку") в вышестоящий штаб и от штаба к наблюдательному пункта. Погода по-прежнему хмурая, под стать настроению, изредка чуть сыпет снежок.
Связисты пристраиваются на пеньках, колодах. Слышны первые звонки и проверки линии: "Пятый, пятый! Как слышишь? Прием...". Недалеко от штаба по лесной дороге перемещаются, рычат машины, в основном, американские "Студебекер"ы ("студера"), повозки, еще что-то. "Обед!" - крикнул старшина. Набросил свой вещмешок на одно плечо, карабин на другое (все ношу с собой, пока нет землянки или какого-то обжитого места) и побрел со всеми по лесу к кухне. Недалеко. Вот и походная кухня - котел на колесах. Вытаскиваю свой круглый котелок, обтираю тряпкой, в которой завернута ложка. Полтора-два половника пшенного супа с редкими кусочками тушенки. В этот раз хорошо, достался густой суп. Сел на пенек, вытащил пайку черного хлеба, отломил примерно половину, остальное завернул обратно в тряпицу, спрятал на ужин. На второе "вечная" ячневая каша ("шрапнель") с тушенкой или салом и затем "чай", какая-то подкрашенная жидкость. Налил чай в слегка ободранную домашнюю кружку (хорошо, что не алюминиевая, не горячо!). Отсыпал из узелка на остатки хлеба сахарного песку (рафинад давали редко), выпил чай и закончил обед. Промыл в ручейке котелок, ложку и кружку и убрал все обратно в вещмешок.
Вернулся к штабу. Назначили в караул. Отдежурил положенные 2 или 3 часа на посту. Отдохнул и на ужин. Опять каша с тушенкой и кипяток с сахаром.
Наступает ночь перед наступлением. Снег вроде прекратился, так, изредка идет. Наломал побольше лапника, постелил в ровик, завернулся в шинель, рюкзак под голову, карабин "в обнимку", тревожно заснул. Не прошло и 1-2-х часов, как разбудили на пост. Через 2 часа смена. Опять поспал, опять пост. Ощущение одиночества, заброшенности, ненужности, нет друга или хотя бы близкого товарища. Не с кем поделиться, поговорить. Кругом много народу, но все какие-то чужие, смотрят сквозь тебя, заняты своими заботами, имею своих друзей или это только кажется? До тебя нет дела. Только приказы старшины. На пост, с поста, наряд на кухню, чистить картошку. Вот принесли хлеб, старшина с помощником разрезал на пайки (помнится на 1-2 дня) и стал раздавать, отмечая в своей тетрадке. Впрочем, скоро будет светать и придет смена поста.
Только стало светать (в 7 или 8 утра), как началось! Артподготовка минут 30-40 (сначала Катюши, а потом минометы, пушки, "Андрюши" - это тяжелые ракетные установки, запускаемые прямо с земли). Затем стихло и стали слышны пулеметы, автоматные очереди. Немцы отвечают небольшими налетами. Вот раздался скрип - скрежет и прогрохотало множество тяжелых разрывов. Это 6-ти ствольный немецкий миномет. До нас не долетает ничего. Только пару-тройку раз просвистело и где-то в стороне послышались разрывы. По телефонным донесениям, отрывочным словам видно, что идет наступление, но не очень бойко. Команда на завтрак. Взял из вещмешка котелок, кружку, ложку и пошел, как вчера, за всеми на кухню. Затем опять на пост, отдых, чистка карабина, снова пост, обед, отдых. Написал первое короткое письмо с передовой, чтобы не волновались, отнес почтальону. К ночи стрельба стихла, но мы никуда не двигаемся, хотя, говорят, пехота заняла немецкие траншеи и пошла дальше. Но недалеко. Что-то мешает. Ночью 2 раза стоял на посту (по 2-3 часа). Похаживаю недалеко от дежурного телефониста. Тихо. Чуть-чуть похолодало, хотя по-прежнему пасмурно. Хочется спать. Сменившись под утро, наломал еще лапника и подбросил в ровик на лежанку, вещмешок под голову, карабин под бок и заснул, как убитый.
Кто-то трясет, будит. "Вставай и с вещами к старшине, быстро!". Уже утро. Тихо. В чем дело? Умылся, точнее, обтерся снежком, вещмешок и карабин на плечи и к старшине. Он говорит:
"Собрался? Направляешься в 6 батарею на пополнение, там погиб разведчик (Анацкий), я тебя сам сдам, завтракать будешь там".
В ШЕСТОЙ БАТАРЕЕ
Вот и новый поворот в моей судьбе. Ближе к передовой, опаснее, но говорят в батарее лучше, человечнее, ведь там рискуют жизнью каждый день, это не штаб. Немножко тревожно, но здесь такое одиночество!
Вскоре в сопровождении старшины пошли в расположение батареи. Слегка подморозило, небо временами прояснялось и появлялось солнышко. Вышли из леса мимо замаскированных "Катюш" (впервые увидел так близко), свернули налево и пошли по тропе вдоль опушки. Идем спокойно, никакой стрельбы не слышно (потесненные немцы сами отступили, оставив Мозырь и Калинковичи). Старшина делится слухом, вскоре подтвердившимся, о применении немцами газов при отступлении от Калинковичей, что позволило им оторваться от наших войск. Кстати это был единственный случай использования газов немцами, что они усиленно отрицали. Отрицали, т.к. были предупреждены, что в ответ получат по полной программе, Германия страна не большая, по сравнению с СССР и придется им очень плохо.
Слегка подморозило и небо прояснилось. Прошли мелколесьем и вышли на большую поляну. И тут открылась страшная картина, особенно для меня, впервые это увидевшего. Слева вдоль опушки в разных позах лежало больше сотни замерзших трупов наших солдатиков, уже раздетых. Среди этого ужаса хлопотала похоронная команда. Все погибшие, как один, в новеньком голубом белье. Это было пополнение в пехоту, только вчера прибывшее из тыла. Молоденькие, последнего призыва, еще не обстрелянные, погибшие, как сказал нам один пожилой солдат-похоронщик, по недосмотру командиров, выведших команду пополнения сюда, на поляну, недалеко от передовой, вместо того, чтобы быстро завести всех в окопы или хотя бы временно окопаться недалеко отсюда в лесочке. Головотяпство, преступное головотяпство! А сколько подобных случаев было до этого и потом! Вот их и накрыло минометным налетом, когда немцы стали отвечать перед или во время нашей артподготовки. Кстати, похоронные команды комплектовались, обычно, из "нестроевиков", "ограничено годных к воинской службе в военное время", т. е. стариков, больных и раненых, но ходячих. Они раздевали убитых, сдавали вещи "для повторного использования" вместе с документами убитых.
Видавший виды старшина сплюнул, покрыл матюком "начальство" и мы пошли дальше. Картина опушки с разбросанными в голубом белье трупами, частично уже замороженными на пожухлой, рыжевато-зеленой прошлогодней траве поляны, местами припорошенной снегом, до сих пор стоит перед глазами. Так бы и запечатлел на холсте, но не дано. Шел и думал, как прав был тот "дядька" из призывной комиссии, который говорил мне "еще не раз меня вспомнишь, что уговорил тебя в артиллерию". Будь я в пехоте, вряд ли бы выжил. Юношей, еще совсем мальчишек призвали, как-то обучили, одели во все новенькое, привезли на фронт. А в результате такой бесславный, бессмысленный, глупый конец по недосмотру или не компетенции начальства. А сколько погибло и покалечено в составах при бомбежках, не доезжая до фронта. Какая ужасная беспощадная мясорубка. Эти мысли не раз приходили мне в голову.
Наконец, мы пришли к небольшой группе блиндажей, расположенных среди редких кустов и представлявших здесь выкопанные в песчаном грунте ямы разного размера не глубже 1-1,5 м (дальше вода), покрытые легким накатом, сверху лапником, песком и опять лапником для маскировки. Недалеко, среди тех же редких кустов (для скрытности?) были огневые позиции батареи, четыре 76 миллиметровые пушки, которые, долгое время являлись, основным, противотанковым оружием нашей армии. Я, правда, занятый своими, мыслями не заметил их тогда.
Из одного блиндажа вылез старший сержант - старшина 6-ой батареи. Мой старшина представил меня старшине батареи: "вот тебе пополнение", передал документы, обменялся несколькими фразами и ушел. Старшина широко улыбнулся, представился: "Пустовойт я", расспросил о семье, откуда я и сказал "будешь во взводе управления вычислителем у разведчиков, командир взвода младший лейтенант Комаров, командир твоего отделения Шалевич, они скоро вместе с комбатом Ершовым придут с НП на передовой". Сказав, что я уже поставлен на довольствие в батарее, он тут же предложил позавтракать на кухне и отдохнуть в землянке разведчиков до их прихода с НП. Сразу же я почувствовал какую то доброжелательную почти домашнюю обстановку, и хотя я только прибыл, уже свой, а не чужой, как в полку, и на душе стало легче, исчезла казенщина, что-то отлегло от сердца. Это настроение еще усилилось, когда вскоре появились шедшие с НП комбат Ершов, Комаров, мл. сержант Шалевич и другие разведчики и связисты. Меня представили и все с интересом и как то по дружески стали знакомится и расспрашивать откуда я, как попал в Армию, что умею, сколько классов кончил, о семье и тут же кратко рассказывали о себе. Особо дружески и подробно я побеседовал с моим командиром Абрамом Шалевичем из Одессы и разведчиком Сашей Хвощинским из г. Данилов Ярославской обл., которые стали до конца войны наиболее близкими друзьями, и еще одним разведчиком, другом Шалевича, отчаянным Сашей (по настоящему его звали Рашидом) Гиянитуловым из Казани. Отмечу, что общались мы с начала и до конца войны по имени, а не по уставу: товарищ сержант (или командир, ст. сержант и т.п.). К командирам - офицерам, старшине, незнакомым и мало знакомым (вообще не близким) обращались по званию: товарищ лейтенант, товарищ сержант...
Вскоре наступил обед. Сходили на кухню за супом и традиционной кашей с кусочками тушенки, быстро поели, запили кипятком с какой-то заваркой и куском хлеба и Шалевич скомандовал "пошли все спать пока не тронулись с позиции". По дороге к землянке Шалевич разъяснил мои обязанности: дежурство на НП и на линии связи в качестве телефониста; работа разведчика наблюдателя: наблюдение за противником в стереотрубу, обнаружение и "засечение" целей (правда, из-за близорукости мне могут не доверить). Возможна подготовка планшета (работа вычислителя: подготовка и нанесение на карту огневых позиций батареи, НП, реперов, засеченных целей противника, других объектов) для комбата. Далее обязательный караул, наряды на кухню по указанию помощника командира взвода ст. сержанта Фисунова, доставка обеда на НП по указанию старшины, исполнение приказов командиров (куда пошлют) и, конечно, постоянное содержание карабина в чистоте. Тут же он рассказал про странную гибель Анацкого, которому я пришел на смену.
"Смелый, ловкий был, даже не верится что "был". Хороший товарищ, настоящий. Оборудовали НП. Вся группа (комбат Ершов, комвзвода Комаров, Шалевич с разведчиками Анацким, Хвощинским и связистами) расположилась на опушке, недалеко от первой траншеи. Светало все больше и больше, туман рассеивался. "Шалевич, назначь наблюдателя, пойдем поближе к окопам, вон к тем деревьям пока совсем не рассвело" - приказал комбат. Шалевич повернулся к разведчиками, рядом был Анацкий и Шалевич его назначил. Комбат, Комаров и Анацкиий осторожно, пригибаясь, подобрались к группе деревьев. Анацкий с биноклем осторожно, даже вкрадчиво, полез на дерево для наблюдения. Но, видать, его заметил снайпер, раздался выстрел и Анацкий рухнул ломая ветки, вниз. Тут же началась стрельба по этому месту, комбат и Комаров сломя голову бросились бежать оттуда, то и дело припадая к земле, и вышли к остальной группе, тоже залегшей за кустами и деревьями. Анацкий лежал неподвижно. Убит - сказал комбат (или Комаров) Тут начался хороший обстрел, все попрятались. Опять и опять минометный налет. В общем, бросили мы нашего Анацкого, считал Шалевич. Потом, когда стихло, стали искать на том месте, но никого не нашли. Пропал и все. Наверное, возможно, его раненого или убитого подобрали пехотинцы (санитары?), (замечу, что позднее, домой отправили стандартную похоронку). Такие дела.
Еще, одного связиста, Воронкова, ранило в руку пулей, но как-то странно, похоже самострел, и его отправили в медсанроту. Пока замяли это дело. Он, вообще, трусоват, норовил всегда увильнуть с опасного места. А ведь бежал из дому, добровольцем! В 16 лет! Отец у него, вроде, генерал. Понюхал слегка пороху, почувствовал тяжесть и опасность армейской жизни и захотел обратно, но не тут-то было, хотя и отцу писал..."
Поговорив, мы залезли в довольно просторную землянку, сплошь устланную толстым, слоем свежей соломы. Перемещаться внутри можно было только "на карачках" или ползком на коленках, высота всего около одног или полутора метров. Растопили слегка печку (бочка с отверстием и кустарной трубой, свернутой из куска другой бочки), поставили сушить валенки и портянки, чуть поговорили о ситуации на нашем участке, о немецких газах, укутали ноги запасной портянкой и соломой, стало тепло. Вещмешок под голову, карабин под бок и мгновенно уснули. Так началась и до конца войны продолжалась моя жизнь в 6-ой батарее.
Спали недолго, около часа. Помкомвзвода Фисунов крикнул "Подъем" (ох уж эта команда!), "Быстро! Собираться! Поехали!" Вскочили, намотали подсохшие, еще теплые портянки, запасные бросили в мешок, натянули валенки, вытащили наружу печку и все остальное имущество. На дворе слегка морозно, яркое солнце, Подъехал наш, взвода управления, все тот же американский "Студебекер". Погрузили вещи, потоптались у машин и по команде "По машинам" забрались на борт . Выстроились в колону Наш "Студебекер" с комбатом впереди батареи, сзади четыре "Студера" с пушками батареи. Стоим минут 10-20. По ярко голубому небу бегут облачка. Морозит. Но вот двинулись и вскоре въехали в полностью разрушенную и сожженную деревню. Остановились. Здесь проходила передовая. То там, то здесь множество воронок на белом снегу и трупы наших солдатиков. Похоронные команды не спеша подбирают их и увозят на телегах. Немецких трупов не видно, наверно забрали своих. Совсем рядом разбитая, вся в ранах кирпичная церквушка со сломанным, накренившимся крестом и немыслимо развороченной загородкой. Рядом уже замерзший труп офицера, вроде, по остаткам экипировки, старшего офицера не ниже майора. Точнее пол трупа. Вся нижняя часть оторвана и бесследно исчезла, верхняя замерзла и как живая. Смотреть на все это тоскливо. Продолжаем стоять, что-то ждем. Спрыгнули размяться. Шалевич, глядя на мои видавшие виды валенки (БУ ведь) с подшитыми и вечно промокающими подошвами, предложил пойти и стянуть с одного из убитых добротные валенки, пока похоронщики "не чешутся". Я стал возражать: неудобно, с мертвого как-то боязно и как-то нехорошо. "Так это обычное дело" возразил Шалевич. Его поддержали, хотя нашлись и сомневающиеся (плохая примета, не по божески..). Пока обсуждали, раздалась команда "По машинам!" Быстро вскарабкались на борт, заревели моторы и мы тронулись. Я примостился на одном из ящиков с каким-то оборудованием или со снарядами, покрытым мешком или плащ-палаткой и задремал, просыпаясь от толчков на ухабистой дороге.
Ехали несколько часов с длинными и короткими остановками, где ели успевали справить нужду. Одно время ехали очень долго и приходилось, если приспичило, спускаться на ходу на лафет прицепленной пушки и держась за борт делать это дело. Слегка подмерзали пальцы ног. Запомнилась одна стоянка. Остановились в лесу у небольшой поляны, где-то в первой половине дня. Спрыгнули с машин размяться, справить нужду, потоптаться. Поляну обрамляли высокие пирамидальные ели. Под ногами мягко проминался почти не запорошенный снегом толстый слой мха. Все выглядело первозданным и каким-то умиротворенным и наше присутствие казалось грубым вмешательством в природную тишину. Было ясное голубое небо с небольшими облачками и довольно морозно. У меня опять слегка промокли валенки и подмерзали пальцы. Как я поеду дальше? Опять менять портянки, но валенки то влажные! Опытные солдаты разузнали, что простоим не меньше получаса, а то и больше. Развели огромный костер, у которого начали сушить портянки и валенки. Я тоже подобрал сучки и наломал веток, набросал кучку у костра, сел, стянул валенки и размотал портянки, вытянул голые ноги к костру, нацепил валенки и портянки на палки и протянул ближе к огню, но чтобы не подпалились! Все время боялся, что скомандуют на машины, а я не успею высушить. Солдаты и сержанты забавлялись всякими побасенками, почти сплошь по амурным похождениям, громко ржали, а мне все казалось плоско, грубо и не интересно. Стоянка затянулась. Успел все высушить и натянуть теплые портянки и валенки, которые хорошо подсохли. Стало так приятно, даже настроение поднялось. Мелькнули воспоминания о доме в Чишмах и, конечно, на Арбате, о школе. Так все далеко, что вроде не совсем реально. Но вот команда "по машинам" и опять поехали.
Наконец приехали на отведенное нам место у очередной опушки. До передовой 2-3 км., где-то там за лесом. Слышны отдаленные редкие минометные налеты, автоматные и пулеметные очереди. Это обычный фон передовой, тогда для меня новый. Стало опять облачно и хмуро, правда, потеплело.
Все спрыгнули с машин и сразу, без передышки по уже отработанной схеме (для меня впервые) закипела работа. Орудийные расчеты (огневики) стали оборудовать огневые позиции под орудия, а в нашем взводе управления тут же, немедленно стали готовить, вместе с другими, блиндажи на 5-6 человек: для нашего отделения разведчиков и вычислителей, для связистов, для комвзвода Комарова и комбата. Сбросили с машины катушки с проводами связи, стереотрубу, лопаты двуручные пилы, топоры и другой инвентарь. Такой порядок повторялся в дальнейшем еще и еще много, много раз. Приезжали на новую позицию и немедленно копать, сначала индивидуальную щель от налетов, а если опасно или, оказалось, надолго, то строили блиндаж (обычно перед крупным наступлением, когда надо прорывать оборону). Неважно 1-2 дня на позиции или дольше. Переехали и первым делом копать! Если хочешь не рисковать жизнью! Сколько перекопано, не сосчитать!
Выбрали место для блиндажей и я вместе с Шалевичем и Хвощинским и еще кем-то из разведчиков стали копать "яму - ступеньку" под блиндаж, готовить накат из бревен, благо лес - рукой подать, заготавливать лапник. Кто-то принес преловатой соломы для лежанки. Копали быстро на пределе сил, чтобы до темноты подготовить себе надежную лежанку - укрытие. Копалось легко, так как грунт был песчаный и промерз сверху всего на 2-5 см. Когда кто-то уставал, то бросал лопату, шел готовить накат из спиленных стволов и набирать лапник. Передохнув таким образом начинал опять копать. Никто никого не подгонял. Обменивались короткими фразами. Хотелось есть, но кухня еще не раскочегарилась, хотя там споро готовили то ли обед, то ли ужин. Бревна для наката пилили из стволов с "запасом", на метр больше ширины землянки, чтобы она не осыпалась. Как только кончили яму, быстро накрыли ее накатом (заготовленными бревнами), забросали толстым слоем лапника и листвы и засыпали вырытым песком. Вот и готово помещение! На долго ли? Установили у входа бочку-печку, вывели наружу короткую трубу, стали протапливать помещение и застилать соломой лежанку. Распределили места на лежанке и побросали на нее свои нехитрые пожитки. Блиндаж готов. Пока нет никакой команды мы с наслаждением растянулись на своих местах.
Шалевич и Хвощинский во главе с комбатом Ершовым и командиром взвода Комаровым прервали работу задолго до её завершения и ушли выбирать и оборудовать НП, устанавливать связь с пехотой (ротой, батальоном), которую будем поддержать при наступлении. Следом связисты потянули нитку - проводную связь. Меня, как новичка, сначала не трогали, точнее, тотчас по разгрузке поручили готовить упомянутый блиндаж для разведчиков и вычислителей, где можно было бы отдохнуть и обогреться. Успел немного подремать, как крикнули на обед. Только поел, как помкомвзвода ст. сержант Фисунов подозвал меня и еще одного связиста, помниться, Иванова и сообщил, что маршрут до НП определился, туда уже протянули первую "нитку" связи, и меня с Ивановым отряжают дежурить на промежуточных телефонных пунктах, проложив попутно, где надо (обычно близ передовой), дублирующую нитку связи.
Уже темнело, Я и Иванов взвалили каждый на одно плечо по две связанные катушки, на другое плечо нацепили карабин и вещмешок и двинулись к передовой на НП по первой нитке провода, время от времени держа ее в руках, как своего рода поводок для слепого. Ну и тяжелы катушки с толстым проводом - "гупером", под 16 кг каждая! Не то, что немецкие, легкие хлорвиниловые, за которыми гонялись все связисты, обшаривая окопы, брошенные немцами при отступлении. Это сейчас в быту, в магазинах сплошь хлорвиниловые провода и "гупер" днем с огнем не сыщешь. А тогда, да и долго после войны самым распространенным и надежным был "гупер" - многожильный провод в резиновой оболочке, покрытой матерчатой рубашкой, пропитанной смолой, в 2-3 раза тяжелей (и толще) немецкого провода.
Мы с Ивановым миновали поляну и углубились по просеке в лес. Немного пройдя вышли, точнее, наткнулись на первый промежутк - не глубокую ямку около ели в гуще окружавших ее кустов, прилично замаскированную. Там, притаившись, сидел Головин, другой связист нашей батареи. Оба связиста, Иванов и Головин, подходили друг к другу, как два сапога - пара. Возраст одинаков, на год старше меня. Оба из деревни. Образование - 7 классов. Интересы почти одинаковые. Правда, Головин был похитрее. Он часто использовал свою глухоту, притворяясь, что не слышит, когда его назначали на неприятную работу. Авось не пошлют! Иногда это удавалось. Иванов был простоват, доверчив, безотказен. У него был тяжелый недуг - недержание мочи, которой он очень стеснялся. На стоянках никто не хотел ложиться с ним рядом. Однако, с Головиным они ладили и их, как правило, отправляли на дежурство вместе.
Оставив Иванова сменщиком у Головина и с облегчением сбросив одну из катушек в качестве запасной, я, коротко попрощавшись, облегченный на одну катушку, пошел один по нитке провода дальше к "своему" второму промежутку. Стало совсем темно, просека еле просматривалась. Кругом ни души. Только все явственней и ближе слышна ночная жизнь передовой: редкие разрывы мин и автоматно-пулеметные очереди, да светлей и сильней непрерывные сполохи от немецких ракет на передовой. Сполохи помогали различать подобие тропы вдоль заросшей просеки. Небо темно, затянуто облаками, температура около 0 градусов, но осадков нет, так иногда отдельные капли и снежинки. Я шел, стараясь обходить возникающие то там, то сям лужи, чтобы не промочить валенки, но все равно они постепенно пропитывались влагой и начала чувствоваться сырость в портянках. Удастся ли просушить на промежутке, думал я. Вскоре мысли переключились на другое. Вот я иду в глухом лесу, похрустывая под ногами сучками и, задевая ветки кустов и деревьев, создаю пусть небольшой, но ясно различимый шум. Кругом никого нет, ночь, я один, недалеко передовая. Отличная добыча для немецких разведчиков, ищущих языка. Схватить меня ничего не стоит, даже не успею пикнуть. Да и закричал бы, кто услышит! Дома я побаивался темноты и одиночной дороги ночью в городе! А тут, понимая всю беспомощность своего положения перед любой опасностью, мне не страшно. Одно желание, скорей дойти до места, сбросить эту проклятую катушку, посидеть, отдохнуть сколько-то. Все же я старался произвести меньше шума и больше прислушиваться, не из-за страха, а понимая, что так надо. Провод, который я время от времени держал в руках, наконец, потерялся, но я уже не обращал внимания, а продолжал двигаться по просеке, считая, что он, этот провод, где-то рядом.
Вскоре слегка поредело и впереди мелькнуло подобие отблеска костра. Еще немного и я услышал легкий говор и, наконец, вышел на крохотную, чем-то уютную полянку, затененную кронами деревьев. Там под развесистой сосной, около неглубокого окопчика, точнее почти круглой ямы сидели два наших пожилых связиста, Кирдаков и Шумов, которых я мельком видел по приезде на позицию. В окопчике горел небольшой костер, такой, чтобы не было видно сверху и, по возможности, даже с близкого расстояния. "Кто идет" окликнули меня, когда я подходил к поляне. Я назвался, а они, получив сообщение с огневых позиций, уже ждали меня. Сбросив катушку, карабин и вещмешок, я присел к костерку, разулся, стал сушить валенки и портянки и протянул, как всегда, ноги к огню, чтобы не замерзли. Пригляделся к моим новым участникам команды. Оба были "в возрасте", по моим понятиям, что меня сильно удручило. Начнут командовать, да и поговорить с ними не о чем, разные у нас интересы и взгляды на жизнь, думалось мне. Так оно и оказалось. Старший по возрасту и по нашей команде, Кирдаков, был довольно грузный, какой-то бесформенный мужчина лет около 40 или более (почти старик по моим понятиям). До войны был служащим, кажется, мелким начальником. Он часто ворчал и на все сетовал: на еду в первую очередь (дали плохие сухари вместо хлеба, сахарный песок какой-то желтый и несладкий, вместо тушенки сало не первой свежести и т.д.), на погоду, на спешку с которой его отправили на промежуток, не дав отдохнуть на огневой позиции (как будто мы отдыхали там!) и еще на что-то. Второй, Шумов, высокий, сухопарый, очень молчаливый, очень хозяйственный и ловкий в работе. На гражданке был бригадиром в колхозе. Сейчас он сидел на телефоне.
Кирдаков объяснил мне, что 3-й (последний) промежуток находится недалеко от нас, метров 500-700 близь передовой, где-то во 2-ой или даже 1-ой линии траншей. Там оборудуется НП нашей батареи, там сейчас комбат, Комаров и разведчики (Шалевич и Хвощинский) с одним или двумя связистами. Затем он распределил дежурство у телефона, назначив меня в самое неудобное время с 12 ночи до 4-х утра, когда ох как хочется спать. Объяснил, что я каждые 15-20 минут должен проверять связь с 1-м и 3-м промежутками и, естественно, отвечать на позывные по линии. Наш участок ответственности до 3-го промежутка у передовой. Если связь с ним оборвется немедленно будить его или Шумова для восстановления линии. "А пока можешь поспать, чтобы не кимарить потом". Выслушав все, я пошел к, недалеко журчащему ручью, набрал в котелок воды, вскипятил на костре, отрезал кусок от пайки хлеба, посыпал этот кусок сахарным песком, быстро поел. Затем, наломал лапника, застелил близ костерка свободную ямку, слегка подкопав ее своей саперной лопаткой (какое - никакое укрытие), улегся на свежую хвою и под редкие звуки передовой (протрещит короткая очередь автомата или пулемет, где-то разорвется мина) почти сразу уснул. Холодно не было. Температура около нуля, теплое белье, ватные брюки в валенках, ватная телогрейка, ушанка, сверху шинель, что еще надо!
Вот кто-то трясет меня, "Вставай уже около 12, садись на линию". Это Кирдаков меня будит. Вскочил, ополоснулся в ручье, но голова еще сонная. Шумова нет. "Тут недалеко лошадь убило, он пошел кусок отрезать, сменит тебя в 4 часа, время узнаешь по линии, разбуди его тогда. Да костер поддерживай, я наломал сухостоя". Кирдаков назвал наши позывные и соседних промежутков и лег спать. У костра лежала приличная куча сосновых и еловых сучков и ободранные стволы валежника.
Я уселся поудобнее, нацепил специально приспособленной веревочкой трубку телефона на ухо и нажал зуммер. Назвал позывные одного промежутка: "Сова, Сова, я Беркут ты меня слышишь?", мне ответили что-то вроде "Слышу, слышу, смотри не дрыхни". Потом проверил другой промежуток. Налил кипяченой водички из котелка в кружку, выпил пару глотков, задумался опять о доме, пора писать письмо, чтобы не волновались. Зазуммерил телефон. Теперь меня проверяли. Так отвечая на позывные промежутков или связываясь с ними шло время. Проверяли друг друга каждые15-20 минут, чтобы не заснуть и знать, что связь не нарушена. Было тихо, безветренно, иногда слегка накрапывало. Невдалеке мерцал костерик, наверно промежуток какой-то другой части. Иногда кто-то проходил слегка потрескивая сучьями под ногами. Изредка раздавалась одиночная, вялая стрельба, мелькали сполохи ракет. Одиночества и тревоги не чувствовалось. Какая-то спокойная обстановка, ничто не указывало, что рядом передовая, что завтра возможен бой. Вскоре появился Шумов с куском конины на кости, молча, ловко и быстро разделал кусок на мелкие части, промыл, бросил в свой нестандартный, довольно объемистый котелок, подвесил над костром, подбросил сучьев и, наказав мне, чтобы следил полчасика, часик, лег спать. Я с трудом дотянул до 4-х часов. Глаза прямо слипались, не помогали даже периодические проверки по телефону. Вставал, приплясывал, подбрасывал сучья в костер, вновь садился и тут же набегала дремота. Вновь вскакивал и вновь садился. Наконец настало 4 часа, я разбудил Шумова, перекусил куском его конины и тут же завалился на свою лежанку. Около 7 меня разбудил, кажется, Кирдаков. "Быстрей вставай, сворачиваемся" - бросил он. Вот так фунт! Значит, никакого наступления здесь не будет! Или немцы опять отошли, стрельбы-то не слышно? В наступающем рассвете смотали связь, возвращаясь по моей ночной просеке. Вскоре вышли обратно на огневую позицию - грузиться на уже подъехавшие машины. Зря только карпели над блиндажами! Такое потом повторялось не раз - военные будни. Приезжали на место, разгружаемся (быстрее, быстрее!). Выкопали ровик, а то и блиндаж сделали, протянули связь; иногда еще не успевали закончить, как вдруг команда "Отбой! Сворачиваемся!" и вновь переезд, т.к. обстановка изменилась. Поэтому, вначале, часто делали все наспех. Иногда, тяп-ляп, а уж потом "совершенствовали", смотря по обстановке.
Вот и сейчас после завтрака погрузились, правда, без спешки, и стоим в ожидании команды. Топаем вокруг машин, обмениваемся мнениями. У всех хорошее настроение, успокоенность, опасность пока миновала. Изредка, уже отдаленно слышны обычные шумы передовой в периоды затишья: редкая перестрелка, короткие очереди автоматов и пулеметов, одиночные винтовочные выстрелы или короткие минометные налеты. Нас это уже не касается. Что-то задерживается отъезд. Наконец, команда "По машинам!" и опять поехали с частыми, короткими остановками (не отстал ли кто!). Едем, в основном, по бесконечному лесу с редкими перелесками, жилья не видно. Небо облачное, день серый какой-то. Вот и стало темнеть. Опять наступила ночь. Когда и куда приедем? Подремываем, сидя на снарядных ящиках.
Наконец, остановились и стоим довольно долго. Кажется, приехали. Моторы заглушили и стало тихо. Спрыгнули размяться, многие крутят цигарки, из обрывков каких-то газет и листовок набивают закрутки табаком, закуривают. Прислушиваюсь к разговорам, все обмениваются разными догадками, где мы и надолго ли остановка. Старослужащие по каким-то признакам говорят, что простоим здесь, скорее всего, долго (от нескольких дней до пары-тройки недель). Передовой почти не слышно, редкие, глухие звуки минометных или артиллерийских налетов. По моим прикидкам до передовой 5-10 км, что в дальнейшем подтвердилось. Приятный морозный, лесной воздух, полное ощущение безопасности, покоя. Сколько раз еще будет возникать это чувство после выхода с передовой или при удачном прорыве, когда противник ушел или бежал. А мы двигаемся вслед передовым частям по мирным дорогам до следующего рубежа, где организована очередная оборона этого ненавистного противника и где снова надо копать, тянуть связь и стараться не попасть под обстрел на открытом месте.
Действительно, командиров вызывают в штаб и, вскоре, по их возвращению закипает работа по устройству лагеря, что означает длительную остановку. Приказано сооружать шалаши, поскольку вода проступает уже после 1-2 штыков лопаты, да и вероятности обстрела никакой, а от бомбежки спасает, маскирующий нас лес. Кроме того, стоянка, скорее всего, будет не долгая и надо тратить минимум сил. Мне достается ломать и таскать лапник, пилить шесты под каркасы шалашей для нашего взвода управления. Сравнительно быстро расчистили площадку меж деревьев и соорудили наипростейший шалаш широкой буквой А из жердей, покрыв его толстым слоем лапника для тепла и от осадков, поставили печку - бочку, завесили вход плащ - палаткой, протопили и вот жилище готово, достаточно тепло. Я постарался расположиться подальше от входа, чтобы не дуло. Наломал и набросал для лежанки все тот же лапник, бросил под изголовье вещмешок, вот и мое место готово! Первый день ушел на оборудование лагеря, на второй начались обычные занятия по работе на местности со стереотрубой, караул, наряды на кухню, политзанятия и ненавистная всем строевая подготовка. Узнал у взводного Комарова, что мы недалеко от поселка, местечка по старому, Копаткевичи, где родилась и жила до Революции моя мама. Так захотелось взглянуть! Но там проходит линия фронта, как раз по реке Птичь, на берегу которого и расположено это местечко. Туда на рекогносцировку ездили разведчики из полка. Рассказывали, что от поселка ничего не осталось, все разрушено и сожжено. Так и не удалось взглянуть на мамину родину! Но к вечеру, пока не совсем стемнело, написал маме письмо, указав, что я рядом с ее родными местами. Такое цензура пропустит. Мама, как я и предполагал, сразу догадалась, где я теперь нахожусь.
Коротко о письмах. Бумагу добывали в занятых немецких блиндажах или у Заместителя командира дивизиона по политчасти. У нас был очень добрый Зам - Тихомиров. Всегда готов выслушать, поддержать. Погиб глупо, уже в конце войны под Штеттином, но об этом потом. Я писал письма, обычно, химическим карандашом, тогда шариковых ручек и в помине не было, чернила на фронте не таскают, только разве что в штабах. Писал коротко, не упоминая свое место (цензура не пропустит!) и главное, по возможности, регулярно, чтобы не волновались. Писал, обычно, днем в обед или после, иногда вечером в землянке, как и другие, при свете мощной коптилки (это сплющенная на конце гильза снаряда, залитая бензином с вставленным кустарным фитилем), другого освещения у нас не бывало. В письмах никогда не жаловался, но и не врал.
Итак, мы отдыхаем. Утром второго дня нас выстроил старшина и вместо зарядки приказал снять рубахи для проверки "на вшивость". Осматривал сам, тщательно. Если находил, то менял на другое. Если было у многих, то приезжала летучка с вошебойкой - огромной печкой - бочкой, в которой в отдельной камере прожаривалось белье, гимнастерки и прочее. Борьбу со вшами вели беспощадную, ведь это угроза сыпного тифа (сыпняка). В этот раз обошлось. Но процедура с вошебойкой повторялась регулярно.
Через несколько дней устроили баню. В той же летучке, обитой внутри оцинкованными листами железа. Пока мылись, одежда прожаривалась в вошебойке.
А дальше пошли будни. 7 утра. "Подъем", кричит дневальный, иногда старшина, Короткая физзарядка с обязательной пробежкой на несколько сотен метров по лесной дорожке или тропе, вдыхая приятный лесной воздух. Умывание в ручье, чистой луже со снеговой водой или просто растирка снегом до пояса, после которой разотрешься полотенцем и в теле так тепло, хорошо становится. Обязательная проверка на вшивость. Натянешь теплое, байковое белье, гимнастерку, ватник, а если холодно, то еще и шинель, подпояшешься ремнем и готов, ждешь команды на завтрак и, если есть еще время, допишешь письмо и отнесешь его в штаб или к старшине. Или сидишь, задумавшись о доме, о жизни вообще, о неопределенности будущего, да что там будущего, не предсказуем и завтрашний день. Потом с котелком идешь за неизменной кашей с редкими кусочками американской тушенки. Пристроишься неподалеку от котла на пенек, поваленный ствол, кучу валежника или на хорошую кочку, поешь, запьешь подобием чая или кипятком с куском хлеба, посыпанным сахаром, и обратно к своему шалашу. Затем занятия по специальности (работа с картой, планшетом, стереотрубой), ежедневная чистка карабина (старшина тщательно проверяет, а у меня плохо получается из-за мелких раковинок в стволе). Изредка (слава богу!) строевая подготовка, небольшой отдых перед обедом. Обед из крупяного супа (пшено, концетрат, овсянка) на сале или с тушенкой, иногда с картошкой, затем неизменная каша, ломоть хлеба и чаек, иногда компот... Потом послеобеденный отдых, когда пишешь письмо или читаешь популярную, тонюсенькую брошюрку из солдатской серии, полученную у замполита и содержащую 1-2 рассказика из Чехова, Алексея Толстого, еще кого-то. Или занимаешься починкой прохудившейся одежды, постирушкой в хорошей луже, заменой грязного подворотничка к гимнастерке, или просто дремлешь.
Затем подъем, опять занятия, политчас, когда кто-то из офицеров, обычно взводный, приносит и читает газету, правда, иногда дает читать самым "грамотным" и с приемлемой дикцией. В нашей батарее это я или радист Саша Фурсов, киевлянин, бывший 10-классник единственный в батарее очкарик, сильно близорукий (без очков никогда не ходил). У меня очков нет (и взять их негде), просто плохо вижу вдаль, все расплывчато, но обхожусь. Поэтому люблю наблюдать в стереотрубу: так четко все видно! Прямо другой мир.
После ужина свободное время для писем, починок, чистки карабина, заготовке валежника для печки, бесед с новыми приятелями и просто симпатичными тебе людьми. У меня это Шалевич, Хвощинский, Фурсов, вскоре сержант Ядренкин, сибиряк, мой одногодок, наводчик одного из расчетов. Ядренкин выделяется среди всех солдат и сержантов какой-то особой подтянутостью, стройностью, отличной, ладно сидящей гимнастеркой и шинелью (не то, что у меня и большинства солдат: мешковатая, грубовато-лохматая, правда, теплая). На нем такая же ладная, просто красивая, шапкой ушанка, а летом пилотка. Лицо чисто русское, приятное, юношеское, без следов бороды. Он всегда доброжелателен и отзывчив. Беседуем о доме, семье, гадаем, что нас ждет впереди. Раз в неделю или на 2-4 дня всем раздавали паек: хлеб, сахар и табак. Здесь была особая процедура, за которой все внимательно следили. Хлеб, или сухари, дневальный или кто-то с кухни, в сопровождении старшины (он строго следил за процедурой), приносили во взвод управления с пункта "продснабжения" и высыпали на чистую плащ-палатку.
Кругом собирался весь взвод. Назначались солдаты, которым обычно доверяли дележку хлеба и табака. Один из них резал хлеб (только черные, иногда плохо пропеченные буханки) на пайки или раскладывал, по возможности одинаковые кучки сухарей, тоже черных (полагалось 900г хлеба или 450г сухарей в день на фронте и 600 или 700 г хлеба на отдыхе, в тылу), конечно, без весов, "на глазок". Другой солдат раскладывал, по возможности, одинаковые кучки махорки, часто это были стебли табака с листьями. Сахар раздавал старшина сам или повар, под его наблюдением, черпая ложкой из мешка (35 г, - полная столовая ложка в день), очень редко бывал кусковой сахар. Затем, кто-то отворачивался и, наугад, называл очередную фамилию по списку. Называл только после того как тот, кто резал, указывал на пайку (кучку) и произносил "кому?". Крошки раздавались желающим. Так соблюдалась справедливость. Я не курил и отдавал свой паек своим друзьям -"курякам".
Однако, это "нормальные" будни. А так, через 1-2 дня караул или наряд на кухню. В карауле с поста на отдых, с отдыха на пост. На кухне, чистили картошку, мыли посуду (котел полевой кухни наш повар Коваленко никому не доверял, сам чистил), готовили дрова, приносили продукты и, главное всегда получали добавку супа и каши.
Голодные были? Нет, это не точно. Просто не хватало молодому организму и все время хотелось есть. Сколько себя помню за войну и первые годы после, это чувство никогда не покидало меня, впрочем, как и всех солдат. Поиски пищи были, своего рода, атрибутом нашей жизни.
Погода стояла хмурая, близ нуля градусов, но, к счастью, почти без осадков. Хорошо! Не мокро и не холодно, хотя и уныло.
Незадолго до конца нашей лагерной жизни из медсанроты нашей дивизии прибыл подлечившийся Воронков, которого подозревали в самостреле. Он мне сразу не понравился, даже вызывал антипатию. Небольшого роста с бегающими глазами, неискренним, каким-то нарочитым разговором, он постоянно увиливал от работы, нарядов, ссылаясь на еще не зажившую рану. Однако признаков, что она мешает, не замечалось. Ходил, даже бегал нормально, пока не требовалось в наряд или караул. Часто хвалился своей жизнью дома в генеральской семье, говорил, что отец - генерал его наверно заберет к себе. Тогда мы не обратили на это внимания, думали, что блефует.
Так прошло 2-3 недели. Затем, как-то рано утром, еще только проблески рассвета, часов, наверное, около 7, объявили тревогу: "подъем, быстро собираться, уезжаем на позицию". Я, как и все, вскочил, ополоснулся в луже, собрал вещи. Мы быстро позавтракали на кухне и бегом к своему, уже подъехавшему "Студебеккеру". Погрузили свой скарб и двинулись куда-то далеко на север Белоруссии, оказалось к городку Быхову близ Могилева, занятого еще немцами.
ДОРГА К БЫХОВУ
Все деревни по дороге представляли сплошное пепелище. Почти ни одного, хотя бы полуразрушенного дома. Едем через этот партизанский край, как всегда с короткими остановками. Жителей не видно, редко мелькнет старик. У одного спросили "в чем дело, где люди?". Ответил, что партизанили тут много и люто свирепствовали немцы - эссесовцы, власовцы и наши полицаи. Поэтому все, кто уцелел, заранее попрятались далеко в лесу, они еще не вернулись, а кто и выжидает, боится, что немцы опять придут, всякого навидались... В одной из деревень задержались подольше. Соскочили с машин. Обнаружили рядом, выкопанный картофельный участок, почти освободившийся от снега из-за оттепели. Поковырялись в поисках остатков картошки. Оказалось, можно собрать кое какую мелочь. На поле валялись немецкие листовки, которые строжайше, под страхом военно-полевого суда, запрещалось брать и читать, в крайнем случае передать замполиту. Но это для новичков, а бывалым солдатам - море по колено, брали, читали. Если застукал кто, даже, не дай бог, особист (член особого отдела СМЕРЖ), один ответ: "взял на закрутку" или "несу замполиту". Ответ правдоподобный, т.к. действительно бумага листовок очень подходила для закрутки табака. Я подобрал несколько разных листовок, сунул в карман шинели и продолжал поиски картошки. Попадалась мелочь, сосем горох, но иногда экземпляр покрупнее - с грецкий орех и больше. До команды "по машинам" успел набрать почти котелок. Поехали дальше. Сидя в кузове, я развернул листовки и стал читать. Все они были обращены к партизанам. Там писалось, что они окружены и обречены, т.к. "ваших командиров тайно вывезли ночью на самолетах, а вас бросили", указывались даже отдельные фамилии, в конце предлагалось: сдавайтесь и останетесь живы, иначе будете уничтожены, пропуск эта листовка. Приводились даже "обращения" и цитаты из писем сдавшихся партизан, скорее всего, фиктивных. Старослужащие говорили мне, чтобы немедленно выбросил листовки, а то увидит особист или "мало ли еще кто", донесет и штрафная обеспечена. Поэтому, прочитав листовки, я скомкал и швырнул их за борт. В последствие, я не раз проделывал эту операцию. Текст листовок всегда казался мне примитивным, рассчитанным на недалеких людей и на страх смерти. Не помню ни одного случая, когда у нас кто - либо воспользовался этим "пропуском".
К вечеру, но еще засветло, приехали в глухой лес, справа от дороги густой еловый, слева лиственный - береза с осиной, сплошь заросший подлеском. Моторы заглушили и стало слышно глухое ворчание передовой. Приказали устраиваться на ночлег, а утром, возможно, выдвинемся на позицию. Копать никто не хотел: вроде безопасное место, да скоро все равно уедем. У меня, как и у многих, особенно, мало побывавших на фронте, было тревожное чувство, что-то нас ждет впереди и как все обойдется. Некоторые, в основном огневики (орудийные расчеты), стали сооружать примитивные шалаши из нарубленных тут же жердей и лапника. Мы, взвод управления, соорудили простенькие навесы для защиты от осадков (наклонные жерди с подпорками, сверху плащ-палатка) на несколько человек, наложили под навес неизменного лапника, на него другую плащ-палатку, вот лежанка и готова. Кое-как поели, сварив каждый в своем котелке, набранную картошку, и добавив кусок сала из сухого пайка, выданного на дорогу. Стало темно, затушили все костры и устроились спать, тесно прижавшись, спина к спине, друг к другу, для тепла. Спалось как-то тревожно. Один раз пришлось отдежурить на посту.
Утром, позавтракав уже на кухне, выехали на боевые позиции, петляя по лесной дороге с редкими полянами и просветами. Остановились у опушки и сразу услышали уже знакомые ясные звуки передовой. По опыту до нее 2-3 км. Огневики стали устанавливать "в линейку" четыре орудия нашей батареи на поле, недалеко от опушки, оборудовать огневые позиции, рыть траншеи и ровики, позднее блиндажи. Студебеккеры и кухню отогнали подальше, вглубь леса, в более безопасное место.
НАСТУПЛЕНИЕ ПОД БЫХОВЫМ
Комбат с одним из разведчиков, захватившим стереотрубу, пошел устанавливать связь с пехотой, которую мы должны будем поддерживать при наступлении. Там же оборудовалось НП для выявления целей и реперов для пристрелки батареи. Туда же потянули связь. Я и часть разведчиков остались пока на огневой позиции.
Наш взвод выбрал место поодаль от огневой позиции, почти на опушке, чтобы при возможном ответном налете немецкой артиллерии не попасть под обстрел. Сразу же все начали спешно, почти лихорадочно, готовить очередной блиндаж для себя, где можно было бы схорониться от непогоды и, главное, от обстрела. Почва была песчаная, замерзшей корки почти не было, вода не проступала, и через 1-2 часа мы вырыли очередную ступенчатую яму с проходом почти в рост. Напилили и накрыли яму довольно толстым накатом в 2 слоя из еловых стволов (мины и легкие снаряды не прошибут!), покрыли лапником, засыпали песком, накидали сверху веток для маскировки и блиндаж на 5-6 лежачих мест готов! Кто-то нашел и принес соломы, застелили лежанку, поставили печку, затопили и все "строители" брякнулись отдохнуть.
Где-то в середине нашей "стройки" на огневой позиции нашей батареи началась стрельба из одной пушки - это пристрелка по реперным целям по командам с НП батареи. Мы боялись, что немцы засекут нашу батарею и начнется ответный налет, а у нас нет даже ровиков. Поэтому и торопились, сколько хватало сил, соорудить блиндаж. Но ответа до конца стройки и даже позже не было. Кругом шла пристрелка других батарей, готовилось наступление и немцы пока отвечали по другим целям. Может, нас пропустили? Оказалось, что не пропустили. Чуть отдохнув, пообедали и только успели помыть котелки, как недалеко с треском в воздухе разорвался бризантный (пристрелочный) снаряд. Один, другой. Значит, засекли нас, и после пристрелочных снарядов будет налет. Быстро скатились в свою землянку и, почти тут же, раздался свист, грохот разрывов, то ближе то дальше, но в стороне. Подтвердилось, что мы удачно выбрали место под блиндаж! Налет длился 5-10 минут, потом перерыв (у скрупулезных немцев обычно 3-5 минут) и повторный налет. Затем стало тихо, точнее налеты шли по другим, сравнительно далеким местам. Мы вылезли из блиндажа проверить все ли в порядке. Налет оказался далеко не точным, ничего не повредило, никто не пострадал. Порядочный массив воронок от снарядов оказался на 50-100 м за батареей. Повезло - перелет!
Поздно вечером меня и еще нескольких солдат погрузили на несколько студебеккеров и отправили за снарядами. Ехали довольно долго, прибыли на полевой склад в какой-то чащобе среди высоченных, густых, лохматых елей. При свете фар начали грузиться. Я еле поднимал с напарником ящики со снарядами, казалось, сейчас надорву живот. Наконец, мы погрузились, вернулись, сбросили часть ящиков на огневой, а остальные оставили в машине. Я побрел в свою землянку и тут же заснул. Караул не выставляли, зачем? Рядом огневая позиция с часовыми. Это было нарушение устава, но опыт показал, что вероятность беды в таком случае (вдруг немцы подкрадутся за языком), ничтожна. Вообще, в боевой обстановке, мы часто делали подобные нарушения, иногда это было рискованно, но по большей части оправдано.
На другой день Шалевич и Хвощинский были вызваны на НП, а у меня выдалось свободное время, и я решил побродить по лесу, хотелось осмотреть новое место. Пробираясь через чащу в стороне от огневых позиций, увидел впереди контуры огромного шалаша. Кто там? Подошел и обнаружил временное жилище жителей, человек 10-12, женщины с детьми, старики и старушки. Белорусы. Здесь они прятались от немцев. Все измученные, хмурые, усталые, не разговорчивые, какие-то настороженные. Только спрашивал меня: "надолго ли пришли?". Я заметил голодные взгляды ребятишек и вернулся к своей землянке. Как раз вернулся Шалевич с Хвощинским. Посовещавшись, мы собрали узелок сухарей из своих пайков и несколько ломтей хлеба. С этим "подарком" я и Шалевич отправились в лес к обнаруженному мной шалашу. Встретили нас опять настороженно, поблагодарили за гостинец, но, как будто, чего-то опасались. Мы немного поговорили, сказали, что немца скоро прогоним, и им можно будет вернуться к себе, правда, придется строиться заново. Нас молча слушали, кивали, вздыхали, но контакта не получалось. Ушли мы в недоумении. Только много позже, далеко после войны, я, прочитав много о том времени и поговорив с очевидцами, понял, что они, особенно женщины, боялись насилия, которое было, увы, не только от немцев, полицаев, но и от некоторых партизан.
К вечеру Шалевич с Хвощинским вновь ушли на НП, а меня, Воронкова и еще кого-то из связистов оставили в резерве. Недалеко, в темноте, тихо переговариваясь, шла к передовой пехота. Мелькали огоньки цигарок, слышался топот множества ног. Потом стихло, только время от времени слышались минометные разрывы на передовой. Это немцы почувствовали, а возможно уже ждали, что завтра наступление, и пытались заранее как-то ответить.
Только обозначился рассвет, как загрохотало, завыло все кругом, затряслась земля. Началась артподготовка, которая длилась минут 20-30. Немцы отвечали слабо, в основном по передовой, до нас не долетел ни один снаряд. Только кончилась артподготовка, как низко над лесом с ревом пролетело несколько звеньев наших штурмовиков ИЛ-2. Вскоре послышались разрывы, сбрасываемых ими бомб и реактивных снарядов, и редкая стрельба немецких зениток. Затем, временами, работала наша артиллерия и слышались автоматно-пулеметные очереди. Последнее означало, что наши штурмуют окопы противника. Вскоре пришло сообщение, что удалось захватить первую линию обороны, но дальше продвижение застопорилось. Там оказались власовцы, которые упорно сопротивлялись, т.к. понимали, что им все равно не жить.
Отношение к власовцам было хуже чем к эсэсовцам. Предатели, негодяи! Их редко брали в плен. Запомнился один эпизод. На одном из перегонов с позиции на позицию наша колона остановилась и мы попрыгали с машин, чтобы размяться. Вдруг услышали, приближающиеся от головы колоны, возмущенные крики, брань, среди которых я различил "власовцев, ети их ... ведут" и я увидел следующую картину. Поотдаль от обочины, вдоль нашей колоны вели 3-х власовцев. Впереди и сзади конвойные с винтовками. Два власовца были небольшого роста, одеты в немецкую форму, а один, огромный с растрепанной копной рыжих волос и растерзанной одеждой, шел босиком прямо по снегу. Из колоны, то и дело, выбегали солдаты, подлетали к рыжему били по голове, по лицу, по спине. Били чем попало, кулаком, прикладом, саперной лопаткой. Эта троица шла как сквозь строй, хотя конвойные старались идти как можно дальше от колоны, по краю болота или близ опушки леса. На окрики конвойных никто не обращал внимания, даже когда они уговаривали (с матюком) дать им довести пленных до штаба на допрос или грозились стрелять. Ну, стрелять, конечно, не посмеют, их бы самих тут же прибили заодно с пленными. Доставалось, в основном, рыжему, все лицо которого было расквашено и в крови. Такой неистовой ненависти я никогда не видел. Только приличное расстояние спасало их от расправы. Не знаю, довели ли их до места. Сцена эта вызвала у меня отвращение своей слепой, безумной и бессмысленной ненавистью. Хотя я понимал и разделял чувства к власовцам, но бить сдавшегося, поверженного, беспомощного врага - в этом было что-то животное, шакалье, бесчеловечное. Даже мелькнула мысль, что, может, они специально сдались. Но тогда надо было им предвидеть подобную ситуацию.
К полудню бой стих и нас перебросили на новую позицию, правда, недалеко, всего на 3-4 километра вперед. Опытные вояки и вернувшиеся с НП разведчики говорили, что наступление оказалось неудачным. Обычно, так мало продвигаются, когда не удается прорвать всю глубину обороны.
На новом месте мы начали срочно оборудовать позиции. Опять рыть и оборудовать блиндажи. Все работали сколько хватало сил. Однако соорудить мало-мальски пригодный блиндаж не удавалось. Через несколько штыков копки проступала вода. Мы выбрали место повыше, на пригорке, что плохо с точки зрения обстрела, но другого выхода не было. Удалось выкопать чуть больше пол-метра, а дальше опять проступала вода. Тогда положили на дно несколько толстых бревен, а сверху настил из жердей, покрытых неизменным лапником. Сверху сделали однослойный накат из бревен. Накидали, как всегда, лапник и песок с землей. Блиндаж готов! Плохенький, но от мин защитит. Залезали и перемещались внутри ползком, то и дело, задевая бревна потолка и получая порцию песка из щелей между бревнами наката. Снизу тянуло холодом от воды. Противно, мерзко, холодно, но пока другого выхода нет. Кто-то принес издалека слегка сопревшей соломы, стало чуть лучше. Подстелили плащ палатку и отдыхали по очереди, прижимаясь друг к другу спиной для тепла. Хорошо, что не морозно, только минус 2-3 градуса. Одежда вроде теплая, байковое нижнее белье, гимнастерка. Сверху ватная телогрейка, ватные брюки, валенки, шинель, на голове ушанка. Но пропотели, работая, и валенки отсырели. Поспишь немного и просыпаешься в ознобе. Вылезешь, побегаешь, чтобы согреться и опять обратно. А костер? Нельзя! Здесь передовая, сразу засекут, налет и мало не покажется. Сколько таких блиндажиков и просто ям, слегка прикрытых "шалашиками" из стволов, пришлось использовать! Белоруссия, кругом болота!
К концу работы прибежал встревоженный старшина и сказал, что исчез Воронков, тот самый, что только что прибыл из медсанроты. К вечеру он не появился. Меня с Шалевичем, кажется утром следующего дня, послали на старые позиции, может он там застрял, наказали разыскать, ведь это ЧП, да еще какое - дезертир! Надежды мало, но все же... Захватив карабин (Шалевич - автомат) и на всякий случай вещмешок, мы отправились на старое место. По дороге Шалевич ругал Воронкова, говорил, что следовало этого ожидать от такого скользкого типа. Теперь пятно на нашей батарее. Пришли на старое место, обшарили все вокруг, расспросили уже разместившихся там тыловиков. Безрезультатно. Беглеца и след простыл. Пора собираться обратно. Ба! Потянуло хлебным духом - это недалеко заработала передвижная хлебопекарня. Шалевич оставил меня у нашей старой землянки и вскоре вернулся с 2-мя или 3-мя буханками только что испеченного хлеба. На мой вопрос, как это удалось, ответил, что уметь надо, там девчата работали, я еле уговорил, уж как старался, а тут как раз выпечку вывезли! Он отрезал по хорошему ломтю еще горячего хлеба и мы быстро уплели его, запив водой из фляжки. Хлеб был черный, плохо пропеченный, сырой (сейчас я бы его и с голодухи не взял), но тогда сошел и такой. Правда, потом меня мучила изжога. Остальной хлеб запихнули в вещмешок для наших ребят и командира взвода. Тогда у нас было принято всегда делиться случайной добычей.
Вернулись на позицию и доложили о безрезультатности поиска. Доложили "наверх". Были неприятности у наших командиров. Больше о Воронкове не сообщали. Значит, не поймали, может, добрался до своего отца и там устроился. Обычно при поимке дезертира сообщали в часть для всеобщего сведения, чтобы остальным не повадно было.
Шла вторая половина дня и старшина отправил меня с обедом на промежутки и наблюдательный пункт. Я одел 10-ти литровый термос с супом, котелок с кашей в руки и в путь по линии связи. Даже в спокойной обстановке этот, казалось, немудреный наряд с обедом считался опасным на участке подхода к передовой. Там все простреливалось и обычно приходилось идти по траншейному проходу или поверху в темноте, короткими перебежками. А здесь только - только заняли новые позиции, траншею еще не выкопали и немцы делали один за другим хорошие минометные налеты по всем подходам. Надо проскочить в промежуток между налетами.
Большую часть пути шел спокойно. Еще утром выпал снежок и на земле хорошо были видны места разрывов мин и снарядов - районы налетов артиллерии. Можно было предположить, где опасно, а где нет. До первого промежутка поле оказалось чистым, ни одного налета. Нитка связи (вот уж действительно проводник!) скользила в варежке моей правой руки, выпрастываясь впереди из неглубокого снега, и оставляя сзади четкий черный след - нитку на белом фоне. Легко будет идти обратно. В левой руке большой котелок с кашей, за спиной термос. Карабин оставил в блиндаже. Зачем таскать, лишняя тяжесть, а толку никакого. На первом промежутке дежурил один связист (Головин), забравшись в подкоп под развалины какого-то небольшого строения. Отлил ему супа, отсыпал каши, спросил как там впереди. "Бьют гады из минометов без конца. Иванову (связист следующего промежутка) приходить все время латать связь, хотя он несколько параллельных ниток на НП проложил. У меня до Иванова нитку пока не перебило, правда, я привалил ее кое-где бревнами. Ты поосторожней там...Еще метров 700-800 осталось... Я сообщу, что ты вышел...". Впрочем, я сам хорошо слышал почти непрерывное квакание минометных разрывов. Делать нечего, надо идти дальше и я двинулся в путь. Стало слегка темнеть. Пока дорога шла чистая, хотя впереди вой и разрывы громче. Приближаюсь. Вот слева и справа стали попадаться пятна разрывов, слегка припорошенных непрерывно падающим редким снежком. Значит, сюда прекратили кидать или редко бросают. Это хорошо! Нитка, то и дело, оказывалась под небольшими бревнышками и ее приходилось выпрастывать с другого конца. Правда, бревнышки метили путь и я пошел вдоль них быстрее, чутко прислушиваясь. Впереди показались развалины деревни, на окраине которой был последний промежуток, а с другой стороны - передний край. Деревня и подходы к ней были основной целью налетов, на что указывали сплошные черные пятна разрывов. Послышался характерный свист, я бросился на землю за корягу. Впереди последовала череда близких разрывов. Просвистели и упали, уже сзади меня, несколько осколков. Я определил по направлению нитки место промежутка, переждал второй налет и, вскочив, бросился со всех ног к намеченной развалине. Промежуток оказался в довольно просторном подвале, заваленном сверху обломками. Возможно, раньше там был погреб. Я юркнул, точнее, влетел, туда и грохнулся на земляной пол, чуть не опрокинув котелок с кашей, правда, плотно закрытый. В погребе помимо связиста уже сидели разведчики и, кажется, комбат с НП. Сам НП находился примерно в 50-100 метрах отсюда в отрытой траншее. Там остался дежурный наблюдатель, к которому тянулся самый опасный участок связи. "Думали, что останемся без обеда, такой обстрел! Разливай и скорей сматывайся, а то скоро будет темно..." - сказал кто-то. Быстро разобрали горячий суп из термоса и уже оставшуюся кашу под аккомпанемент следовавших друг за другом налетов, то дальше, то ближе. Я бросил пустой котелок из-под каши в термос, накинул термос на плечи и, выждав конец очередного налета, опрометью помчался вон из деревни, заметив по дороге пару уже припорошенных трупов наших солдатиков. Вот и поле, сердце страшно колотится, но я уже вне зоны обстрела. Пот капает со лба, мокрая рубашка липнет к телу, но опасность миновала (случайность не в счет), надо выбраться на свой путь. Плохо, что стемнело, сплошное чистое поле и я не вижу ориентиров и нашей нитки проводов. Пошел спокойней, стало морозно и совсем темно, только звезды высыпали. Казалось, иду правильно, но моих следов и нитки связи не видно. Немцы изредка пускают ракеты и тогда видно лучше, но следов не нахожу и знакомых ориентиров не вижу. Вроде надо брать левее, но там ничего не просматривается, а справа что-то темнеет. Направился туда, подошел ближе. Боже, это тянется проволочное заграждение! Значит, я вышел прямо на передовую и так можно забрести к немцам! О минах я тогда по неопытности не подумал, ведь они ставятся перед заграждением! Круто повернул и опрометью побежал прочь. Вообще, я ориентируюсь на местности хорошо, но тут ночь, сплошное поле, а я еще вдаль плохо вижу. Заблудился! Этого еще не хватало. Остановился, прислушался, присмотрелся, как мог, и, сориентировавшись по разрывам, ставшими совсем редкими, и всполохами ракет выбрал направление и пошел более уверенно. Шел, спотыкаясь, довольно долго, проваливаясь по колено в снег, никого и ничего не встречая. Наконец, вышел на дорогу и увидел вдали что-то похожее на машину. Подошел ближе, оказалась летучка нашего дивизиона. Значит, в темноте я взял здорово вправо. Слава богу, теперь ясно как идти. Вскоре подошел к нашим блиндажам, отнес на кухню термос, где старшина уже беспокоился, куда я делся. Совершенно уставший, я залез в свой блиндаж. Там уже все, кроме часового наружи, спали. Пристроился к чьей-то спине, нахлобучил ушанку, голову на вещмешок и провалился в сон. Проснулся от холода, прилипшего к телу нижнего белья. Снизу тянуло сыростью от воды под настилом. Начал бить озноб. С трудом вылез наружу, поплясал, побегал. Немного согрелся, но чувствую, что заболеваю. Залез обратно, спал урывками, просыпаясь от озноба. Скорее бы утро, развести костер, погреться, высушить валенки, белье. Голова стала мутная. Заболел! Что делать?
КАК ПЛОХО БОЛЕТЬ
Наконец, рассвело. На передовой тишина, как будто все насытились вчерашними событиями и теперь отдыхают. Я вылез из землянки размяться, но меня колотил озноб и было отвратительное состояние. Старшина сказал, чтобы немедленно отправился к врачам. Только собрался в полковую медсанчасть, как объявили, что сворачиваемся и уезжаем. Медсанчасть тоже сворачивается, идти некуда. Малоудачная операция под Быховым закончилась и войска переходят к обороне. Теперь мы едем на новое место. В стационарной обороне наша 6 артиллерийская дивизия прорыва, как правило, не участвует, если нет угрозы контратаки противника, а её не было.
Собрались быстро, а ехали долго, помниться больше суток, с редкими остановками. Смутно помню одну из них, кажется, на ночевку. Очередная, оставленная кем-то, неглубокая из-за воды, яма-землянка на 2-3-х человек. Ребята моего взвода устроили мне постель из лапника и соломы, сами спали по очереди. Остальное время ехал я в полубреду на нашем "Студебекере", полулежа на снарядных ящиках. Все время бил озноб, хотя мои товарищи набросали на меня все что можно. Ничего не ел, только пил из фляжки воду, подогретую на остановках у костра. Одна мысль, скорей бы доехать и лечь в тепло, в тепло! Наконец к вечеру, уже стемнело, подъехали к большому елово - сосновому бору и стали разгружаться. Ребята помогли мне слезть, а один из шоферов (Ушаков) поместил меня в еще не остывшую кабинку, набросив на сидение и на меня гору шинелей, поскольку все работали в телогрейках. Шалевич узнал, что медсанчасть разобьют только к утру, "приказал" мне потерпеть и ушел со всеми строить землянки. Оказалось, что нас отвели пока в тыл на отдых, близ городка Речицы, недалеко от Гомеля. Был легкий морозец и, вскоре, в кабинке стало совсем холодно. Эту ночь я провел в каком-то холодном полубеспамятстве.
Утром Шалевич отвел меня в медсанчасть, где меня тут же уложили в отапливаемую больничную палатку на походную постель с простынями (впервые с момента ухода в армию!), укрыли одеялами, сверху телогрейкой и шинелью. Температура была 41 градус! Врач что-то в полголоса обсуждал с сестрами. Потом узнал, что они не могли определить диагноз и опасались за мою жизнь Дали какие-то порошки, один очень горький, кажется аспирин и хинин (думали малярия?), и я забылся. Два или три дня провел в полубеспамятстве. Очнулся весь мокрый с жуткой слабостью, бил кашель. Сестры сменили мне постель и я вновь забылся. Выздоравливал медленно, мучил кашель и сильная слабость. Подозреваю, что это было воспаление легких, а пенициллина тогда не было. Кстати, это был единственный случай на фронте, когда я заболел. Провалялся 1 или 2 недели. Когда немного окреп, то помогал помаленьку по хозяйству медсанроты.
НА ОТДЫХЕ
Наконец, меня выписали "на амбулаторное лечение", т.е. пока без нарядов и полевых занятий. Вернулся в свою батарею, где мне было уже отведено место в отстроенной землянке нашего взвода. А на дворе уже был конец марта или начало апреля, разворачивалась весна. Свежий сосновый воздух и молодость ускорили выздоровление. Первое время утром, когда все после завтрака шли на занятия, я устраивался в мелколесье под сосенкой, на солнышке, вспоминал мирное время, гадал, когда закончиться эта война. Мысли о послевоенном времени отгонял, впереди еще бои и бои, как все сложится - не ясно. Боялся "сглазить". Вечерами при свете коптилки играл с Фурцевым в шахматы, читал солдатские брошюрки (рассказы Чехова, А. Толстого, других), которые приносил замполит.
Постепенно я стал приходить в норму и вошел в общую колею, хотя кашель не проходил. Начались занятия, наряды, караул, изредка проклятая строевая (зачем? - недоумевали все). На занятиях по топографии ближе познакомился с Женей Кириченко, который курировал всех вычислителей нашего дивизиона. Он был кадровым артиллеристом, призванным еще до войны и прошедшим ее с самого начала. Будучи старшим сержантом, часто подсмеивался над молодыми, только что испеченными, лейтенантиками за их плохие знания организации артиллерийской стрельбы, тактики и фронтовых особенностей вообще. После отбоя, обычно 30-40 минут, кто-нибудь что-то рассказывал. Вскоре, как-то незаметно, основным рассказчиком, к моему удивлению, стал я. Рассказываю по памяти Дюма, Джека Лондона, "Граф Монтекрито", "Сердца трех". Еще что-то, с обязательным продолжением на следующий вечер. Слушать приходили из соседних землянок.
АРТИСТЫ
Как-то утром мы услышали отдаленную канонаду и поняли, что фронт не так уж далеко и наверно где-то наступают или отбиваются. Поскольку нас не трогают и все спокойно, то скорее это наступление. Догадка подтвердилась. На другой, или третий день, утром, всех направили на рытье мелкой, но огромной землянки - фронтовой зал для артистов! Значит, отдых продолжается. Работали с охоткой и через день "зал" на сотню или больше стоячих мест был готов. "Зал" представлял собой вырытую в откосе протекавшей рядом речушки выемку примерно 6 на 10 м по площади и глубиной 1-2 метра. По краям выемки и в середине были врыты неотесанные столбы из сосновых стволов, на которых закрепили балки из таких же стволов. Поверху балок был сооружен "потолок" из тесно уложенных сосновых жердей, на которых навален лапник и сверху солома. Поверх соломы присыпан слой песка и замаскирован тем же лапником. Три стены были забраны от песка мелкими ветками. В торце "зала" соорудили примитивную сцену с занавесом из плащ-палаток. Вход (вместо 4-ой стены) также завесили плащ-палатками. Получилось вполне прилично. Не страшен ни дождь, ни ветер, ни даже небольшой морозец и сверху не видно. Можно чувствовать себя почти комфортно.
Приехали артисты - порядочная артбригада. Дали большой концерт. Певица (Ну и голос! Возможно это была Русланова), сатира и юмор. Запомнилась почему-то часть песенки на злобу дня о гитлеровской Германии:
"...Часы пока идут и маятник качается и стрелочки бегут и все как полагается, но механизм у них плохого сорта, часы скрипят, пружина стерта. Исправить их нельзя, прислушайтесь к часам. Их скоро выбросит История как хлам"...
Затем были пляски, кажется скрипка, опять пляски, фокусы. Все мы были очень довольны, поднялось настроение, коснулись былой, мирной жизни.
ПРИЕМ В ПАРТИЮ
Еще раньше, кажется, под Быховым меня после беседы с парторгом полка избрали комсоргом батареи, чему я тогда был ни мало удивлен. Ведь я считал себя еще новичком среди большинства батарейцев, которые пережили тяжелую Орловско-Курской битву. Возможно, сыграла роль моё образование и активный интерес к событиям, поступающим к нам по немногочисленной информации из редких газет. Мои обязанности сводились к нерегулярному сбору так называемых ежемесячных взносов (10 копеек!) и читке газет, что я и так делал. И вот, в один весенний день, меня вызвал парторг и предложил вступить в партию. Поскольку я был тогда убежден в абсолютной правильности марксистской идеологии и считал, как, впрочем, многие, честью быть членом партии, это предложение мне польстило и я с готовностью написал заявление. Несколько беспокоила меня только мысль, как отнесутся в партийной ячейке к аресту моего отца в 1937 году. Ведь мне так и не удалось до войны узнать ни о причинах ареста ни о его дальнейшей судьбе, хотя я подозревал, что арест отца был связан с массовыми репрессиями того злосчастного года. Была смутная надежда, что сейчас он, также как и все, где-то воюет. Состоялось партсобрание, я подробно изложил биографию, рассказав и об аресте отца. К моему удивлению и облегчению никто, даже намеком, не задал мне вопроса по поводу этого ареста. Единогласно я был принят кандидатом в члены партии. Это событие никак не отразилось на моей жизни до конца войны, а в последствие, уже в мирное время играло как положительную, так и отрицательную роль.
Прошло еще какое-то время лагерной жизни, но по разным признакам чувствовалось, что скоро опять на передовую. Стало совсем тепло и нам, после очередной бани, заменили зимнее обмундирование на летнее. Как-то стоял на посту у штаба полка и почувствовал усиленную суету. Кажется, наступают перемены. Действительно, вскоре объявили тревогу и начались сборы в дорогу. Лагерь у Речицы закончился.
СНОВА НA ФРОНТ К КОВЕЛЮ
ПУТЬ НА ФРОНТ
Полк погрузились в Гомеле в состав, состоящий из платформ под орудия и машины и из уже знакомых теплушек для личного состава. Паровоз свистнул, и мы тронулись в путь. Куда едем? Оказывается на юг - юго-запад вдоль линии фронта, на левый фланг 1-го Белорусского. Конечно, этого нам никто не говорил (военная тайна), но опытный солдат со средним образованием, да хорошо ориентирующийся в географии, замечающий название проезжаемых станций, мог вполне догадаться. В дороге, как всегда, пели песни, балагурили, играли в шашки и шахматы, кто может, но карт не было и в помине.
Догадка оказалась правильной. Мы приближались к Ковелю, который был еще занят немцами, а значит к фронту, и скоро будет выгрузка. Возросло напряжение, опасались, точнее, ждали неизбежных бомбежек. Не могли же немцы не обнаружить череду составов, двигавшихся к фронту. А находиться в составе при бомбежке - гиблое дело. Поэтому все с нетерпением ждали конца пути. Правда, обнадеживали барражировавшие над составами наши истребители. Нам повезло. Доехали до станции Повуров без происшествий, еще затемно, и стали спешно разгружаться. Никого подгонять не приходилось. Погрузились на машины и быстро прочь от станции в недалекий лесной массив. Штаб и взводы управления справились быстро, а вот огневикам пришлось повозиться с разгрузкой наших 76 миллиметровых пушек. Не успели мы обустроиться на новом месте, как в стороне станции раздался грохот зениток, рев самолетов, вой и взрывы сбрасываемых бомб. Правда, зенитчики и наши истребители сработали нормально. В небе хорошо было видно, как наши истребители атакуют вражеские бомбовозы и идут петли воздушного боя с истребителями прикрытия противника - Мессершмидтами. В результате, сбросив кое-как свой бомбовый груз, самолеты противника спешно удалились. Потери были, но небольшие. Пострадал, в основном, следующий эшелон, на котором ехал другой полк нашей 21-ой легко - артиллерийской бригады. Покорежило пару машин с орудиями, несколько человек ранило.
В последующие 1-2 дня разгрузилась вся наша дивизия. Был еще несколько бомбежек станции, но без больших потерь. Солдатская почта донесла, что были раненые, а убитых почти не было. Несколько пострадала материальная часть других полков. Нас несколько удивляла открытость переброски наших войск. Ехали и разгружались и днем и ночью. Обычно, все перемещения совершались в темное время суток и при облачной, дождливой погоде. Позднее мы узнали, что наше перемещение было отвлекающим маневром. Главный удар готовился в центре нашего фронта в направлении Минска. Там всё готовилось скрытно, а наше открытое перемещение вдоль(!) фронта должно было создать у немцев впечатление, что главный удар готовиться с южного, левого фланга 1-го Белорусского. Частично этот маневр имел успех.
В лесочке под Повуровом мы быстро соорудили легкие землянки, понимая, что это временное место сосредоточения и скоро, возможно завтра - послезавтра, выдвинемся на позицию. Погода стояла отличная, конец мая - начало июня, тепло. Однако, временная стоянка что-то затянулась. Распорядок дня определялся тремя стандартными режимами: караул, наряд на кухню, занятия.
Занятия проводились в рамках дивизиона по группам, сформированным по специальности: огневики, связисты, разведчики - вычислители. Наша группа разведчиков и вычислителей включала несколько человек, плотно контактировавших во всех боевых операциях. Здесь были Кириченко, Шалевич, Хвощинский, Гиянитулов, Орлов (т.е. я) и еще 3-4 бойца из 5-й и 4-ой батареи. Проходили занятия, обычно, днем по ориентировке на местности и работе с планшетом (нанесение целей на карту по засечкам стереотрубы и реперным точкам), которые вел Кириченко. Изредка занятия проводил начальник штаба нашего 2-го дивизиона капитан Коханов. Высокий, всегда подтянутый военный, он пользовался у солдат авторитетом, как справедливый, смелый командир и просто хороший человек, чего не скажешь о ряде других офицеров дивизиона. Он никогда не чинился, относился ко всем офицерам, сержантам и солдатам, как к боевым товарищам.
Поскольку нового на занятиях ничего не было, а опыт подсказывал, что многое не использовались на практике, Кириченко отводил на занятия половину времени, а потом устраивал отдых. Благо начальства рядом не было. Запомнился один курьезный случай, случившийся незадолго до отправки на позицию. Утром после завтрака наша команда, как всегда, построилась, выслушала задание и наставления капитана Коханова и под водительством Кириченко строем отправилась в глубь леса на полюбившуюся нам полянку. Установили стереотрубу, поработали с планшетом, а потом решили, как всегда, отдохнуть. День был солнечный, очень теплый и всех разморило. Немного поговорив, улеглись на траве подремать. Я захотел побродить вокруг, посмотреть окрестности. Немного прошелся, как навстречу капитан Коханов. Боже, как он нас нашел? Сейчас застанет всех спящими и будет скандал. Я громко кашлянул. Безрезультатно. Коханов погрозил мне кулаком и тихо приказал следовать за ним на поляну. Все спали. Схватив приличную ветку, он молча подскочил к Кириченко и хлестнул его по мягкому месту, затем другого, остальные проснулись и вскочили от шума. Обругав всех на чем свет стоит, Коханов нас построил и заставил, в наказание, бежать по кругу, а затем в расположение части.
Вечерами, если не было наряда, отдыхали, читали газеты и популярные брошюры, которые приносил замполит, беседовали с друзьями, пару раз приезжала кинопередвижка. Особенно любили вечерами петь лирические и народные песни, тем более, что были среди нас хорошие голоса, прямо заслушаешься.
Почувствовав неладное, немцы каждую ночь бомбили станции, подъездные пути и прифронтовые объекты. Однако, в наше расположение они не залетали. Днем самолеты противника летали редко, т.к. наша авиация уже господствовала в воздухе и они боялись лишних потерь. В конце июня пришло сообщение о весьма успешном наступлении основных сил фронта в районе Минска и мы поняли, что вот-вот начнется наступление и у нас. Ждать оставалось недолго.
ПОДГОТОВКА К ПРОРЫВУ
В первых числах июля мы были подняты по тревоге и переброшены к фронту близ Ковеля.
Вначале остановились на промежуточной позиции во 2-м эшелоне, расположившись в небольшой рощице. Кругом непрерывно пребывали всё новые и новые части и становилось буквально. Поступил приказа организовать противотанковую оборону (мы понимали, что это на всякий случай). Наступал вечер. Огневики развернули временные противотанковые позиции на поле, Нам также надо было устроиться на ночь. Копать и сооружать блиндаж, даже простейший, не хотелось, т.к. передовая была еще далеко (2-3 км.), в танковую атаку при таком скоплении войск на подходе к передовой никто не верил, а завтра-послезавтра нас все равно, переместят на основные позиции. Я, кажется, с Шалевичем, узнав о приказе, поспешили на поле, где была вырыта траншея, надеясь найти там брошенный блиндаж, пока его не нашли другие. Нам повезло. Недалеко от рощицы мы наткнулись на простенький блиндажик (квадратная яма, накрытая примитивным накатом). Доложив нашему командиру взвода Комарову, что мы нашли пристанище для разведчиков и вычислителей, и, получив разрешение там устроиться, мы быстро натаскали соломы и завалились спать. Решили не выставлять караула, кругом свои, опасности нет. Только устроились, как появился дежурный офицер и устроил нам разнос за отсутствие часового. Пришлось выставить караульного по 1 часу на каждого. Правда, к утру дежурство прекратили и это нарушение обошлось. Утром, как и думали, отправились готовить основные позиции (сооружать НП, блиндажи на огневой позиции ...). Кругом подходило и устраивалось масса войск. Было ясно, что наступление не за горами. В воздухе непрерывно барражировали наши истребители, но немецкие самолеты так и не появились, скорее всего, они были брошены на "затыкание" прорыва на других участках фронта.
При подготовке блиндажа на огневой позиции, я обнаружил несколько немецких листовок. В одной из них говорилось, что немцы применили секретное оружие против Англии (это были ракеты ФАУ-2, бомбившие города Англии), там царит паника, большие потери и скоро наступит перелом в войне. Они теперь победят, и в конце листовки стандартный призыв бросать оружие и переходить к ним, чтобы сохранить жизнь (листовка служит пропуском). В другой листовке был призыв ко всем русским отказаться от своего не русского правительства, которое гонит их на убой. Все очень примитивно и не умно. Слышали бы авторы, как мы смеялись над содержанием и использовали эти листовки для табачных самокруток и других известных нужд!
Перелом действительно наступил, но в обратную сторону. Союзники, наконец, высадились в Нормандии, и стали быстро освобождать Францию.
На обратном пути с сооруженного нами НП случилось небольшое ЧП. Наша машина наехала на противотанковую мину, не обнаруженную ранее саперами. Раздался оглушительный взрыв, кузов со снарядами в ящиках, на которых мы сидели, подпрыгнул. Мы в мгновение ока спрыгнули на землю и улеглись в кювете, ожидая взрыва. К счастью всё обошлось, снаряды не взорвались, осколки никого не задели и никто не пострадал, но наш Студебеккер был здорово покалечен. Пересели на следовавшую за нами машину и всю дорогу обсуждали благополучный исход происшествия. Если бы рванули снаряды, то от нас остались бы клочья.
ГРАНДИОЗНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Наше наступление началось 18 июля, уже после соседнего 1-го Украинского фронта, где оно началось 13 июля и основных сил нашего фронта, т.е. мы были последними, кто принял участие в грандиозном прорыве немецкой обороны пятью фронтами, полностью разрушившем оборону немцев на протяжении более 1000 км! Результатом было окончательное изгнание немецких войск из Белоруссии и Украины. Вначале, как всегда, мощная артподготовка и массовая атака наших ИЛ-ов с воздуха. Сопротивление было сломлено в первые же часы. В прорыв устремились танки, а за ними наш полк и вся бригада на Студебеккерах. Одновременно двинулась вся наша артиллерийская 6-я дивизия прорыва РГК. Вот и граница, быстро наведены понтонные мосты через реку Сан и мы уже в Польше. Вперед на Люблин! Весь длинный летний, солнечный день шло непрерывное авиационное наступление в небе, танковое на земле. Меня особенно поразила наша авиация. Местность была довольно открытая и, сколько хватало глаз, во все стороны, низко над землей непрерывно, волна за волной шли и шли группы из нескольких звеньев наших штурмовиков, реже бомбардировщиков. Каждую группу прикрывало сверху 2-4 истребителя. Авиационное наступление продолжалось весь день до сумерек. Впереди слышались почти непрерывные звуки бомбежки, стук немецких зениток, стрельба наших танков. Мы, то быстрее, то медленнее, изредка и не надолго останавливаясь, двигались за танками. Пехота отстала, а наше вмешательство пока не требовалось. Противник бежал, изредка огрызаясь. Немецкая авиация не показывалась. Подумалось, что так наверно так было в 41-ом с нашей авиацией и нашим отступлением.
Как-то остановились в лесу. Впереди, казалось недалеко, стучали немецкие зенитки по отбомбившимся и возвращавшимся штурмовикам. Было хорошо видно, как рядом с самолетами вспыхивают облачка разрывов. "Точно бьют сволочи! Из крупных зениток. Это тебе не тявкалка (крупнокалиберный пулемет)!" - крикнул кто-то. Билась мысль: неужели попадут? И вот на наших глазах один штурмовик разлетелся на куски. Кончено, все погибли. Следом загорелся другой, но из него отделились и стали падать 2 точки - затяжной прыжок экипажа, чтобы не подбили. Недалеко от земли раскрылись парашюты и тут же немцы открыли по ним стрельбу из пулеметов. Парашюты скрылись за верхушками леса. Стрельба утихла, но не сразу. Живы ли, не попали ли к немцам наши летчики? Эти вопросы остались для нас без ответа. Стоянка на лесной дороге затягивалась. И тут мы обратили внимание, что вся земля под деревьями - это сплошной голубой ковер. Таких зарослей голубики я никогда больше не видел. Соскочили с машин, рвали целые плети голубики, тащили к машинам и, сидя на снарядных ящиках, поглощали крупную, спелую ягоду. До чего вкусно! Вскоре двинулись дальше.
Вот и первая деревня Западной Белоруссии, затем вторая, еще и еще. Почти все постройки целые, с жителями и всякой живностью (коровы, свиньи, куры...). Не то что у нас в восточной Белоруссии, где почти всё сожжено, живности нет и в помине, а жители попрятались в лесах. Подумалось, что наверно немцы так быстро бежали, что не успели разрушить. Поразило нас, не только меня, добротность и благоустроенность деревень, по сравнению с нашими, российскими тесными избами, сплошь покрытыми соломой. Большие дома под железной крышей, добротные просторные хозяйственные постройки, отдельные колодцы у каждого хозяина. Вот тебе и забитая Западная Белоруссия, которую мы освобождали от гнета панской Польши! Не впервые закралась мысль, что очень уж врет пропаганда. Жители встречали умеренно приветливо. Чувствовалось, что они очень устали от передряг войны.
Продолжаем двигаться вперед и вперед. Роем противотанковую позицию в чистом поле, снимаемся и двигаемся дальше, опять роем. Я дежурю на телефоне в очередном ровике или яме, то ближе, то дальше от передовой. Изредка чиню (сплетаю) порванный минами провод. И так изо дня в день, почти в непрерывном напряжении. Вот добрались до Люблина. Немцы контратакуют. Бьет их тяжелая артиллерия, но вскоре замолкает. Они опять отступают.
Въезжаем в город уже в сумерках. Останавливаемся на окраине. Прыгаем с машин поразмяться и осмотреться. Интересно, это ведь Польша. Прошлись с Шалевичем по прилегающей площади. На улицах никого. Все дома в темноте, но вот в одном виден слабый отсвет лампадки. Подходим. Дверь приоткрыта. Перед ней паренек с винтовкой. Он приветлив, приглашает зайти. Говорит по-русски прилично, возможно белорус. Разговорились, все время прислушиваясь не заводят ли машины и не пора ли бежать к своему ""Студебекеру". Оказывается он в вооруженном отряде самообороны. Они следят, чтобы грабежей не было и, вообще, соблюдался порядок. Здесь у них своего рода караульное помещение. Надо же! Только освободили, а они уже организовались. Настроение у паренька бодрое. Говорит, что теперь Польша войдет, наконец, в состав СССР. Я спрашиваю, многие ли так думают. Отвечает, что многие, особенно белорусы, а поляки не все. Натерпелись тут кошмаров, насилий и унижений, надо присоединиться к России, будет легче жить, надежная защита от немцев... Я внутренне недоумеваю: кто же отказывается от независимости и насколько искренни эти настроения? И что они знают о нашей жизни, о колхозах?
Много позже, после множества контактов с поляками немцами и другими лицами, угнанными в Германию, уже в мирное время, я понял, что вначале и в Польше и в Чехословакии действительно господствовали представления, что надо присоединяться. Там и даже во всех европейски странах нас вначале, совершенно справедливо, считали главными освободителями от жуткого фашистского деспотизма, а нашу систему более справедливой. Недаром в Англии, Франции, Италии и других странах сразу после войны к власти пришли просоциалистические партии и высок был авторитет компартий. Только позже появились сомнение и неприятие многих факторов. Но это позже и это опять отдельная тема.
Поговорив о жизни, мы вышли из караулки и обошли площадь. В одном месте увидели распахнутую дверь с вывеской над ней. Зашли. Оказалось это кафе или подобное заведение. Все разгромлено, столы перевернуты, шкафы раскрыты, полки обшарены. Чувствовалось, что здесь хорошо "поработали" или вояки или местные. В помещении никого не было. На одной из полок в куче развороченной посуды, я увидел небольшую коробку с чем-то. Взял, оказалась полная коробка с бисквитами! Вот это подарочек! Настоящий деликатес, как его не заметили! Кроме черняшки мы давно ничего не видели! Тут же попробовали и я ...выплюнул, хотя был не прочь полакомиться. Дело в том, что я с детства терпеть не мог бисквитов, даже от запаха воротило, и тут это чувство вернулось! Услышали команду "По машинам!". Заурчали моторы. Мы, захватив коробку, побежали к своему "Студеру" и взобравшись на борт разделил добычу среди своих разведчиков.
Приехали на новые позиции уже за Люблиным. На следущий день опять двинулись дальше, но вскоре остановились у небольшой рощицы, спрыгнули размяться. Ждем очередной команды "по машинам!" и дальнейшего движения. Но нет. Остановка, отдых на 2-3 дня. Кажется, ждут подвоза горючего для машин. Шум фронта уходит дальше вперед и уже почти не слышен. В один из дней нас выстраивают и раздают награды, офицерам, в основном, ордена, а бойцам, правда, не всем, в основном, медали. Мне вручают медаль "За боевые заслуги". Первая награда! Вначале я носил её на гимнастерке, но вскоре, боясь потерять и загрязнить, завернул в тряпочку, спрятал в "потайном" кармане вместе с комсомольским билетом и не доставал до конца войны.
Вскоре подвезли горючее, подтянулись тылы и мы, сев на свои машины, двинулись дальше. Как-то днем внезапно остановились и было приказано немедленно, срочно занять противотанковую оборону, якобы впереди контратакуют немцы. Рассредоточились на просторном хлебном поле с редкими деревцами. Стали быстро копать очередные ровики и окопчики под палящим солнцем. Но в контратаку не верилось. Далеко впереди раздавались одиночные разрывы и больше ничего. Нет немецкой авиации. Подумалось, что, наверное, впереди была местная неудача и решили на всякий случай развернуть запасные позиции. Так оно и оказалось. Только мы кое-как оборудовались, как раздалась команда отбой и по машинам. Еще несколько раз останавливались, копали и бросали позиции. Но вот впереди послышалась канонада, усиливающаяся по мере нашего приближения. Вновь выходим на передовую.
Вечерело, стрельба утихла и мы опять стали оборудовать позиции. Опыт подсказывал, что теперь предстоит настоящий бой. Я, теперь уже привычно взвалил катушку на спину и с кем-то из связистов тянул линию от батареи на НП. Вообще, из-за плохого зрения меня пока что чаще использовали, как связиста на промежутках, а на НП в пехотные траншеи, в качестве наблюдателя-разведчика не брали. Хотя, по молодости было обидно ощущать себя на вторых ролях среди разведчиков и вычислителей. Впрочем, вскоре это относительно более спокойная и безопасная роль кончилась. Но об этом по порядку. Мой промежуток был последним перед НП и располагался на опушке очень редкой, но приятной рощицы. Рядом, замаскировавшись ветками, стояли самоходки и танкетки, которые метко окрестили "Прощай Родина" из-за тонкой брони, пробиваемой любым, даже мелким снарядом и из бронебойного ружья. Быстро выкопал маленький ровик в легкой песчаной почве, чтобы при обстреле было куда втиснуться (длина меньше 2-х метров, ширина около полуметра, а глубина на 3-4 штыка лопаты, т.е. чуть больше полуметра). Закончив копать и проверив связь, я поговорил с танкистами. Москвичей не оказалось, но они рассказали о себе и, в частности, пояснили мне, как уберегаются от противника: наступают только с пехотой, которая их прикрывает от бронебойщиков, при артобстреле непрерывно маневрируют, используют юркость машины и любые складки местности. Однако, все равно говорят, что дрянь машина, потери велики, но вот-вот обещают пересадить на "тридцатьчетверки", скорее бы.
Наутро, после традиционной небольшой артподготовки, завязался короткий бой, но обстрела моей позиции почти не было. Повезло. Лупили в основном по первым траншеям, по наступающей пехоте. Досталось и нашим разведчикам, что на НП и продвигались с пехотой. Но потерь в нашем взводе управления, к счастью, не было благодаря нашему комвзвода лейтенанту Комарову учителю математики до войны. Комаров всегда выполнял приказ по-своему, берег солдат, знал, когда надо, когда не надо лезть под обстрел, когда можно повременить или даже не выполнить приказ, если он глуп или невыполним. Здесь он хорошо разбирался. Недаром он воевал с самого начала!
Вот один характерный эпизод, рассказанный мне разведчиком или связистом (сейчас уже не помню), сопровождавшим Комарова. Комаров с разведчиком и связистом в боевых порядках роты, которую мы поддерживаем. Расположились в ровике. После артподготовки пехота вышла из траншей и броском на немецкие позиции. Но не тут-то было! Немецкая минометная батарея, которую не удалось подавить (ее, очевидно, не выявили), открыла бешенный огонь по наступавшим и пехота залегла. Кругом рвались мины, но связь еще не была нарушена. Раздался зуммер телефона и связист передал трубку Комарову. Комбат или комдив, находившиеся сзади с командованием пехоты приказали немедленно послать разведчика в пехоту и узнать, почему она залегла. У пехотинцев порвалась связь и они просили уточнить обстановку через наших. Комаров помрачнел, сказал "есть" или "понял" повесил трубку, грубо выругался и произнес, что эти юные сопляки и недоучки (все командиры были значительно моложе) не ведают, что творят, на верную смерть посылают, причем бессмысленно... Обойдутся! Кончиться обстрел, тогда и пошлю, или сам пойду. Телефон не включать! ... Только по окончании (или ослаблении) налетов он послал разведчика (или сам сползал) и сообщил о результатах. На замечания (скорее ругань) начальства твердил, что не было возможности или долго искал из-за обстрела... Как правило, спешка была не нужна (при налете никто не двигался) и все обходилось благополучно. Все мы солдаты и сержанты верили в его опыт, в его умение понять, когда надо или не надо рисковать, и безоговорочно и точно выполняли команды, которые он отдавал. Больше никто из офицеров не пользовался таким доверием. А офицеры, особенно старшие, недолюбливали его, говорили, что уж очень медленно исполняет команды, а иногда не исполняет или не так исполняет. Но "выполнимые" задания он никогда не игнорировал. При нем редко убивало или ранило солдат, а бессмысленно - никогда! Недаром, он - учитель математики, много повидавший! ... В последствие, я не раз убеждался в мудрости Комарова. Хотя он был любитель клюкнуть на досуге, что уже в мирной жизни его погубило.
В этот раз наступление прошло успешно и мы никого не потеряли.
А вот другой, противоположный случай. Как-то заняли позицию на краю хлебного поля. Немцы здорово огрызаются. Наступление застопорилось. Мы срочно с ходу роем ровики, так как обстрел усиливается, кругом рвутся мины, горит пшеница, а ямка, пусть не глубокая - гарантия от осколков и от огня. Страшно только прямое попадание, но оно, даже при сильном обстреле, маловероятно. В воздухе появилась "Рама" - немецкий разведчик. Жди бомбежки. Бомбежка не задержалась. В воздухе появились "мессеры" и начали утюжить из пулеметов и бросать "чемоданы" - контейнеры с мелкими противопехотными бомбами "лягушками", высыпавшими из контейнеров (десятки бомбочек в каждом контейнере). Все попрятались по щелям. "Ложись на меня!" приказал комдив Козиев своим разведчикам, прыгнув в глубокий ровик на НП. Он считал, свою жизнь более ценной - нельзя потерять командира целого дивизиона, кто будет обеспечивать возложенные на него задачи! Остальные - 2-ой сорт. Правда, я думал и считаю так сейчас, что тут был элемент страха, который испытывали, конечно, все, даже орденоносные командиры, а он имел уже 2 или 3 высших по статусу ордена "Красного знамени", что было большой редкостью. Его не любили за проявление невнимательности и даже не оправданной жестокости к своим бойцам, но боялись. Этот случай подтвердил, в моих глазах, оправданность отрицательного отношения к Козиеву со стороны большинства солдат, сержантов и части офицеров.
Вернусь к нашей атаке. Несмотря на сопротивление, немцев быстро подавили и они вновь побежали прочь с одной мыслью: быстрее бы оторваться от русских и закрепиться на естественном рубеже - полноводной Висле. Это понимали и наши командиры от генералов до лейтенантов и сами солдатики. Поэтому старались висеть на хвосте противника. Если противник оторвется и успеет закрепиться на Висле, то ох, сколько крови будет стоить захват плацдарма по ту сторону реки!
Мы двигались все дальше и дальше в глубь Польши, приближаясь к Висле ведя короткие бои с арьергардом отступающих войск и, наконец, остановились на ночевку на окраине села в десятке километров от Вислы. Наш взвод разместился в просторном сарае - хорошем сеновале, приятно пахнущем свежим сеном. Сообщили, что завтра утром будет рывок к переправе на только что захваченный плацдарм под городом Магнушевым, что южнее Варшавы (Магнушевский плацдарм). Предстоит не легкая операция по переправе и поддержке пехоты на том берегу. Впереди последняя спокойная ночь, а завтра неизвестность...
МАГНУШЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ
Настало ясное июльское утро. После короткой ночевки на сеновале мы быстро погрузились на свои Студебеккеры и вскоре подъехали в лесочек у Вислы. Стало ясно, нас переправляют на только что занятый немногочисленными передовыми частями плацдарм! Все напряглись, понимали, что немцы постараются на допустить переправы основных частей, а тех, кто на плацдарме, попытаются сбросить в воду. Предстоит нешуточное действо. Машины и орудия загнали под деревья, замаскировали и стали ждать команду на переправу.
Собственно, ждать не пришлось. Только соскочили с машин и начали маскировку, как услышали стук наших зениток, расположенных где-то впереди, у переправы, услышали и увидели в небе воздушный бой наших истребителей с "мессерами" противника. Вскоре раздался знакомый свист и грохот бомбовых взрывов, один, другой, третий... Бомбили впереди за лесом, там, где понтонная переправа. По звуку, около одного - полутора километров. Не успела кончиться одна бомбежка, как началась вторая, третья и далее с небольшими перерывами, то ближе, то дальше. Пока что переправу бомбили одиночно прорывавшиеся "мессершмиты". Бывалые старослужащие говорили, что теперь жди бомбардировщиков, они накроют и переправу и окрестности, лишь бы не допустить на плацдарм подкреплений. Но у нас сейчас господство в воздухе - думали мы - и немцы боятся появляться днем большими группами. Так, по одиночке подкрадываются только юркие "Мессеры".
Однако, шло время, а команды на подъезд к переправе не поступало. Неужели переправу разбомбили? Вскоре появились идущие от переправы раненые и страшно испуганный поляк на тележке. От раненых и случайно там оказавшегося поляка узнали, что так оно и есть. Несмотря на довольно плотный огонь зениток и истребителей прикрытия нескольким одиночным "Мессерам" удалось не только разрушить понтонный мост, но и разбить всё около переправы. Там воронка на воронке, много убитых..., какой-то ад, только несколько машин успели проскочить на тот берег, "Мессеры" по одиночке подкрадываются и точно бьют, сволочи, пока другие отвлекают наших ястребков... - говорили раненые. Странно. Только ночью навели понтоны, а уже немцы точно узнали место.
Стоянка затягивалась, а уже подступал вечер. На Западе садилось солнце. И тут кто-то зоркий крикнул: смотри, летят! Мы выскочили на открытое место, на поляну и уставились на небо. Я прищурился, но в лучах заходящего солнца ничего не видел, только услышал отдаленный гул. Гул приближался и вот высоко на фоне чистого, начинавшего темнеть неба появились стройные группы волна за волной десятков бомбардировщиков. Они шли прямо на нас. Я еще ни разу не видел и до конца войны не увидел такого количества самолетов противника, да еще бомбардировщиков. Это те, кто прошел начало войны, Сталинград, Курско-Орловскую дугу, повидали подобное. Яростно застучали, затарахтели зенитки. Но воздушная армада надвигалась все ближе, не теряя строя и не обращая внимания на разрывы от зениток. Да и зениток было мало и самолеты шли высоко. Куда-то исчезли наши истребители. Все как завороженные смотрели в небо. Сейчас дадут прикурить! Главный вопрос, где развернутся немецкие бомбовозы. Если над нашими головами, то бомбежка нас не затронет, а если дальше то будет скверно. Ведь мы даже ровиков не выкопали, ждали что вот - вот двинемся. Кто-то крикнул: ищите готовые щели. Но где и главное когда искать. Поздно.
Однако, все и я, в том числе, бросились искать хоть какое укрытие. Метрах в 100 от стоянки я обнаружил под мелким ельничком полуосыпавшийся неглубокий окопчик. Вернулся бегом и сообщил Шалевичу. Но в это время первая волна самолетов развернулась над нами и раздался свист и вой десятков бомб. Мы бросились под ближайший ""Студебекер"", груженый снарядными ящиками, и съежились между двойными задними скатами. Какая-никакая, а защита от осколков. Прямого попадания авось не будет. Раздался грохот разрывов. Пока там впереди, у реки. Первую партию пронесло! Вторая волна отбомбилась правее, третья левее, а дальше пошли волна за волной. Совсем стемнело. Замолкли зенитки. Их то ли подавили, то ли они сами прекратили стрельбу из-за невозможности увидеть цели. Немецкие самолеты повесили массу осветительных ракет и непрерывно бомбили и бомбили. Сжавшись в комочек и прижавшись к скатам, мы только слушали этот непрерывный свист, вой, взрывы фугасок и треск рвущихся "лягушек" - этих мелких пртивопехотных бомб, высыпавшихся десятками из сбрасываемых контейнеров. Вот ближе, ближе, летят осколки. Шлепнулись рядом, пролетели дальше...Неужели сейчас грохнет рядом. Нет, разрывы удалились дальше, затем опять ближе... Всполохи разрывов сквозь лесную чащу. Ощущение полной беспомощности и обреченности, вот сейчас накроет... И так минута за минутой, час за часом, непрерывно, всю ночь. Голова отупела, никаких мыслей, кроме вялой, "авось пронесет". Но вот забрезжил рассвет этой, к счастью, короткой июльской ночи. Бомбежка ослабла. Прогудели последние самолеты, прогремели последние взрывы. Наступила тишина, какая-то непривычная. Ни звука. Пронесло! Батарея, дивизион, весь полк не пострадали. Ни одного раненого, мелкие вмятины на машинах от осколков - не в счет. Другим, кто ближе к переправе, кто справа и слева ох, как досталось. Все вылезли из своих укрытий, радостные, что всё обошлось, что повезло. Вылезли и мы с Шалевичем и, отряхнувшись и поправив форму, направились к штабной машине. Подошли, остановились И тут вдруг земля перед моими глазами поднялась и я грохнулся на землю. Что такое? Поднялся отряхнулся, сделал шаг, остановился и тут же опять упал на землю. Не могу стоять, отказал вестибулярный аппарат, наверно, от нервного напряжения ночи. Идти еще могу, а стоять - нет. Что с тобой, может в медсанчасть? - спросил Шалевич. Я махнул рукой: "не надо, просто нервный шок, немного отлежусь, принеси только завтрак, вот котелок...". Действительно, полежал, глядя в чистое голубо небо, съел, принесенную кашу, запил сладкой водичкой и стал отходить, хотя голова все еще оставалась дурная. Все оживленно обменивались новостями, ждали, что будет дальше. И тут выяснилось, что неподалеку от нас под утро контрразведчики нашли и захватили немецких наводчиков, парень и девушка радистка, наши, русские из пленных. Может быть, поэтому нас обошла основная бомбежка? Но размышлять было некогда, да и бесполезно. Вскоре раздалась команда: "По машинам!" и мы тронулись к другой еще только наводимой переправе на несколько километров выше по течению Вислы.
Опять, рассредоточившись, остановились в лесочке, в густом мелколесье. Предстояла ночевка, пока организуют переправу. Рыть ровик не хотелось. Выбрал ямку, постелил шинель на теплую землю, вещмешок под голову. Кругом ветки кустов, сквозь которые просматривается небо. Ползают букашки. Тихо, мирно. Вспомнилась прошедшая ужасная ночь, далекий призрачный дом и мысли о завтрашнем дне: как переправимся, что ждет на плацдарме и удастся ли вообще выжить... В последствие я редко думал о будущем, жил только настоящим. А здесь сказалась прошедшая ночь и неопределенность того, что будет завтра. Ночь прошла тихо. Громыхало где-то далеко. Спали до первых лучей солнца. Вот и забрезжил рассвет. Прозвучала команда: "всем по машинам!". Двинулись на малой скорости, соблюдая большую дистанцию между машинами к переправе. Все напряжены до предела, но впереди тихо. Немцы еще не разведали эту, только что сооруженную ночью, переправу. Она хорошо замаскирована и представляла собой понтон-паром для одной машины с пушкой. К понтону присоединен канат, концы которого тянутся к лебедкам на правом и левом берегу, причем обе лебедки и подъезды к ним затенены густыми кронами деревьев. Разглядеть переправу с воздуха можно только, когда понтон движется по реке. Подъезд к переправе тоже среди деревьев лиственного леса, т.ч. замаскировались хорошо. Вот переправляется первая машина, а мы остановились метрах в 20 от берега под кустистым деревом. Машина заурчала уже на том берегу. Через несколько минут, когда понтон вернулся, нам махнули рукой и мы медленно въехали на настил понтона. Заработали лебедки. Понтон медленно двинулся на тот берег. Только бы не появились "мессеры". Небо голубое чистое с редкими облачками. Томительно тянуться минуты переправы. Вот и другой берег. Быстро съезжаем и во весь дух поднимаемся на левый берег, въезжаем в густой сосновый бор, догоняем первую машину и останавливаемся. Ждем остальные машины дивизиона. Удача. Все три батареи переправляются благополучно. Противник обнаруживает переправу позже, но нас это уже не касается. Трогаемся и, вскоре, останавливаемся на опушке могучего бора. Здесь позиция нашей батареи. Ещё утро. Недалеко в одном двух километрах слышны пулеметные и автоматные очереди. Там передовая. Комбат с разведчиками, почти бегом, идут к передовой оборудовать НП, в батальон, который ведет бой и который мы должны поддержать. Связисты Иванов и Головин быстро тянут связь следом. Огневики спешно оборудуют позиции под наши пушки. Меня оставляют на батарее в резерве, хотя я надеялся, что отправят на промежуток. Вместо дежурства в этот раз я, по решению помкомвзвода Фисунова и старшины, должен буду вскоре нести обед и, если понадобиться, необходимую утварь на передовую, а там по обстановке, вдруг придется кого-то заменить. Пока ложусь отдохнуть у кромки леса, прямо под куст, буквально усеянный ежевикой. Никогда не видел таких крупных ягод и в таком количестве. Полакомился, задумался. На душе как-то тревожно, хотя я уже привык к фронту, к существующему порядку. Но сейчас мы на плацдарме и жди наступления немцев, которые попытаются нас скинуть в реку. Да и не люблю я эти походы с обедом. Они кажутся мне непрестижными, хотя гораздо опаснее, чем дежурства на промежутке и даже на НП, когда там все устроено и нет атаки противника. Вообще, любые походы на НП опасны. Идешь или ползешь ничем не защищенный, а на НП или промежутке всегда есть защита - ровик, траншея или блиндаж.
Вскоре начало стрелять одно орудие. Значит наши уже оборудовали НП и ведут пристрелку по немецким позициям. Пролетела группа "мессеров". Вскоре справа и слева по реке послышалась бомбежка. Бомбят переправы. Успело ли переправиться достаточно войск и техники? На передовой усилилась стрельба. Слышны частые минометные налеты. Вот и обед. Поел на кухне без аппетита, хотя завтрак был скудным и давно. Повар налил полный 10-ти литровый термос, наложил большой котелок каши с тушенкой, привязал узелок с хлебом. Я взгромоздил всё на себя, взял карабин - лишняя тяжесть, но мало ли что. Старшина напутствует, чтобы шел осторожно, не спешил, "видишь что начинается?...". Это о немецкой контратаке. Даже благословил. Видно, что он понимает опасность похода и не считает его непрестижным. Но у меня другое мнение. Встряхнулся и пошел по "нитке" недавно проложенной связистами. Пересек поле и углубился в лес. Иду по узкой лесной дороге. Впереди уже непрерывная стрельба и разрывы мин и снарядов. Изредка слева и справа падают снаряды. Я приседаю, но мешает термос. Как проскочить? Лес кончился. На опушке промежуток. Там окопался наш телефонист, помниться Головин. Я прилег рядом и осмотрелся. Впереди полностью сгоревший и разрушенный поселок. Только кое-где видны фундаменты построек и остовы печек. За поселком купы деревьев вдоль извилистой речушки или оврага. По ту сторону немецкие позиции, по эту наши. Уточняю у Головина, каким путем добраться до НП. Он указывает на одну группу деревьев и говорит, что там блиндаж НП, туда протянута связь, которая все время рвется из-за минометного обстрела. Недавно, перед моим приходом Иванов, связист с НП, ликвидировал очередной порыв связи и она пока держится. Да и я все сам вижу. До блиндажа метров 100-150. Все пространство простреливается минометным и артиллерийским огнем. Вдобавок, пулеметные и автоматные очереди. Правда, последние вроде идут, в основном, по передовой, по первой лини траншей, по пехоте, что хорошо видно по трассирующим следам. Прикидываю, как пробежать этот участок. Вдоль поселка непрерывно лопаются в воздухе бризантные разрывы, посылая вниз на землю свои смертоносные осколки. Замечаю, что они перемещаются туда-сюда, справа налево и обратно. Минометные налеты следуют с немецкой пунктуальностью через 4-5 минут. Надо проскочить в паузу между налетами и, когда бризантные разрывы еще в стороне, справа или слева. За одну пробежку дистанцию с термосом, котелками и карабином не преодолею. Правда, карабин решил оставить у связиста. Все равно не преодолеть дистанцию за 3-4 минуты. Выбираю на глаз какую-то развалину, уже за бризантными разрывами. Проклинаю свою близорукость. Возможно это бугор. Ладно, сойдет и бугор. Теперь надо выбрать благоприятный момент. Выжидаю. Вот кончается минометный налет, а разрывы бризантов еще в стороне. Вскакиваю и во весь дух мчусь к развалинам. Сваливаюсь в небольшую ямку за невысокой кирпичной кладкой (очевидно остатки фундамента). Термос давит по спине. Бешено стучит сердце, сейчас выскочит! Перевожу дух, глядя в небо. Там так безмятежно, как дымки, рвутся бризантные разрывы. Ближе, ближе, затем уходят в сторону. Двигаются почти по прямой. Мне они уже не страшны, я проскочил опасную зону. Переждав пару минометных налетов, опять вскакиваю и бегом к заветной куще. Вот и вход в землянку-блиндаж. Вваливаюсь туда прямо на Шалевича.
- Ты откуда и зачем здесь?
- Принес обед.
- Какой к черту обед, видишь немцы лупят! Голову нельзя поднять! Связь и та то и дело рвется, хотя протянули 2 нитки. Иванова уже ранило, лежит в другой землянке. Наступление захлебнулось, только отбрехиваемся.
- Старшина приказал принести обед. Вот суп, каша, хлеб.
- Дурак старшина! Рисковать из-за обеда! Ладно, вроде чуть стихло. Разольем по котелкам, а ты живо обратно. Возможно, немцы в контратаку пойдут. Ты здесь не нужен. Сиди на батарее... Позовем, когда потребуешься на замену.
- Комбат, Комаров, Дубровских с рацией и Сашка (Хвощинский) рядом в траншее, наблюдают и огонь корректируют. Я только что оттуда, поем, передохну и смещу Сашку.
Примерно такой разговор состоялся на НП. Разлив всё по своим котелкам и оставив котелок с кашей, Шалевич приказал мне немедленно возвращаться. Обстрел опять усилился. Так не хотелось опять бежать через насквозь простреливаемый участок! Шалевич указал более безопасный путь по лощине, хотя он и длиннее. Переждав очередной налет, я короткими перебежками и пустым термосом вернулся на промежуток, взял карабин и уже спокойно, расслаблено возвращался по знакомой лесной дорожке. Сзади загрохотало еще сильнее. Там что-то нехорошее происходит. Прошуршали над головой снаряды и разорвались где-то в районе наших позиций. Но мне сейчас все равно. Только дойти и брякнуться отдохнуть. Лес кончился. Вон через поле и наши позиции. Вечерело. Надо как долго ходил!
Пришел в батарею, скинул термос на кухне, доложился старшине и узнал новости. В районе соседней 5 батареи немцы прорвались и вышли прямо на огневую. Была рукопашная сватка. Немцев отогнали. Там большие потери. Наш участок пока держится, хотя после моего ухода немцы перешли в наступление (недаром я слышал грохот). Правда, сейчас стихло. Позднее я узнал, что Шалевич чуть не попал к немцам. Он лег в блиндаже отдохнуть и заснул. А немцы слегка потеснили нашу пехоту и все кто был в траншее отошли вместе с пехотой на 200-300 метров. Блиндаж с Шалевичем оказался в расположении противника. К счастью, грохот разбудил его и, выглянув из блиндажа он увидел невдалеке, прямо перед собой немецкий танк и услышал немецкую речь. Схватив автомат, он ползком, по-пластунски, пополз среди кустов и вскоре вышел на своих. Говорил позже, что если бы его заметили, то пришел бы конец.
Пока мы на огневой обсуждали новости и гадали о дальнейшем, со стороны переправы стал нарастать шум и вскоре мимо нашей батареи, вперед и левее двинулась большая колонна средней и тяжелой артиллерии на тягачах. Куда это они? Там же передовая, а они всегда сзади нас. Значит там прорыв! А здесь удалось переправит много техники! Теперь жди нашего наступления. Вот дадим жару! Все повеселели. Опасность, что нас сбросят в Вислу, миновала. Прошла еще группа танков и вереница пехоты. Вскоре стемнело, бой впереди вначале усилился, но вскоре затих и мы узнали по связи с передовой, что немцы и на нашем участке отошли, испугались окружения. Теперь жди переезда на новое место. Плацдарм отстояли!
Пока я отдыхал от пережитого, а потом, когда стемнело, первый раз за последние дни спокойно уснул под знакомым кустом ежевики, завернувшись в шинель, на передовой происходили драматические события. После отхода немцев НП нашего дивизиона и батареи продвинулось вместе с пехотой вперед и расположилось на кирпичном заводе, точнее среди его развалин. Настала ночь. Справа и слева постреливали. Сплошной линии обороны не существовало. Немцы ракет почти не пускали. Обстановка была не ясна. Выждав некоторое время, комдив Козиев решил уточнить, что впереди и посмотрел на наших разведчиков Абрашу Шалевича и Сашу Гиянитулова, кого послать. Выбрал последнего и Саша, захватив автомат, скрылся в темноте. Прошло 10, 20 минут, может около получаса, впереди было тихо, а Саша не возвращался. Все забеспокоились, насторожились. Начало слегка светлеть. Тогда Шалевич ползком, среди редкой травы и кустов направился вперед и через 50-100 метров обнаружил убитого Сашу. С него были сорваны награды и захвачен автомат. Очевидно, он наткнулся на немецких разведчиков и они по-тихому его "убрали". Шалевич прислушался, присмотрелся, но никаких признаков немцев не обнаружил. Они ушли, отступили дальше. Вернувшись, он доложил о случившемся. Сашу перенесли к заводу и вызвали машину. Уже быстро светлело и тут поступила команда сменить позицию. Нашего Сашу (Рашида) перевезли и быстро, пока все готовились к переезду на новое место, захоронили. Мы лишились самого смелого разведчика и хорошего товарища.
Вот и новая огневая позиция на поле перед густым сосновым лесом. День теплый, солнечный. Вдалеке за лесом слышно легкая, какая-то ленивая перестрелка на передовой. Изредка автоматная или пулеметная очередь, еще реже минометный налет. Немцы и мы заняли оборону. Затишье на фронте. Самая спокойная обстановка. Они и мы интенсивно окапываемся. Огневики начали оборудовать свои позиции под пушки, а мы - взвод управления направляемся на сооружение НП.
Теперь меня взяли на НП вместо погибшего Гиянитулова. Идем группой: радист Степанов с рацией, 3 разведчика - наблюдателя, Шалевич, Хвощинский и я со стереотрубой, лопатами, топором и пилой. Во главе младший лейтенант Комаров. Состав группы, кроме Комарова, полностью молодежный от 18 до 23 лет.
Сначала зашли на НП полка в самой гуще леса. Там разведчики и связисты уже соорудили здоровую вышку до верхушек деревьев. Поднялись на верхнюю площадку. Передовой за лесом почти не видно, видно только поле за передовой. Что они будут наблюдать? Спустились и пошли дальше. Редкие очереди всё слышней. Вот и опушка. Где-то рядом протарахтел и замолк наш "Максим". Прилегли на самой кромке леса. Впереди поле, а метрах в 70-100 овраг, обозначенный купой деревьев. По эту сторону наши траншеи, по ту немецкие. Где и как удобнее оборудовать НП? Обычно НП оборудовали на самом переднем крае, в пехотной траншее или около. Но здесь оказался плохой обзор, т.к. траншея оказалась в низине, на склоне оврага. К тому же она хорошо просматривалась с немецких позиций по ту сторону оврага и НП быстро бы обнаружили. Решили рыть блиндажик на 6-7 человек в глубине леса, в нескольких метрах от опушки. Но где установить стереотрубу? Вначале последовало стандартное предложение: вырыть и замаскировать на поле, метрах в 10-20 от опушки ровик, установить там стереотрубу и протянуть от ровика до блиндажа ход сообщения (узкую траншею) тоже замаскированную. Но это требовало большой работы, причем короткой июльской ночью. И тут я предложил установить стереотрубу на сучковатой, развесистой сосне, которую я заприметил невдалеке на опушке, и рядом рыть блиндаж. Перед сосной росло несколько мелких сосенок маскировавших её, а наверху было несколько толстых разлапистых ветвей, где было удобно соорудить миниатюрную не заметную со стороны площадку для наблюдения. Обзор был превосходный, но позиция была опасно уязвима для любого пулеметного и даже автоматного обстрела. Предложение было необычным. Особенно возражал Шалевич. Перед его глазами стоял случай с Анацким под Калинковичами, когда тот полез на дерево и был тут же убит. Я знал об этом, но знать одно, а видеть собственными глазами - другое. Лейтенант Комаров колебался. Между мной и Шалевичем возник спор примерно такого содержания:
- Ты соображаешь, что будет? Как только заметят что-то подозрительное, сразу снимут очередью из пулемета! Да и случайно могут зацепить при обычном "прочесывании передовой" и поминай, как звали.
- Не заметят. Правда, сидеть придется весь световой день тихо, шевелиться аккуратно, да и за густой хвоей наблюдателя не разглядят так далеко. А прочесывание идет обычно понизу, по траншеям и больше ночью, а днем, обычно, редко - возражал я. Кроме того, сейчас затишье, наступления не предвидится и за несколько дней можно будет засечь много точек.
- А как выдержать такой длинный день? Ты сможешь просидеть 14-16 часов, не шевелясь? А пить, есть как? А солнце припечет?
- Я выдержу, если хорошо оборудовать сидение, а легкое шевеление не заметно. Пить можно из подвешенной фляжки, есть не обязательно. Только плотно позавтракать, да и бутерброд сжевать можно, если невтерпеж. От солнца там густой навес, а дождя пока не предвидится. Да в сильный дождь можно и незаметно слезть.
- Конечно, заманчиво, но опасно, помнишь, как Анацкого срезали, когда полез на дерево под Калинковичами?
- Так там было наступление! Жуткая стрельба. Да и он полез днем и это было глупо. Я первый полезу. Ну, не выдержу, соскочу. Смотрите, какое сучковатое дерево. Залезать и слезать легко.
Мы были молоды и, несмотря на опыт, неосторожны. Кроме того, я так горячо отстаивал идею, что решили рискнуть. Если не выйдет, сделаем НП, как обычно. Вечером оборудовали площадку на толстых ветках на высоте 8-10 метров. Старшина раздобыл и принес очень удобную подушку. Протянули связь, закрепили стереотрубу. Я замаскировал всё так, что даже в десятке шагов почти ничего не видно. Оставили только обзор для окуляров стереотрубы.
Утром, еще не рассеялся туман, я плотно позавтракал, захватил фляжку с водой, залез, хорошо, даже удобно устроился. Ноги на ветках, за спиной ствол, руки свободны. Надел трубку телефона, настроил стереотрубу под своё паршивое зрение и стал наблюдать, поворачивая окуляры вправо - влево. Как здорово все видно! Не то, что с земли. Да и близорукость не мешает. Уже в первые полчаса я обнаружил еще не законченную немецкую вышку для НП, блиндаж, куда в течении всего дня шныряли военные (с земли ничего бы не увидели). Значит, здесь командный пункт. "Привязал" обнаруженное к реперным точкам и сообщил всё вниз в блиндаж. Там Комаров с Шалевичем нанесли эти цели на карту и сообщили комбату. Затем, в течение дня, засек дорогу, тянущуюся за немецкой передовой, по которой довольно часто курсировали машины, еще что-то. До часу или двух дня я не чувствовал утомления. Был возбужден и, как то по детски, доволен своей "работой". Потом стал уставать, но было вполне терпимо. Потихоньку разминался. Стреляли редко и, как я и предполагал, всё по низу. Только после 16-17 часов почувствовал утомление и стал часто поглядывать, как заходит солнце. Но вот стало слегка темнеть, появился туман и я с облегчением слез с дерева и стал энергично разминаться. Поел с аппетитом и завалился спать в блиндаже.
На другой день была очередь Шалевича. Он позавтракал, но тянул с подъемом на дерево, а уже здорово рассвело. Видно было, что эта затея ему не по нутру. Но делать нечего и он залез. Однако, долго сидеть неподвижно не смог и стал заметно шевелиться. Мы забеспокоились и крикнули, чтобы не суетился. Но тут раздался треск от неприятельского пулемета. Полетели сучья и Шалевич стремглав скатился вниз. Мы залегли, не подымая головы. Прошла еще одна короткая очередь и всё стихло. Было не ясно заметили ли наш НП или это "профилактика". Но наблюдение с дерева прекратили, перешли на обычное, окопное устройство НП. Обзор не важный, но зато спокойнее и привычнее. Пришлось опять копать и маскировать позицию.
Через пару дней, утром Комаров отправил меня и еще одного связиста на батарею, помыться и заодно вернуться с обедом и сухим пайком. Мы возвращались в батарею теплым летним лесом. Передовая с её редкими перестрелками удалялась, обычное напряжение, когда там находишься, спадало и было ощущение, что идем на отдых. Вот кончился лес. На поле видны огневые позиции нашей батареи, а у опушки кухня с землянкой старшины и повара. Одно орудие начало стрелять. Очевидно, шла пристрелка по нашим реперным точкам. Следовало ждать ответных действий противника. Но мы были в стороне, в лесу, у нас было ощущение тыла, хотя до передовой каких-то 2-3 километра. Помылись, подкрепились на кухне, чуть отдохнули, лежа на сухой траве под деревом и, захватив пропитание, двинулись обратно. Только отошли на 20-30 метров от кухни, как в нескольких метрах сзади раздалась серия взрывов. Меня обдало воздушной волной, пороховым дымом. Просвистело несколько осколков. Мы уткнулись в землю, помниться, в мелкую ямку. Я оглянулся и увидел свежую воронку буквально в 2-3х метрах от себя. Чудом не накрыло снарядом и только потому, что снаряд перелетел через меня, разорвался сзади и основная масса осколков ушла вперед. Если бы он упал перед нами, или это была мина, нас могло изрешетить.
Если бы! Сколько еще было и будет этих "Если бы" счастливых и не совсем. Конечно, привыкаешь на передовой ко всему, но подспудно, внутри сидит напряжение и готовность к немедленной реакции. Отпускает только, когда отходим в тыл или отдыхаешь в блиндаже в периоды затишья.
Но я отвлекся. Ждали следующего налета, перекатившись в расположенную рядом ямку. Опять просвистело и ударило, но уже чуть дальше. Очевидно, немцы все же засекли батарею по стрелявшей пушке и хотели подавить ответным огнем, но засекли не точно и снаряды падали чуть в стороне, рядом с кухней. Если бы мы чуть задержались, буквально на минуту, другую, то, как раз, угодили бы под налет и вряд ли бы легко отделались. После второго налета мы вскочили и бегом углубились в лес, подальше от опасного места. Вот тебе и тыл! Всё тихо спокойно и вдруг бац, обстрел. Таковы будни близ передовой. Убьют или ранят, а может и пронесет - такова судьба даже в затишье.
Только мы вернулись в блиндаж на НП, как пришел приказ немедленно свертываться и быстрей обратно на батарею. Переезжаем. Всегда так. Только обустроишься, приказ переезжать на новое место. Весь труд насмарку. Впрочем, придут другие и им, возможно, пригодиться то, что мы нарыли. Пока сматывали связь и вернулись, огневики уже цепляли орудия к машинам, кухня свернулась и была "пристегнута" к хозяйственному ""Студебекер"у". Мы быстро погрузились и батарея выстроилась в походную колону на опушке леса. Вскоре двинулись в обратную от передовой сторону, к реке, к Висле, прочь с плацдарма. Куда же нас перебрасывают? По дороге встретили другие бригады и полки нашей дивизии. Значит всю дивизию перебрасывают! Возможно к Варшаве. Там, севернее слышна частая канонада и бомбежки. Вот и Висла. Здесь уже добротная, понтонная переправа. Много зениток. В воздухе барражируют наши истребители, прикрывая переправу. Закрепились хорошо. Мы переезжаем на другой берег и после короткой остановки едем в тыл. Сначала по проселкам, а потом по шоссе. Всё дальше от фронта и всё быстрее. С короткими остановками на дозаправку. Куда же нас перебрасывают? Уж конечно не под Варшаву!
БРОСОК ПОД БРЕСТ
Вот уже и фронта не слышно. Мелькают польские поселки. Очередная остановка в небольшом селе. Слезаем, разминаемся. Подходит пожилой поляк с косой. Спрашивает тревожно: "Отступаем пане?". Мы смеемся и отвечаем, что нет, это уже невозможно. Нас просто перебрасывают на отдых. Кивает, что понял. Отходит и видно, что не верит ни единому слову, сомневается. А как не сомневаться! Чего он только не повидал! Сплошной поток артиллерии разных калибров (целая дивизия!) мчится прочь от фронта. Но нет немецкой авиации, не слышно шума приближающегося фронта, нет отступающей пехоты, только артиллерия.
Мы сами гадаем, в чем дело. Господствуют две версии. Нас отводят на отдых или собираются отправить... на Дальний Восток. Очевидно, готовится война с Японией. Нигде об этом не говориться официально и даже полуофициально. Но мы чувствуем, что так и будет. Вся логика войны говорит об этом. Есть абсолютное зло - это фашизм, особенно германский, и доктрина японской военщины о господстве японцев на востоке. А тайные договоренности с нашими союзниками, по существу, секрет полишинеля. Так думали многие, так думал я, так и получилось.
Мы непрерывно едем, останавливаясь только на дозаправку и короткий отдых. Уже поздно вечером оказались под Брестом, в глухом лесу. Приказ - разбить лагерь по всем правилам. Опять, в который раз, копаем землянки, выстроив их в линеечку, побатарейно. Часть ребят нарядили сооружать большую полковую баню. Старослужащие твердят, что все это временно. Только построим баню, а нас опять перебросят. Сколько раз так было! Общее ощущение, что все это временно. Вот-вот поступит команда к перемещению. Лишь бы не в Азию, не к Китаю! Лучше обратно в "свою" Европу. Здесь уже все понятно, хотя и на много опаснее, чем в Азии. А там всё начнется только после разгрома Германии. Опять будут осточертевшие строевые занятия и скудный тыловой паек. Так думало большинство и так оказалось в действительности. Скоро немцам крышка. Хочется участвовать в разгроме немецких полчищ. Работа идет наспех, без энтузиазма, кое-как. Лишь бы быстрее закончить. Прошло 2 или 3 дня. Закончили землянки. Закончили и баню. Завтра пойдем мыться.
Темнело. Вдруг прибегает старшина и гонит нас в баню. "Быстрее, быстрее, кто не хочет быть грязным! Завтра нас перебрасывают и когда удастся помыться - неизвестно...". Срочно раздает белье, мы мчимся в баню и моемся, моемся не очень горячей водой, обливая друг друга из шайки. Так приятно почувствовать себя чистым и надеть чистое белье! Нас торопят, пришла другая батарея. Видно, что всем не удастся помыться. Уже темно, а завтра рано утром в поход. Уже прошел слух, что перебрасывают обратно, под Варшаву. Там восстание, а наше наступление застопорилось и стягиваются дополнительные силы. Многие, в том числе я, повеселели, обрадовались. Слава богу, не в Азию! А опасность как-то не страшна. Уже привыкли. Авось обойдется.
НАЗАД К ВАРШАВЕ
Утром, как всегда, выстроились в колону и двинулись обратно, но уже севернее, по хорошему шоссе, прямо на Варшаву. Опять, один за другим, мелькают польские поселки и городишки. Леса почти нет, погода солнечная и видно хорошо и далеко. На высотках то тут, то там разбросаны могучие железобетонные ДОТы. Видно, что немцы создали глубоко эшелонированную оборону. Но это не помогло. Прорыв наших войск был столь стремительным и глубоким, что вся эта оборона даже не была организована. Остановить наши наступающие части удалось только у Вислы, за 100-200 километров от места прорыва. Да и то из-за отставания тылов, нехватки горючего, отставания пехоты от моторизованных частей и задержек в подвозе боеприпасов. Разрушенных поселков почти не было, совсем не то, что на нашей территории, где сплошь шли развалины и на месте селений торчали полуразрушенные остовы печных труб.
Уже вечерело, когда мы приблизились к предместьям Варшавы. Остановились. Стала слышна почти непрерывная канонада фронта, то усиливающаяся, то затихающая. Мы прислушивались и присматривались к небу. Ждали обычного появления немецкой авиации, но ее так и не было. Плохи, значит, у немцев дела. Вот привычная команда "по машинам" и мы приближаемся к Варшаве затянутой дымом пожарищ. Вскоре въезжаем в предместье Варшавы, Прагу, расположенную на правом берегу Вислы. Основная часть города стоит на левом берегу. Проезжаем улицы Праги. Там, в основном 2-х - 4-х этажные дома. Разрушений мало. На улицах непривычно туда-сюда снуют "гражданские", поляки. Мало того. Проезжаем мимо какой-то площади, где порядочная толкучка! Идет интенсивный товарообмен. Мелькают шинели и нашей братвы, хотя немного. И это не более чем в километре от передовой, откуда хорошо слышна интенсивная перестрелка. Иногда просвистит снаряд и разорвется невдалеке. Многие пригибаются, но не разбегаются. Просвистело и опять торговля. Необычно, странно, не укладывается в голове. Возможно, голод выгнал.
Выезжаем на окраину Праги, в пойму Вислы. Здесь поселок с редкими владениями - участки земли с домиком, отгороженные друг от друга забором-сеткой. На открытом месте (кажется, огороды) будет огневая позиция. Разгружаемся. Огневики срочно оборудуют позиции. Потянули связь на НП следом за комбатом с разведчиками. Меня пока оставили в резерве. Землянки рыть не нужно, взвод управления разместился на 1-ом этаже пустого дома - развалюхи, на самой окраине жилого массива. Есть свободное время и я, предупредив помощника комвзвода Фисунова, отправился в штаб дивизиона разузнать обстановку, а заодно ознакомиться с местностью, поговорит с жителями на смеси польского с русским. Авось поймем друг друга. Вот и штаб дивизиона. Здесь узнал, что завтра атакуем немцев, пытаясь форсировать Вислу и закрепиться на том берегу, дальше пробиваться к восставшим. Уже подтянута 1-ая польская армия (Армия Людова?). Она будет освобождать свою столицу Варшаву. Только артиллерия, танки и авиация нашей Красной армии. Будет трудно.
Немцы (для подавления восстания) сосредоточили здесь несколько дивизий СС: "Адольф Гитлер", "Мертвая голова", еще что-то, много техники. Все дома на набережной заняты немцами и готовы к обороне. Как форсировать Вислу под плотным огнем? Одна или две батареи на нашем участке поставлены на прямую наводку по тому берегу. Артподготовка будет сильной, но вряд-ли эффективной, ведь в зданиях легко сохраниться и подавить расположенные там огневые точки весьма затруднительно, а то и невозможно. В общем, многие и я в том числе не питали иллюзии насчет завтрашнего наступления. Кроме того лобовой удар редко бывает успешным и требует много жертв. Уже тогда чувствовалось, что большинство считает наступление и восстание обреченным. Почему не ударили с "нашего" Магнушевского плацдарма на юге в обход Варшавы? Скорее всего, не успели подтянуть тылы и сосредоточит приличную группировку, обеспечить там надежные переправы. Да, и при успешном наступлении надо было преодолеть больше сотни километров, а здесь вот она Варшава, рядом, даже правобережная часть (Прага) уже занята.
Еще раз оговорюсь. Я был солдат, находился на нижней ступени военной иерархии и, конечно, не знал планов командования даже нашей части, не знал и не мог знать о фактическом соотношении сил, об общей обстановке под Варшавой. Но опыт и факты на нашем участке фронта подсказывали чего следует ожидать и каков будет вероятный ход событий. Более того, анализируя во время и после войны и много лет спустя свое восприятие событий на фронте, я почти не ошибался в прогнозе, как и многие думающие солдаты и офицера, имевшие, разумеется, приличный фронтовой опыт. Здесь сказывался "солдатский опыт", а всякие рассуждения о разной солдатской (окопной) правде, генеральской правде и т.п. выглядят в моих глазах дилетантскими домыслами. Хотя видение ситуации имело, конечно, разный масштаб. На фронте всё хорошо видно. Как идет подготовка к операции или бою, как отвечает противник. И нет оснований считать, что у соседей иначе. Кроме того надо уметь читать между строк официальную информацию, газетные сообщения и, конечно, уметь переваривать всяческие, порой противоречивые слухи о складывающемся положении дел.
Однако, вернусь к повествованию.
Только вышел из штаба и подошел к небольшой площади, где у походной кухни выстроилась очередь поляков за супом и кашей, раздаваемой голодному населению, как раздались крики: "Воздух! Воздух!". Все замерли, готовые нырнуть в ближайшее укрытие, но сначала обернулись в сторону Варшавы, откуда раздавался нарастающий гул армады самолетов. Затарахтели немецкие зенитки. Значит не немцы! Но кто с вражеской стороны летит и, судя по звуку, в большом количестве? Высоко в небе появился развернутый строй огромных бомбардировщиков, медленно плывущих над городом. Густой хор множества зениток был им нипочем. С самолетов посыпался рой парашютов с грузом. Быстро догадались, что это американские "летающие крепости" В-2, самые большие и эффективные бомбардировщиков 2-ой мировой войны. Я впервые увидел эти самолеты и поразился их мощи. Они сбрасывали помощь восставшим варшавянам. Только сколько досталось восставшим с такой высоты? Часть парашютов было сбито зенитками, часть отнесло ветром. Армада прогудела над нашими головами и ушла в сторону тыла. Это был один из челночных рейсов. Вылетали из Англии, бомбили объекты в Германии (сейчас десантировали помощь), садились глубоко в тылу на наших аэродромах, заправлялись, пополняли боеприпасы и обратно, "обрабатывая" по пути заданные объекты.
На площади вновь возникло оживление. Повар черпал из котла и разливал в кастрюльки, котелки, кувшины, бидончики солдатскую пищу и поляки отходили довольные. Часть благодарила, часть отходила молча. Разговорились с одной полячкой, пожилой по нашим понятиям (лет 35-40), которая неплохо говорила по-русски. Она говорила о голоде, с ненавистью об оккупантах, их заносчивости, пренебрежении простыми людьми, что-то о восстании. Хвалила польский язык, считая его очень красивым. Но чувствовалась какая-то недоговоренность, что-то было за пазухой. Возможно предвзятость к "красным", большевикам, а она была из семьи тех, кто бежал из России в гражданскую войну и, очевидно поддерживал "белых". К концу разговора мимо, на передовую прошла польская часть. Все в конфедератках и новенькой добротной форме. Не то, что наша форма из дешевенького ситца или хлопка, да, к тому же, вся в заплатках!
Свободное время еще было и я отправился побродить по окраинному поселку с тайной надеждой найти что либо на огородах. Вышел на просторную сельскую улочка с узкой, асфальтовой (или из спрессованной гальки) пешеходной дорожкой. Аккуратный высокий сетчатый забор (подумалось, вот бы у нас так, а то все заборы из штакетника или глухие), калитки на запоре. В глубине тоже аккуратные домики победней и побогаче, но все довольно просторные с подвалами, где, очевидно, хранилась снедь, дрова и прочие запасы. Жителей не видно, спрятались от возможных напастей в своих подвалах, как в бомбоубежищах. Вот очередной домик. На пороге стоит два молодой человека и один пожилой. Смотрят в мою сторону. Я остановился и помахал рукой Пожилой тотчас подошел, открыл калитку и на чистейшем русском языке приветливо пригласил зайти. Зашел. Разговорились. Оказывается он русский из маленького ярославского городка Данилова. Семья переехала до или после революции. Жена полячка. Надо же! Наш Хвощинский тоже из Данилова. Вернусь и ему расскажу, может быть заинтересуется. Подошли молодые (17-18 лет) симпатичные парни, следом выбежала очень симпатичная живая девчонка лет 15-16, дочь пожилого. Ей очень хотелось посмотреть на русского солдата. Пожилой рассказал об оккупации и, указав на парней, сказал, что они из знакомой еврейской семьи и всю оккупацию (5 лет!) он прятал их в подвале. Выходили они размяться только ночью. Натерпелись страху. Если бы узнали немцы, то всем был бы каюк! О немцах говорил с ненавистью, хотя среди них попадались и очень порядочные.
Но вездесущие эсэсовцы - это жуть! Много ли было таких спасателей? Сомневаюсь. Корысть? Но какая? Прочил парней в женихи дочери? Но это не повод рисковать всей семьей. Нет, просто такой смелый и, очевидно добрый, совестливый человек. Парни на смеси польского и русского, немого стесняясь, стали расспрашивать меня о ситуации. Не придут ли вновь немцы. Несколько раз раздавался свист и разрыв немецких мин и снарядов. Они приседали, готовые бежать за спасительные стены дома или в подвал, но я успокаивал, говорил, что это далеко, бьют по передовой, а она недалеко около километра. Узнав, что здесь польская армия парни спросили, как тотчас записаться. "Успеете", сказал я, подумав, что вот таких неопытных цыплят сразу кокнут. Поговорив, возвращаюсь к себе. Навстречу конфедерат, одетый с иголочки! Поздоровался на чистейшем русском, спросил откуда я. Ответил что москвич. А он из Чкалова (теперь Оренбург). Всех "русских" поляков призывного возраста мобилизовали в 1-ую польскую армию (Армию Людову).
Подозреваю, что "чистых" поляков в этой армии было мало. Она была создана в противовес армии Крайовы. Последняя состояла из остатков разбитой в 1939 году немцами и частично Красной армией польской армии, которая вела полупартизанскую войну и иногда отдельные части даже сотрудничали с немцами. Армию Крайову создало и контролировало польское правительство в изгнании во главе с Миколайчиком. Это правительство считалось (и было!) враждебно СССР и не признавалось нашей страной. Варшавское восстание под руководством Бур Комароровского было плодом деятельности правительства Миколайчика и его начало не было согласовано с нашим командованием. После войны было много спекуляций по поводу провала этого восстания. Нас обвиняли в том, что мы не оказали должной помощи восставшим из политических соображений и у поляков были чудовищные потери. Армии Людова и Крайова враждовали и между ними даже были стычки. Две враждующие армии отражали раскол в польском обществе и скрытую борьбу за влияние в Польше. Это отдельная тема. Поэтому ограничусь констатацией фактов. Нам же солдатам было не до этого. Главное разбить немцев и иметь побольше союзников.
Поговорив с конфедератом я вернулся к себе в часть обменялся увиденным со своими ребятами, написал, кажется, краткое письмо домой, что жив, здоров, все в порядке, поужинал и лег спать. Завтра артподготовка и наступление. Мне приказали идти утром с дополнительными катушками связи на НП пока идет артподготовка и немцы будут слабо огрызаться.
Утром без аппетита наскоро позавтракал традиционной кашей из перловки с тушенкой и чаем. С началом артподготовки водрузил на плечи катушки и карабин и пустился в путь. Как обычно, двигался по нитке связи, то держа её в руке, то стараясь не потерять из виду и не спутать с другими черный, гуперовкий провод, протянувшийся по земле. До первого промежутка на краю жилого массива дошел спокойно, а далее двигался вдоль улицы перебежками от укрытия к укрытию (здесь от подъезда к подъезду), чутко прислушиваясь, нет ли налёта с немецкой стороны. Иногда с шипящим свистом летели мины и рвались невдалеке, заставляя прижаться к стенке или нырнуть в подъезд. В один из налетов нырнул в подъезд и увидел свет в подвале. Спустился, а там сидят 3 или 4 польских солдата. Перед ними фляжка со спиртом. Закусывают. Спросил откуда они и как дела. Старший махнул рукой и сказал, что дело дрянь. При переправе почти всю роту перебило. Огонь жуткий. Пришлось вернуться. Остались только они, а вечером или завтра опять попытка пробиться. Правда, другие захватили кусок здания на набережной, а дальше ни шагу. А мы не смогли к ним переправиться и помочь. В общем, хана нам. Настроение у всех было подавленное. Кстати, это были "русские" поляки из "нашей" 1-ой польской Армии. Я пожелал им успеха (авось пронесет!) и опять перебежками от укрытия к укрытию двинулся дальше к Висле. Вот и набережная. На той стороне почти непрерывная стрельба. Чувствовалось, что там жарко. Быстро свернул влево за 5-6-ти этажный дом на берегу. Здесь НП.
Поднялся (взбежал) по лестнице на предпоследний этаж. В пролетах кое-где пробоины от снарядов и виден кусок реки и тот берег. В полностью разворошенной квартире расположились наши связисты и отдыхающие разведчики, Шалевич и еще кто-то. Дежурный разведчик (помниться Хвощинский) с Комаровым и комбатом на чердаке, где оборудован наблюдательный пункт. Они засекают цели и дают команды на батарею. То и дело наверху, справа, слева рвутся снаряды и мины, но за стенкой не страшно, тем более, что снаряды и мины легкие, малокалиберные. Тяжелыми снарядами бьют редко и где-то в стороне. Изредка перебивают нашу "нитку" и дежурный связист бежит связывать разрыв. Сбрасываю поклажу и сажусь отдохнуть. Хочется перекусить (перед походом на НП аппетит отбивает). Роюсь в разбросанном барахле, разбитом буфете и нахожу банку какао! Сто лет не пил его! Шалевич дает немного песку, я тщательно размешиваю, и мы едим его ложками, запивая водой. Не шоколад, конечно, но вкус ничего. Спустился Комаров и подтвердил, что дело дрянь. Немцы усилили нажим и наши на том берегу еле держаться, а до ночи переправить подкрепление невозможно. Да и ночью тяжело, вешают ракеты и бьют по площади реки. Но все же удается, улучив ослабление огня, проскользнуть на ту сторону, подбросить кое-какие резервы и вывезти раненых. Как и ожидалось, потери большие. Там наш комбат пятой батареи Данилин. Ранило его, но пока держится и корректирует огонь. Вскоре, стрельба стихла и я вернулся "домой" налегке быстро и без осложнений.
В последствие узнал, что в это же время разведчик 5-ой батареи Полунин и связист Панчалидзе пробирались на свое НП. На улицах валялся всякий хлам и нас предупредили, что там много мин ловушек, надо обходить все предметы стороной. На одной из улиц Полунин увидел консервную банку и из озорства поддал её ногой в сторону Панчалидзе. Раздался взрыв и ранило не Полунина, а Панчалидзе! Он вообще оказался неудачником и часто попадал в скверные истории. Однажды, уже в Германии, он стоял на посту у штаба дивизиона. Была ночь. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Стой, кто идет! Молчание и приближающиеся шаги. Стой стрелять буду! Опять молчание. Шаги совсем близко. Мелькнула эсесовская фуражка. Выстрел почти в упор и молчун рухнул на землю. На выстрел сбежались все от начальника караула до обитателей штаба. Оказалось, что молчун - это комбат нашей батареи Ершов. Он был мертв, пуля попала в голову. В чем дело, как такое возможно? Все очень просто. Ершов ходил к соседям. Там хорошо клюкнули. Кто-то дал ему найденную фуражку эсэсовского офицера. Он спьяну натянул её на голову и так пошел обратно. Окрика, возможно, не слышал, а скорее не обратил внимание. Дело скандальное! Его кое-как замяли, а домой ушла похоронка: "Погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками...". Сколько еще было нелепых смертей по пьянке! Комбатом тогда у нас стал лейтенант Бойко.
Однако, пора идти дальше. Следующее наступление сопровождалось большими жертвами. Заняли всего несколько домов на набережной. Готовились к третьей попытке и вдруг приказ: вернуть всех с того берега и перейти к обороне. Восстание подавлено - сообщили нам. Действительно на той стороне Вислы стрельба прекратилась. Сколько же там было жертв среди восставших и гражданских лиц - думали и обсуждали мы.
Сейчас говорят и трубят(!), что мы и союзники не оказали помощи восставшим. Враки! Я сам свидетель и участник попытки помочь. Возможно, опоздали или было мало усилий с нашей стороны или, как говорили, восстания не согласовали с нашим командованием, т.к. у Бур Комаровского было одно желание: опередить нас, самим освободить столицу и создать своё правительство? Может быть так, не берусь судить. Знаю только, что мы солдаты и офицеры искренне хотели помочь. Было много жертв, но не вышло и мы понимали, что расправа эсэсовцев была чудовищной!
Наступило затишье. Нас переместили немного левее, напротив южных пригородов Варшавы и мы, как и все, перешли к обороне. Стало спокойно и тихо. Редкая перестрелка через реку. Напряжение спало. Наступила передышка, хотя мы понимали, что это ненадолго! Действительно, через пару-тройку дней нас вновь перебросили, уже севернее Варшавы, где сохранялся плацдарм немцев на нашем правом берегу Вислы. Приказано ликвидировать их плацдарм и захватить наш плацдарм на том берегу.
СЕВЕРНЕЕ ВАРШАВЫ
Полк заняли позиции под Яблонной-Легионовой и сразу же началась подготовка к наступлению. Наш комвзвода Комаров впервые взял меня с Шалевичем на поиск места и сооружение НП в расположении поддерживаемого пехотного подразделения с последующим дежурством на НП. Это доверие мне польстило. Наконец-то моя близорукость не служила препятствием и я причислился к негласной элите батареи (элитарность и уважение определялось степенью опасности и все, кто оказывался на передовой с пехотой удостаивались этой чести). Это было мое первое участие в наступлении в общих рядах с пехотой и потому запомнилось особенно ярко.
Вечерело. Немцы непрерывно огрызались минометным огнем. Догадывались, что готовится наступление. Мы взяли у старшины лопаты (выбирали поострее и крепче, немецкие, наши были значительно хуже, тупые, из непрочного, гнущегося железа), я карабин, а Шалевич автомат за спину и во главе с Комаровым пошли к передовой. Чем ближе, тем отчетливей стрельба и минометные разрывы. Стало понятно, что будет туго, опасно, придется сооружать НП при непрерывном обстреле. Однако, мы шли с Комаровым, которому, как я отмечал выше, бесконечно доверяли и знали, что он напрасно рисковать нами не будет и организует всё наилучшим образом.
Остановились у второй линии окопов. Уже посвистывали пули, но на излете. Комаров приказал залезть в траншею и ждать его возвращения. Он сам пойдет вперед и выберет место для НП. С этими словами он быстро пошел вперед к слегка заросшей, неглубокой лощине, которая примыкала к первой линии окопов. Лощина и весь передний край почти непрерывно обстреливались из минометов. Мы стояли в траншее бок о бок и напряженно вглядывались вперед, пытаясь определить, куда направился Комаров. Совсем стемнело. Смутно просматривались деревца лощины. Только вспышки минометных разрывов и трассирующие очереди автоматов и пулеметов. Прошло минут двадцать и вдруг у левого уха, между мной и Шалевчем, прогудела пуля на излете. Мы шарахнулись друг от друга и пригнулись за бруствер. Несколько сантиметров влево или вправо и попало бы прямо в лоб. Повезло! Сколько еще было этих "повезло". Вот из темноты вынырнул Комаров и скомандовал "за мной короткими, совсем короткими перебежками". С концом очередного налета мы ринулись к лощине. Комаров вскочил в чей-то блиндаж, вырытый в крутом скате лощины. Мы за ним. В блиндаже находился офицер и связист на телефоне. Тут же со всех сторон раздались удары очередного налета. Посыпался из щелей наката песок. Но в блиндаже не страшно. Отдышались и Комаров приказал рыть блиндаж рядом с этим в нескольких метрах. "Только в перерывах между налетами! Засвистело, зашуршало, ныряйте в блиндаж. Я договорился, здесь командир нашей роты (или батальона)", т.е. тех, кого поддерживает наша батарея. И вот мы оборудуем НП под обстрелом. Сбросили шинели и оружие. Налет кончился. Мы выбегаем и лихорадочно роем яму под блиндаж, примерно 3 на 3 метра, глубиной 1,5 м. Самое трудное в начале, когда ты на виду и падаешь на землю при каждой очереди над головой. Хорошо, что земля песчаная с тонким слоем дерна. Начали, конечно, сбоку, прикрывшись от пуль довольно крутым скатом лощины, хотя вылезать наверх приходиться. Пот льет, сердце бешено стучит. Бросок за броском комьев земли. Чаще, чаще и побольше на лопату. Услышал свист мин, скатываешься в блиндаж. Но вот уже образовался бруствер. Глубже, глубже и уже не так страшно. Только прямое попадание опасно, а это редкость. Протянули связь из батареи. Яма готова.
Привезли напиленные где-то бревна для наката ("Студебеккер" остановился у траншей второй линии, а оттуда бежишь, что есть мочи, с бревном). Бревно к бревну, сверху солома, затем земля и накат готов. Даже 2 слоя бревен положили. Теперь только тяжелый снаряд пробьет, а это совсем маловероятно. Замаскировали сверху ветками, постелили толстый слой соломы внутри и блиндаж готов. Рядом ровик для стереотрубы. Каких-нибудь 1,5-2 часа и вполне приличное НП готово! Правда, повезло, что налеты стали реже и затем совсем прекратились. Это обычное дело к ночи всё стихает. На это и рассчитываем всегда. Установили связь с батареей. Завтра пристрелка и затем наступление. Нет, никто нам не говорил о дате наступления, но опыт подсказывал, что через день начнется. Будет ли удача?
Остаток ночи удалось поспать, растянувшись на толстом слое свежей пахучей соломы. На телефоне дежурил Головин. Днем была пристрелка, притащили еще несколько катушек, попеременно с Головиным я дежурил на телефоне. Предположение о завтрашнем наступлении подтвердилось к концу дня, когда вечером стали подходить и размещаться в окопах свежие части. Близ передовой сосредотачивались танки. Впрочем, это не было для нас новостью, а только уточнением времени начала. Между дежурствами достал из вещмешка несколько свежих брошюрок, в которых были юмористические рассказы Чехова, фронтовые - Алексея Толстого еще кого-то (тоненькими брошюрками из классиков и советских писателей нас снабжали регулярно). По просьбе окружающих бойцов читал вслух, в том числе и во время артподготовки, когда в наш блиндаж-землянку набились и наши и чужие. Чеховские рассказики вызывали ответный смех. Толстой тоже вызвал смех, но другого рода - горький и иронический. Помниться, там описывалось ситуация на НП батареи во время наступления, где один за другим гибли связисты, восстанавливая порванную минометным огнем связь под непрерывным обстрелом. Описание было талантливым и для рядового читателя вполне правдоподобным. Но мы сразу почувствовали фальшь. ТАК не ведут себя на передовой, это чистая выдумка. Обидно.
Ночь прошла сравнительно спокойно: чуть более частая перестрелка, в основном, со стороны немцев, тихая поступь подтягивающейся пехоты, частые, негромкие уточняющие команды по связи. Слегка забрезжил рассвет. Принесли с кухни завтрак, кашу. Поели, как всегда перед боем, без аппетита и все напряглись ожидая начала. Нам было поручено, с последними залпами артподготовки по команде быстро, вслед за пехотой преодолеть нейтральную полосу и тянуть связь. Быстро тянуть, пока противник не очухался и не открыл ответный огонь по хорошо пристрелянной нейтральной зоне.
Началось! Вначале характерный залп множества "катюш" и затем грохот всей артиллерии по всем разведанным целям на передовой и в глубине обороны противника. В нашу землянку, как и в другие, набилось множество бойцов (многие лихорадочно курили), прячась от ответного огня и недолетов нашей артиллерии. Прошло 5, 10, ... 30 минут непрерывного грохота. Затем мощный огневой вал по немецким окопам и команда комбата "на выход! Пехота уже пошла!". Я схватил катушку, уже присоединенную одним концом к телефону НП, карабин, вещмешок и вылез наружу. Теперь здесь промежуток, а мне тянуть линию следом за нашей командой (комбат, Комаров, Шалевич, радист, еще кто-то). Огневой вал ползет вглубь немецкой обороны по артиллерийским позициям, дорогам и другим объектам. Следом пехота, за ней мы. На нашем участке передовой тихо, немцы не отвечают. Правда, в стороне работает их "скрипач" и справа в отдалении раздаются мощные взрывы. Но это не у нас. Хорошо, успешно поработала наша артиллерия, пока что все огневые точки подавлены.
Вместе с другими перебегаю нашу траншею и уже на "нейтральной полосе". Это болотистая низина, разделяющая наши и немецкие позиции. Раскручивается катушка, висящая на плече. Надо скорее проскочить "нейтралку" пока немцы не отвечают, ведь она вся пристреляна. Смутно различаю "ту сторону", линию немецких окопов, за ними лесок на подъеме. Пехота уже в этих окопах. Там редкие автоматные очереди. Почему? Оказалось, что немцы бежали с передовой, правда, захватив все свое оружие. Наверное, отступили по приказу. Бежать надо по узкой, обозначенной саперами разминированной полосе. Вправо и влево мины, смерть! Я со своей ношей отстаю от своих, хотя жму изо всех сил, бешено колотиться сердце, пот заливает глаза. Сзади кто-то сопит нагоняя, торопиться, не выдерживает и обходит слева за полосой! Кричу: "дурак, мины!". Тут же раздается грохот и он падает. Всё! Убило или оторвало ноги! Не оглядываясь, бегу дальше. Скорее, скорее. Вот и немецкий окоп. Прыгаю в него и валюсь на землю. Добежал! Можно перевести дыхание. Рядом наша команда. Комбат уточняет по карте дальнейший путь. У меня, слава богу, кончилась катушка и другой связист (кажется Леончик) присоединяет свою катушку.
Двигаемся перебежками дальше, в гору, сначала по траншее, ведущей в лес, а затем в лесу поверху за комбатом. Теперь я налегке с пустой катушкой, не отстаю. Справа, слева изредка постреливают, а впереди тихо, никого. Значит, немцы драпанули и прорыв, кажется, удался. Двигаемся спокойно, перебежками, но насторожено. Не то, что на нейтралке! Прошли 1 или 2 километра. Вот опушка и брошенный немцами блиндаж. Шикарный блиндаж: потолок и стены обшиты строганной доской, аккуратные лежанки для отдыха и даже деревянный пол! Наверно здесь был штаб. Приказано временно разместится, выставить часовых. Канонада смолкла. В прорыв должны войти танки, но пока их не слышно. Включили связь и комбат соединился со штабом дивизиона. Наши батареи уже свернулись и двинулись через нейтралку на новые позиции.
Дальше началось непонятное. Кругом нет пехоты! Надо найти и связаться с пехотой. Шалевич пошел разведать вперед, а Комаров вправо, влево и назад. Пройдя осторожно 100-200 метров, Шалевич увидел впереди лесную дорогу и услышал шум шагов. Он спрятался за кустом. Шум усилился. Появилась группа немецких солдат, эсэсовцев с офицером во главе. Они быстро, полубегом прошли мимо, куда-то в сторону. Шалевич осторожно отполз, бегом вернулся к блиндажу и сообщил новость. Вернулся и Комаров. Оказывается мы обогнали пехоту и она только медленно подтягивается, заняла рядом позицию и остановилась. На наш взгляд, пехотная часть была слабой, по нашим понятиям "плохой". Она, почти сплошь, состояла из необстрелянных новобранцев, в основном, молдаван, очень пугливых. При каждом выстреле или полете снарядов они падали на землю и командир с трудом их поднимал. Да и командиры казались неопытными. Ждали танков, а они не появлялись. Вскоре выяснилось, что они застрял на нейтралке при переезде через болотистую низину. Пехота стала окапываться, так и не войдя в соприкосновение с противником. Стало темнеть. Ощущение какой-то неразберихи и провала наступления. Я надеялся комфортно переночевать в блиндаже, но комбат приказал мне и Шалевичу вернуться с передовой к батарее, которая уже заняла новые позиции недалеко от "нашего" блиндажа, отдохнуть там и ждать дальнейших распоряжений. Завтра будет наступление. Мы, с сожалением покинули уютный и теплый блиндаж и побрели по связи в батарею. Оказалось, что она почти рядом, на опушке леса. Стало совсем темно. Свернули на кухню, расположившуюся на небольшой высотке, хорошо подкрепились у нашего повара - Коваленко. На передовой стали постреливать. Немцы уже организовали оборону и стали огрызаться.
Пора устраиваться на ночлег. Шалевич предложил устроиться под кухонным "Студебеккером", между скатами, хотя в такой обстановке положено обязательно окопаться. Не рыть ведь ровик на одну ночь! Легли, подстелив плащ - палатку и завернувшись в шинель. Мне не спалось, охватила тревога: на стороне передовой усиливалась стрельба. Там и сям слышались разрывы снарядов. Значит, немцы ведут пристрелку. Я вылез и стал невдалеке копать ровик. Так будет надежнее. Хорошо, что земля песчаная. Но провозился больше часа, соорудив узкий но глубокий ровик. Можно впритирку разместиться двоим. Стало слегка светать. Эх, не удастся поспать! Напрасный труд. Шалевич вылез из под "Студебекер"а, потянулся, подошел ко мне и хотел что-то сказать. Но тут раздался близкий свист мины. Я рухнул в ровик, Шалевич на меня. Земля затряслась от разрывов, несколько раз ударило совсем рядом. На нас посыпалась земля и песок и стало засыпать сверху. Мы были только рады, хотелось зарыться глубже. Налет прекратился. Наверху раздавались крики и стоны. Мы выпрыгнули из ровика. Кругом развороченная земля. Кто-то крикнул, что наш повар Коваленко ранен, кого-то убило, кто-то корчился от ран. Сейчас будет повторный налет, такова тактика немцев. Действительно, вновь свист, мы ныряем в ровик. Хочется зарыться как крот. Опять вокруг затряслась земля, удары справа, слева, сыпется земля. Одна мысль: только бы пронесло. Налет кончился. Мы, отряхиваясь, вылезли, и в который раз убедились, что узкий ровик почти полная гарантия безопасности даже при плотном налете. Теперь надо организовать помощь раненым. Старшина послал за шофером и, пока он пришел, осмотрел машину и завел мотор, я, старшина и связист Леончик погрузили в кузов нашего повара, который уже потерял сознание, еще двоих или троих раненых и сами забрались туда со своими карабинами. Шалевич отправился на НП, а нам надо срочно доставить Коваленко и раненых в медсанроту! Наш ""Студебекер"" получила несколько пробоин, слегка подтекал бензин, но мотор работал, колеса целы. Шофер был опытный (Ушаков или Маршалкин). Он развернул машину и погнал напрямик по целине, вниз по склону, слегка виляя между редкими деревьям и обходя окопчики и впадины. Вниз, к линии, занятых вчера, окопов. "Что? Отступаем?" - раздался тревожный голос из окапывавшейся пехоты. "Нет, раненых везем!" крикнул кто-то из нас. Скатились вниз и к нашему, точнее раненым, счастью недалеко оказался наш полковой медпункт в нашей санитарной летучке. Перегрузили раненых, старшина вернулся на кухню, а я и Леончик пошли обратно вчерашним путем по немецкой траншее.
НА МИННОМ ПОЛЕ
Идем по траншее и видим солдата, сидящего на бруствере и обращающегося к проходящим с просьбами, от которых все, слегка задержавшись, отмахиваются и идут дальше. Подходим. Солдат оказался старшим сержантом, очевидно фельдшером, судя по добротной форме и огромной санитарной сумке через плечо. Он просил помочь вынести раненых с еще не разминированного минного поля. Все, естественно отказывались: какой дурак сам полезет на мины, сначала саперы должны очистить подходы. Фельдшер уже безнадежно посмотрел на нас и произнес:
- Что? Тоже не поможете? Там еще, наверно живые, четверо лежат. Помирать им значит без помощи?
В глазах его стояла такая тоска и взгляд был каким-то обреченным и умоляющим.
Леончик сразу отказался, а мне стало как-то неловко, хотя понимал, что лезть на мины глупо и бессмысленно. Я, помниться, ответил, что нельзя без саперов, да и зрение плохое, а то бы помог. Фельдшер оживился и стал уверять, что он разведал подход и это недалеко, метров 10-20, вон чернеют тела. "Сам пойду впереди, а ты сзади по моим следам" произнес он. Делать нечего и я согласился, хотя в душе ругал себя: зачем ввязался, ведь лезть на мины - последнее дело... Леончик, как и подошедшие солдаты, качали головами и твердили: куда лезете! Но фельдшер уже встал, поправил санитарную сумку и осторожно пошел к раненым. Я следом за ним, стараясь идти след в след и чертыхаясь про себя. Подошли. Зрелище ужасное: на носиках неподвижное тело, а рядом неподвижно лежали четверо, двое поодаль, двое у носилок, все с оторванными, почти по пах ногам. Обрубки кровоточат и похожи на срез сломанной сосны. Стала ясна картина происшедшего: два пожилых санитара пошли за раненым, возможно по приказу этого фельдшера. Уложили его на носилки и, сделав несколько шагов, подорвались на минах. Фельдшер послал еще двух. Они также через пару шагов подорвались. Санитаров больше не было и тогда он, возможно чувствуя угрызения совести, понимая, что он своими необдуманными (возможно по неопытности) приказами погубил четыре жизни и, желая хоть кого-то спасти, решил идти сам. Но требовался помощник. Все это я прокрутил в голове потом. А сейчас мы уже здесь, на месте происшествия. Фельдшер осторожно зашел к дальнему краю носилок, я остался у ближнего края.
- Этот уже мертв - сказал он, указывая на носилки - его сбрасываем, а кладем другого по моей команде, жив еще, кажется - он указал на лежащего рядом санитара.
Мы наклонились и только приподняли носилки, как раздался оглушительный взрыв, подбросивший носилки, что-то больно ударило в лицо, стало темно в глазах и я упал. Свалился и фельдшер. Через несколько секунд раздался его голос: "мне оторвало ногу!". А я не мог открыть глаза. Они сильно болели. Остальное было цело. "Неужели выбило глаза или я ослеп? И что теперь делать?". Одной рукой стал протирать глаза и пытаться их открыть. Боль, резь, но на мгновение удалось приоткрыть один глаз и смутно увидеть свет и сгрудившихся в траншее солдат, они наблюдали. Значит не все потеряно, глаз цел! Но как вернуться? Теперь уж никто не подойдет! А фельдшер без ноги и возможно есть еще мины. Придется тянуть самому, но смогу ли. "Ложись на меня, поволоку..." сказал я фельдшеру, осторожно помог взгромоздиться на спину и пополз на четвереньках к траншее, придерживаясь пройденной нами стежки, изредка, с болью открывая глаз. Фельдшер помогал здоровой ногой. Повезло! Мин здесь не было, а то бы каюк обоим. Вот и бруствер. Я сползаю в траншею. Пытаюсь проморгаться, но удается только моргнуть одним глазом и все время резь и боль. "Говорили ведь не лезь! Вот ведь что получилось!", ворчит Леончик. А получилось пять трупов, один без ноги и у меня засыпаны (а может повреждены) глаза и никакого результата. Замечаю, что фельдшеру, по его просьбе, помогают сесть на край траншеи солдаты, очевидно, из его части. Он открывает сумку и сам (!) перевязывает кровоточащую культю. Это пока, с горяча. Леончик вскидывает оба карабина на плечо и ведет меня обратно в медпункт.
Наш военврач пытается промыть глаза, но не получается. Мне накладывают повязку на глаза и отправляю на машине вместе с другими ранеными.
По дороге попадаем под артобстрел. Немцы бьют по дороге, но всё перелет. Проскакиваем опасный участок и вскоре пребываем в нашу медсанроту. Это полевой госпиталь нашей дивизии, размещенный в лесу. С меня снимают повязку и врач долго промывает глаза и что-то закапывает. "Ничего - говорит он - глаза целы, но сильно воспалены, возможно, от попадания пороха и земли. Пару дней походишь с примочками, а там посмотрим, а сейчас ложись, еду принесут санитары...". Через два дня у меня сняли повязку и я становлюсь ходячим. Посмотрелся в зеркало. Глаза еще воспалены и слегка побаливают, белки с красными пятнами, но главное, что глаза целы, а остальное со временем пройдет. В общем, повезло, чудом не подорвался на минах! Остался один вопрос, зачем я полез на минное поле, зная опасность и, скорее всего, безуспешность этого дела. Полез без приказа, при общем неодобрении. Этот умоляющий взгляд и эфемерная надежда спасти кого-то? Не знаю, помню только, что не в силах был отказать, остался бы стыд за себя.
Осмотрелся. Огромная палатка на 3-4 десятка человек плотно заставлена походными кроватями, на которых, не раздеваясь, лежат раненые, укрывшись шинелями. Здесь только легкораненые. Больные в другой палатке. Тяжелые после первой помощи, не задерживаясь, отправляются в госпиталь. Выздоравливающие помогают лежачим. По утрам и днем над головой проносятся Илы. Значит, наступление продолжается. Правда, прибывающие раненые говорят, что оно идет туго. Настоящего прорыва нет. Это видно нам и по косвенным признакам: гул канонады почти не спадает, медсанрота не перемещается. Значит, нет настоящего продвижения. Что-то не учло наше командование фронтом во главе с Рокоссовским.
Через семь-десять дней меня выписали в часть "на амбулаторное лечение", это значило, что какое-то время я буду находиться на батарее и выполнять второстепенные, по моим понятиям, задачи, которые я не любил.
НЕУДАЧНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Вот и машина из нашего полка, привезшая раненых. Через несколько часов я был уже в тылу нашей батареи у студебеккеров, расположенных в укрытиях. Впереди слышалась почти непрерывная минометная и автоматная стрельба. Шофера наперебой рассказали мне новости. Наше наступление идет с большим трудом. Уже пару дней не удается продвинуться, застряли в пойме Буга в проклятом треугольнике. Это Т-образный перекресток дорог, проходящих по дамбам, образует треугольник, огороженный дамбами. С одной стороны дороги наши, с другой немцы. Небывало близко! Они и мы швыряют друг в друга через дорогу гранаты. Туда и сюда бьют минометы, а пушки или молчат, слишком близкое соприкосновение, или стреляют по более дальним целям. В треугольнике наши, там блиндаж НП в толще дамбы. Треугольник почти непрерывно засыпается немецкими минами. Через несколько минут я был у пушек, на огневой, где всё сказанное шоферами подтвердилось.
Еще 2-3 дня шел бой без продвижения. Я, как и ожидал, дежурил на кухне, носил в треугольник (через водосточную трубу) на НП еду, патроны, катушки со связью. Эти походы были опаснее нахождения на НП. Попробуй, угадай, когда перерыв в налетах. Несколько раз чудом избегал попадания под мины. Помогал опыт и расчет. Лезешь через трубу, у выхода замираешь и прислушиваешься. Только кончился очередной налет - бегом к НП или от НП к трубе, ныряя в трубу при малейшем свисте. Каждый раз в треугольнике замечаешь 2-3 еще не убранных трупа. Бедолаги попали под налет. Помниться, что я даже завидовал дежурным на НП, хотя им не сладко переживать почти непрерывный грохот от рвущихся мин и гранат снаружи. Я то все же отдыхаю на огневой от этого грохота и прямой опасности.
Наконец немцы отступили на пару километров, потом еще на три. Запомнилось два момента.
После одного продвижения, только переместился бой, я со связистом тянул дополнительную связь к НП вдоль дороги. Вдруг мы наткнулись на несколько трупов солдат нашей пехоты. Их еще не убрали. Они лежали совсем юные в новенькой форме, только что убитые, еще не сошла краска с лиц. Это был их первый и последний бой. В кармане у одного лежало письмо из дома и его ответ, который он не успел отправить. Стало невыносимо грустно. Мать, родные ждут сейчас от него весточки, надеются, а его уже нет...
Очередное продвижение. Я несу на НП, расположенное в центре деревни, обед. Место открытое, а деревня, где расположился НП непрерывно обстреливается. Продвигаюсь короткими перебежками от укрытия к укрытию (яма, поваленное дерево, разбитое строение...), с трудом угадываю нерегулярные и очень короткие перерывы в обстреле. Иногда казалось все, попался. Напряжение было чудовищное. Чудом добрался, точнее ввалился в блиндаж НП прямо на Шалевича. Тот покачал головой и сказал: нечего было приходить, обошлись бы до ночи. А у меня разом спало напряжение и я единственный раз за всю войну попросил закурить и курил с жадностью пока не отошел. Было обидно, старался, рисковал, а он говорит, что неважно, подумаешь обед! Вообще, походы на НП были часто опаснее чем дежурства там.
Перекурил и опять перебежками назад, на огневую, проклиная эту непрестижную работу.
Вскоре продвинулись еще немного вперед и встали в оборону так и не ликвидировав немецкий плацдарм. Стало спокойно, но долго ли будем в обороне? Вновь дежурство на линии, доставка обедов, связи на НП. Как-то иду по линии и встречаю одного из офицеров - москвичей (Чалых или Алексеева). Спрашивает: "Кем будешь после войны? Ведь конец не за горами". Ответил, что пока не думаю, надо еще дожить, но если повезет, то пойду в институт. О том, что будет "после" старался не думать, но знал точно, что военным не буду ни за что!
Пока своего рода отдых, читаем, пишем письма и ждем новой команды. Наступила поздняя осень. Прошло немного времени и очередная команда прозвучала. Сворачиваемся и перебрасываемся южнее, опять на Магнушевский плацдарм, который мы отстаивали и отстояли летом. Очевидно, сосредотачивают войска для нового наступления.
Марш бросок и мы на переправе через Вислу. Теперь здесь несколько переправ охраняемых истребителями и зенитками. Немцы бросили попытки их разрушить. Не до этого. Успевай только затыкать дыры. Союзники уже освободили Францию и приближаются к границам Германии. В Италии свергли Муссолини. Местные партизаны поймали его и повесили. Итальянцы выбыли из войны и приходиться их заменять своими войсками, которых уже не хватало. Разгром и конец близок, но фашисты сопротивляются, правда, слабее. Верхушка наци оттягивает конец и на что-то надеется, скорее всего за свою жизнь цепляются.
СНОВА НА МАГНУШЕВСКОМ ПЛАЦДАРМЕ
Мы спокойно переправились через Вислу и расположились на запасных позициях близ кирпичного завода, точнее его развалин, где летом так упорно воевали. Наступил декабрь, выпал первый снег, небольшие морозы сменялись столь же незначительной оттепелью, но снег не сходил. Нам выдали зимнее обмундирование: теплое белье, толстые ватные брюки, такую же телогрейку, ушанку, теплые рукавицы и, конечно валенки. В этот раз мне достались новые, добротные.
На запасной позиции разбили лагерь, построив, как под Орлом и Речицами, довольно приличные, просторные во весь рост, землянки для каждого взвода, с просторными лежанками по обе стороны прохода, печкой (традиционной огромной бочкой с трубой), коптилками из двух сплющенных снарядных гильз с фитилями, дающих приличное освещение и мало копоти. В торце землянки соорудили приличный стол, за которым можно было посидеть нескольким человек . При заготовке бревен для землянок в густом, мощном лесу, растущем на плацдарме, впервые пришлось ночевать на открытом воздухе. Разводили огромный костер из крупных поленьев, обкладывали его толстым слоем лапника и, расположившись на нём, ногам к костру, спали, прижавшись друг к другу (так, наверно ночевали туристы и охотники, когда не было палаток). Зимнее обмундирование плюс шинель при небольших морозах вполне защищали от холода. Костер разводили под густыми развесистыми деревьями, чтобы сверху самолеты противника не заметили.
Передовая была в нескольких километрах, по нашим понятиям далеко. Она давала о себе знать, ставшей уже привычной, приглушенной, редкой артиллерийской и минометной перестрелкой. Напряжения боевой обстановки не чувствовалось.
Распорядок дня был обычный, лагерный. Подъем, физзарядка, туалет, завтрак, занятия общие и по специальности, обед, отдых, политзанятия с читкой газет, ужин, личное время, когда писали письма, читали, просто общались и, наконец, отбой. Периодически ходили в наряд на кухню, часовыми в карауле. Вполне мирная тыловая жизнь военного лагеря за одним исключением, не было ненавистной строевой подготовки.
Прибыло пополнение, в основном 1926-ой год. К нам попал связистом Леончик и, переведенный из взвода управления полка, отличный радист - Саша Фурсов. Мы с ним быстро сдружились. Он моего возраста, кончил 10 классов, ходит только в очках, без них не мог, т.к., в отличие от меня, у него много диоптрий. У нас оказались общие интересы и взгляды. Поскольку он радист, его судьба - быть, в основном, на НП. Теперь у нас комплект - три радиста (Дубровских, Степанов, Фурсов). Правда, вскоре останется один, но об этом по порядку. Вечерами мы с Сашей, в окружении болельщиков, играли в шахматы, которые дал нам зам по политчасти полка. Выигрывал чаще он, но и мне удавалось. Остальные резались в домино и карты. Часто вспоминали дом, школу, как что-то уютное и, увы, далекое. Обсуждали положение на фронте, спорили, кто первым придет в Берлин: мы или союзники. Большинство и я, в том числе, считало, что хотя сейчас наступали союзники, а у нас на фронтах затишье, мы войдем туда первыми. Все мы думали, чувствовали, что вот- вот наша мирная жизнь кончиться и начнется накапливание сил (собственно наше прибытие и есть начало этого), а затем грандиозное наступление. В конце ноября мы узнали, что командующим нашего фронта назначен Жуков, а Рокоссовский переведен командующим 2-м Белорусским фронтом. Все поняли, что готовиться грандиозное наступление, и мы будем участникам главного удара по "логову" фашистов Берлину.
Однако, пока "мирная" лагерная жизнь продолжалась. Часто я по просьбе бойцов нашей землянки после отбоя, по прежнему, пересказывал по памяти что-то из Чехова, Джека Лондона, Алексея Толстого. Обычно это длилось 30-40 минут. Длинные повести пересказывал несколько дней подряд. Это называлось "с продолжением".
Круг друзей у меня расширился. Я ближе подружился с Едренкиным, Новоселецким, Кириченко. Едренкин - наводчик одного из орудий, сибиряк, очень доброжелательный и сердечный, всегда подтянутый, в ловко сидящей форме. Помню, он дал мне свою красивую ушанку и отлично сидящую шинель, когда нас персонально фотографировали, чтобы каждый мог отправить карточку домой. К сожалению, отдых скоро кончился, появились новые заботы и карточек мы не получили. Новоселецкий из кубанских казаков был вычислителем другой батареи. Он много рассказал мне о казацкой жизни в годы перед и во время войны, предателях - казаках и чеченцах, служивших у немцев. Мы часто мечтали о послевоенном времени и строили планы на будущее. Кириченко старший сержант - главный вычислитель дивизиона вел занятия по топографии, методам вычисления координат целей по их засечкам на НП при помощи стереотрубы. Он был кадровым военным, прошел всю войну с первого дня и очень хорошо знал свое дело. Часто, невзирая на чины, критиковал действия офицеров, а многих из них считал недоучившимися молокососами.
В один из дней мне дали партийное поручение, избрали (скорей назначили) комсоргом батареи. Я должен был проводить политбеседы и читку газет.
Командиром взвода управления вместо раненого Комарова, стал лейтенант Соболев, который после войны стал основным организатором встреч однополчан полка, затем бригады. Заметьте, организатором стал не кто-то из старших командиров, капитанов, майоров, подполковников, полковников, а рядовой лейтенант. Он лично знакомился с каждым солдатом и сержантом. Помню, вызвал меня в свою офицерскую землянку, расположенную в торце нашей землянки. И стал обстоятельно и заинтересовано расспрашивать о семье, школе, кем бы хотел бы быть после войны, кое-что рассказал о себе. Обнаружилось, что он москвич и жил почти рядом со мной, в одном из арбатских переулков. Впервые разговор с офицером был дружеский, на равных. В целом, в Армии было что-то в виде пропасти между офицерами, с одной стороны и рядовыми и сержантами - с другой стороны, хотя отношения были товарищескими.
Вскоре, к концу декабря, всё изменилось. Поступил приказ оборудовать боевые позиции. Мирная жизнь и занятия окончились. Огневики приступили к оборудованию огневых позиций, а наш взвод управления к оборудованию НП на передовой, в самой первой траншее с задачей разведать на нашем участке огневые позиции противника.
Для блиндажа на НП напилили бревен, ночью рыли бокс в первой траншее. Работали посменно, тихо и осторожно, чтобы немцы не засекли. Жили, по прежнему в лагере, а на ночь очередная смена отправлялась на студебекрах к месту оборудования НП. Когда бокс был готов, стали переносить туда бревна, которые подвозили наши "Студебекер"ы. Это было значительно опаснее, чем рытьё бокса, т.к. идти надо было к передовой по открытой местности около 100-200 м., которая систематически простреливалась. Здесь, в первую же ночь, и произошла трагедия.
Помню, наступал вечер. После ужина, в ожидании дальнейших распоряжений, мы с Фурсовым сидели за столом в нашей лагерной землянке и играли очередную партию в шахматы. Партия подходила к концу, когда вошел наш лейтенант Соболев и приказал смене, куда входил Фурсов, быстро собираться и грузиться на "Студебекер", который вез первую партию бревен. Саша встал и сказал: "Оставь партию, завтра доиграем", накинул шинель и вместе с другими вышел из землянки. Я сдвинул доску к стенке. Раздался шум отъезжающей машины и вскоре стало тихо. Я что-то почитал, растянулся на лежанке и стал засыпать. Вдруг раздался шум подъехавшего "Студебекер"а и затем тревожные голоса. Откинулась плащ-палатка, служившая дверью, и вошедший боец сдавлено произнес "Сашу убило. Привезли... Надо сообщить брату...". Младший брат Саши был писарем полка. Все повскакали с мест: Как это получилось? Зашел удрученный Соболев, сел и тихо сказал "Мы с Сашей несли очередное бревно, он впереди, я сзади. Уже подошли к нашей яме-боксу, как он повалился... Было тихо, немцы стреляли редко... Но вот шальная пуля угодила прямо в лоб...Лучший радист. Зачем я его взял!...". Внесли тело, положили на лежанку, послали за фельдшером, братом и еще за кем-то для составления акта. Я уставился на стол с шахматам и не мог освоится с тем, что Саши нет и шахматы ни к чему.
Но надо строить НП и вместо Фурцева послали меня. Похороны прошли без меня, т.к. я остался на НП. Рассказывали, что брат Саши, Анатолий, впал в истерику, бросался та труп, рыдал, с ним случился припадок и его отправили в медсанчасть. Брат Саши был прямой противоположностью: истеричный, самовлюбленный, умеющий при том использовать обстановку в своих целях. Он устроился писарем штаба полка за грамотность и свой почти каллиграфический почерк. Находясь в штабе, он быстро получил звание мл. сержанта и при каждой "раздаче" наград стремился включить и свою фамилию на медаль, а лучше на орден. Помню, он в открытую сетовал, что не может пока получить орден Красного знамени. Однако, надеется на удачную операцию, где восполнит этот "пробел" при массовом награждении. Это была просто наглость. К концу войны он, находившийся в тепличных условиях штаба имел набор наград, превышающий набор у солдат и сержантов, которые действительно непосредственно участвовали в операциях. Но это к слову, как элемент сложных фронтовых отношении.
Цела ли сейчас могилка Саши Фурцева, оборудованная, тогда с пирамидкой, увенчанной звездой, вырезанной из консервной банки? Она там, в Польше на воинском кладбище у кирпичного завода близ города Магнушева.
"Студебекер" с бревнами, на которых сидел я, помкомвзвода Фисунов и еще несколько человек нашего взвода двинулся к передовой по знакомой дороге, сначала быстро, потом все тише и тише, чтобы не шумел мотор. Подъехали к редкому и низкорослому леску. За леском просматривалась широкая низина, которая была разделена траншеями линии фронта примерно пополам. Здесь мы, там немцы, которые, как всегда, интенсивно освещали передовую, непрерывно пуская ракеты. Осторожно сбросили бревна и "Студебекер", негромко урча, удалился. Мы взвалили по бревну на двоих на плечи, быстро преодолели лесок и вышли на низину. Впереди шла пара, знающая дорогу. Вторыми шла наша пара. Я впервые увидел линию фронта ночью воочию, благодаря нескончаемой цепочке взвивающихся ракет, тянущейся далеко вправо и влево. Там и сям, дальше и ближе пунктиром светились пулеметные и автоматные очереди от немцев к нам и от нас к немцам. Минометы молчали. Была обычная в обороне "мирная" ночная обстановка позиционной войны. Сверху с самолета эта линия фронта выглядела, наверное, завораживающе для новичка и служила ориентиром для бывалых пилотов. Мы двигались перебежками, зорко наблюдая за движением трассирующих пунктиров, готовые тотчас упасть при их приближении. Прямую опасность представляли только внезапная очередь в упор или шальные пули. Здесь, как повезет. Час назад не повезло Саше. Вот траншея и наша яма-бокс. Рядом валялись, принесенные ранее бревна. Сбросили свою ношу и бегом за следующей порцией.
Закончив переноску бревен, перешли к более безопасной работе: соорудили накат, застелили его соломой, засыпали накат землей, почти вровень с поверхностью, прикрыли для маскировки травой. Блиндаж готов. Протянули связь, оборудовали напротив блиндажа ячейку под стереотрубу, застелили пол блиндажа толстым слоем соломы, навесили на вход плащ-палатку, и НП батареи зажило обычной жизнью. Днем искали и засекали стереотрубой цели и намечали реперные точки. Дежурили по очереди на телефоне и ночью в карауле.
Шел день за днем относительно стабильной жизни. Редкие дневные минометные налеты, редкая перестрелка не вызывали тревоги. Временами шел снег, слегка морозило (Польша, а не Сталинградские степи!). Под снегом наш блиндаж стал вовсе незаметным. На всем фронте от Прибалтики до Карпат было затишье. Из газет мы узнали, что немцы, перекинув часть войск, ударили по англо-американским войскам на Западе и наступают в Арденнах. И это при подавляющем превосходстве в авиации союзников, которая день за днем бомбила города, заводы и железнодорожные узлы Германии! Неважные, слабые вояки наши союзники - заключали мы, предчувствовали, что скоро будет наше наступление. Действительно, стали прибывать свежие части, артиллерия. Пока основная масса сосредотачивалась в тылу, в лагерях, недавно наших. Приближался новый 1945 год. Все верили, что это будет год Победы.
В ночь на новый год меня назначили на пост с 11часов вечера до 3-часов нового года. Вышел со своим карабином из блиндажа в траншею. Стояла ясная морозная погода. Мерцали звезды. Обычно взлетали немецкие ракеты, освящая пустую с виду, заснеженную нейтральную полосу, напичканную минами с обеих сторон. Перед 12-ю часами ночи меня позвали на пару минут глотнуть спирту. Чуть пригубил, а остальное оставил своим ребятам. Не любил я спирт, всегда отдавал свою порцию. Был тост за новый год и Победу. Вернулся обратно в траншею. Ровно в 12 часов заработали наши пулеметы и автоматы. Салют в честь нового года! Кто-то из нашей команды выскочил наружу и то же дал очередь в сторону немцев. Я не стрелял. Зачем? Потом чистить винтовку, лишние хлопоты. Немцы слегка ответили, но через 2 часа дали ответный новогодний салют, все же разница в 2 часа между московским и берлинским временем. В 3 часа с трудом разбудил сменщика и завалился спать. Вот такая встреча второго нового года на фронте.
1945 ГОД. ОТ ВИСЛЫ ДО ОДЕРА
ПРОРЫВ
Как и ожидалось, с новым годом началась интенсивная подготовка к наступлению. Прибывали все новые и новые артиллерийские части. Вскоре плацдарм был напичкан ими до предела. Огневые батареи нашего легко-артиллерийского полка были вытянуты в цепочку. Впереди всего через 100-150 метров расположилась цепочка тяжелых минометов. Сзади столь же плотно цепочка гаубиц, дальше еще и еще позиции уже тяжелой артиллерии. Сбоку разместились батареи тяжелых реактивных снарядов, воронка от которых при взрыве напоминала небольшой кратер 5-10 м в поперечнике и несколько метров глубины. Знаменитые "Катюши" прибыли перед самым наступлением. Такого скопления техники мне не приводилось видеть. Готовилось что-то грандиозное. Немцы не могли этого не заметить, но реакция была слабой, неадекватной. Каждый день они обстреливали то одну, то другую территорию из средних и тяжелых орудий, в основном, с бронепоезда, чтобы быстрее смыться при нашем ответе. Эффект был мизерный. Я не видел ни одного удачного налета (поражения той или иной позиции). Пару раз немцы пытались ночью бомбить переправы, но, встретив плотный огонь зениток, побросав кое-как бомбы, поспешно удалялись. Днем господствовала наша авиация и они не совались. Переправы работали бесперебойно. Правда, перемещаться с огневой на НП, в штаб, на кухню или по связи приходилось осторожно, с оглядкой, все время прислушиваясь. Заметного влияния на подготовку войск немецкие налеты не имели. Нас это радовало, но и удивляло. Только потом мы поняли, что такая подготовка шла на всех плацдармах и по всему фронту, а у них уже не было сил отвечать везде.
Меня отозвали на огневую, на занятия вычислителей дивизиона по топографии и методам поиска и определения целей. Утром все вычислители собирались в летучке штаба дивизиона, где, разложив на столе карты, Кириченко еще и еще раз "набивал" нам руку по определению целей и нанесению их на карту. Поскольку все были не новички занятия проходили быстро и заканчивались оживленным обсуждением возможных сроков наступления. В успехе прорыва никто не сомневался.
Незадолго до наступления старшина устроил давно ожидаемую баню, которая расположилась у его "тылового" блиндажа. Этот "тыл" был в нескольких десятках метров сзади гаубичных батарей, расположенных за нашим полком. Когда наш взвод управления прошел в баню через их позиции, я заметил, что эти батареи собираются начать пристрелку. Значит, возможен ответный налет с немецкой стороны и надо торопиться. "Баня", как я уже отмечал, представляла собой специально оборудованную летучку, закрытый кузов которой, состоял из тесного предбанника с вошебойкой для прожарки одежды и оцинкованной моечной кабины на 4 персоны с печкой, ушатами и лавкой. Вход был с тыльной стороны машины. Установили очередность и я вместе с нашим радистом Алешей Степановым и еще кем-то оказался в первой партии. Мы, не раздумывая, вскочили по ступенькам в предбанник, быстро разделись, сунули все нательное (белье, гимнастерку, портянки...) в вошебойку. Затем нырнули в моечную. Снаружи раздались первые выстрелы пристрелки. Чуя опасность, я быстро, лихорадочно, но с удовольствием, помылся. Выскочил обратно в предбанник, второпях обтерся, наспех натянул белье и верхнюю одежду, сунул ноги в валенки. Крикнул Степанову, чтобы скорей вылезал, схватил шинель, выскочил наружу и нырнул в проход блиндажа землянки старшины. В этот момент вблизи разорвался бризантный снаряд. Просвистели осколки. Это немцы засекли стрелявшую батарею и начали пристрелку этой цели. В блиндаж вкатились оставшиеся бойцы взвода, все кроме Степанова, который замешкался в предбаннике. Я с нехорошим предчувствием выглянул наружу и увидел, что Степанов вышел из предбанника и зачем-то остановился на верхней ступеньке, как бы соображая, что дальше делать. Я крикнул что-то вроде: "Скорей сюда, чего стоишь!". Он посмотрел на меня как-то отрешено и стал медленно спускаться. И тут, почти над нашей головой, разорвался второй бризантный снаряд. Степанов покачнулся и рухнул на землю. Мы тут же втащили его в землянку. Прямо во лбу зияло небольшое отверстие, он был мертв. Чего он медлил, как бы ожидая такого исхода? Обреченное предчувствие? Не знаю, но несколько раз приходилось видеть, как человек вроде чувствует, что его сейчас ранят или убьют.
Переждали артналет немцев на стрелявшую батарею. Был сплошной перелет, правда, почти рядом с батареей. Никто не пострадал. Единственная жертва - Степанов. Теперь, после Фурцева погиб второй радист. Старшина принес плащ-палатку. Мы положили на нее тело и вчетвером понесли, скорей побежали в батарею, вдруг опять налет! В тот же день Степанова предали земле и домой ушла очередная "похоронка".
Стали подвозить ящики со снарядами. У каждого орудия в вырытой яме образовалась небывалая гора ящиков. Значит завтра - послезавтра начнется наступление с мощной артподготовкой. Узнали, что 1-ый украинский фронт, расположенный южнее, уже начал наступление и удачно прорвал немецкую оборону. Нам сказали, что они далеко продвинулись, на несколько десятков километров вглубь. Начал наступление и северный сосед - 2-й прибалтийский фронт Рокосовского. Теперь наша очередь - в центре. Здесь главный удар в направлении Берлина! Действительно, вечером очередного дня нам зачитали приказ и обращение Военного совета фронта о начале наступления, завтра, чуть забережет рассвет. Предполагалось начать с 30 минутной, мощной артподготовки. Затем идут штрафники. Если прорыв сразу не получится, то 2-х часовая артподготовка и, если надо, еще 2 часа! Вот почему такая гора снарядов!
В приказе был, поразивший меня и не только меня, пункт. Все бойцы от рядового до генерала могут 1 раз в месяц отправлять посылки домой с трофейным имуществом, рядовые и сержанты до 10 кг, остальные больше, в зависимости от чина. Под трофеями подразумевается всё(!), что оставил противник, кроме оружия. Но это же узаконенный грабеж! С начала войны в печати, по радио, на политбеседах осуждалась, узаконенная в немецких войсках, практика отправления "трофеев" домой каждым военнослужащим. Приводились отвратительные примеры, как немецкие солдаты грабят и отсылают посылки домой. Это считалось одной из позорных поступков захватчиков. И вот теперь это вводилось в нашей освободительной армии. Было что-то постыдное в этом приказе.
Утро 14 января 1945 года. Я вылез из блиндажа нашего взвода управления, где только что отдежурил на телефоне и меня заменил сменщик. Было тихо. Лишь редкие выстрелы на передовой. Только - только начинало светать. Звезд не видно - сплошная облачность. Значит, авиации не будет. На огневой позиции раздавались последние команды и поблескивали огоньки панорам, по которой идет наводка орудия на цели. Вдруг небо прорезало множество огненных следов. Это начали работать "Катюши" и вокруг все загрохотало. Началась 30 минутная артподготовка. Земля сотрясалась от тысяч залпов. Заложило уши. Такого мощного огня мне не приходилось никогда наблюдать. Через 30 минут, после мощного огненного вала, канонада несколько стихла. Наши и соседние пушки смолкли. Работала только тяжелая артиллерия по дальним целям. Прислушались. Ни малейшего ответа с немецкой стороны. Здорово их подавили! - решили мы. Огневики готовились к основной, 2-х часовой артподготовке. Ждали команды. Вскоре, минут через 30-40 сообщили радостную новость. Штрафники, почти без боя, заняли первые траншеи, "осваивают" 2-ю линию траншей, частично переправились через основную естественную преграду, речушку Пилицу. За штрафниками двинулись основные части пехоты, саперы наводят переправы через Пилицу для прохода танков и остальной техники. Прорыв, кажется, удался и обошелся малой кровью. Прозвучала команда: отбой, всем грузиться и перемещаться на новые позиции за наступающими частями. Мы быстро погрузились на машины и двинулись к бывшей передовой.
Уже светло, но небо хмурое. Висят низкие облака и, изредка, сыпет снежок. Совсем низко пролетели несколько штурмовиков, отбомбились впереди (слышны бомбовые разрывы) и вернулись обратно. Пройдена наша передовая линия и мы медленно, вместе со 2-м эшелоном пехоты, продвигаемся через немецкие позиции по разминированной дороге наспех проложенной саперами, скорее колеи. Наша артиллерия уже смолкла и слышна только отдаленная редкая стрельба. Справа и слева ужасающее зрелище. Воронки одна на другой, от небольших минометных до огромных до 5-10 метров в диаметре и нескольких метров глубиной. Впечатление первозданного хаоса. Жутковато, хочется быстрее проехать. Неужели кто-то из немцев уцелел? Или они сбежали при первом же налете? Вскоре подъехали к уже наведенной переправе через Пилицу и вдруг остановились. Команда: уступить дорогу танкам! Значит, прорыв всей обороны состоялся и в него входит 2-я танковая армия. Наши "Студебеккеры" посторонились (съехали на подобие обочины) и мимо двинулась непрерывная лента тридцатьчетверок. Только к вечеру удалось переправиться и достичь оговоренного рубежа уже в сумерках.
Там в беспорядке стояли разбитые и целые немецкие зенитки. Я впервые увидел брошенную в панике технику. Ранее мне такого видеть не приходилось. Обычно немцы удирали с техникой. Мы воссоединились с нашей передовой группой (комбат Бойко, Соболев, разведчики: Шалевич, Хвощинский связист и радист), сопровождавшей и даже опередившей пехоту, которую мы поддерживали. Они рассказали, что после огневого вала, когда после штрафников двинулась пехота, их группа последовали за ней, но двигалась, сторонясь дорог, которые могли обстреливаться. Незаметно опередили тупо двигающуюся по изредка обстреливаемой дороге пехоту и за лесочком обнаружили уцелевшую минометную батарею немцев, которая била по дороге. Залегли в кустах и, определив по карте координаты, попытались связаться с нашей батареей по рации. Однако, как назло, связи не получилось. Их возню засекли минометчики и открыли шквальный автоматный огонь. Все, ломая кусты, еле выскочили обратно. Бросились к дороге, по которой шла пехота. Просили, умоляли их повернуть в лесок и захватить батарею (ведь по вас стреляют!), но пехотный командир сказал, что это не его участок и двинулся своей дорогой (Вот там была ругань!). Пока подошли свои пехотинцы и осторожно продвинулись в лесок, батареи и след простыл.
Мы временно остановились здесь на немецкой позиции, ожидая дальнейшего приказа. Только расположились отдохнуть в уцелевшем немецком блиндаже, как пришла команда: оставить пехоту и двигаться вслед танковой армии. Теперь мы должны поддерживать ее продвижение. Вновь на машины и вперед, догонять танки!
Начало темнеть, но мы продолжали движение на север в обход Варшавы. Двигались, вначале с потушенными фарами. Однако, вскоре, когда пошел мелкий снег, и опасность возможного налета авиации исчезла, шли уже при зажженных фарах. Это позволило довольно быстро догнать танковую колону. Остановились в населенном пункте (кажется, Варка) на ночь. По дороге мы слышали сильную канонаду справа и отдаленное зарево пожаров. Это с соседнего Пулавского плацдарма шло наступление наших войск и 1-ой армии Войска польского прямо на Варшаву. У нас было тихо. Немцы бежали, не оказывая больше никакого сопротивления. По мере нашего движения в обход Варшавы канонада и зарево смещались назад. Мы считали, что немцы, испугавшись окружения, должны покинуть Варшаву и бои на Пулавском плацдарме - бессмысленная трата сил, вызванная растерянностью командования противника. Так оно и произошло. Враг, прекратив сопротивление, покинул Варшаву и 17 января, всего через 3 дня после наступления 1-я армия Войска польского и части нашей армии вступили в Варшаву. Столица Польши была уничтожена гитлеровцами до основания, а жители убиты или изгнаны из города.
В полуразрушенной Варке наша батарея, как и весь полк, оставалась в походном состоянии, т.е. с прицепленными пушками и неразгруженными машинами, готовая по команде тотчас отправиться дальше. Бойцы разместились в уцелевших строениях, выставив караулы. Нашему взводу управления досталась небольшая разрушенная церквушка, точнее ее колокольня. Верхушка колокольни была снесена и снег падал внутрь, образовав снежный круг посередине каменного пола колокольни. Укрыться от ветра и снега можно было только у стен. Все смертельно устали и поспешно устраивались у стены, подстилая обломки фанеры и досок, обрывки газет и всякого тряпья. Только бы прикорнуть скорее! Требовалось выставить караул. Помкомвзвода Фисунов стал оглядываться, кого назначить первым и я уже понял, что выбор падет на меня. Так и произошло. "Орлов, пойдешь первым на 2 часа" - сказал он и назначил сменщиков. В общем, это было справедливо, так было заведено. Остальные только что были на передовой или на промежутках. Я же "отдыхал" в резерве на огневой позиции нашей батареи. Дежурство и погрузочно-разгрузочные работы не в счет. Чертовски хотелось спать, но что делать! Я взял свой карабин и вышел наружу. Прокантуюсь как ни будь эти 2 часа, лишь бы удалось прикорнуть после. Ведь каждую минуту могла прозвучать команда "подъем!" и опять дорога. Я понимал, что никакой угрозы появления хоть одного немца не было. Пост имел смысл, разве что для охраны имущества, которое вряд ли было кому нужно. Стоило мне прислониться к чему нибудь, к машине, дереву, стенке, как глаза тут же слипались. Я старался не стоять на месте и мотался вокруг машины, от входа в церквушку опять к машине и обратно. Помогало то, что, время от времени, мимо двигались отдельные танки и тылы танковой армии. Помню, даже, напевал в полголоса. Через два часа я еле растолкал сменщика и тут же повалился на его место. Разбудила меня только команда "Подъем, по машинам!", но несколько часов удалось поспать. Уже наступил рассвет и мы двинулись по хорошей дороге вглубь Польши.
Вскоре обогнали подтянувшуюся пехоту и покатили на северо-запад в неизвестность. Установилась ясная погода с легким морозцем. Самолетов противника не видно. Сначала прислушивались, ожидали возможного налета. Потом поняли, что его не будет. Мы же катим в глубоком тылу и сверху не поймешь, немцы отступают или русские наступают. Тихо. Нигде не стреляют. Прогулка, да и только. К вечеру расположились в "фольварке" - брошенном поместье. Усадьба, после окопной жизни показалась нам роскошной. Весь наш взвод расположился в огромном зале: высокий потолок, паркетный пол, добротная мебель, большие часы в шкафчике-стойке еще ходили, множество посуды в буфете, диваны, кресла... Из окопа во дворец! Такое трудно передать словами. На улице тишина, не слышно ни одного выстрела. Ощущение, что находишься в глубоком тылу. Шалевич или Хвощинский раздобыли консервы, которые мы с удовольствием поели, как деликатес, а часть спрятали в вещмешки в виде НЗ на будущее. Мы, наконец, хорошо выспались и утром двинулись опять на Запад навстречу близкой Победе, в которой уже никто не сомневался.
Далее мы прошли с танкистами почти 500 километров, окружая, вначале, Варшаву. Затем, двигаясь по правому флангу нашего фронта, прошли через Польшу и вступили в ненавистную Германию. Такого стремительного наступления еще никогда у нас не было и, пожалуй, даже у немцев в начале войны. Двигались, пока хватало бензина. В Польше изредка вступали в бой, а в Германии картина изменилась. Пришлось нам штурмовать города своими силами, поскольку пехота далеко отстала.
Теперь всё по порядку. Польшу от Вислы до Одера мы проскочили за неполных 2 недели. Уже в начале февраля мы были у Одера, довоенной границы Польши с Германией. Ежедневно проходили днем по 40-60 км. Ночью отдыхали. В боях практически не участвовали. Пару-тройку раз готовились, но танкисты сами ломали слабое сопротивление. Такого разгрома противника еще никогда не было. Запомнилось несколько эпизодов.
ПЕРВЫЙ ПОЛЬСКИЙ ГОРОД ЗА ВИСЛОЙ
Кажется, это был Гощин. Ехали по главной улице. На многих домах уже висели польские флаги. В центре города по обеим сторонам дороги, почти вплотную к колонам техники, стояла огромная толпа поляков. Они оживлено переговаривались, махали нам руками, что-то кричали по-польски, на лицах было какое-то облегчение, просветленность, благодарность. Правда, некоторые стояли молча и только наблюдали, но и они, как остальные были удивлены тем потоком техники, что шла мимо. Я впервые, как и многие, почувствовал себя освободителем. Это непередаваемое чувство, что ты, твои товарищи, вся армия несет свободу множеству людей, сопровождало нас до конца войны от города до города, от поселка до поселка.
Ночевка состоялась на окраине города в усадьбе, поспешно брошенной каким-то немецким чином. Опять роскошные апартаменты и опять разместились в зале, который до сих пор я ясно вижу. Ковры на паркетном полу, огромная шикарная люстра, двух метровый, если не больше красивый футляр напольных часов с мерно раскачивающимся маятником часов и крупным циферблатом, диваны, полированные столики и буфет с посудой, белый рояль, именно рояль, а не пианино.
Устроились на коврах, начальство на диванах. Провели связь и пока были свободны, если не на посту и не на связи, разбрелись по окрестностям, хотя это не разрешалось. Часть бойцов бросилась в города за трофеями. Я остался в усадьбе, рассматривая картины, журналы, иллюстрации (скоро дежурство, устал или не было охоты).
Вскоре кто-то принес колбасы, сыр, консервы и главное вино! В городе вскрыли подвал винного завода и там, открыв пробки или просто проткнув бочки, лили вино. Лили в кувшины, чайники, котелки, любую посуду. Поляки и наши солдаты "работали" вперемешку. Налив посудину, многие уходили, даже не заткнув бочку. Появлялись все новые и новые "клиенты" и вскоре подвал был залит по щиколотку. Уже валялись у входа пьяные, кто-то захлебнулся. Прошлое кончилось, а новое не началось. В общем, безвластие!
Кто-то из солдат обнаружил цистерну со спиртом и туда кинулись любители. К счастью, вскоре, наша или другая часть выставила патрули и вакханалия утихла. Но те, кто употребил спирт, вскоре отравились. Оказалось, что это технический, этиловый спирт и от него слепнут или погибают. В нашем полку несколько человек умерло, несколько ослепло. Глупо, дико? Да, но из песни слова не выкинешь. Домой пошли похоронки, что погиб, сражаясь за родину. Ослепшие вернулись домой инвалидами. Горе по глупости и элементарной распущенности. Сколько еще было нелепостей!
Утром вновь двинулись дальше.
ВАРШАВЯНЕ
К вечеру остановились на окраине одного городка. Оттепель, пасмурно, слегка капает с деревьев. Впереди лес и за ним слышна редкая орудийная стрельба. Похоже из танков. Вялые ответы, редкие автоматные очереди. Наверное, наткнулись на какую-то воинскую часть немцев и завтра, исходя из предыдущего опыта, возможен бой. Пока никаких команд. Наш взвод, не разгружая машины, расположился на ночь в каком-то сарае близ леса, рядом огневики с прицепленными к машинам пушками. В сарае много душистой соломы и каждый, сбросив вещмешок, устраивает себе лежанку. Теперь мы не копаем землянок, не роем ровиков, устраиваемся в домах, а на худой конец, в сараях, брошенных постройках. Лишь бы была крыша. Ощущение, что нет серьезной опасности.
Мы с Шалевичем пошли размяться к расположенному недалеко дому. Появился мужчина, поляк. За ним женщина лет 35 или чуть больше. Разговорились. Хотя чувствуется какая-то настороженность с их стороны и хроническая усталость от всего, что кругом твориться. Поляк плохо говорит по-русски, а она (возможно жена) прилично. Наверно, из эмигрантской семьи. Оказалось они беженцы из Варшавы. Еле унесли ноги во время восстания. Вот остановились здесь у хозяев, не знают, что будет дальше. Здесь еще несколько семей. В Варшаве после восстания эсэсовцы свирепствовали во всю, всех выгоняли из города или пристреливали. Чуть задержался - могли прикончить. Но особо зверствовали казаки. Да, да ваши казаки, что у немцев служили. Ужас наводили, не щадили ни стариков ни детей, прятались от них кто как мог. Это власовцы - поняли мы и стали говорить, что это предатели и они за всё ответят, а вы скоро вернетесь и начнется мирная жизнь. Война кончается. Они кивали, соглашаясь и не соглашаясь, не веря уже ни во что. Я сбегал в сарай и принес пару банок консервов. Они были растроганы и очень благодарили. Только тут, по их голодным, чем-то обреченным взглядам, переживших горе людей и, наверное, потерявших близких, мы поняли как им плохо.
Вернулись в свой сарай. Я лег отдохнуть, а Шалевич куда-то исчез. Скоро он вернулся с кусками сотового меда. Ароматно запахло. "Здесь рядом пасека и омшаник, где хранятся на зиму пчелы - пояснил он - я залез и взял пару рамок. Правда, пчелы, черти пожалили. Ешьте!" - и он раздал нам куски сот. Я чуть пососал, выбросил воск и остатки сот. Не мог тогда съесть больше чайной ложки меда, не то, что сейчас. Вдруг раздался дикий крик Шалевича. Пчела ужалила в губу или язык. Он сбросил пчелу, выскочил наружу и выпил на кухне пару кружек воды. Вернулся, ругаясь, и потом несколько дней ходил с раздутыми губами. Ночь прошла спокойно, а утром мы двинулись дальше, т.к. немцы исчезли.
РАССТРЕЛ ПЛЕННЫХ
В один из переездов случилось скверное событие, которое оставило у меня и не только у меня тяжелый осадок.
Как уже стало обычным, в один из дней наступления, проделав заданный маршрут, наша батарея съехала с главного тракта и расположилась в небольшом сельском поселке (типа нашего села). Все быстро устроились по домам и у меня образовалось свободное время. Я из свойственного мне любопытства (надо же ознакомиться со страной!) пошел к тракту, около которого стоял небольшой костел. У входа в костел стоял ксендз и несколько прихожан. Они с явным любопытством смотрели на непрерывный поток войск, двигавшихся по тракту, и оживленно комментировали происходящее. Я осмотрел снаружи костел, хотел заглянуть внутрь (всё же первый раз вижу), но постеснялся обратиться к ксендзу, который увлеченно разглагольствовал о чем-то, и встал в сторонке. На меня никто не обратил внимания, а я не разбирался, что они там говорят. Постояв немного и понаблюдав за непрерывной лентой войск, я вернулся обратно. Темнело. Подойдя к дому, где размещалось начальство батареи, я заметил там тревожное оживление. Оказалось, что в одном из домов, на чердаке прятались 3 немецких солдата. Их, кажется, сдал поляк, возможно испугавшись ответственности. Они сразу сдались и рассказали через нашего "переводчика" Шалевича, что дезертировали и пробирались домой. Рассказали всё, что знали о своей части, все, что у них спрашивали. Гитлер капут, ихь(я) на хауз(домой) - твердил каждый, с тревогой оглядывая нас. Стал вопрос, что с ними делать. Я зашел в дом, где собрался почти весь взвод, сел в углу и ждал, как и все, решения нашего комбата Бойко, обсуждавшего этот вопрос с офицерами батареи в соседней комнате. Последовал приказ отвести немцев, запереть в сарае и выставить охрану. Пленных увели. Комбат вышел из комнаты и произнес: "Всех расстрелять. Кто будет исполнителем, тому 200 грамм водки" и обещал еще что-то... Все были в шоке, ведь они были безоружны, сразу сдались. Наступило молчание. "Кто готов исполнить?" - спросил он. Молчание. "Я не могу их оставить, сдать их некуда, всё в движении. Поймте, по дороге они могут сбежать. С меня спросят, да еще
как!" - говорил он что-то в этом роде. Опять молчание. Далее, обращаясь к разведчикам, он приказывал, называл трусами, упоминал о немецких зверствах, кричал, что отвечает за все он, опрашивал поименно, ругался. Все разведчики и связисты отказались. Комбат разошелся. Шутки ли уже и приказ не выполняют. "Найдется хоть один? - кричал он, обводя всех глазами - я сам с ним пойду!". Мы уже думали, что как-то пронесет. Вдруг, связист Леончик, самый трусоватый из взвода согласился. Комбат облегченно вздохнул и приказал вырыть к утру яму, исполнение утром. Все высыпали наружу, не глядя на Леончика. Ночевку не помню, но молчаливое осуждение комбата и презрение к Леончику чувствовалось. Утром наблюдал, как поодаль вывели 3-х несчастных уже в одном нижнем белье. Я плохо вижу и не разглядел их лиц, но поза! Поза обреченных людей с растрепанными волосами до сих пор помниться. Я ушел подальше за дом, к машине и уже оттуда услышал несколько залпов. Позор...
Вскоре мы двинулись дальше. По дороге обогнали чей-то обоз. В обозе за полевой кухней, закутавшись в свои холодные шинелишки с накинутыми поверху мешками и каким-то тряпьем, двигалось полтора десятка пленных немцев. Сзади их подпирала морда лошади, следующей повозки и никакой специальной охраны. Подумалось, вот бы комбат сдал их в эту колону и не брал грех на душу. Позднее мне рассказали доводы комбата. Он, кадровый офицер, попал в окружение под Киевом осенью 1941-го. Бежал. Скрывался дома под Суммами. Хорошо, что недалеко оказалось. При подходе нашей армии вернулся в ее ряды, то ли перешел фронт сам, то ли с партизанами. Дальше пошли проверки. Как-то у него обошлось (в плен ведь не сдавался). Стал младшим, потом старшим лейтенантом. Вот недавно произвели в комбаты вместо убитого Ершова. Однако "пятно" осталось. Долго не награждали и не повышали в звании. Он знал, что на заметке у особистов (СМЕРШ). Боялся где-либо споткнуться, но немцев ненавидел люто. Говорили, что его семью расстреляли немцы. Поэтому и здесь он испугался, что, если пленные сбегут, ему "кранты". Это многое объясняет, но не оправдывает. Более того, в марте при штурме Альтдама, он в пылу боя приказал расстрелять сдавшихся солдат противника, о чём я расскажу позже. В конце апреля под Подстамом Бойко был тяжело ранен. 30 лет спустя, при очередной встрече в Москве с однополчанами, он искренне говорил, что не помнит этих случаев, как и многое другое. Сказалась тяжелая контузия? Или внутреннее неприятие этих фактов?
НЕМЦЫ И ОСТАЛЬНЫЕ
Первых гражданских немцев я увидел при наступлении (точнее беспрепятственном движении) на Познань и далее до Кюстрина, что на границе с Германией.
Мы, вслед за танками, подъехали к колоссальному противотанковому рву. Он тянулся вправо и влево - сколько глаз видит. Виднелись и укрепления (дот, траншея). Сразу сообразили, что здесь была подготовлена довольно крепкая оборонительная линия, но немецкие войска, очевидно, не успели ее занять из-за общей дезорганизации. Во всяком случае, никакой стрельбы, обозначавшей наличие войск противника, не было. Только шум моторов и лязг гусениц танков. Через ров был проложен временный мост. Его должны были взорвать при подходе наших войск, но не успели, скорее еще не ожидали нашего появления. Через мост потоком шли танки. Саперы укрепляли и расширяли его. Мы остановились на обочине, пропуская танки вперед.
Уже подъезжая к мосту, мы увидели по другую сторону дороги длинный обоз. Мощные, холеные лошади были запряжены в большие повозки, представлявшие V-образные решетчатые короба. На крупных колесах были шины, как у автомобиля. Повозки были доверху забиты домашней утварью (матрацы, сундуки, корыта, ведра и узлы, узлы, узлы). На повозках сидели женщины и дети, а мужчины стояли у лошадей. Беженцы, немецкие беженцы - быстро сообразили мы. Казалось, обоз, весь устремленный к мосту, только - только остановился. Не успел он проскочить по мосту и бежать дальше в Германию до подхода наших танков (может, поэтому мост и не взорвали?). Лица мужчин и женщин, которые я разглядел, были напряженно - суровые. Дети смотрели с любопытством, еще не понимая, что происходит. Вот, наш офицер, шедший в окружении нескольких солдат, сказал что-то немцу, стоявшему у головной лошади, очевидно старшему, и тот стал заворачивать лошадей обратно. Вскоре на одну из повозок прикрепили желто-черно-красный флаг - флаг Веймарской республики. Флаг, как бы говорил, мы не фашисты, мы мирные люди.
Обоз повернул обратно и я, как и многие, злорадно подумал, вот теперь натерпитесь, как наш несчастный народ, который вы разорили и унизили, пытаясь утвердить превосходство своей арийской нации. Флаг на обозе, конечно, был слабой, но, все же, защитой от надвигавшейся опасности. А опасаться было чего. Все ненавидели немцев, отожествляя их с фашистами. Особенно поляки, которых не только поработили, но зачастую убивали за малейшее недовольство. Польские земли отдавали немецким колонистам по гитлеровскому плану ликвидации Польши и в дальнейшем ликвидации самих поляков. Теперь запросто кто-то из поляков мог лишить немца жизни только потому, что он немец. А уж отнять, ограбить у этих захватчиков-грабителей - запросто, милое дело. И грабили и выгоняли с "освоенных" земель, убивали, правда, редко. Но это было! Ходили рассказы, что в ряде мест немецкое население просило защиты даже у русских солдат, для которых немцы были враги.
Вся Европа относилась к немцам, если не с ненавистью, то весьма отрицательно. По существу, гитлеризм сделал немцев на какое-то время нацией изгоем в цивилизованном мире.
ПОВОРОТ НА ПОМЕРАНИЮ
После Гощина наступление (точнее беспрепятственное движение) продолжалось. Без сопротивления мы освобождали в Польше город за городом (Ленчица, Иновроцлав), поселок за поселком. Все целое, не тронутое. Отмечали с горечью, что здесь не то, что у нас, где почти всё сожжено и разрушено отступающими немцами. Сейчас они бегут без оглядки, не успевая даже закрепиться на подготовленных рубежах.
Запомнилась остановка на ночь в небольшом поселке (а может деревне). Все дома в садах. Расположились в нескольких сельских домиках, брошенных в спешке немцами - поселенцами. Кое-где мычат недоенные коровы, блеют овцы. В погребках запасы провизии, консервы, компоты и прочая снедь. Наши проблемы с недостаточным питанием исчезли. Все бойцы почти перестали ходить на кухню, разве за хлебом, кипятком и чаем. Готовим сами в котелках, подвешенных над костром, или в брошенной посуде (кастрюлях, сковородах, а то и в тазах).
Мы, разведчики и связисты расположились в одном из домиков. Я вышел на улицу, прислушался. Тихо, мирно, безветренно и слегка морозно. Падает снежок. Слышны негромкие голоса у других домов. Редкое ощущение покоя. Утром встали спокойно. Наружи та же тишина, все покрыто белым нетронутым снегом. Сад, вообще, выглядит сказочно с облепленными снегом стволами и ветками. Та же мирная тишина, не хочется уходить с улицы. Доброжелательно беседуем с поляками на ломаной смеси языков, польском и русском. Они еще не разделились на две враждующие группы. Наслаждаются миром и освобождением. Однако, короткий завтрак и снова в путь.
Повернули на Познань, город уже окруженный нашими войсками. Обреченный гарнизон Познани еще долго, около месяца, сопротивлялся у нас в глубоком тылу. Зачем они это делали и напрасно гибли - непонятно. Ограниченность командования, страх или его упрямство в сочетании с дисциплинированностью немцев? Ведь из разговоров с ранеными, едущими на телегах нам на встречу, мы узнаем, что наш танкисты уже подошли к Кюстрину, который расположен на границе с Германией и захватили плацдарм в 60-70 километрах от Берлина! Еще рывок и Берлин падет?
По дороге, на одной из остановок, нам зачитали обращение военного совета фронта, подписанное Жуковым, где говорилось, что враг разбит и деморализован. Здесь, в прорыве у него мало или совсем нет войск (действительно, уже несколько дней не слышно ни одного выстрела, не видно ни одного самолета). Уже захвачен плацдарм за Одером, а это последняя водная преграда. До Берлина всего несколько десятков километров. Нашей группировке предлагалось (точнее звучал призыв) сделать последний рывок и "с ходу овладеть фашистским логовом - Берлином". Мы были солдаты, естественно не знали общей обстановки и безоговорочно верили авторитету Жукова ("Где Жуков, там всегда победа"). Однако обращение, в наших глазах, попахивало авантюрой. Тылы отстали, боеприпасов мало (у нас только то, что было захвачено с собой на плацдарме), пехоты почти нет, она отстала. Плацдарм, конечно хорошо, но немцы наверняка уже сосредотачивают под Берлином свои силы. Ничего не выйдет, как бы не попасть там в ловушку. Ведь правый, северный фланг фронта почти голый (наш сосед справа, 2-ой Белорусский фронт далеко отстал). Если противник ударит оттуда, нас легко окружить. Конечно, мы солдаты не знали всей обстановки, но солдатское чутье, основанное на опыте фронтовой жизни за эти 2,5 года, подсказывало, что такой вариант событий возможен. Подсказывало, конечно, тем у кого голова варит, обстановкой интересуешься, ситуацию анализируешь.
В действительности так оно и получилось. От "захвата логова фашистов" командование отказалось. Удалось отстоять плацдармы на Одере, где немцы сосредоточили новые силы, а существенную часть войск, в том числе и нас, бросили за ой танковой армией (кажется 1-ой) на север, на Померанию. Однако, все по порядку.
Пока мы едем мимо окруженной Познани на запад, туда, где, как нам сказали, танкистами и передовыми частями захвачены плацдармы на Одере. Едем в плотном потоке машин, повозок, пехотных подразделений, движущихся по дороге и по обочине, больше по обочине, так как с дороги их сгоняют машины и танки. Сумерки сменились ночью, но движение не прекращается, хотя пехотных частей уже не видно, отстали. Канонада под Познанью осталась далеко позади. Её уже почти не слышно. Движение идет рывками из-за пробок то и дело возникающих на дороге. Никто не спит. Все морально готовимся к тяжелым боям на плацдарме, возможно уже завтра. Вот впереди появились отдаленные вспышки боя, похожие на зарницы. При остановках, сквозь шум движущейся лавины войск, слышны слабые звуки канонады. Значит, скоро прибудем на место. Вдруг, наша колонна, вслед за первой машиной съезжает на обочину. Остановка затягивается. Мы слезаем и топчемся у своих машин, переговариваемся, строим догадки. Мимо продолжается движение других частей. Мы, как бы выпали из общего потока. Нам еще ничего не сказали, но, по тому же солдатскому опыту, понимаем что ситуация изменилась и нас куда-то перебросят. Действительно, вскоре, раздается привычная команда "По машинам!" и наша колонна сворачивает вправо, на север, прочь от основного тракта. Двигаемся на приличной скорости, благо пасмурная погода позволяет идти с зажженными фарами. Дорога идет по неширокому шоссе, обсаженному деревьями все дальше и дальше на север. Впереди не видно даже признаков каких-либо войск, кругом темнота и тишина. К утру въезжаем в группу хуторов и останавливаемся. Большинство хуторов покинуто жителями и мы располагаемся с комфортом в брошенных помещениях. Вскоре узнаем, что хутора принадлежали немцам, в том числе колонистам, ведь Гитлер присоединил эти земли к Германии. В дальнейшем предполагалось выселение поляков и, как я писал выше, их частичная или полная ликвидация. Естественно, что при нашем приближении "колонисты" поспешно бежали, бросив всё нажитое. Опять мычат недоенные коровы, хрюкают некормленые свиньи, кудахчут брошенные куры, скулят собаки. Поляков здесь мало, в основном, из работяг, обслуживавших хозяев. Они уже занялись своим хозяйством, прихватывая, правда, что-то из брошенного хозяевами имущества.
Утром или чуть позже узнаем, что дан приказ отдать все горючее танкистам, которые пойдут дальше, поскольку у них задача - не сбавлять темпов продвижения. Здесь у нас будет временная остановка до подвоза горючего. Когда его подвезут, двинемся нагонять танкистов (наши "Студебеккеры" могут ехать значительно быстрее танков). Ура! Непредвиденная передышка! Мы, взвод управления, позавтракали трофейными консервами и компотами, обнаруженными здесь же в подвале, выделили кого-то для заготовки бесхозных кур для обеда на костре или плите. Уже несколько дней наш и другие взводы не ходят на кухню. Все на самообеспечении. Вкуснее и сытнее. В перерывах между дежурствами я побродил один по хутору. Какие добротные постройки! Просторные каменные дома из несколько комнат, кухни, подсобок. Аккуратный скотный двор. На втором этаже дома тоже комнаты, выше на чердаке помещение для коптильни. В доме полно хорошей мебели, белья, посуды, прочей утвари. Есть книги, правда мало и не везде. Вот это живут! Зачем они полезли к нам, где, по сравнению с ними убогость и нищета. Такие мысли лезли в голову здесь и позже, когда шли по германским селам и городкам. Кое-кто нашел добротную немецкую форму и напялил на себя. На их фоне наши гимнастерки и ватники выглядят, как тряпье.
Вскоре, командир дивизиона майор Козиев выстроил дивизион и стал довольно грубо всех отчитывать. "Кур захотели! - кричал он - Пожалуйста, наберите сколько хотите и всё на кухню. Самодеятельность запрещаю! А немецкую форму снять и выбросить. Кого увижу, строго накажу! Командирам принять меры. Это же армия, а не колхоз!". Все молча слушали, переминаясь на месте. Потом разошлись и попрятали немецкое барахло, кто где: на машине много места. А еда, как было, так и осталось. Попробуй, проследи, если и командирам тоже надоела кухонная похлебка. А наказание, какое в этих условиях? Максимум лишний час в карауле.
Тут же нам объявили, чтобы к утру готовили посылки домой. Все разбрелись по брошенным домам в поиске "трофеев", т.е. оставленного беглецами имущества. Надо сказать, что в домах уже здорово пошуровали. Все шкафы и дверцы были раскрыты, а содержимое вывалено наружу. Я набрал, положенные мне 10 кг из того, что приглянулось. Белье нательное и постельное, моток женских чулок, еще что-то. Сколотил ящик из разбросанной кругом фанеры и отнес посылку в пункт сбора, не очень надеясь, что она дойдет до дома.
Посылка дошла. Мама большую часть посылки сбыла на популярной тогда толкучке в Расторгуеве. Это здорово помогло пополнить на несколько месяцев голодный паек по карточкам. Почти все считали сбор и отправку "трофеев" домой справедливым делом. Эти негодяи, немцы, столько разрушили, уничтожили, отправили к себе на родину, что пусть теперь расплачиваются! Пусть наши семьи получат хоть какую-то помощь в их не легкой, а порой тяжелой жизни. Это справедливо. Так считали все, в том числе официальная пропаганда. Меня внутренне смущало только то, что, на фоне всеобщей ненависти к немцам, это приведет потом к грабежам. Чего скрывать, так, в последствие, и случилось. Предвестником такого развития событий был, запомнившейся мне на нашей стоянке случай, увы, не одиночный. Вечером, мой командир, Шалевич, предложил мне сходить с ним в соседний хутор, где он, слышал, осталась немецкая семья, наверно не успела бежать. Надо проверить, не прячется ли там кто и нет ли оружия - объяснил он. Я почувствовал, что дело не в оружии, а в возможности найти самый популярный среди военной братии "трофей": часы или сапоги. Пошли. Он с автоматом, я с карабином. Вот и дом. Стучим: "Патруль! Откройте!". Дверь открывает встревоженная немка, лет 35-40, по нашим понятиям пожилая, чем-то напоминает учительницу. Держится напряженно, но с каким-то добрым, сочувственным достоинством, не испугана. Шалевич объясняется с ней по-немецки и кое-что переводит. Был, примерно, такой "диалог":
- Оружие есть?
- Что вы! Подумайте, зачем мне оно.
- Есть еще кто в доме, мужчины?
- Нет, нет. Никого нет, все уехали.
- Мы проведем обыск.
- Пожалуйста.
Шалевич стал рыться в первом попавшемся шкафу, это был буфет. Он открыл ящик, другой, делал вид, что ищет. Хозяйка смотрит как-то сочувственно и вдруг произносит:
- Вам солдатам, наверное, еды не хватает, часов, сапог и...девушек. Здесь уже приходили. Девушек и сапог нет, а из еды кое-что есть.
- Нет, нет, мы проверяем, нет ли оружия - как-то вяло отвечает Шалевич.
Мне становится стыдно и я прошу его уйти. Он, хотя и не сразу, после небольшого препирательства, соглашается. Сказав хозяйке, что, раз здесь уже были, мы уходим, еды не надо. Мы покидаем дом.
Стоянка затянулась на 2-3 дня. Но вот, подвезли бензин и наш полк на большой скорости двинулся дальше, нагонять танкистов. Мелькают поселки и вот последний польский город на границе с Германией. Все дома увешаны польскими флагами и флажками. Редкие местные жители беседуют с нашими бойцами и командирами. Остальные прячутся по домам, справедливо считая, что пока идут передовые части лучше не высовываться. Разрушений не видно. Ночуем здесь, а завтра вступаем на вражескую землю. Что ждет нас там?
ГЕРМАНИЯ
НАЧАЛО
Утро. Небо затянуто низкими облаками, значит авиации не будет. Наскоро моемся, завтракаем и по машинам. Выстраиваемся в колону и медленно движемся по улице последнего польского городка. Притиснутые друг к другу домишки, не выше 3-го этажа, густо усеяны польскими флажками. Редкие прохожие. Мирный город. Спускаемся к реке, по которой до войны проходила граница. Сразу возникает контраст с уже покинутой мирной обстановкой в Польше. Половина моста на польской стороне цела, а вторая половина, немецкая, разрушена и заменена сейчас понтонами. Проехали понтоны, поднялись на берег и почти сразу въехали в первый немецкий город (Черникау?). При въезде высокий забор, на стене которого черной краской или углем крупно выведено: "Вот она проклятая Германия". Лозунг точно отражает, охватившее всех настроение. За забором поднимается черный дым - что-то горит. Проезжаем по городу. Встречаются развалины, вызванные то ли бомбардировками, то ли недавним боем с передовыми танковыми частями. Жителей не видно, бежали или спрятались. На улицах разбитые повозки и редкие трупы. Город объят пожарами, их никто не тушит, некому. К вечеру он практически сгорел. Но наш полк уже покинул его и катит дальше, вслед за танкистами.
К утру подъезжаем к следующему городу (Шлоппе?) и останавливаемся на окраине, размещаясь в брошенных домах. Город цел, но мертв. Пожаров нет. Опять ни одного жителя. Правда, в домике, где обосновался штаб дивизиона, молодая немецкая семья, муж, жена и ребенок. Они довольно приветливы и встретили нас с каким-то облегчением. Это были первые немцы на своей земле, которых мы увидели. Муж заявил, что он коммунист, показал документы, которые он тщательно прятал, рассказал всё, что знал о ситуации в городе. Сказал, что очень боялся ГЕСТАПО, эсэсовская команда которого гнала всех из города. Коммунист или оставленный здесь диверсант? Многие сомневались, говорили: знаем этих коммунистов, притворяются, бестии, все они одной миррой мазаны. Небось, переоделся в гражданское и теперь твердит "Гитлер капут!". Сказывалось ненависть и глубокое недоверие к немцам. Мне же показалось, что он говорит правду, и думалось, что ему придется нелегко с нашими органами. Осмотрел дом, подивился чистоте и порядку на кухне и в доме, множеству вещей, посуды и другой утвари. Ничего похожего на наш убогий довоенный быт. Вот это живут и опять мысль "чего полезли в нашу страну"? Правда, нам втолковывали, что Гитлер носился с идеей расширения жизненного пространства, хотел заселить наши земли немцами, сделать их помещиками, а часть русских оставить работниками у них. Остальных уничтожить, как неполноценных. Была ведь такая идея у фашистов и она, увы, части немцев импонировала.
Стоянка затягивалась, солдатня и офицеры разбрелись по городу, кроме дежурных и караула. Разбрелись посмотреть, как здесь живут, точнее жили. И, конечно, прихватить трофеев: сапоги и часы для себя, брошенное "барахло" для следующей посылки. У меня был час свободного времени и я вместе с одним или двумя связистом отправился на "экскурсию" в ближайшие дома. Поодиночке ходить опасались. Любопытно посмотреть, как жили захватчики. Большинство солдатни искало спирт или шнапс, сапоги, наручные часы и что-то для посылки. Мне очень хотелось найти очки, ну и сапоги и часы тоже, конечно, не помешали бы. Чертовски надоели разбитые ботинки с обмотками, которые пока мы в валенках, до весны валялись с вещами на нашей машине. Зашли в дом. Квартира, довольно большая. Все двери и шкафы, уже привычно, открыты нараспашку. Полы завалены барахлом, которое высыпали из шкафов, книгами, посудой. Значит, танкисты или наша братва здесь уже побывали. Впечатление, что ничего не взято, а вывалено из любопытства. Во многом так оно и было. Вышел через спальню во двор и почувствовал запах гари. Где-то за крышами поднимался столб дыма. Пожар! Кто это поджигает? Вернулся в спальню и обнаружил на кровати тлеющий клок бумаги или куска материи. Когда успело занести? Позвал напарника, затоптал и выбросил клочек во двор. Обошли другие квартиры. Везде навалены горы одежды, балье, простыни, масса посуды, тикают или стоят настенные и напольные часы. Немыслимое богатство в наших глазах. Были и очки и сапоги, но очки для дальнозорких, а сапоги не подходили, слишком узкий подъем, не надеть. На чердаке обнаружили огромные сундуки битком набитые старой одеждой и посудой. Бережливы немцы! Опять пришла мысль: зачем к нам полезли, имея столько всего. Появилась какая-то злость и, схватив сундук с посудой, мы выбросили его на улицу с высоты третьего этажа. Раздался треск, лопнувшего сундука и звон бьющейся посуды. Глупость? Безусловно, но было такое время и нам по 18-19 лет, мальчишки! Когда вернулись в спальню, то опять обнаружили порядочный горящий клок, опять на постели. Как будто кто-то, только что, тихо подбросил. Стало не по себе. Опять потушили очаг и быстро, с карабинами наизготовку обежали двор, соседние помещения. Заглянули в подвалы. Никого! В окно увидели второй столб дыма. Поднялись на чердак и далее на крышу. Над городом клубилось несколько очагов пожара. Занялся соседний дом. Кто-то поджигает город - решили мы и, собрав кое-что на посылку, покинули здание. Соседний дом уже полыхал во всю, очередь за "нашим" домом. Вернулись в часть и засунули "трофеи" в свои вещмешки. Помню, многие из нашего взвода приносили мне очки. Я мерил и всё не подходило. К утру пожар охватил весь город. Мы снялись со своей стоянки и двинулись дальше. Когда проезжали по главной улице через центр города, то по обеим сторонам пылали почти все дома, рушились перекрытия, на улицу, то и дело, падали обуглившиеся обломки. Жар доходил до нашей колоны, которая шла по середине улицы, и мы опасались, как бы нас не задело. Обошлось. Выехали из горящего города благополучно и направились дальше. Город сгорел полностью. Остались только окраинные, изолированные друг от друга постройки.
Мы продолжали гадать, кто поджигатель. Существовало 3 версии:
- поджигали сами немцы, точнее специально оставленные команды, чтобы ничего не досталось противнику;
- поджигали отдельные солдаты, бродившие по городу, или освобожденные репатрианты, угнанные на работы в Германию, или скрывавшиеся деклассированные элементы общества, в качестве мести или хулиганства;
- было случайное начало пожара, вызванное неосторожным обращением с огнем (не погашенные окурки, спички, костры), который быстро распространялся по квартирам, заваленным выпотрошенным барахлом и который некому было тушить в покинутом городе.
Я, как и многие, вскоре, стал придерживаться последней версии, поскольку города, где оставалось население, не горели, кроме случайных пожаров.
Далее мы двигались за танковой армией от города к городу, захватывая (теперь не освобождая!) каждый, то с боями, то без сопротивления. Поскольку мы оторвались от пехотных частей, мне, наряду с другими приходилось участвовать в штурмовых отрядах, действовавших вместо пехоты, при нескольких боевых операциях. Очень мешало плохое зрение, но на это уже не обращалось внимания, бойцов не хватало. Коснусь некоторых операций, которые врезались в память.
ШНАЙДЕМЮЛЬ
Это был третий город в Германии, к которому мы приблизились. Танкисты хотели захватить его с ходу, но противник, неожиданно (уже привыкли к легким победам!) оказал сопротивление. Сопровождавшая танки мотопехота, при попытке войти в город только при поддержки танков, была отброшена, понесла потери и отступила назад. В этот момент подъехала наша легко-артиллерийская бригада и командир танковой части (или группы) договорился с нашим командованием, что наша бригада будет штурмовать город до подхода пехотных частей, а они двинуться дальше, чтобы не сбавлять темпа наступления.
"Там несколько десятков вшивых фрицев и немного слабого фольксштурма, - говорил он - вы легко справитесь при первой же атаке, а потом нагоните нас". Впоследствии оказалось, что в городе был гарнизон в 20-30 тысяч человек и они организовали круговую оборону. Но это в последствие, а пока стали спешно готовиться к штурму.
Подъехали еще минометная и, кажется, гаубичная бригады и огневики всех бригад стали срочно оборудовали свои позиции для артподготовки. Это была уже сила и, казалось, превосходящая противника. Штурмовые отряды организовали из взводов управления. Из нашей батареи выделили 2 штурмовые группы. Одну возглавил сам комбат Бойко, а другую должен был возглавить командир нашего взвода Соболев. Однако, при рекогносцировке местности его легко ранило осколком в кобчик и он, только что, несмотря на протесты (я вполне здоров! - говорил он, морщась от боли) был отправлен в медсанроту. Поэтому, вторую группу возглавил только что прибывший из училища, новоиспеченный младший лейтенант (назовем его Лейтенант, т.к. фамилии не помню). Он прибыл к нам на предыдущей стоянке в ладной, добротной, новенькой форме со скрипящими ремнями и новенькой планшеткой на боку и хорошо подобранных, утепленных(!) хромовых сапогах, явно индивидуального пошива. Форму ему, единственному сыну, сладил отец - интендант высокого ранга (полковник или даже генерал).
На нашем фоне, фронтовиков в пропотевших, потертых и испачканных фронтовыми буднями одежде и в раскисших валенках, Лейтенант выглядел щеголем, случайно попавшим к нам из штаба армии, а то и повыше. Он был одногодок с нами, впервые попал на фронт прямо из училища и как-то стеснялся и своей формы и, главное, тем, что он должен командовать нами - бывалыми фронтовиками. Лейтенант испытывал некоторую неловкость перед нами. Его манера обращения, как бы говорила: вы бывалые вояки, повидавшие всякое, а я, в ваших глазах, не обстрелянный, неопытный юнец, но постараюсь быстро освоиться и стать своим.
Моих друзей - товарищей, Шалевича и Хвощинского взял Бойко, а я попал в команду Лейтенанта, чему был немало огорчен. Команда состояла из наших связистов, кого-то из огневиков, из обслуживающего персонала и из штаба дивизиона, человек 20-30. На передовой побывали только я и пара связистов, остальные "околачивались" на огневой и в ближнем тылу (кухня, первый промежуток связи, стоянка автомашин...). Был среди нас и бывалый фронтовик (назову его Бывалый, т.к. не помню ни имени, ни фамилии), который прошел всю войну с самого начала. Ему было под сорок (старик - по нашим понятиям), служил связистом, обычно, на тыловых позициях. Надежд на его опыт не было, поскольку его так поразил начальный период войны, что, изредка вступая в наши разговоры, он твердил: "вы немцев не знаете. Они еще нам ох как дадут!". Его не слушали, а то и подтрунивали. Мы уже в Германии, а он все твердит "...вот как сейчас немцы дадут, слабо не покажется...". Мы считали его паникером и "сдвинутым" на ужасах 1941 года. Получилось, чти не очень у нас боевая команда. Боевую команду взял комбат.
Лейтенант выстроил нас и как-то по товарищески, сказал, что надеется на нашу поддержку и подсказку в этом первом для него бою. Я и еще кто-то громко заверили, что пусть не сомневается, что нам не впервые быть в разных переделках и мы знаем что и как надо делать... Большинство промолчало, погруженное в думы о предстоящем штурме. В действительности, все, в том числе и я, впервые шли вместо пехоты. До сих пор, кое-кто из нас (из разведчиков и связистов) шли за пехотой, а здесь было совсем по-другому. Меня, помимо понятного волнения, очень беспокоило отсутствие очков. Я же не увижу немца, а он увидит первый и ...!
Началась артподготовка. Мы собрались у придорожного вала, за которым было поле перед городом. У вала приютилась кухня и старшина, подчеркнуто заботливо, с пониманием, налил каждому по 100 грамм спирта в кружку "для храбрости". Я развел спирт водой и глотнул четверть кружки, а остальное кому-то отдал. В голове зашумело и напряжение спало. Лейтенант или, скорее, комбат сказал, что наша группа идет через расположенный рядом проход в придорожном валу. Далее атакует по полю слева от дороги ведущей в город, а другая группа, с комбатом во главе, атакует справа. Задача - захватить первые дома на окраине. Следом за нами на прямую наводку, т.е. практически в наши ряды, выедет наша 6-я батарея. Она будет поддерживать нас огнем прямой наводки для дальнейшего продвижения. Я набил карманы патронами, взятыми у старшины, вогнал обойму в свой карабин и который раз посетовал, что у меня нет автомата. Заменить автомат у старшины всё не получалось. Сетовал, что никак не получит. В то же время Шалевич и Хвощинский неоднократно говорили мне: прихвати во время боя бесхозный или брошенный кем-то автомат, а карабин брось, не трусь, будь посмелее, так делают все. Все-то все, но подходящий случай не подворачивался, да и неловко было хватать чужое. Вскоре такой случай наступил, хотя я вспоминаю о нем с некоторым смущением.
Между тем, артподготовка заканчивалась и наша группа сосредоточилась у прохода. Вот прозвучали последние залпы и мы, вслед за Лейтенантом, высыпали на нейтральное поле. Погода была хмурая, слабый снежок и легкий туманец, в общем, хмарь. "Это хорошо" - мелькнуло у меня - "мы не очень заметны, а ребята в команде подскажут, когда приблизимся к немцам". Мы дружно побежали. Лейтенант бежал, кажется впереди или сбоку от меня. Впереди голое поле с одиночным деревом, а метрах в двухстах, смутно прорисовывалась линия кустов с одинокими деревьями. Ага, там наверно овраг и передовая немцев - подумал я. Справа тянулась упомянутая дорога, обсаженная деревьями, и за ней, впереди, смутно проступали контуры строений - предместья города. Тут же мелькнула мысль, что надо быстрее бежать вперед к какому либо укрытию, пока немцы не очухались от артподготовки и не открыли прицельную стрельбу, а там оглядеться и действовать по обстановке. Впереди у дороги, близ немецких позиций, почти на окраине города, я заметил черное пятно, очевидно, валялась разбитая часть машины. Наметив эту цель, я с карабином наперевес припустился во всю прыть и вдруг обнаружил, что бегу первый и рядом никого. Остановился. Тут же ко мне поодиночке подбежала вся группа. Образовалась толпа. Лейтенанта не было, он исчез. Убили? Но никто не видел его падающим. Все растеряно оглядывались, что и как теперь делать - нет командира. Кое-кто уже бросился на землю, залег. Замешательство длилось уже с полминуты. Тут я понял, что промедление смертельно. Нашу группу наверняка засекли и сейчас накроют огнем. "Кучей стоять нельзя, нас накроют - крикнул я - за мной, к укрытию, дистанция 10 метров!" и, не оглядываясь, припустился вперед что было сил. Засвистели пули: фьють - фьють, даже как-то нежно. По нас открыли огонь. Страха не было. Одна мысль - добежать до укрытия. Вот и оно, я, с готовым вырваться сердцем, плюхнулся за развороченный борт транспортера или танка и приготовился стрелять из карабина. Подумалось - отличное укрытие! Броню не пробьешь и места для всех хватит! Рядом валились бойцы нашей группы.
По укрытию часто забарабанили пули, кажется, из пулемета. Но здесь было пока безопасно, главное не высовываться, когда очередь. Я огляделся. Все вопросительно смотрели на меня: что дальше? Я понял, что невольно стал командиром нашей группы (больше некому!) и почувствовал ответственность за дальнейшее. Посмотрел назад и увидел, что неподалеку, прямо на бугре плюхнулся наш связист Бывалый. "Беги сюда скорее, ведь убьют на бугре!" - кричал я ему несколько раз, махая рукой, но он не поднимался. Возможно, страх сковал его волю и под свист пуль он боялся подняться, хотя до нас было каких-то 30-40 м. Вот и старослужащий! - думал я - прошел всю войну и ведь должен понимать, что там оставаться нельзя, погибнет. Через пару минут раздался страшный вопль, в него попали, ранен. Я отрядил двоих с наказом оттащить его через дорогу и дальше в тыл к фельдшеру, а также сообщить об исчезновении Лейтенанта и получить команду на дальнейшее. Они в промежутки затишья добрались до Бывалого и быстро уволокли его за дорогу, где было безопаснее. Там нашли фельдшера и его отправили дальше. Вернувшийся позже, солдат сказал, что дело нашего Бывалого плохо, ранило в живот и шансов выжить мало.
Мои ребята постреливали из укрытия в сторону немцев, точнее их позиций, откуда они огрызались, но что делать дальше? Ведь никакой связи и нет бинокля, чтобы уточнить обстановку. И тут мы услышали сзади рокот машин и оглянулись. По шоссе с интервалами в 100-150 м двигались "Студебеккеры" нашей батареи с прицепленными орудиями. Немцы даже прекратили стрельбу от такой наглости, возможно, просто испугались. Увидев нас, первая машина остановилась напротив нашей позиции. Выскочивший из кабинки бледный командир взвода, лейтенант Полиниченко, прокричал: "где немцы?" Я махнул рукой вперед, хотя точно не знал где, сколько и как они расположились. Полиниченко был первый раз на прямой наводке и нервничал. Однако тут же приказал изготовиться к стрельбе. Молниеносно сбросили ящики со снарядами, отцепили и развернули пушку, стали закреплять сошники, вкатили первый снаряд. Из кабины машины выглянул шофер, Маршалкин и, обращаясь почему-то ко мне, а не к своему командиру спросил: "А мне что делать?". Я крикнул: "..быстрей разворачивайся и вон отсюда..". Это была, как оказалось, очень правильная команда. Маршалкин быстро развернулся и стрелой помчался обратно. Его машина оказалась единственной, уцелевшей в нашей батарее. Далее началось непонятное.
Я оценил ситуацию и понял, что сейчас немцы очухаются и начнут лупить по орудию, а мы рядом. Взглянул через дорогу. За ней, чуть впереди, начинались городские постройки, которые и являлись целью нашей атаки. Ближайший двухэтажный дом был метрах в пятидесяти. Оттуда не стреляли. Значит, немцы сбежали или попрятались. Надо рискнуть и захватить его. Выполним до конца свою задачу, а заодно получим надежное укрытие. Мои размышления прервал короткий свист и приличный взрыв позади пушки. По звуку била самоходная пушка "Фердинанд". Началось! Пристреливают нашу пушку. Пока перелет. Надо решаться, пока не накрыли. Скомандовал "Внимание! После очередного взрыва всем за мной бегом через дорогу к дому, иначе крышка!" Впереди бабахнуло, просвистели осколки. Недолет! Черти! Взяли нас в вилку. Сразу после взрыва, вскочил, перемахнул через дорогу и к дому. Наткнулся на несколько трупов наших солдат (мелькнуло - это от вчерашней танковой группы, даже подобрать не удалось!). Перемахнул через них и влетел в дом через слетевшую с петель дверь. За мной еще несколько человек. Кто-то дал автоматную очередь и все бегом по лестнице на второй этаж. Швырнули гранату и вломились в большую комнату с выбитыми стеклами. В доме никого, сбежали... Из всей команды нас оказалось несколько человек. Привалились к стенке перевести дыхание. Один встал у окна, изучает дом напротив. Доложил, что там никого не видно, спрятались, наверное.
Я обернулся к другому тыльному окну и увидел со 2-го этажа, как на ладони следующую картину. Наша пушка стала давать один залп за другим, но спрятавшегося "Фердинанда" не засекла. Он, после нескольких выстрелов, наконец, попал и разнес орудие. Кто-то ранен, отполз, его оттащили другие. Затарахтели, приближаясь, 2 легких танка. Господи! Зачем они прижимаются к обочине. Ведь там могут быть мины. Конечно, боятся "Фердинанда", но мины не менее опасны. Вот первый танк (оказалась танкетка) почти поравнялся с нашим домом и нарвался на мину. Взрыв, танкетка осела. Танкисты мгновенно выскочили и, увидев нас, через минуту, тяжело дыша, появились у нас, черные, чумазые. Второй танк остановился поодаль. Посовещавшись, танкисты ушли к своим и, вскоре, второй танк повернул обратно и исчез.
Остальные пушки нашей батареи продолжали стоять в походном положении, прицепленные к машинам. Почему? Осмелев, "Фердинанд" расстрелял всю батарею с машинами. Люди, правда, уцелели, вовремя скатившись за насыпь. Машины горели и скоро начали рваться ящики со снарядами. Но и это еще не всё. Мимо горящих машин проехала другая батарея нашего дивизиона. Машины, одна за другой свернули на недавно оставленное нами поле и стали на глазах у немцев(!), в сотне шагов, развертывать пушки. Естественно их быстро и легко расстреляли, не дав даже отцепить пушки. Осмелев, немцы открыли усиленный огонь по выехавшим машинам. Наблюдать эту картину было тяжело и мы, молча и вслух, ругались, кляня неизвестных нам организаторов операции. Вот раненый ползет к машине, думая укрыться под колесами от огня противника. Зачем ползешь несчастный на верную смерть! Машина уже загорелась и скоро начнут рваться ящики со снарядами. Но он ползет и на наших глазах машина взрывается. Всё, конец бедняге!
Никогда, ни до ни после, не видел столь бездарной, порой бессмысленной операции, такого побоища своих, устроенного нашим командованием. Все! Дальнейшее наступление провалилось, решил я, хотя мы и вышли на окраину города. Соседние команды (Бойко, Шалевич, Хвощинский...) и других подразделений, тоже захватили окраинные дома. Даже взяли в плен, легко сдавшихся фольксштурмовцев, освободили группу наших девушек, угнанных на работу в Германию и спрятавшихся в подвале.
Не зная, что дальше делать, я послал кого-то на связь с дивизионом. Темнело. Стрельба стала стихать, только горели наши машины и рвались снаряды в ящиках. Мы продолжали бдительно смотрели в сторону не занятых домов. Через какое-то время вернулся связной с приказом вернуться на старую позицию. Он добавил, что подошла какая-то армия и она продолжит захват города. Мы сильно удрученные тем, что произошло, но признаюсь, с некоторой гордостью, что выполнили свою задачу, несмотря на бездарную организацию операции, с облегчением отправились вдоль дороги обратно. Навстречу на наши позиции двигались сначала разведподразделения, а затем колона за колонной подходящие части.
Пришедшие части блокировали Шнайдемюль и, вскоре, заставили гарнизон сдаться, правда, как официально сообщалось после упорных боев. Художественное описание этой операции правдиво (насколько тогда было возможно) дано в книжке "Весна на Одере" участника этих событий Казакевича, которая читается с увлечением. Некоторую горечь и обиду испытываешь только из-за отсутствия в ней действий и роли нашей бригады, которая, пусть неумело и топорно обеспечила предмостные позиции пришедших частей. Впрочем, Казакевич мог и не знать нашей роли. Узнав позднее, что гарнизон противника составлял 20-30 тысяч человек, а не "нескольких занюханных фрицев", мы поняли, что даже при удачной организации операции, захватить город сотней - другой, пусть тысячей, бойцов, было немыслимо. Стоило немцам понять, что перед ними ничтожная группка, нас бы легко перебили.
Вот мы на старых позициях, откуда начали атаку. Настроение неважное. Батарея потерял почти всю материальную часть. Остался один "Студебекер", который был мной отправлен в тыл. Заслуга небольшая, так должны были поступить остальные, но не поступили. Это осталось загадкой. Растерялись? Не сориентировались? Осталась еще одна, слегка поврежденная пушка, и всё, если не считать кухни и случайно не погруженных ящиков со снарядами. Людские потери, слава богу, не большие. Убито 2-3 человека, несколько ранено. Такие же потери в батарее, выехавшей после нас. В общем, дивизион небоеспособен. Ни до, ни после такого позора не бывало. Я особо горевал, что на одной из машин сгорели все мои пожитки, особенно... томик Феербаха, который возил с собой с момента призыва и надеялся дочитать по окончании войны.
После Шнайдемюля нас ненадолго отвели для пополнения, как тогда говорили, "живой и материальной силой". К месту пополнения проезжали через городки без населения уже привычно сожженные неизвестно кем и почти целые городки и поселки, где население осталось (не успели бежать?). Наконец, въезжаем в совершено целый город Ландсберг. Почти из всех окон домов свисают белые полотнища, как бы вопя: мы сдаемся, не трогайте нас! Не тронули. По улицам снуют редкие гражданские (немцы?) и множество военных, в основном офицеров. Оказалось, здесь тылы и несколько госпиталей, один огромный венерический(!), около которого видны только офицеры, от лейтенанта до полковника. Мы поразились, когда это они успели? Ведь всего пару недель, как в Германии.
Недалеко от Ландсберга нас быстро пополнили и вновь бросили в Померанию, где немцы предприняли контрнаступление против слабых частей, едва прикрывавших растянувшийся почти на 400км правый фланг нашего фронта.
БОИ В ПОМЕРАНИИ
НАСТУПЛЕНИЕ
Мчимся на север почти без остановок. При занятии позиции наша машина чуть не въехала к немцам. Едем по шоссе, беспечно поглядывая по сторонам. Вдруг видим справа и слева окапывающихся бойцов. Часть из них постреливает в направлении нашей поездки. Вот двое или трое вскочили, что-то кричат и яростно машут нам руками. Засвистели одиночные пули. Мы догадались, что впереди противник и мы уже выехали на нейтральную зону. Яростно стучим по кабине, они там ничего не слышат и не видят, уже потеряли бдительность, кричим: "Стойте, ослепли что ли? Впереди немцы, быстрей обратно!". Останавливаемся и разворачиваемся уже посреди нейтралки. Нас обстреливают. Скорей обратно. Пронесло! Несколько пробоин борта, никого не задело, повезло. Оказалось, что пункт назначения уже занят противником.
Вскоре заняли позиции для наступления. Подтягивалась масса артиллерии и мы поняли: быть крупному наступлению. Меня вместе с другими взяли на НП. Теперь, после Шнайдемюля, я всегда на передовой. Опасно, но почетно. Ночевали в подвале дома, устланного соломой и расположенного в низине рядом с передовой. Попеременно дежурили у телефона и у стереотрубы, установленной снаружи, в 10-20 м от дома в ячейке, вырытой в естественном окопе. Собственно, это был не окоп, а крутая стенка оврага, вдоль верхней кромки которого, оборудовались огневые ячейки пехоты и наблюдательные позиции артиллеристов. Укрытий в виде ровиков и блиндажей почти никто не сооружал, т.к., почти повсеместно, воцарилась эйфория победы: немец уже слаб, на серьезный обстрел не способен, а завтра наступление. Зачем зря ковыряться в земле, авось пронесет. Это авось обходилось часто дополнительными потерями, правда, сейчас незначительными. Ночью противник, предвидя наступление, вел почти непрерывный, но очень не густой, обстрел из орудий и минометов. Ущерб был незначительный, я, вообще, его не обнаружил, хотя там и сям чернели свежие воронки.
Утро. Началась внушительная артподготовка, пронеслись штурмовики. Я, вместе с разведчиками, расположился в рядах, готовившейся к наступлению пехоты. Ответный огонь немцев совсем ослабел, а вскоре прекратился. Так, одиночные мины, на которых никто не обращал внимания, кроме новичков, прятавшихся в складках оврага или наспех вырытых щелях. Побродив до атаки вдоль оврага, вдруг обнаружил кучу разбросанного на земле оружия: винтовки, автоматы, противотанковые ружья. Очевидно, пехотинцы попрятались где-то рядом от возможных налетов.
Я сбросил карабин, схватил первый попавшийся автомат с полным магазином патронов и быстренько вернулся к своим. Наконец-то раздобыл автомат, давно пора, а то ведь был, практически, безоружен - такова была реакция нашей команды. Но в душе я испытывал неоднозначные чувства. По существу, я отобрал, украл чей-то автомат, правда, оставив свой карабин. Так поступали многие, но было ощущение, что это нехорошо (это "нехорошо" довольно долго сидело внутри). С другой стороны, теперь я с автоматом и, участвуя в штурмовых группах, не буду чувствовать себя столь беззащитным.
Последние залпы и за огневым валом началась атака пехоты. Нам приказано пока стоять и ждать результата. Результат оказался ожидаемым: противник бежал, почти не огрызаясь, и прорыв на север, в Померанию, состоялся. В прорыв ринулась лавина танков и мы, дождавшись своих машин, двинулись следом.
Наступление было столь стремительным, что почти каждый день занимали очередной город.
Я, уже на правах "бывалого солдата", участвовал в штурмовых группах, наступавших вместо, как всегда, отставшей пехоты. Запомнилось несколько сцен, характерных для этого наступления.
ГОЛНОВ
Мы заняли позицию для штурма на окраине небольшого города Голнов. Расположились в придорожной канаве, вблизи небольшого домика, в котором устроили командный пункт. Рядом выкатили пушку на прямую наводку. Немцы вяло постреливают. Вот короткий артналет на их позиции и наша группа бросается в атаку вслед за несколькими танками, нещадно стреляя из автоматов. Противник опять убежал и наш небольшой отряд быстро занял весь город. Я с двумя или тремя бойцами штурмовой группы подбежали к зданию, окруженному стеной. Прижимаясь к стене, добрались до ворот и влетели внутрь двора. Там никого. Здание оказалось тюрьмой. Вся обслуга уже исчезла и мы освободили нескольких оставшихся заключенных, поляков и немцев. Они сказали, что остальных угнали еще вчера, а их не успели или позабыли, объяснили, что здесь сидели люди за прослушивание вражеских передач и распространение панических слухов. Все были со следами побоев, изможденные и мы им поверили. Запомнился поляк с перебинтованными руками. Морщась от боли, он, на смеси польского и русского, рассказывал, как били его гестаповцы за несданный приемник и прослушивание передач из Лондона и с нашей стороны. Требовали назвать сообщников. Поляк провел нас в кладовую, где хранились вещи заключенных. Мы помогли ему найти его чемодан, советовали найти товарищей по несчастью и только с ними вернуться домой. Одному опасно. Но он, переодевшись, взвалил свою ношу на плечи и торопливо бежал из тюрьмы. Скорей домой!
Когда мы покинули тюрьму, то увидели сзади дым. Кто-то, скорее заключенные подожгли тюрьму, но в городе пожаров еще не было. Продвигаясь дальше, добрались до перекрестка, где на площади сходилось несколько дорог. Здесь нам приказали занять противотанковую оборону до подхода основных сил. Расположились в самом высоком здании (5-6 этажей). На чердаке наблюдательный пункт, на 3-м этаже командный пункт. Внизу, на входе часовой, на площади пушки, готовые к отражению возможной атаки противника.
В промежутках между дежурствами управленцы взвода, как и все, бродили по городу покинутому почти всеми жителями (думалось, значит, он обречен, сгорит). Бродили в поисках брошенных в квартирах часов и сапог. Это было похоже на всеобщий бзик, ведь завтра могут убить или тяжело ранить и всё это стащат. Нет, подай часы и, особенно, сапоги вместо осточертевших ботинок с обмотками. Бзик, да и только, но это было! Помню, зашел в брошенный дом. Побродил по квартирам, где все перевернуто, высыпано на пол. Обнаружил очередные сапоги, как всегда, с низким подъемом. Не годиться немецкая обувь на наши ноги. Продолжал удивляться и даже раздражался богатству (по нашим понятиям) большинства квартир. Еще и еще раз, уже привычно подумалось, опять все сгорит! Ничего не нашел и, спустившись, наткнулся на двух наших женщин, молодую и старше, с груженой тележкой. Это одни из тех, кого, угнали в Германию. Они освобождены и возвращаются. Решили прибарахлиться. Увидев меня, испугались и как-то заискивающе спросили "что можно брать?". "Берите всё, что хотите. Всё равно сгорит. Никто отнимать не будет". Они, ободренные, нырнули в дом. По дороге обратно забрел в столь же распотрошенный дом и наткнулся на очередные сапоги. Примерил. Надо же, мой размер и, главное, нормальный подъем. Наконец, повезло! По дороге обратно заметил уже несколько столбов дыма. Подумал, началось. Кто все же поджигает? Когда я вернулся, поднялся на третий этаж, где уже собрались все разведчики, то застал такую сцену. В комнате напротив нашей, посередине, сидел на стуле командир огневого взвода лейтенант Полиниченко и мерил, принесенные бойцами его взвода, сапоги. Мерил одни сапоги за другими и всё не лезли. Справа от стула уже образовалась куча непригодных пар. Вот измерил последние, опять не годятся. Лицо его выражало такое горькое, детское отчаяние, что я протянул ему свои, сказав "попробуй". Сапоги, как я и подозревал, подошли и он прямо засветился благодарностью. Было жаль своей находки, но увидев его счастливое лицо, испытал удовлетворение. Вот такие мелкие заботы рядом с опасностью, а то и со смертью.
Выйдя в коридор и спустившись на этаж, я почувствовал запах гари из распахнутых настежь дверей одной из квартир. Вбежал в большую комнату и увидел среди застилавшей весь пол груды бумаг, книг, выброшенных вещей и посуды горящий по середине клочок бумаги, от которого уже занялся соседний. Затоптал очаг, сдвинул в сторону лежащие рядом шмутки, и в недоумении задумался: в доме кроме нас никого нет, внизу часовой, откуда, горящий в середине кусок? Выйдя на улицу, обнаружил, что горят уже много домов. Шалевич обнаружил в маленькой двухэтажной пристройке немецкую семью и, взяв меня, пошел их проверять. Постучал в тяжелую дверь, крикнув, "патруль с проверкой!". Дверь открылась и пожилая женщина, не дав нам заговорить, скороговоркой, по-немецки, произнесла: "у нас уже были ваши. Солдат, оружия, часов, сапог и девушек здесь нет, нас только двое стариков, смотрите, если надо...". Шалевич обошел всю квартиру, заглянув во все уголки и шкафы, а я стоял у дверей с автоматом наизготовку. Было, почему-то, стыдно и за себя и за всю нашу братву. Ничего не обнаружив, мы вернулись назад.
К вечеру вновь загорелся нижний этаж и мы спешно покинули дом, поняв что с пожаром не справиться. Расположились недалеко, в изолированном одноэтажном здании вокзала. Ночью пожар охватил весь город. Воздух гудел, летали какие-то горящие клочки, рушились перекрытия. Утром мы двинулись дальше, оставив позади догоравший город, который представлял собой пепелище из сгоревших каменных коробок.
Следующий городок (Мюлленбек?) сдался без боя. Улицы были безлюдны. Из окон свешивались белые простыни. Жители попрятались в домах и с тревогой и страхом встречали наших солдат, когда они заходили в дом.
ФОЛЬКСШТУРМОВЦЫ
Поселок на опушке леса. Остановка. За лесом, то впереди, то справа, то слева редкая стрельба, в основном наших танков. Почти все жители покинули дома. До выяснения обстановки батарея рассосредоточилась по всему поселку, установив орудия на разных направлениях, что-то наподобие круговой обороны, на всякий случай. Комбат Бойко с разведчиком и связистом отправились на разведку и, при необходимости, выбора очередного НП. Мне и остальным бойцам взвода приказано дожидаться вызова. Зашел в расположенный рядом брошенный крестьянский дом. Несколько комнат, обставленных по городскому. Аккуратные крашенные полы и белые стены. Деревянная мебель. Аккуратная кухня с чистенькой плитой, напоминающей газовую, но отапливаемая угольными брикетами и короткими, почти одинаковыми поленцами. Брикеты и поленца сложены в стенном шкафу столь же аккуратно. В других шкафах полотенца, кухонная одежда. Множество кастрюль, посуды, столовых приборов (ложки, вилки, ножи...) и прочей утвари. Никакого сравнения с бытом нашей деревни. Коптильня. Большой, крытый скотный двор, правда, без скота. Часть, похоже, угнали, остальные бродят по поселку. В разных концах поселка слышно мычание коров, блеяние овец, кудахтанье кур. Вот это живут! Опять вопросы, зачем полезли к нам, чего не хватало и когда у нас будет что-то похожее? Разжился ложкой (свою потерял в суматохе сборов) и хорошим плоским котелком с крышкой. Но вот меня и всех свободных разведчиков и связистов вызывают по телефону на НП с полным комплектом вооружения. Ожидается бой и из-за отсутствия пехоты будут формироваться штурмовые команды. Идем по связи, которая тянется по лесной дороге. Идем беспечно, хотя из леса нас легко подстрелить. Никто не верит, что такое возможно. Прошли больше полпути, как навстречу связист, сматывающий связь. Отбой! Всем назад. Немец вдруг смылся, завидев наши танки, да и была там небольшая группа. Вернулись. Вскоре появился комбат и следом колонна безоружных фольксштурмовцев, около ста человек! Старики и совсем подростки. Колонну сопровождает один разведчик соседней батареи. Оказывается, эти вояки прятались в лесу. Решили сдаться, а не бессмысленно гибнуть (возможно, группка бежавших немцев рассчитывала использовать этих "партизан", но не вышло). Когда шла группа комбата и тянула связь, а затем наша группа, и когда мы возвращались, они побоялись выходить, вдруг не поймут и перестреляют. Вот все прошли мимо и, вскоре, появился тот самый одинокий разведчик. Он отстал по нужде. Тогда самый старый немец, знавший кое-какие русские слова, вышел из леса с поднятыми руками со словами "Гитлер капут". Разведчик опешил, но стрелять не стал. Знаками, мимикой и скудным набором слов, старик объяснил, что они сложили оружие в кучу и хотят сдаться. Таким образом, разведчик привел в наше расположение всю группу. Вместе с одним из фолькштурмовцев наши командиры послали кого-то забрать оружие.
Вскоре мы быстро собрались, двинулись дальше и о судьбе этих немецких "партизан" ничего не знаю. Не получилось у гитлеровской пропаганды с партизанским движением, как гитлеровцы ни заставляли всех и ни стращали население зверствами "диких и злобных русских орд".
ШТУРМ АЛЬТДАМА
Танкисты и наша артиллерийская дивизия совершили новый бросок к Одеру, к небольшому городку Альтдаму, что напротив крупнейшего немецкого порта - Штетина. Этим завершалась операция в Померании и блокировался порт.
Была уже середина марта, снег почти весь стаял, но стояла пасмурная, промозглая погода, где-то около нулевой отметки. Прибыли мы на место к полудню и расположились недалеко от передовой. Оттуда доносилась редкая стрельба. Через день намечалось наступление. Огневики спешно оборудовали свои позиции, а комбаты, командир дивизиона Козиев и связисты отправились на передовую оборудовать НП и пристрелять до темноты все батареи дивизиона. Пехоты было мало и сразу по прибытии были, как и прежде, сформированы штурмовые группы. В группу от нашего дивизиона вошел почти весь взвод управления, включая и меня, фельдшер дивизиона Башкин и кто-то из огневиков. Во главе группы поставили лейтенанта Чалых, которого мы не знали. Он собрал нашу группу, познакомился, объяснил задачу. С первого взгляда он мне не понравился. Говорит вяло, неубедительно, а, главное, чувствуется отсутствие опыта. Откуда он взялся? Почему устранились наши, опытные командиры? На следующий день, рано утром, еще в темноте, не позавтракав, мы отправились на передовую, сосредоточиться для наступления.
Собственно обычной передовой не было. Просто по одну сторону неширокой низины (меньше 100 метров), на опушке редкого, мелкого леса, располагались немцы, а по другую, тоже в редколесье были наши позиции. У немцев тянулась цепочка спешно вырытой траншеи с одиночными блиндажами. Проволочного заграждения и минного поля перед траншеей не было. Не успели они. На нашей стороне были только редкие ровики - ячейки да два полу-блиндажа, скорее шалаши, слегка врытые в землю из-за грунтовых вод. В одном более прочном шалаше располагался командный пункт, во втором, на несколько человек, отдыхали связисты и разведчики. Я замешкался и когда подошел к шалашу он был уже полностью занят, точнее, набит, лежащими на соломе бойцами нашей группы. Разместиться было негде, разве только сидя в проходе. Еще один боец, недавно прибывший с пополнением, топтался у входа, не зная как пристроиться. Пошарив кругом, я обнаружил в стороне, метрах в 10-15, неглубокую ямку типа ячейки и решил расположиться там. Поскольку из ячейки из-за окружавших ее кустов вход в землянку не просматривался, я договорился с Чалых, чтобы он окликнул меня, когда начнет собирать группу для атаки, и, захватив топтавшегося бойца (Новенького), пошел устраиваться. Было еще темно, когда мы застелили ветками наше убежище и, прижавшись спинами, устроились вздремнуть, по возможности до сбора на атаку и переждать артподготовку. Не спалось, мешало естественное напряжение перед боем. По опыту понимал, что здесь будет настоящий бой, а не легкое продвижение, сопровождавшее нас последнее время. Временами все же дремал.
Забрезжил рассвет. Залпы "Катюш", а затем свист и грохот короткой артподготовки вывели нас из оцепенения. Мы с Новеньким сели и приготовились идти на сбор и атаку группы по команде Чалыха. Артподготовка заканчивалась, а команды не поступало. В чем дело? Ведь надо атаковать с последними залпами, а то попадем под ответный огонь. Канонада прекратилась. На несколько минут стало тихо, но опять никакой команды. Вот опять засвистело и близко загрохотали разрывы и полетели осколки. Это немцы открыли заградительный огонь. Опоздали с атакой! Но в чем дело? Переждав налет, я прислушался. Тихо, ни звука. Куда все делись? Я поднялся и побежал к землянке. Никого. Значит, они пошли в атаку, не позвав меня! Бросился к командирской землянке. На пороге сидел связист и ковырялся в аппарате. Больше никого. Состоялся короткий разговор, примерно такого содержания:
- Где все? - спросил я.
- Ушли в атаку! Тут такое было... - произнес он и, замявшись, не стал продолжать.
- Ушли во время артподготовки, давно?
- Да нет, задержались и ушли недавно, как раз перед ответным немецким налетом. Потом ранило кого-то.
- Куда направились?
Связист указал направление и я, не став больше расспрашивать, позвал Новенького и побежал догонять команду. Еще подумают, что я уклонился. Вот стыд. Новенький не последовал за мной, пробормотав, что-то об отсутствии команды. В общем, испугался. Черт с ним, лишь бы скорее догнать своих. Вот и нейтралка. Впереди, меж редких деревьев и кустов, мелькнула чья-то фигура. Кажется, догоняю. Об опасности не думалось, лишь бы нагнать скорее. Пересек узкую полосу открытой местности, за которой обнаружились брошенные немцами траншеи. Убежали при нашем артобстреле? Они стали как-то пугливы, чуть-что и деру? Нет. Скорее всего, понимают, что война проиграна, скоро конец и рисковать жизнью не стоит. В окопах расположилась наша группа, похоже, поредевшая. Все всматриваются вперед и ждут дальнейшего движения. Здесь мои однополчане Шалевич, Хвощинский, другие, а также командир дивизиона Козиев и наш комвзвода Соболев. Они-то не должны были идти с нашей группой. Но нет командира группы - Чалыха, нашего опытного радиста Дубровских и еще нескольких человек. Я присоединился к группе. Моего отсутствия в начале атаки никто почему-то не заметили. Странно это всё, но размышлять и расспрашивать некогда и не хочется.
Только 20 лет спустя, при первых встречах однополчан, я узнал, что же произошло на самом деле. Вот пересказ по памяти. Перед артподготовкой Чалых с Соболевым и комдивом Козиевым расположились в командирской землянке. Загрохотала артиллерия. К концу артподготовки Павел бросил Чалыху: "Ну, Миша пора выводить команду, давай, хватить шастать по тылам, это твое первое настоящее боевое крещение". Они были приятелями, вместе учились во второй артиллерийской спецшколе, вместе прибыли на фронт, еще под Москвой, в начале 1943 года из Гроховецких лагерей, где получили звания младших лейтенантов. Соболев сразу попал в строевую часть, а Чалых в артснабжение и всё это время подвизался в тылу полка, в мастерских, на складах артснабжения, еще где-то.
Миша молчал и вдруг, страшно побледнев, упал на колени и, трясясь произнес: "Не могу...страшно... освободите...". "Ты что, спятил? Как ты смеешь такой сякой!...Живо вставай и бегом за командой...Иначе трибунал!" закричал Павел. "Не могу...не могу..." - бормотал Миша, не вставая с колен. Козиев как-то увещевал его, но Михаил дрожал, по лицу текли слезы. Он не двигался с места. Артподготовка кончилась. Тогда Павел выхватил пистолет и в бешенстве закричал: "Немедленно встать и марш в атаку или я тебя говнюка, тыловую крысу пристрелю!" и пристрелил бы! Горяч и нетерпим был Павел. Дело приняло нешуточный оборот. Козиев перехватил руку Павла и бросил: "Стоп! Этого еще не хватало! Ты что, не видишь, что он невменяем. В таком состоянии не может он командовать, придется нам идти и скорее всего, уже поздно...". Чертыхаясь и проклиная Чалыха, Павел выбежал из землянки. Подбежав к другой землянке, где с тревогой ожидала команды штурмовая группа, он скомандовал "За мной, живее..." и бросился к нейтральной полосе. Группа высыпала наружу и кинулась догонять Павла. Следом припустился Козиев, зло буркнув Чалыху: "После боя разберемся!". Чалых, видимо, очухался, вылез наружу и побежал за всеми. Когда группа оказалась на нейтралке (она почти успела добежать до немецких траншей), грянул ответный немецкий минометный налет. Все залегли. Кругом рвались мины, часть рвалась, ударившись о редкие деревья. Застонали раненые, Дубровский, еще кто-то и Чалых! Его ранило, кажется, в кобчик.
Налет стих, Павел отполз обратно и стал помогать перевязывать раненых. Чалых крикнул "Паша помоги, меня ранило!", но тот даже не обернулся, буркнув "успеется, подождет...этот трус подвел всех...". Раненых поволокли обратно, передали оставшимся на НП солдатам, а те уже отправили их дальше в тыл. Штурмовая группа двинулась вперед и заняла первую линию немецких траншей, куда я и подоспел. Вот такая история. Еще раз подтвердилось: нельзя возглавлять атаку новичкам. Оправдание, что пусть и они повоюют, а не только мы, не раз уже смотревшие смерти в лицо, здесь не подходит. Оборачивается такой подход потерями, а то и гибелью простых солдат. Ну, а Чалых "искупил вину" ранением. После войны он, как фронтовик(!), легче, чем другие, продвигался выше и выше, стал полковником Генерального штаба.
Продолжу про атаку. Капитан Козиев, он взял на себя командование группой, приказывает двигаться дальше вглубь леса. Осторожно продвигаемся по редкому лесу, заросшему кустарником дальше, соблюдая дистанцию между собой и постреливая короткими очередями по кустам для предупреждения возможного огня противника. Вскоре, натыкаемся на вторую линию окопов и ходов сообщения и прыгаем в них. Сзади идет связист, Головин, разматывая катушку связи с оставленного нами командного пункта. Там теперь промежуток. Плохое зрение мне не мешает (как под Шнайдемюлем), т.к. справа и слева идут свои ребята, которые во время заметят опасность. Эти окопы также оставлены немцами и никого не видно. Задерживаемся здесь, пока один из самых ловких разведчиков дивизиона, Рысь, разведает местность впереди. Вдруг, справа от меня, за поворотом траншеи, там, где расположились Шалевич и Хвощинский, раздаются короткие автоматные очереди. Оказалось, что прямо на них выскочил из-за кустов немец с огромным ящиком за спиной похожим на термос. "Хенде Хох!" - крикнул Шалевич, направив на немца автомат. Тот вскинул руки и произнес традиционное "Гитлер капут!". Шалевич приказал сбросить ящик и быстро ("цурюк!") идти в окоп. Немец скинул ящик и, когда тот коснулся земли, резко сиганул в кусты. Ребята дали очередь, правда, с опозданием (расслабились и опешили), и немец был таков. Они решили, что немец нес завтрак, и предвкушали хороший перекус (перед атакой, как всегда, никто ничего не ел). Оказалось, что это немецкая рация. Разочарование. Появился Рысь и сообщил, что впереди на ближайших 50-70 метрах пусто и мы двинулись дальше за Рысем, держа от него небольшую дистанцию в пределах видимости. Скоро посветлело, значит, лес кончается. Остановились. Рысь выполз на край опушки и обнаружил минометную батарею, стреляющую в нашу сторону. Он отполз и мы все притаились в густом кустарнике. Командиры определили по карте координаты этой батареи и решили дать команду нашей батарее на обстрел. Но не тут-то было! Связь нарушилась, где-то обрыв. Головин отправился по нитке ликвидировать обрыв, но через несколько минут вернулся. Провод перерезан и дальше его нет, сзади появились немцы они, наверно его уволокли, а рядом уже протянули свой провод. Он, на всякий случай, его тоже перерезал и разбросал концы. Рысь и еще один разведчик обследовали правую и левую стороны. Везде немцы, мы окружены, но они пока не знают о нашем присутствии, заняты своим делом. Пытаемся наладить радиосвязь. Соболев предлагает вызвать огонь на себя, но рация также отказала. Связи теперь нет. Приказано занять круговую оборону, не шуметь и не высовываться. Расположились в неглубокой выемке, заросшей и окруженной кустами. Стрелять только по команде. У всех мрачное настроение. Обидно в конце войны попасть в такую почти безнадежную ловушку. Время от времени, Рысь осторожно выползает на разведку, в разные стороны, а мы напряженно ждем с оружием на изготовку, изредка, в полголоса переговариваясь. У каждого свой сектор обзора. Проходит 20-30 минут, возникли какие-то звуки со стороны немецкой батареи и нарастающий шум впереди, справа. На разведку, опять, отправляется Рысь. Через несколько минут он бегом, не прячась, возвращается и сообщает, что батарея поспешно свернулась и улепетывает, а справа за танками появилась штурмующая группа наших соседей. Мы вскакиваем и, не дожидаясь команды, бежим к опушке. Там пусто. Валяются брошенные ящики из-под мин, ручные гранаты с длинными ручками. кстати, очень удобные, в отличие от наших, разбросано еще какое-то имущество и, конечно, вырыты позиции для минометов. Кто-то первым подбегает к ближайшему блиндажу и бросает во вход гранату. Взрыв, дым. Заглядываем. Там пусто, только толстый слой соломы. В стороне, на взгорке, второй блиндаж. Рысь крадется к входу, а мы стоим и лежим полукругом с нацеленными на вход автоматами. Он бросает внутрь одну за другой две гранаты, ловко прижавшись у входного проема от разлетающихся осколков. Еще не рассеялся дым от взрывов, как в проеме возникает фигура немца с поднятыми руками. Несколько человек инстинктивно дают по нему очереди из автоматов, но всё мимо. Ну и повезло солдату, ничто его не задело, ни гранаты, ни автоматные очереди. Сдавшийся подходит ближе с поднятыми руками и традиционными словами "Гитлер капут". Его окружают, усаживают на ящик и комбат или Комаров, с помощью Шалевича, начинают допрос. Он охотно рассказывает, что сам авиатехник, что его и почти весь персонал аэродрома, кто еще способен носить оружие, направили под угрозой расстрела сюда, на передовую, добавив еще срочно призванных сопляков-школьников из "Гитлергюнде", которые трясутся от страха и ничего не умеют. Кое-кто из этой команды сбежал по дороге, ему это не удалось. На позиции он заснул после дежурства и не слышал, как все смылись и очень рад, что для него война кончилась... Пленного отправляют в часть под конвоем одного бойца нашей команды.
Пока налаживалась связь с батареей и с соседями, мы разлеглись в блиндаже на соломе, выставив наверху часовых-наблюдателей. Ведь следующая группа траншей противника просматривается совсем рядом, метрах в 70-100 впереди. Правда там никто не маячит и огонь не открывает. Комдив Козиев ушел на связь с соседями и за дальнейшими указаниями. Кроме того он намерен прислать подкрепление в нашу поредевшую группу, точнее, прислать кого можно из дивизиона в нашу штурмовую группу. Вскоре на смену Козиеву пришел наш комбат Бойко, потом появился старшина с помощником, нагруженные термосами с горячей кашей, хорошо сдобренной тушенкой, и чаем. Вот это оперативность! Молодец! Не успели поесть, как немцы стали обстреливать нас минометным и орудийным огнем. Следом пришла команда изготовиться к следующей атаке в сопровождении танков (для меня это первое участие в танковой атаке). Бросив еду, мы высыпали наружу и залегли цепочкой вдоль бугра, хоронясь от разрывов (ныряли в свежую воронку, т.к. повторное попадание маловероятно!). Немцы открыли по нам редкий огонь. Взрыв справа, слева, сзади, впереди, но, к счастью мимо. Вот один за другим, соблюдая дистанцию, подошли тяжелые танки "ИС" (Иосиф Сталин). Начало темнеть. Прогремела короткая артподготовка и танки двинулись вперед. Мы, по команде, вскочили и двинулись бегом вслед за танками, хоронясь по возможности за их броней. Свистят противотанковые снаряды (болванки) и поют пули от автоматных и пулеметных очередей противника. Стреляют танки. Впереди какое-то марево: не то от взрывов, не то от дымовых шашек, пущенных немцами. Впрочем, я все равно не различаю и держусь остальных. Танки то и дело останавливаются, поджидая нашу братию, которая должна успеть заметить и обезвредить противника с Фаустпатроном. Нашим "ИС" болванки не страшны, а Фаустпатрон - смерть. Вдруг, я споткнулся. Мать честная - размоталась обмотка! Недаром я их ненавидел. Нагнулся кое-как замотать. Пробегающий мимо офицер (Комаров?) крикнул: скорей, не задерживайся! Ушло около минуты и я бросился догонять танки и своих. Вдруг я увидел, как загорелся один, затем другой танк. Неужто, удалось пробить такую толстую броню или попали в моторный отсек? Подбежав ближе, я понял, что это была уловка. Танкисты, вынужденные притормаживать, поджидая пехоту, превращались в малоподвижную цель. Тогда они бросали рядом дымовую шашку, имитируя попадание в них снаряда, и противник прекращал обстрел, считая, что танк подбит. Однако, где наши? Быстро темнело. Стрельба уменьшилась и вскоре затихла, а я метался между воронками, не находя своих, уже впереди танков и боялся проскочить в расположение противника. Наконец, в одной колоссальной воронке (диаметром 5-6 и глубиной до 3-х метров) услышал тихий говор и, с облегчением, обнаружил свою команду, присевшую на её дно. Мелькали огоньки, куривших махорку. Выслушав шутки, довольно грубоватые в свой адрес, я молча уселся рядом. Теперь все в сборе, потерь нет, надо занимать позицию до утреннего наступления.
По команде комбата все выбрались наружу и уже совсем в темноте обосновались среди кустиков, метрах в 100 впереди воронки. Стали поспешно рыть временные укрытия, ровики, обливаясь потом. Надо было схорониться от возможного обстрела, как противника, так и своей артиллерии. Последнее нередко случалось в столь неопределенной обстановке. Впереди, метрах в 50, смутно проступал, уходящий ввысь, откос насыпи. Всем хотелось пить. Но где взять воду? Старшина, вряд ли нас найдет. Мне показалось, что я знаю, где можно раздобыть воду, и, схватив несколько котелков, я направился вперед к насыпи. Стало уже совсем темно. У подножья насыпи я действительно обнаружил небольшой ручей. Выбрав место поглубже осторожно зачерпнул котелки и тут прямо над головой c насыпи внезапно затрещало. Я поднял голову и увидел прямо надо мной пульсирующие в темноте язычки пламени. Немецкий пулемет! Он бил в сторону наших позиций в нескольких метрах от меня, а у меня нет даже автомата. Я оставил его, нагрузившись котелками, чтобы не мешал. Пулемет также внезапно смолк и, подхватив котелки, я побежал обратно. Там было некоторое смятение. Тушили, только что разведенные костры. После того, как я показал откуда стреляют, открыли автоматный огонь по верху насыпи. Пулемет больше не возникал. Вскипятив, все же, воду в яме на небольшом костерке мы поужинали сухарями с кипяточком и устроились на ночевку, выставив усиленную охрану. Ночь прошла спокойно, никто не беспокоил. Традиционных немецких осветительных ракет тоже не было. Возможно, боялись себя обнаружить. Однако, напряжение у всех не спадало.
Наступил хмурый рассвет. В разных местах раздавались редкие выстрелы. Комбат Бойко взял меня, Шалевича, Хвощинского, фельдшера - Башкина, связиста для устройства НП. Торопил, вот-вот должна начаться артподготовка, а он еще не скорректировал огонь батареи. Поднялись на насыпь с оружием на изготовку и с саперными лопатками за поясом. Кто-то нес пару хороших немецких штыковых лопат. Вдоль насыпи проходила немецкая траншея, в которой лежало 3 трупа совсем молодых немецких парней, рядом валялись их сумки. Может быть, это они стреляли вчера вечером? Но пулемета не было. Странно, что немцы не убрали трупы - это так не похоже на обычное поведение противника. Убитых, как обычно, обыскали. В сумках была какая-то мелочь, а у убитых сняли часы и одни отдали мне. Теперь я с часами, но было как-то не по себе брать у мертвого, хотя я не подал виду, еще засмеют. За траншеей был взгорок. Комбат поднялся, слегка высунул голову и тотчас отпрянул. Спустившись, велел мне подняться и быстро выкопать на краю взгорка ячейку, маленький окопчик, ровик на 2-3 человек. Здесь будет НП, откуда будет корректироваться огонь батареи. Остальные легли перед взгорком. Я взял штыковую лопату (удобней и быстрей копать) и осторожно полез наверх. Комбат покрикивал: "Не трусь, лезь выше, выбери, где лучше, и живей копай!". Зачем? Лучше копать сзади, вгрызаясь в верхушку взгорка. Дольше, но безопаснее и, главное, надежней. Наверно, он просто торопится. Вылезши наверх, я увидел перед собой широкую панораму местности, огромный простор, уходящий до самого горизонта. Вдалеке, слегка справа поблескивала вода, широкого здесь, Одера, за которым смутно проглядывались очертания большого города. Это был Штеттин, а на этом берегу, плохо различимое мной предместье города Альтдама - цели нашего наступления (Кто первый захватит Альтам - получит звезду Героя!). Слева было несколько мелких кустов, слегка загораживающих панораму, а рядом была глубокая борозда края пахоты. Хорошо, легко копать, а при обстреле есть куда нырнуть, подумал я, и решил расширить и углубить борозду. Только подумалось, успею ли? Ведь я торчу, как перст, надо торопиться. Только я воткнул лопату, как раздался характерный треск очереди немецкого пулемета и меня больно, словно крепким кнутом, хлестнуло по правой ноге и, слегка обожгло левую. Ноги подкосились, я свалился и отполз вниз. Левая ватная штанина была разорвана в клочья, а правая прорвана немного, имела две дырки, из которых сочилась кровь.
В голове пронеслось: повезло, ранен в правую ногу, если было бы чуть повыше, то попало бы в живот или голову и тогда всё. Ранен? - крикнул кто-то. Я кивнул, ко мне подполз Башкин и, достав из своей сумки бинт, начал перевязывать левую ногу, поверх разорванной в клочья штанины. Я крикнул, что попало в правую. Он осмотрел ее и, увидев следы крови, стал перевязывать правую. "Сквозная рана", произнес он. Меня стащили вниз и я попытался встать, опираясь на автомат. Левая нога заболела, но стоять было можно. Правая - болела меньше, но не слушалась и подкашивалась, как чужая... Меня свели к ночной позиции и, убедившись, что я могу кое-как ковылять, опираясь на левую ногу, дали провожатого (Леончика?). Опираясь на него и на автомат, я, под грохот начавшейся артподготовки, доковылял, с остановками до огневых позиций своего дивизиона, не обращая внимания на редкие минометные налеты с немецкой стороны. Идти было трудно, правая нога подламывалась и пронизывала боль.
Пока подошла санитарная машина, я сдал старшине автомат, рассказал в штабе о ситуации на передовой и, на вопрос начальника штаба Коханова, уточнил на карте дислокацию группы комбата. Начался штурм Альтдама, но меня это уже не касалось. Я, уже второй раз, ехал в машине с другими ранеными в нашу медсанроту, радуясь в душе, что легко, совсем легко, отделался.
В последствие Шалевич рассказал мне, как сложилась атака нашей штурмовой группы после моего ранения. Вот несколько эпизодов.
В тот день при штурме Альтдама по-глупому погиб парторг нашего полка тишайший и скромнейший майор Тихомиров. Он перед атакой пришел в блиндаж штурмовой группы, где был наш комбат Бойко и еще несколько офицеров. Когда немцы начали вести довольно интенсивный артобстрел наших позиций Бойко и еще кто-то стали подначивать Тихомирова, что он редко бывает на передовой, всё в тылу ошивается и небось от страха не знает куда сейчас деваться. Почему-то это задело Тихомирова и он вылез из блиндажа, сказав, что пойдет к солдатам, поддержать их. Кто-то из офицеров отговаривал его, говоря подожди конца обстрела, а наш комбат все посмеивался, говоря ползти придется и еще что-то обидное. Тихомиров не стал слушать и во весь рост пошел от ровика к ровику. Тут его и накрыло очередным разрывом осколками снаряда в живот и другие части тела. Правда, солдатики быстро оттащили его и отправили в медсанроту. Но ранение оказались роковыми, а организм слабым, и он скончался. Мы, солдаты, очень огорчились гибелью этого интелигентного и всегда доброжелательного человека и даже винили в этом нашего комбата за его неуместные и грубые подначки.
Был еще один эпизод, когда Бойко повел себя, мягко говоря, нехорошо. Изложу рассказ Шалевича. После артподготовки наша группа пошла в атаку на пригороды Альтдама вместе с танковой группой. Возглавлял группу сам комбат Бойко. Кругом рвались снаряды, правда, редкие. Вдруг ближайший танк остановился, Подбежав к нему мы узнали, что только что убило командира танка, стоявшего в открытом люке и экипаж не знает, что дальше делать. "Я старший по званию, слушай мои приказы" крикнул Бойко "вперед под нашим прикрытием!". Он был умелым и не трусливым командиром и быстро ориентировался. Танкисты подчиняются и группа буквально влетает на одну из улиц городка. Первый дом. Пусто. В следующем кто-то ворочается в подвале. Немцы! Хвощинский бросает пару гранат в окно и все врываются через открытую дверь в подвал. Боже! Там мечутся куры и никаких немцев. Вот следующий дом. Вбегаем в палисадник и видим впереди трех немцев, стреляющих в противоположную от нас сторону и одного, лежащего рядом с ними. "Хенде хох!" крикнул Шалевич. Все направили автоматы на противника. Немцы тотчас бросают оружие и поднимают руки. "Стреляете гады, ети вашу так!" крикнул Бойко. "Нет, нет, я не стрелял!" произнес на русском языке один, лежащий сбоку и с трудом сел. Он был ранен в руку или ногу, которые были в крови. "Так ты русский! Власовец!" яростно произнес Бойко. "Нет, нет!... я пленный... меня заставили идти с этими, переводчиком... меня ранило, а они даже не перевязали" почти простонал раненый. Бойко достал индивидуальный пакет и начал перевязывать раненого. Вдруг, бросив перевязку, он вскочил и скомандовал "Кончайте всех!", Раненый что-то хотел сказать, но затрещали автоматы и все сдавшиеся рухнули на землю.
Почему Бойко так поступил? В пылу боя? Под влиянием каких-то воспоминаний? Все ребята были ошеломлены и никогда не вспоминали эту сцену. Они выполняли приказ. А Бойко? Вскоре он был тяжело ранен и контужен под Берлином и долго не мог оправиться. Много лет спустя на одной встрече однополчан ему задали вопрос о расправах с пленными. "Не помню этих случаев" был его ответ, казалось, вполне искренний. Контузия вышибла всё плохое из памяти?
В МЕДСАНРОТЕ
Вернемся в медсанроту. Вскоре я лежал в приемной операционной палатки на походной кровати, уже раздетый, укрытый одеялом и шинелью и ждал очереди в хирургическую часть палатки. Перед этим медсестры, с моей помощью и помощью здоровенных ножниц, стащили всю одежду: ботинки с обмотками, рванину брюк и кальсон, грязную, до нельзя, телогрейку и гимнастерку. Затем наложили временную повязку, вместо старой, пропитавшейся кровью и я, опять с их помощью помылся, точнее кое как ополоснулся. Хирург освободился, мне поднесли полстакана разведенного спирта, сделали противостолбнячный укол и отправили в хирургическую. Хирург, здоровый мужик, которого все боготворили, стал манипулировать над моей раной.
Он быстро орудовал, ласково приговаривая: "потерпи чуток (когда было особенно больно), ты, братец, легко отделался... у тебя пустяковая сквозная рана, кость слегка задета, сейчас сделаем дренаж, чтобы вся дрянь вышла... скоро поправишься и забудешь о ране...". Закончив обработку раны и перевязав, меня отправили обратно. Переодели в чистое нижнее и верхнее белье, правда, не новое, а б/у, заплатанное и застиранное, но было необычно приятно чувствовать себя чистым. Уложив на койку, мне, буквально, поднесли еще полстакана разбавленного спирта и чего-то горячего, наверно обеденного. Я совсем осоловел, в голове шумело, но настроение было приподнятое. Было ощущение небывалого везения и, главное совсем спало напряжение последнего времени. Пару часов назад передовая, а тут лежишь в чистоте и кругом тихо, мирно, никаких выстрелов, за палаткой тихий говор и чирикают птички.
И тут в палатку вошел и присел около моей кровати лейтенант, вытащив из планшетки большой блокнот. Он представился корреспондентом наше газеты "Советский артиллерист" и сказал, что хочет узнать правду из первых рук. Несмотря на хмель у меня мелькнула мысль, что же ты на передовую не поехал, там бы все сам и увидел. Он стал расспрашивать о штурме Альтдама и я рассказал всё, что видел и чувствовал в эти два дня, стараясь не приукрашивать события. Он что-то писал в блокнот и, к моему удивлению, всё выспрашивал, сколько наша группа и я лично истребили немцев. Я сказал, что это совсем не главное при штурме, что при атаке стреляли перед собой по кустам, но кого и сколько немцев задело или убило не видел и не знаю. Главное же, как мы занимали намеченные позиции, как вели себя во время атаки, хотя сами не пехотинцы. Тут меня перевели в палатку для раненых, корреспондент еще что-то спросил и, попрощавшись, ушел, а я свалился на койку и тотчас уснул.
Вскоре, после падения Альтдама, медсанрота переехала в один из немецких поселков и мы расположились в доме на расстеленных циновках. Здесь мне вдруг стало все хуже и хуже. Болела нога, температура подскочила до 40 и я находился в полубредовом состоянии, ничего не ел, только пил. Пришел хирург и сказал, что все нормально, это реакция на операцию, через день, другой пройдет. Следует напомнить, что тогда еще не было антибиотиков, мне давали какие-то таблетки, кажется жаропонижающие. Действительно, я быстро оклемался, нога стала меньше болеть и началась нормальная госпитальная жизнь выздоравливающего пациента. Каждый день делали перевязку, давали пилюли, заставляли понемногу двигаться. Я, как и другие, писал домой письма, что легко ранен, скоро поправлюсь, что скоро конец этому проклятому фашизму и вот, вот наступит мир. Медсанрота опять переехала в городок Нойдам. Нас разместили на кроватях в светлой комнате, на 2-ом этаже чистенького домика. Стали поступать газеты, журналы, на которые мы набрасывались за новостями. Однажды, сосед, читая газету "Советский артиллерист" обратился ко мне: "...Тут про тебя написано...Возьми газету на память...". Я взял газету и стал читать довольно большой подвал о героизме наших артиллеристов при штурме Альтдама, написанный довольно стандартным, суконным языком. Там, в частности, писалось, примерно следующее: "...ефрейтор Орлов В.А., участвуя в штурмовой группе, огнем своего автомата уничтожил несколько десятков фашистов...", далее отмечались еще какие-то подвиги ефрейтора и его товарищей. Боже, зачем такие враки про меня, про товарищей, да еще в стандартной для того времени форме! Нам было трудно, опасно, но выдумывать зачем! Мне стало невыносимо стыдно и я сказал, что это не про меня, просто однофамилец. Сосед и другие сопалатники не поверили и сказали: "...зря расстраиваешься. Они всегда врут, но для памяти возьми, если останешься живым будет о чем вспомнить...". Я повторил, что это не обо мне и газету не взял, было противно. Сейчас понимаю, что зря не взял, действительно была бы память...
Наступил апрель, я шел на поправку, уже мог немного ходить, правда, прихрамывая. Боль почти прошла, скоро выписка и пора возвращаться к своим в часть. Кругом все говорило о подготовке наступления на Берлин. Мимо проезжало масса техники. Такого скопления разного рода войск мне еще не приходилось видеть. Было ясно, что готовиться мощное последнее наступление. От приезжавших шоферов узнал, что наш полк уже на плацдарме, оборудует позиции. Немцы ожесточенно обстреливали переправу через Одер. На днях там был убит командира нашего полка Островский, которого многие офицеры считали лучшим из всех командиров, побывавших на этом посту. Большая потеря.
Вскоре, за два или три дня до начала берлинской операции, нашу медсанроту перебросили из города в полевые условия, ближе к плацдарму. Вновь мы разместились в огромных палатках, которые заполнили множеством пустых коек. Готовились к приему раненых. Разместились не в лесу, как обычно, а на довольно открытом месте. Значит, вот-вот начнется наступление, скорее всего, последнее, поскольку союзники неудержимо двигаются с запада. Выписали почти всех ходячих, а тяжелораненых увезли в тыл еще раньше. В палатках насчитывались единицы, в том числе и я из-за еще гноящейся раны.
Невдалеке был огромный полевой аэродром, над которым непрерывно барражировали истребители, не давая приблизиться авиации противника. Тем самым они прикрывали и наше расположение. В первый же день прибытия на новое место мы наблюдали, прямо над головами, несколько воздушных боев. Вот из-за облаков вынырнули два немецких "мессера" и на невиданной скорости зашли в хвост наших истребителей. Треск авиапушек и один наш истребитель был сбит и рухнул вниз. Второму удалось увернуться. Он вместе с другими самолетами ринулся догонять противника, но те также мгновенно исчезли. Вскоре мы узнали, что это были новые реактивные самолеты противника, которых у нас еще не было. Догнать и сбить его, на наших "Яках" было невозможно, разве, с трудом увернуться при его атаке. К счастью таких истребителей было мало, десяток или чуть больше, и повлиять на воздушное господство нашей авиации они уже не могли. Война кончалась.
БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Вечер 17 апреля. Кто-то крикнул: "Началось!" и я, вслед за еще оставшимися ранеными, проковылял на улицу. Зрелище, которое я впервые увидел, завораживало. С аэродрома один за другим с интервалами в полминуты, может меньше, один за другим взлетали, казалось, выстреливались истребители, а затем, чуть реже, штурмовики и бомбардировщики. Они, делая круг над аэродромом, выстраиваясь в гигантскую, все возрастающую спираль. Десятки, а затем больше сотни самолетов кружилось в воздухе. На Берлин! Значит завтра наступление, а это начиналась авиационная подготовка. Уже темнело, когда эта армада двинулась в направлении Берлина, за ней другая. Через некоторое время послышались глухие разрывы бомб и отдаленное, еле слышное, тарахтение немецких зениток.
Спал я тревожно и при первых звуках, начавшейся 18 апреля, еще до рассвета, артподготовки вышел наружу. На горизонте были видны отблески канонады. Значит, скоро выпишут в часть. Как там наши ребята? В успехе сомнений не было, но все же...
На другой день стали поступать раненые, а 25 апреля меня выписали в часть "на амбулаторное лечение", поскольку рана не совсем зажила. На попутке я доехал до штаба полка, кажется, сдал свои документы или просто отметился, и хотел добраться до своей батареи. Однако, якобы, из-за раны, не смотря на мой протест (очень хотелось добраться до своих), меня тут же снарядили сопровождать бензовоз (один разок съездишь, больше некому). Наш полк уже вошел в прорыв на правом фланге и, не встречая сопротивления, двигался вместе с танкистами в обход Берлина навстречу частям 1-го украинского фронта, замыкая кольцо вокруг города. Срочно требовался бензин и я, взяв протянутый мне временно карабин (автомат был в батарее), с неохотой, водрузился на узкую боковую площадку бензовоза с хлипкими проволочными перилами. Тотчас мы направились на базу, без какого либо сопровождения, обязательного в таких условиях. Помимо меня в кабинке был шофер и офицер - снабженец и мы представляли хорошую одиночную цель, практически беззащитную. Но настроение было беспечное, непонятное ощущение безопасности. Авось не наткнемся на противника в царящей кругом суматохе. Бензовоз, почти без задержки мчался с включенными фарами по отличной дороге, проезжая мимо двигавшихся туда - сюда частей, поселков с притушенными огнями, пустых перелесков. Мне было довольно холодно от бежавшего навстречу ветра и я жаждал конца поездки, чтобы согреться. Вот и "пункт питания", площадка перед домом, заваленная ящиками с боеприпасами, продуктами и прочим скарбом. В стороне цистерны с бензином. Заправились быстро и вернулись без происшествий. Я отдал карабин и ушел в свою батарею.
Весь полк, вся бригада, только что встретились с передовыми частями 1-го украинского фронта и замкнули кольцо вокруг Берлина в районе Потсдама. В батарее меня встретили хорошо. Тут же дали банку консервов и круглую плитку шоколада и рассказали новости. Прорыв прошел хорошо, почти без потерь. Рассказали, что наш полк двигался с танковой армией в обход Берлина почти без сопротивления. Более того, в одном городе (Науэн или Кетцен) к движущейся колоне вышел парламентер с белым флагом и сказал, что гарнизон, по приказу(!) своего командира сдается, все оружие сложено на ближайшей площади. Наконец-то, стали появляться разумные командиры, понимающие всю бессмысленность сопротивления и напрасных жертв. Появились и солдатские трофеи, взятые пару дней назад на брошенном, огромном немецком складе, захваченном при наступлении. Ящик консервов, ящик шоколада на взвод, кое-какое барахло из одежды и конечно водка (шнапс). Шнапс оказался отличной водкой. Его налили в бочку из-под бензина, которую тщательно отполоскали (другой емкости не было). Дали мне, но я, слегка пригубив, отказался. Уж очень отдает бензином, хотя вкус приятный, анисовый, мягкий, не то, что спирт.
При окружении Берлина нас поразило поведение немецких детей. Они выбегали из-за придорожных деревьев или кустов к остановившимся машинам и начинали петь на русском языке(!) наши песни, Катюшу, другие и даже Интернационал, тогдашний гимн СССР(!). Наши солдаты бросали им с машин шоколад, консервы, а то и хлеб. Они хватали добычу и убегали обратно, скрываясь в придорожных зарослях. Безусловно, их направляли взрослые, столкнувшиеся с голодом и отчаявшиеся получить где-либо провиант для поддержания жизни. Очевидно, это были люди, растерявшиеся в обрушившихся на них событиях, полностью разуверившиеся в гитлеровском режиме и испытывающие полный крах жизненных устоев. Это были те, кто надеялся на милость победителей, как не страшно их представляла гитлеровская пропаганда.
Все шло хорошо, но вчера нашу батарею постигли тяжелые потери. На передовых позициях под Потсдамом разорвавшимся крупным снарядом тяжело ранило комбата Бойко и командира нашего взвода управления Соболева. Их быстро отправили в госпиталь, но было непонятно, выживут ли они. Этим же снарядом убило и ранило еще несколько человек, в т.ч. разведчика Рыся. Трагедия произошла из-за охватившей всех эйфории победы и возникшей беспечности. Они сидели на солнышке под защитой стены здания, обращенного к немцам, с полным ощущением безопасности и, ввиду временной передышки, играли в карты. Немцы молчали, боясь вызвать немедленный огонь на себя. Но шла пристрелка нашей дальней (тяжелой) артиллерии и рядом из-за недолета разорвался наш(!) снаряд. Ведь было известно, что во время пристрелки надо быть в укрытии. Получилось досадно, бессмысленно, но сколько было таких бессмысленных, обидных потерь!
Командиром нашего взвода временно назначили недавно прибывшего лейтенанта Гликмана, ленинградца, в гражданке состоявшегося скульптора, старше нас на десяток лет. После войны он стал известным скульптором, в 70-х годах эмигрировал в Америку, где прославился и даже изваял какие-то скульптуры для президента Рейгана. Потом переехал в Германию к своей Урсуле. Но об этом позже.
Гликман рассказал, что по пути в нашу часть его чуть не убили поляки из армии (точнее партизанских отрядов) польского эмигрантского правительства Миколайчика (армия Крайова?), которое так и не было признано Москвой. Он торопился в нашу часть, которая была уже в Германии, а попутного транспорта всё не было. По совету окружающих он решил двигаться на перекладных от одной части до другой. Недалеко от границы с Германией он заночевал не в части (негде было), а у одной полячки. Ночью раздался стук и в комнату, где он спал, вошли бойцы отряда эмигрантского правительства. Они приказали Гликману одеться и следовать за ними, сопровождая приказ злобными ругательствами. Он понял, что его просто убьют (вот вляпался, предупреждали ведь, не ночуй у поляков), но, делать нечего, оделся. Хозяйка стала умолять пришедших не трогать русского офицера. Те ни в какую и уже стали грубо толкать Гликмана к выходу. Тогда хозяйка упала на колени, навзрыд заплакала, и заявила; пусть они и её убьют, ведь завтра заберут всю её семью, как сообщников. Так и так умирать. Командир поляков остановился, отобрал у Гликмана пистолет и ремень и с руганью удалился со своей командой. Больше Гликман нигде, кроме своих частей, не ночевал и уже под Шнайдемюлем добрался до назначенного ему подразделения, т.е. до нас.
Я быстро подружился с Гликманом. Он по складу характера был совсем гражданским человеком, обращавшимся с подчиненными по-граждански, по-товарищески ("прошу пойти" или "будьте любезны, направиться туда-то или сделать то-то..."). Никогда не грубил подчиненным. Его удручала массовая бравада солдат и офицеров по поводу "умения выпить и контактов с бабами..." и особенно похвальба по приобретению трофеев. Он нигде ничего не брал принципиально, даже говорил, что у него поверье: если возьмет какие-то вещи, то непременно будет убит. Правда, в Потсдаме, находясь в одном из дворцов, он прихватил валявшийся толстенный альбом с черно-белыми гравюрами на религиозные темы. Мы листали альбом, а он, с не скрываемым удовольствием, даже нежностью, комментировал каждую гравюру. Затем, через пару дней он внезапно сжег альбом, несмотря на мои протесты, заявив, что не хочет насмешек окружающих, если его убьют и обнаружат в вещах только этот альбом.
Там же под Потсдамом он сообщил, что меня представили к ордену за участие в штурмовых отрядах. Я отнесся к этому почти безразлично, считая, что главная награда это остаться живым и не покалеченным.
Меня, из-за еще не зажившей раны, оставили, вначале, телефонистом на батарее, но после падения Берлина, когда перевязки кончились, я вновь дежурил на промежутках, на НП, включался в штурмовые группы. Правда, конец войны стремительно приближался и, уже совсем бессмысленное сопротивление противника, слабело с каждым днем. Опишу, кратко, последние дни.
После взятия Потсдама нас (всю бригаду) перебросили к западной окраине Берлина, где, как нам сказали, немцы пытались вырваться из окружения. Там мы встали в противотанковую оборону, расположившись по обе стороны дороги идущей из города на запад. Вырыли небольшие щели и стали наблюдать за происходящим впереди. Один или два дня наблюдали, как наши самолеты бомбили укрепившихся, скорее застрявших, немцев в сотне, другой метров от нас. Никто не пытался нас атаковать, хотя пехоты здесь было мало, а 1 мая все стихло. Нам сообщили, что рейхстаг пал, Гитлер и Геббельс покончили с собой, а противник сдался. Наступила тишина и вскоре по дороге потянулась нескончаемая колона пленных в серо-зеленых шинелях с редким охранением, один - два солдата на 100-200 немцев. От колонны то и дело отваливались отдельные фигуры и падали на обочину. Никто не обращал на них внимания, ни охрана, ни бредущие строем немцы. Колонна прошла, а фигуры солдат валялись, не проявляя признаков жизни. Мы отправились выяснить, в чем дело: может это были брошенные, умирающие раненые? Подошли к одному телу. Оказался совсем молоденький солдатик, 16-17 лет в новенькой добротной форме. Лицо розовое, хотя лежит неподвижно в той позе, как упал. Оказалось, что он пьян до бесчувствия. Перевернули на спину, вытащили документы. Никакой реакции. Прочитали, что он член гитлергюнде - военизированной молодежной организации. Положили документы обратно и осмотрели еще несколько фигур. То же самое - юнцы, мальчишки, призванные фашистами. И не жалко было заведомо посылать на убой детей? Впрочем, фашистам ничего и никого не жалко, даже своих детей. Считай, что этим повезло, остались живыми. Мы ушли, а вскоре снялись с позиций и двинулись дальше на запад к Эльбе, навстречу союзникам, которые уже подходили к реке.
ПОБЕДА!
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Легко, почти без боя, мы заняли подряд два города, сильно пострадавшие от бомбежек и местами охваченные пожарами: Шпандау и Ратенов. Населения не видно, попряталось. Наверно, как и раньше, сгорят города - думали мы. Однако, они уцелели, хотя и сильно пострадали. Вот и последняя позиция перед Эльбой. Вечерело. Меня оставили на промежутке, хотя я упрашивал, чтобы взяли на передовую. Хотелось посмотреть: как все кончиться. "Завтра последний бой, придешь утром" сказали мне. Пушки заняли огневые позиции. Утро 7-го мая. Тихо, ни одного выстрела. С НП сообщили, что немцы прекратили сопротивление, будем сматывать связь. Ощущение, что всё кончилось, хотя никаких сообщений и команд. Победа!
Я с кем-то отправился к Эльбе. Навстречу плотный поток возвращающихся беженцев, старики, женщины, некоторые с уцепившимся за них детьми. Коляски с вещами и младенцами. Идут, уставившись в землю и испугано озираясь, когда подходит солдат или им кажется, что подходит. Откуда их столько и куда бежали бросив всё нажитое? Впрочем, понятно, что бежали они на Запад к нашим союзникам от "диких, нищих и жестоких орд с востока", как нас описывала гитлеровская пропаганда. Сохранился ли их кров? Впрочем, нам все равно. Вот мы выходим на лесистый берег Эльбы. Здесь она довольно широкая, метров сто или более. По ту сторону реки англичане или американцы, не разглядишь. Валяются брошенные беженцами вещи, масса тряпья и обрывков бумаги. Многие, если не все, беженцы хотели, но не смогли переправиться на тот берег. Вдоль реки, притулившись к лесу для маскировки, разбросаны мощные зенитные орудия. Связисты сматывают связь и больше никого. Один связист рассказал, что когда наши передовые части вышли к берегу и занимали позиции вдоль реки оба союзника (здесь и там) устроили довольно жестокую "игру". Как раз в это время от берега отчалила очередная большая лодка с беженцами, рвавшимися на ту сторону. Наши не препятствовали. Как только лодка стала приближаться к другому берегу, оттуда застрочил пулемет и стал отгонять лодку прочь. Лодочники, естественно испугались и бросились обратно. Вот лодка стала приближаться к нашему берегу. Тогда уже наш пулеметчик стал стрелять по ней (естественно мимо) и лодка ринулась обратно. Так ее гоняли от одного берега к другому и лодка удалялась по течению, не имея возможности нигде пристать. Вскоре она скрылась за поворотом и, наверное, где- то пристала, но что пережили пассажиры!
Свернув связь, мы вернулись обратно, дожидаясь дальнейших распоряжений. Мимо тянулась непрерывная лента немецких беженцев, возвращавшихся домой. Вскоре пришла команда для всех частей "при появлении любого самолета, не стрелять!". Капитуляция, поняли мы! Будет подписание акта. Я вышел из шалаша наружу. Прошло какое-то время, и я услышал шум приближающихся самолетов и прямо над головой, низко, почти на бреющем полете пронеслось несколько самолетов в сопровождении истребителей. Делегация союзников - догадался я, а низкий полет на всякий случай, чтобы ненароком не подстрелили. Вскоре раздался характерный, ноющий звук одиночного немецкого самолета без прикрытия, летящего в том же направлении, но на большей высоте. Немец летит на подписание акта о капитуляции - понял я. Было что-то сиротливое и обреченное в полете этой одиночной машины. Или мне так казалось?
Ночью перед рассветом 9-го мая нас разбудил треск автоматных очередей и крики : ура! В расположенном неподалеку штабе дивизиона, где всю ночь не выключали радио, прозвучали слова Левитана о безоговорочной капитуляции немцев и окончании Отечественной войны. Мы уже понимали, что война кончена, но это было официальное подтверждение конца этой жуткой войны и все мы отмечали его салютом из своего оружия. Теперь не придется больше стрелять, долгожданный мир наступил.
ЛАГЕРЬ В ЛЕСУ
На следующий день наш полк в составе бригады переехал к месту оборудования временного лагеря близ города Ратенов. По пути, на одном из перекрестков, на боковой дороге появилась огромная колонна пленных, организовано следовавших к месту назначения. Впереди офицерский состав, за ним зеленая солдатская масса. Вокруг немногочисленная охрана. Колонна остановилась и расположилась на отдых. Тут же откуда-то появились немецкие женщины с ведрами воды и кое-какой снедью. Они прямо бросились к отдыхающим. Слышался оживленный говор и плачь, правда, редкий. Охрана не препятствовала общению. Мы двинулись дальше и, вскоре въехали в лес, где начали оборудовать летний лагерь.
Каждый взвод построил свою землянку и, по окончании строительства, началась обычная лагерная жизнь: подъем и отбой, трехразовое питание, наряды в караул и на кухню. Когда не было нарядов, проходили утренние занятия, вечером политзанятия (читка газет, беседы) и свободное время. Занятия проходили вяло, к чему все это! Война кончена, скорее бы домой. Солдаты и офицеры ждали демобилизации. Вечерами писали письма, делились мыслями о будущем.
Сразу же по прибытии в лагерь все сдали оружие. Его выдавали теперь, как и в мирное время, только при несении караульной службы. Строго, под угрозой трибунала, потребовали сдать всё трофейное оружие. Я отнес свой автомат старшине, а он стал требовать карабин, который числился за мной. Мы долго препирались. Я - ему: "знать ничего не знаю, давно раздобыл автомат, а где карабин не знаю, ведь я был в медсанроте...". Он - мне: "почему не сдал карабин, когда нашел автомат, за тобой карабин числится, а не автомат? Что мне теперь делать?....". В, конце концов, он плюнул и, поняв, что ничего не добьется, с ворчанием, отпустил меня.
У меня с вычислителем соседней батареи Новоселецким был трофей на двоих; маленький изящный, дамский пистолет "Вальтер" с обоймой пуль. Договарились, что тот, кто первый демобилизуется, возьмет его с собой. Опасаясь весьма вероятного шмона, мы зарыли его в тайнике под деревом, предварительно густо смазав. Однако, позже, в спешке внезапного переезда, мы забыли его вырыть и он, думаю, до сих пор захоронен в том лесу.
Вскоре после прибытия в лагерь состоялось торжественное награждение всех фронтовиков. Награждали побатарейно. Выстроились на поляне и командир полка или бригады вызывал награждаемого и лично вручал ордена и медали. Вызвали меня и вручили орден Славы 3-й степени и удостоверения к медалям "За победу в Отечественной войне", "За взятие Берлина" и "За освобождение Варшавы". Почему удостоверения? Еще не успели отчеканить медали. Первые две медали я получил уже в Москве, а последнюю медаль, аж 20 лет спустя. Естественно, я был горд и счастлив. Жив, имею только легкое ранение и награжден почетным орденом, которым награждали только фронтовиков за конкретные действия при столкновении с противником и который в батарее получили только 2 или 3 человека. Тогда на плакатах, открытках часто печатали "образцового" русского солдата с орденом Славы и медалью "За отвагу". Вот и я почти такой (медаль "За боевые заслуги" на ступеньку меньше). После награждения всю батарею сфотографировали и эта карточка мне дорога и напоминает те первые послевоенные дни.
Кончался май и однажды, трех москвичей с образованием не ниже 7 классов вызвали в штаб дивизиона: меня, Кириченко и еще кого-то. Там сидела комиссия из бригады. Выделялся 1 человек от дивизиона на парад Победы. Отбирали, в основном, москвичей. Пусть дома побывают и на параде поучаствуют. Выбор, естественно, пал на Кириченко. Он больше всех служил и наград больше. Ему позавидовали, что дома побудет (это главное!), а парад - это нагрузка, ежедневная муштра строевой подготовкой, которая и здесь всем осточертела. Вот такой взгляд был в то время. Вернувшись из Москвы, он рассказывал о том, как все проходило, как он побывал дома и какова жизнь в Москве.
Как-то, вместо занятий, я отпросился разведать местность. Меня легко отпустили и я, захватив на всякий случай, случайно оказавшуюся у меня наличность в немецких марках, направился перелесками в сторону недалеко расположенного города Ратенов (память на местность у меня была хорошая). Лес кончился и передо мной, хорошо обозримый с пригорка, появился типичный немецкий городок с черепичными крышами невысоких домов и высокой башней костела (или кирхи) в центре. Правда, башня и сам костел были сильно повреждены бомбежкой или обстрелом. Крест уцелел, но скособочился и висел, как подбитая птица. Это был Ратенов. Внизу просматривалась речка с небольшой плотиной, перегораживающей речку. Пройдя по плотине, я наткнулся на кирпичное производственное здание, за стеной которого слышался равномерный гул работающих станков. Как! Прошло несколько дней и фабричка уже работает? Найдя вход, я поднялся по лестнице и постучал в дверь. Тотчас дверь открылась и вышла молодая улыбчивая немка со связкой молний и горстью желтых (под золото) форменных пуговиц нашей армии с выбитыми звездами, а также набором кожаных ремней и прочей армейской бижутерии! Я онемел от неожиданности. За пару недель наладит производство добротных вещей для нашей армии вместо нашей уродливой, ржавой продукции! Кое-как знаками и жестами я объяснился с немкой и на все деньги закупил пуговиц, значков и пару ремней.
Вернувшись в лагерь, я отложил часть покупок для себя, а остальное стал раздавать своим. И тут в нашу землянку набежали командиры из нашей и других батарей дивизиона. Я чувствовал себя неловко среди офицеров, умолявших выделить хоть что-то, и сказал, что, если меня отпустят, завтра принесу эту бижутерию всем желающим. Меня, конечно, отпустили, насовали денег и пришлось составить длиннющий список "клиентов". Два дня я ходил в Ратенов, закупал всё, что мне заказали, но главное почувствовал себя вольной птицей и с интересом побродил по городу. Поразила быстрота, с которой установился порядок и как быстро были расчищены улицы, а развалины отдельных домов аккуратно огорожены. Развалин оказалось не так много, как нам показалось при захвате города перед концом войны, когда пожары, казалось, охватили весь центр города.
Через несколько дней нас подняли по тревоге и мы в спешном порядке переехали на окраину этого небольшого немецкого городка в бывшие немецкие казармы.
В ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСКАХ, служба и жизнь в немецком городке
Казарма нашей бригады представляла собой замкнутый четырехугольник нескольких зданий с плацем посередине. В зданиях размещался личный состав батарей, учебные классы, отдельно столовая, клуб, штаб бригады и подсобные службы. Вокруг стоял мачтовый сосновый лес, придававший известный уют всей обстановке и, как бы скрывавший казарму от посторонних глаз. Территория казармы была огорожена добротным забором.
После землянок и блиндажей казарма показалась нам раем. Комнаты на 6-8 человек, 2-х ярусные койки с матрасами, паркетные полы, туалеты и великолепная душевая комната в подвале главного здания. Душевая - это небольшой предбанник с вешалками и огромная, облицованная кафелем комната с десятками душевых распылителей, подвешенных к потолку и включаемых разом от общего горячего и холодного вентилей. Как мы плескались в этой бане! Офицерам, вообще, достались шикарные условия. Они жили в котетждном поселке, расположенном в самом лесу и примыкавшем к территории казармы. Каждый из них имел квартиру в котетже на 1-3-х человек.
Начались армейские будни. Если бы не осточертевшие и казавшиеся нам, фронтовикам, не нужными занятия, особенно строевой, то первые месяцы послевоенной жизни представлялись несравненным благом мирной жизни. Конечно, возобновились наряды на, теперь стационарную, кухню для всей бригады и караульная служба в казарме и в городе, но это бремя считалось необходимым и естественным. Особенно "престижным" и даже интересным, на первых порах, была караульная служба по городу, особенно патрульная, которая существовала до появления комендантских подразделений. Патрули должны были следить за порядком в городе и вылавливать солдат, не имевших увольнительную. Идешь по городу втроем, вчетвером, заходишь в пивную пропустить пару кружек, затем в магазин приобрести какую-нибудь мелочь, а то и просто поглазеть.
Кстати, в Ратенове был цех или отделение знаменитых цейсовских оптических заводов и я, наконец, приобрел несколько пар очков в роговых оправах. Непривычным был большой, по московским меркам, ассортимент оправ и дешевизна очков, немыслимая у нас в Москве. Многие быстро (непонятно быстро для меня) завели себе подруг и подружек среди молодых и не очень немок. Язык? Объяснялись знаками, жестами и, быстро нахватавшись, ходовыми фразами и словами.
А, когда есть увольнительная, просто побродишь по городу, посетишь парикмахерскую, кинотеатр, местный театрик, часовщика, если забарахлили часы. Но всё это началось после того, как мы привели себя в порядок.
Война кончилась, мы чувствовали себя победителями и, главное, освободителями народов Европы от фашизма. Мы находились в европейском городе, были молоды и полны надежд на лучезарное будущее, но хотели уже сейчас соответствовать моменту. Однако, наше обмундирование не выдерживало никакой критики. Выгоревшие, частично заплатанные гимнастерки и штаны полу-галифе, заправленные в видавшие виды обмотки, изношенные с заплатками ботинки, помятые примитивные пилотки, никак не соответствовали облику солдата победителя. В лагере на это обращали мало внимания, лишь бы была не рвань и чисто выглядело. Но здесь, в городе, появилось ощущение стыда за свой внешний вид, особенно, если хотел познакомиться с девушкой. К счастью, среди трофеев, захваченных на немецких сладах при окружении Берлина, были, помимо ящиков с консервами и шоколадом, отрезы армейского сукна и шерстяной ткани. Все это хранилось на нашей машине, а по окончании войны в хозяйстве старшины. Мы, по братски, поделили эти отрезы сразу по прибытии в казармы Ратенова. Мне достался отрез серого сукна и отрез зеленой шерстяной ткани. Цвет отрезов несколько не соответствовал цвету нашей формы, но тогда это не замечалось, тем более, что наши гимнастерки и полу-галифе, нередко, имели разный цвет от бледно-зеленого до темно-синего. Почти все, кто заимел такой материал, бросились экипироваться.
У меня были хорошие маленькие часы швейцарской фирмы "Омега" и я, не без сожаления, но и не без труда, сменял их на добротные сапоги у нашего полкового сапожника. Кстати, тогда широко практиковался обмен трофеями. Теперь предстояло сшить форму. Кто-то порекомендовал мне хорошего немецкого портного, жившего недалеко от казарм. Я взял увольнительную и пошел к указанному дому, не задумываясь, как буду общаться. На подъезде трех или четырехэтажного дома висел табличка на немецком языке с цифрой. Решив, что это квартира портного, я поднялся на 2-ой этаж и позвонил. Дверь открыл щуплый, пожилой немец, по моим меркам почти старик. Я произнеся из моего скудного запаса: "гут морген" или "гутен тах", и протянул отрез. Он сразу догадался и пригласил словом и жестом в комнату, явно портняжную. Я, разложив отрез на столе и тыкая то в свою гимнастерку и штаны, то в материал пояснял, что мне нужно и, показав немецкую марку, делал вопросительное лицо, мол, сколько стоит. Он с трудом понял и стал что-то говорить. Теперь я силился понять его, произнося, что я по-немецки "никс", а вот "инглиш ес" (еще не выветрился запас английских слов и фраз, выученных в школе). Тут вошла (или он позвал) молодая приветливая и довольно симпатичная немка с хорошим животиком (беременна, понял я), знавшая столь-же плохо, как и я, английский, и разговор, сопровождавшийся жестикуляцией и смехом, оживился. Портной примерил меня и, качая головой и тыча в гимнастерку и штаны полу-галифе, приговаривал "никс гут, никс гут". Дело в том, что немецкие солдаты носили френчи или кителя, а я предлагал какую-то примитивную рубаху и непонятные брюки (таких галифе не носят, некрасиво, пояснял он через "переводчицу"). Я настаивал на своем, объясняя, что такова форма. Наконец он всё понял. Договорившись о сроках и цене и выставив в качестве аванса 2 или 3 банки консервов (продуктообмен!), я с некоторым сомнением (как бы немец не напортачил с формой!) ушел.
Однако, форма оказалась отличная и я, уже из сукна второго отреза, заказал "парадную" форму, китель и брюки, а позднее перешивку шинели из немецкой в нашу. Заказал и 2 фуражки, повседневную и парадную. Немец, действительно, оказался хорошим портным и, вскоре, я щеголял в отличной форме, какой не было даже у многих офицеров, добавив кожаный ремень, вместо армейского тряпичного. Частые посещения портного и наличие "переводчицы" сопровождались коротким обменом мнений на текущие темы. Портной, как и многие немцы, с которыми я контактировал, удивлялся доброжелательности солдат Красной армии. Гитлеровская пропаганда вбила им в голову, что придут варвары, которые все разрушат, будут насиловать женщин и, вообще, уничтожат нацию. А оказалось, что враги обыкновенные люди, в большинстве, достаточно культурные и, главное не злопамятные и мстительные, а совсем наоборот, доброжелательные, хотя в начале настороженные. Как мой портной искренне, с жаром, ругал Гитлера, испортившего жизнь всем немцам! Однажды он вдруг сказал, что Гитлер дурак - дураком, он должен был объединиться с русскими и...завоевать весь мир! На мой вопрос, зачем ему весь мир, зачем столько крови, разве надо и, вообще, допустимо, грабить других, он не нашел, что ответить. В последствие он признался, что был не прав.
Наконец, я приоделся. Теперь можно, не стыдясь, выходить в город, но главное у меня будет, что одеть, когда демобилизуюсь. Там, дома, беднота в разоренной стране, дефицит, еще долго ничего не достанешь, а то, что есть, стоит втридорога и будет недоступно. Я ведь хочу учиться, кончать институт, а студент что может? Теперь же, я запасся одеждой на несколько лет, а дальше будет видно, жизнь покажет.
Уже наступил сентябрь и в день своего двадцатилетия я снялся у хорошего фотографа в своей новенькой форме на фоне старинного резного кресла. Тут же отослал фото домой. Было еще несколько фото, но первое фото было наиболее качественное. Тогда все кинулись фотографироваться и немецкие фотографы, так же как портные и парикмахеры, хорошо зарабатывали.
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Вскоре, после прибытия в казармы Ратенова, я, как и многие разведчики, стал искать, как отвязаться от армейских будней с обязательным режимом, от занятий, которые теперь казались ненужными, от караулов, нарядов и прочего солдатского быта. Мой друг, разведчик Хвощинский быстро устроился писарем бригады с вольным, почти гражданским режимом и повышенным денежным содержанием! Он же снабжал нас увольнительными в город, чем мы неоднократно пользовались.
Через некоторое время изменилось и мое положение. Замполит бригады предложил мне, как человеку окончившему школу и поступившему в институт, организовать и обустроить бригадный клуб. Я с радостью согласился, т.к. это выводило меня из штата батареи и освобождало от армейских обязанностей. Я рьяно занялся обустройством выделенного мне помещения - большой комнаты со сценой. Очевидно, здесь был казарменный клуб немецкой части. Теперь я был "вольный казак", только ночевал в батарее. С утра до вечера я проводил в клубе. Мне выделили 2-х или 3-х солдат и в течение короткого времени (одна или две недели) было очищено помещение, покрашены стены, натерты паркетные полы, найдена, занесена и расставлена мебель (столы, стулья, пара шкафов), подобрана небольшая библиотека и организована подшивка газет. Сразу после открытия, естественно в вечернее время, в клуб потянулись наши вояки, офицеры и солдаты, почитать газеты, взять книгу, написать письмо в спокойной, не казарменной обстановке. Я восседал на сцене за небольшим столом и наблюдал сверху за порядком в зале. День у меня был сравнительно свободен. Я искал литературу, продолжал обустраивать помещение, читал, если попадалось что-то интересное в нашей скудной библиотеке, а то и просто, взяв очередную увольнительную, отправлялся в город по своим внеслужебным делам: портной, парикмахер, кинотеатр, реже пивнушка и свиданки. Последние мне вскоре после разрыва с первой "подружкой" Хильдой наскучили, хотя все, кто мог вырваться в город, заимели своих подруг.
В конце 1945 года мне предложили офицерскую (или гражданскую?) должность, вести документацию в подразделении артснабжения нашей бригады. Предложение было заманчивым с окладом 400 рублей. По установленному тогда курсу это составляло 800 марок (!), против жалких нескольких десяток, которые я получал, как рядовой. Кроме того, работать надо было днем, а вечер свободен и никаких занятий! Я сразу же согласился, кто же от такого отказывается! Началась почти гражданская служба в одной из комнаток штаба бригады, где было 2 стола, начальника подразделения и мой. Деньги я решил, в основном, откладывать для мирной жизни на первое время, когда демобилизуюсь и вернусь в Москву. В вечернее время я был свободен и мог заниматься своими делами. Да и днем работы оказалось не много. Требовалось вести учет движения материальных ценностей всего артиллерийского хозяйства подразделения. Это занимало у меня несколько часов. Мой начальник, почти все время, был в отлучке по своим делам служебным и личным. Мне было вольготно одному в этой небольшой комнатке.
Всё свободное время я усиленно восстанавливал свои знания по математике, готовясь вскоре демобилизоваться и поступить в институт. Занимался по своим школьным учебникам, которые мне прислали из дома. Так приятно было открыть учебник или задачник Рыбкина по геометрии или Киселева по алгебре и решать, решать одну задачу за другой. Помню курьезный случай, В один из выходных дней, когда в штабе не работали и только в отдельных комнатах кто-то что-то делал. Я только устроился за столом, раскрыл задачник и тетрадь, как в комнату без стука буквально ворвался офицер, дежурный по гарнизону, и еще за порогом закричал "Что тут делаете? Пьянствуете!". Прокричал, но тут же осекся. Когда я, кивнув на разложенные книжки и тетрадь, объяснил, что занимаюсь, готовлюсь в институт, глаза дежурного от удивления округлились, он извинился, пробормотал что-то по поводу повального пьянства в выходные и, прикрыв дверь, удалился. Дело в том, что большинство, если не все (кроме начальства) сотрудники штаба использовали в выходные свои рабочие места для попоек с друзьями. Война кончилась и каждый пытался как-то развлечься. Я был, пожалуй, один в штабе, а, возможно и в части, кто занимался не гульбой, а учебой.
В штабе, незадолго до нового года я познакомился с Левой Мечетовичем, нашим бригадным фотографом. Он оказался тоже москвичом и жил, как оказалось, рядом со мной, я на Арбате, а он в Староконюшенном переулке. Мы сразу же нашли общий язык, обменялись домашними адресами и подолгу вспоминали наш Арбат с его переулками, нашу довоенную школьную жизнь и планы на демобилизацию. Лева имел отдельную комнату на мансарде штаба, сплошь уставленную фотоаппаратурой и ящиками с фотоснимками. По моей просьбе, он пытался найти мои фото, сделанные еще на Магнушевском плацдарме под Варшавой, но нигде их не обнаружил. Очевидно, их уничтожили или потеряли еще тогда перед наступлением на Варшаву. В войну всякая информация о части, после использования, подлежала немедленному уничтожению. Напомню, что под страхом наказания вплоть до штрафной роты, категорически запрещались дневники, запрещались всем от офицера до солдата. За этим бдительно следили особисты полка. Поэтому так мало личных записей того времени.
Новый, 1946-ой год, мы встречали вдвоем с Левой, запершись в его комнате и, включив трофейный приемник. С боем кремлевских курантов клюкнули разбавленного спирта, закусили немудреной закуской и почувствовали себя на седьмом небе. Дальше пошли воспоминания и разговоры. Впервые для меня было ощущение праздника, сдобренное предчувствием скорой демобилизации.
Перед новым годом нам, в битком набитом гарнизонном клубе, показали очень веселое кино, помниться, английскую картину "Тетушка Чарлея". Вообще, демонстрировавшиеся нам картины, почти сплошь были трофейные с титрами на русском языке (запомнилась "Серенада солнечной долины") или киноленты союзников (американские и английские), которые они пересылали в нашу страну. С удовольствием смотрели довоенные комедии с Любовь Орловой, а военные фильмы недолюбливали, уж больно всё прилизано, бравурно и, главное, не соответствовало действительности.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С НЕМЦАМИ
При вступлении в Германию отношение к немцам было враждебное, в лучшем случае настороженное. В каждом немце видели противника, врага, чуть ли не личного, который вольно или невольно способствовал приходу Гитлера к власти и, тем самым, был причастным к неисчислимым бедам, свалившимся на нашу страну, на каждую семью, на всю Европу. Унизить и даже ограбить немца не считалось преступлением. Немцев ненавидели все народы Европы. Я часто задумывался, до чего может довести цивилизованную нацию группа негодяев пришедшая к власти, правда, легитимно, без давления, избранная самим народом.
Особенно следует отметить грабежи населения, принявшие большой размах, при вступлении наших войск в Германию.
Прямой грабеж сводился, обычно к отъему часов, реже сапог. Особенно это практиковалось во время оккупации Германии и в первые недели после окончания войны. Правда, таких случаев на моих глазах было мало, но они были и оставляли, не только у меня, неприятный осадок. Сбор шмуток для посылок в занимаемых городах и поселках не считался грабежом, т.к. вещи собирали в брошенных домах, которые в последствие, как я уже отмечал, все равно сгорали. Более того, такой сбор, как я выше писал, был прямо санкционирован свыше ("...всё, что оставлено или брошено на занятой в Германии территории, кроме оружия, считается трофеями..."). Однако, такое расширительное понятие трофеев при враждебном отношении к немцам привело, в конце войны и в первое время после ее окончания, к ограниченным по масштабам, но настоящим грабежам. Этому способствовали разные обстоятельства. Передовые части, которые непосредственно вели боевые операции, не имели возможности "складировать" трофеи, т.е.брошенное имущество. Правда, старшины и прочие тыловые части, обладали такой возможностью и офицеры, и частично солдаты оставляли трофеи, как на своих, так и на "старшинских" машинах и повозках. Но возможности здесь были ограничены ("для всех места не хватит").
После окончания войны грабежи приняли такой размах, что власть издавало специальные приказы по этому поводу, в которых всем пойманным грозили самые суровые наказания, вплоть до расстрела. Приводились чудовищные примеры. Запомнился один из них, особенно отвратительный.
В Венгрии было мало наших сторонников. Венгры воевали на стороне немцев почти до конца войны. Наши военные и местное население относились друг к другу настороженно, а иногда враждебно (в отличие от всех освобожденных стран и даже от самой Германии). Многие из нас считал венгров такими же, как и немцы, врагами, фашистами. Церковь очень редко шла на сотрудничество с нашими оккупационными войсками. Однако, нашелся один(!) авторитетный среди населения священник из высшей иерархии, кажется епископ, который ненавидел фашизм и по велению сердца, а не по принуждению, читал в разных местах проповеди осуждающие гитлеризм и его последователей в Венгрии. Он пытался рассеять враждебные настроения и наладить дружбу с нашим народом.
Однажды он уехал из своей резиденции на очередную проповедь. В его отсутствие к нему в дом пришел сержант или старший сержант с автоматом, изнасиловал и убил дочь священника, его жену и "в дополнение" ограбил дом. Сержанта нашли, прилюдно судили и приговорили к расстрелу. Но каков был резонанс среди населения!
Конечно, это из разряда единичных случаев, но более "гуманных" случаев отъема вещей, особенно в конце и сразу по окончании войны, было порядочно, особенно со стороны тыловых служб, которые двигались вслед за передовыми частями. Правда, следует отметить, что они и не носили массового характера и мало чем отличались от поведения немецких войск у нас в России. Вот несколько известных мне сценок.
Война еще не кончилась. Через немецкий городок прошли наши передовые части и, когда всё успокоилось, немецкие семьи вернулись в свои дома. В одном доме у оживленной трассы немецкая семья из 4-х человек (двое престарелых и пара ребятишек) сидели за трапезой. Вдруг у дома остановилась грузовая машина и из нее вышли трое, офицер (кажется капитан) и два солдата. Они направились в дом. Им открыли (попробуй не открыть!) и офицер с солдатом зашли в столовую, где за столом сидела вся семья. Второй солдат стал у двери. Семья замерла на месте. "Гутен тах" произнес офицер, дал знак всем сидеть и стал обшаривать комнаты, не обращая внимания на сидящих за столом хозяев. Офицер с помощью солдата вытащил два или три чемодана вытряхнул их и стал набивать приглянувшимися вещами. Набив чемоданы, он обошел, сидящую молча за столом семью, отбирая у них часы. Затем, произнеся "Ау фидерзейн" (до свидания), он с солдатами покинул дом и удалился на машине.
Война кончилась. Мы только что переехали в Ратенов. Многие фронтовики, увидели, что у них нет никаких трофеев, тогда как у тыловиков (старшины, ремонтники и другой обслуживающий персонал) кое-что припасено, у кого больше у кого меньше, но припасено, а у них ничего нет. Часть фронтовиков, правда небольшая, сочло это несправедливым и занялось форменным грабежом. В одной батарее несколько солдат и сержантов, осознав, что у них нет "трофеев", занимались грабежом квартир, обычно, во время патрулирования. Облюбовав дом или квартиру, они стучали с криком "откройте, патруль, проверка!" и, зайдя к перепуганным немцам, грабили квартиру. Офицеры смотрели на это сквозь пальцы, а не редко прямо поощряли, отпуская на "задание" своих подчиненных и оговариваю долю для себя. Правда, при этом предупреждали, что, если кто попадется, выручать они не будут, да и не смогут. Командование пыталось переломить эту тенденцию. Помимо грозных приказов переформировывались подразделения и целые части, чтобы разрушить сложившиеся в войну коллективы, ликвидировать круговую поруку.
Шло время и довольно быстро по окончании войны враждебное отношение к немецкому населению и настороженное немцев к нам затухало. Немцы увидели, что пришли не "дикие орды", готовые беспощадно мстить, грабить, насиловать, убивать. А пришли обычные, правда, не без греха, люди. Размеры насилия и грабежей были не сопоставимы с тем, что вдалбливала гитлеровская пропаганда. Более того, враждебность наших советских военнослужащих к немцам (кстати, всех советских немцы считали русскими) быстро сменилась безразличием, позднее даже доброжелательством, смешанным с недоумением, как такая нация могла подчиниться гитлеризму. Вот несколько сценок.
РАЗДАЧА ДРОВ
Вскоре после прибытия в Ратенов, для создания артиллерийского парка полка на территории казармы потребовалось расчистить площадку, на которой росли мачтовые сосны. Мы усиленно валили деревья, освобождали стволы от сучьев, пилили их на бревна и стаскивали всё в кучи и штабеля. Потом требовалось все это убирать и вывозить. Вдруг, появились два престарелых немца, муж и жена, и стали робко подбирать мелкие обрезки сучьев и складывать их на свою ветхую тележку, то и дело поглядывая на нас, не прогонят ли (тогда еще территория казармы не была полностью огорожена). Они заготавливали дрова, поскольку вся система снабжения населения была разрушена. Кто-то из нашей команды, знающий немецкий язык, кажется Шалевич, подошел к ним и предложил забирать всё, что мы срубили и напилили. Альтруизм? Ни в коей мере. Просто нам облегчение, не надо таскать. Только пили и руби. Немцы, непрерывно благодаря нас, живо согласились. Мы наложили полную тележку и предложили приехать еще и других позвать. Вскоре началось целое паломничество на наши "лесозаготовки". Женщины с детьми, старики и старухи валили валом, с большими и малыми тележками. Мы еле успевали напилить и нарубить очередную порцию. Работа шла споро, площадка быстро расчищалась. Вдруг приехали на велосипеде 2 или 3 немецкий чина в форме с иголочку, грозно набросились на собирающих дрова немцев и стали что-то обсуждать с офицером, руководившем нашими работами. Мы сразу же почуяли неладное. Немцы разбежались, а офицер подошел к нам и сказал, что это приехали из управы и, по договоренности с командованием, заберут все, что заготавливается в управу для распределения, а стихийная заготовка не допустима ("никс гут" это), кроме мелких сучьев. Чины отбыли и мы думали, что немцы появятся вновь, а на распоряжения нам наплевать. Действительно, вскоре появилось несколько тележек, но никто не стал брать наши заготовки, только сучья. Запрещено! Вот она немецкая законопослушность.
УГОЛЬ ДЛЯ ЗНАКОМЫХ НЕМЦЕВ
Законопослушность это понятно, но приближалась зима. Где взять уголь? А он лежал огромными кучами у товарной станции, неподалеку от казармы. Многие вояки заимели подружек в городе. Одна из подружек попросила своего хахаля - сержанта помочь с заготовкой угля. Хахаль во время патрулирования взял у своей крали тележку, нагрузил углем и отвез к ней домой. Так он совершил несколько рейсов, но, в конце концов, был задержан. Грозил трибунал, но после вмешательства его командиров он отделался гауптвахтой.
Вообще, немцы быстро поняли, что русский солдат может делать то, что немцу никак нельзя и иногда пользовались этим.
О РЕПАРАЦИЯХ
По окончании войны некоторое время действовал закон о репарациях в пользу союзников. Большая часть репараций предназначалась нашей стране, как наиболее пострадавшей в войне. У нас в Ратенове это выглядело так. Рядом с казармами проходила железнодорожная ветка к товарной станции с большими складами - ангарами. Склады были забиты станками и другим промышленным оборудованием, вывезенным немцами из оккупированных стран. Там были французские, бельгийские, советские и прочие станки. Всё это теперь пошло в счет репараций. Подгонялись вагоны и теперь нанятые немцы грузили это оборудование для отправки в СССР. Немцы были довольны работой, т.к. после поражения Рейха настала массовая безработица, а здесь можно было заработать на кусок хлеба. Получалось, что рухнувший фашистский режим ограбил всю Европу и СССР, а теперь все награбленное стало поступать в нашу страну. Так и просится известная фраза: грабь награбленное, хотя это далеко не так. К сожалению, много из этого оборудования долго, а то и совсем не использовалось. Не хватало у нас знающих кадров и зачастую отсутствовало внятное описание, как монтировать и запускать то или иное устройство. В результате многое пропало, ушло в песок.
КИНО
В первые дни по прибытии в Ратенов мы повадились было ходить в немецкий кинотеатр. Однако, я быстро охладел и не из-за незнания языка, а из-за стандартного содержания большинства картин. Обычный сюжет от картины к картине содержал: обязательный любовный треугольник, сцены в ресторане, постель, переодевания, благополучная концовка и всё это в сентиментальном тоне. И так, от картины к картине, в разных вариантах. Запомнилась только картина "Чайковский", где, правда, вместо изб были островерхие немецкие домики и, естественно, тот же треугольник, правда в меру. Но музыка! Хотя картина была на немецком языке, перевода почти не требовалось. Возникал вопрос, почему у нас нет ничего про Чайковского? Ходить в кинотеатр я бросил, смотрел картины только у нас в казарме.
ТЕАТР
Один раз я побывал на немецком концерте. Зал был полон, но первый ряд был отведен для нас, русских военных, которых администратор лично проводил через зал. Пустовавшие места никто из жителей не занимал, не положено! Публика живо реагировала на всё происходящее на сцене. Было ощущение, что жители истосковались по искусству. Выступали местные силы, наподобие нашей самодеятельности. Комика я, конечно, не понимал, танцы показались так себе, а певица, долго занимавшая сцену, показалась совсем безголосой (говорили, что она основной спонсор). Но оркестр был прекрасен. Как они исполняли Моцарта, Бетховена, Чайковского и Штрауса! Я, сидя в первом ряду, заметил, как измождены некоторые музыканты. Казалось, некоторые вот-вот упадут и заснут на месте! Видно было, что жизнь у них тяжелая. Вот старик - скрипач или виаланчелист буквально засыпает в перерывах его партии, но вздрагивает и начинает вовремя водить смычком, как только начинается его партитура.
КОНТАКТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
Постепенно налаживались контакты с местными жителями. Я, как и остальные, был удивлен практически полным отсутствием настороженного отношения немцев к нам, вроде, оккупантам, хотя это слово не отражало содержания. Ведь только что мы были смертельными врагами и вдруг никакой враждебности, никакого сопротивления с их стороны. Позднее я понял, что они испытывали, скорее, облегчение от конца этого кошмара и падения нацизма, да и русские оказались не такими варварами, как их описывала гитлеровская пропаганда. Правда, где-то в середине или конце лета, нам объявили, что надо быть бдительными, в лесах скрываются и делают вылазки террористические группы. От каждой части была отряжена в помощь спецподразделениям (войскам НКВД) команды, которые прочесывали опасные места. Но, ни у нас, ни поблизости никакого сопротивления не было, а вернувшиеся команды рассказывали, что на их участке ничего не нашли.
Боле того, в Германии было безопаснее, чем в Польше и даже у нас в России. В любое время суток можно было ходить где угодно и как угодно. Никто тебя не тронет, а то и поможет. Вот некоторые эпизоды.
Какой-то офицер с автоматом напился до скотского состояния и свалился на окраине города у придорожной канавки, близ входа в частный домик. Сначала хозяин дома заперся в доме и с опаской наблюдал за ним. Стало темнеть, а пьяный валялся наполовину в луже, изредка издавая различные звуки. Немец с помощью домочадцев затащил бесчувственного лейтенанта домой, раздел, кое-как помыл, почистил шинель и уложил на топчан, положив рядом автомат. Офицер проснулся под утро, вскочил, не очень соображая, как он здесь очутился. Хозяин, немец подал ему автомат и тот, что-то пробормотав, поспешно ушел. "Никс гут!", говорил нам позже немец, не понимая, как такой позор возможен, особенно с офицером.
Пьяный солдат потерял карабин. Утром, обнаружив находку, немец пошел в комендатуру и, объяснив происшедшее, просил забрать оружие, не забыв покачать головой и произнести "Никс гут!". Подобных случаев было не мало.
Особое, если не сказать значительное, место занимали амурные похождения почти всех солдат и офицеров, которые, наконец, дорвались до мирной жизни. Все, кто мог вырваться в город, заимели своих подруг.
Моё окружение, от юнцов до пожилых дядек, хвасталось своими связями, короткими, случайными и более устойчивыми. Случайные связи, особенно у офицеров, имевших большую свободу общения с населением и большие возможности, очень часто заканчивались венерической болезнью и госпиталем. Случайные или временные связи, так просто "перепихнуться", мне претили. Я видел в этих однодневных связях что-то животное, не соответствовавшее моим представлениям об отношениях мужчины и женщины. Похвальба и интимные подробности в этой сфере были мне неприятны, а иногда просто омерзительны, хотя большинство их смаковало или слушало с интересом и вниманием. В такой компании я чувствовал себя белой вороной и вскоре удалялся.
Устойчивые привязанности были более редкими и иногда сопровождались драмами.
Так мой неизменный друг, товарищ и номинальный командир фронтовой жизни, Шалевич хвастался своей белокурой молоденькой немкой. В тоже время, он с удивлением говорил мне, что она красавица (впрочем, у него все подружки были "красавицами"), привязалась к нему, но, время от времени, говорит, что мы немцы, арийцы, высшая раса и скоро покажем всем, на что мы способны. На его вопрос, зачем же она связалась и дружит с одесским евреем, отвечала, что он не такой, как все, и ей с ним очень хорошо. Этот парадокс похожий на высказывания моего портного ("Гитлер, дурак и болван, надо было объединиться с Россией и захватить весь мир..." Зачем??), ставил меня в тупик. Я счел это следствием гитлеровской пропаганды.
Наш разведчик Хурс (или Гущин?) привязался к молоденькой немке с ребенком, потерявшей мужа. Привязался так сильно, что, когда его демобилизовали, не поехал домой в Россию, а решил остаться с ней в Германии. Это по тем временам считалось не допустимым даже законодательно и строго преследовалось. Гулять - гуляй, но при демобилизации возвращайся только домой, точнее, в Россию и никаких браков с иностранцами. Он, получив документы при демобилизации, тайно спрятался у своей любимой. Многие знали об этом, но держали язык за зубами. Однако, нашелся подлец, доложивший о происшествии нашему особисту. А для особиста (лейтенант Голощапов?) это живое "дело" и бедного Хурса (Гущина?), арестовали, как перебежчика, судили и отправили в лагеря. Рассказывали, что немка хорошо спрятала его, когда приходили с обыском, где то в подвале или в сарае за дровами. Но настырный особист, в течении нескольких дней тайно следил за домом, выследил, наконец "беглеца", и загубил парня ни за что ни про что. Много лет спустя, когда этот особист появился на одной из встреч однополчан, ему припомнили этот случай и, как он не оправдывался (мне, мол, донесли и я, в то время, не мог иначе поступить), его чурались. Почувствовав неприязнь однополчан, он больше на встречи не приходил.
Другой случай имел место с нашим офицером, лейтенантом Гликманом. Живя, как и остальные офицеры в отдельной квартире он, будучи скульптором по призванию (и талантливым скульптором!), познакомился с немецкой художницей Урсулой. У них оказались общие взгляды на искусство и, вообще, на жизнь. Завязался роман, переросший в глубокую привязанность. Жениться было нельзя, да и невозможно, поскольку в Ленинграде у него оставалась жена, кстати, тоже фронтовичка. Я видел Урсулу, такую же крупную, как и Гликман. Они были в одном возрасте, значительно старше нас, и, возможно, из-за мимолетного знакомства, мне она не показалась интересной.
В Ратенове Гликман превратился в скульптора бригады. Он ходил с вечно перепачканными гипсом руками, в помятой гимнастерке со съехавшими погонами. Несколько раз ему, за внешний вид, делал замечание командир бригады, но он только отмахивался. Впрочем, ему всё прощали, а он дорвался до любимого дела и ничего и никого кругом не замечал, кроме своего ваяния и своей Урсулы. Жил он, как и все офицеры, в 2-х комнатной квартире на двоих квартирантов в офицерском городке, где его добровольное одиночество скрашивала Урсула и изредка сосед - офицер. В большом клубе он слепил несколько барельефов и сделал по заказу политработников огромный гипсовый бюст Сталина.
Пробыв в Германии один или два года, Гликман был демобилизован, вернулся домой в Ленинград, вскоре заимел свою мастерскую, где отдавал всего себя любимому искусству. Но Урсула жила в его сердце. Возможно, была тайная переписка (конечно после смерти Сталина и общего смягчения обстановки и нравов). В 70-е годы Гликман эмигрировал в США, где стал известным скульптором, даже ваял что-то для президента. Затем он переехал в ГДР к своей Урсуле.
Не обошли контакты с немцами и меня. О портном, рядовых встречах я уже писал. Более тесное общение у меня было связано с ... ремонтом часов.
Как-то у меня испортились часы и я направился к Урмастеру (часовщику), расположенному недалеко, на улице идущей прямо от казармы. Урмастер, сухопарый немец, лет 40-50, жил и там же работал на втором этаже трехэтажного дома. В рабочей комнате, заставленной лотками с часами и инструментом, толпилось несколько солдат с теми же, что у меня, заботами. Я оказался последним. Когда я вручил ему свои часы, вошли двое гражданских, средних лет, муж и жена. Оказалось, они были его приятелями, прибалтийским немцами, эмигрировавшими в Германию еще в гражданскую войну. Они хорошо говорили по-русски, я воспользовался нежданными переводчиками и мы невольно разговорились. Прибалты оказались начитанными людьми из старой дореволюционной интеллигенции. Они с удивлением отмечали появление погон, офицерских и генеральских званий, всё, как в царской (потом белой) армии. В газетах и журналах множество публикаций про Суворова, Кутузова и других известных веноначальников. У вас даже ордена Суворова, Кутузова, Нахимова, они же царские генералы, говорили они. После революции все это было предано анафеме. Что произошло, зачем тогда нужна была гражданская война? Я, в силу своего разумения, высказал свои соображения. Потом были вопросы о Москве, о моем житье-бытье до войны, о школе, о книгах, которые мы читали. Узнав, что я играю в шахматы, Урмастер страшно оживился (он оказался любителем шахмат), предложил сыграть партию, если я не возражаю. Время было, я согласился, и мы уселись за шахматной доской. Я играю неважно, но здесь выиграл партию. Приступили ко 2-ой. Я опять выиграл и видел, что Урмастеру досадно. Третья так же осталась за мной. Он, оказывается, тоже был неважнецкий шахматист, но очень увлекался шахматами. Он удивлялся, что среди русских столько хороших игроков. Здесь, среди своих горожан с трудом найдешь любителя шахмат, говорил он. Было пора уходить и я распрощался. Урмастер кивнул, пригласил заходить на шахматы и крикнул "Хильда, иди проводи..." (я догадался по тону). Вышла довольно миловидная девушка, чуть старше меня, его дочь и, взяв меня за руку, проводила через двор наружу, где неожиданно, обняла и начала целоваться. Так мы познакомились. Я, по возможности, в свободное вечернее время, захватив 1-2 банки консервов (тогда это была "валюта"), зачастил на шахматные сеансы, большинство из которых, к досаде Урмастера, выигрывал. Хильда всем своим видом выказывала мне симпатию, выпросила у меня карточку, показала свою квартиру, которая состояла из 3-х небольших комнат с пианино в гостиной. Там же на стене висел большой портрет молодого летчика, с траурной лентой. Это мой брат, сбит под Ленинградом, пояснила она. Мне стало, как-то не по себе. Вот я нахожусь в семье моего врага и любезничаю с его сестрой. Как себя вести я не знал, хотя видел, как ведут себя мои друзья. Шалевич, например, уже жил с совсем молоденькой немочкой, которую он называл красавицей. Я ему не очень верил, зная, что он порядочный ловелас и у него все его подруги, даже страшненькие - красавицы. Хильда вызывала симпатию, не скажу, что меня к ней не тянуло, но не больше. Затевать что-то серьезное не хотелось, легкая связь претила, тем более на глазах родителей, которые относились ко мне хорошо. Строгие правила, которых я придерживался (если дружишь, обязан отвечать) плюс моя неопытность не позволяли мне принять решение. Хильда даже пыталась привлечь меня к более тесным отношениям, но я по неопытности и стеснительности не мог на это решиться, да и тесная обстановка квартиры не располагала. Прибалты, которые мне почему-то симпатизировали, очевидно, заметили наш флирт. Как-то, когда никого не было в комнате, они сказали что-то в следующем роде: " Не думайте, что здесь царит любовь и вздохи при луне в духе Пушкина, Лермонтова и других... Ничего здесь этого нет, всё очень грубо и материально...". Я не сразу понял их намек, но вскоре я убедился в их правоте. Мне предстояла поездка в Стендаль не гарнизонную медкомиссию. Перед отъездом я тепло попрощался с Хильдой, сказав, что отлучусь на несколько дней.
По приезде из Стендаля я смог вырваться в город только через несколько дней, вечером, с трудом получив увольнительную (ведь я был просто солдат). Дверь в знакомую квартиру открыл сам хозяин и приветливо пригласил меня в дом. Войдя в комнату, я обнаружил там, шапочно знакомого мне лейтенанта из снабженцев, который сидел за столом в компании Хильды и её матери и играл с ними в карты. Я мгновенно оценил обстановку, поздоровался и сделал вид, что пришел поиграть с хозяином в шахматы. Мы сели за столик и партию я быстро проиграл, поскольку мои мысли были заняты создавшейся ситуацией. Затем я встал и, сославшись на дела, попрощался. В дверях я столкнулся с зачем-то выходившей Хильдой. Своим небольшим запасом слов, я дал понять, что не понимаю происшедшего. Она, пряча глаза, что-то говорила по-немецки. Я не понял ни слова, но по глазам и мимике понял, что она предпочла другого. Сухо попрощавшись, я буквально выскочил из дома и вернулся в казарму.
Больше, до отъезда в Москву я не заходил в этот дом. Конечно, я был уязвлен, хотя подспудно понимал, что так должно было произойти. Я солдат, появляюсь редко, каждый раз приношу, то банку консервов, то конфетки, которые стало уже трудно добывать, как, впрочем, и увольнительные. Слишком робок. А тут офицер с неизмеримо большими возможностями по времени и, главное материально.
ПОЕЗДКА В СТЕНДАЛЬ
Почти всем солдатам и многим офицерам хотелось домой, а мне особенно, но ничего не светило. Правда, объявили первую демобилизацию. Увольнялись все рядовые и сержанты старше 35 или 40 лет, а также прослужившие более 5 лет. Единственная возможность для остальных была демобилизация по "медицинским показаниям". Я пошел в медсанчасть и просил направить меня на комиссию по зрению, питая слабую надежду, что меня вдруг признают негодным. Меня осмотрели, проверили зрение и дали направление в армейскую комиссию. Комиссия находилась в городе Стендаль по ту сторону Одера. До недавнего времени там была английская зона оккупации, которую, в соответствии с Ялтинскими соглашениями, присоединили к нашей зоне. Взамен союзники получили часть Берлина, ставшего впоследствии западным Берлином. Предстояла поездка на 3-4 суток. Несколько дней вольности! Оформив необходимые документы в штабе и разместив их в недавно приобретенном планшете вместе со всей наличностью, захватив сухой паек, я облачился в свою новенькую форму, накинул сверху новенькую, хрустящую плащ-палатку и с утра отправился на вокзал (пригородные поезда недавно стали ходить).
Ехать пришлось с пересадкой в Бранденбурге, куда я прибыл уже под вечер. Надо было до утра устраиваться в гостиницу, но как ее найти? Кругом много разрушенных домов, но улицы аккуратно расчищены. На улице редкие прохожие - немцы, но как с ними заговорить? Мне повезло. Появился патруль, который стал останавливать и проверять документы военнослужащих. При проверке документов я познакомился с сержантом (так его и назову - Сержант), который тоже ехал на комиссию. Он довольно прилично говорил по-немецки и, расспросил немцев, где можно найти недорогую гостиницу. Ему указали адрес и, вскоре, мы оказались у наполовину разрушенного дома. В целой части располагалась небольшая гостиница, где висело объявление, что мест нет. Сержант, в отличие от меня, оказался ушлым и бойким парнем. Он вызвал хозяйку гостиницы, моложавую даму, и представил меня капитаном (я выглядел щеголем по сравнению с многими офицерами, а плащ-палатка прикрывала мои ефрейторские погоны). Себя он представил ординарцем и сказал, что мы едем по важному делу, устали, переночевать надо только одну ночь..., и, в общем, выхлопотал комнату на последнем, 4-ом или 5-ом этаже, которая была у неё в резерве. Хозяйка сама повела нас в номер, извиняясь за некомфортное состояние гостиницы (война, бомбежки, часть здания разрушена, а в оставшейся части еще не все восстановили, трудно с материалами и специалистами...). Мы поднялись по частично поврежденной лестнице с поломанными перилами и треснувшей стеной (за стеной уже были развалины) и вошли в единственный на площадке номер на двух человек, только что отремонтированный. Здесь еще не выветрился запах краски. Она вручила ключи, извиняясь за некоторые неудобства (в номере чего-то не хватало), пожелала приятной ночи герру капитану и его ординарцу и ушла.
В номере был туалет и умывальник, правда, без горячей воды, две широкие постели с белоснежным бельем, стол со стульями, небольшой стенной шкаф с вешалкой. Мы быстро освоились и почувствовали себя на седьмом небе. Еще бы! Никакой казармы, ощущение воли, когда можешь делать что хочешь. Шикарные условия для нас солдат, только недавно валявшихся в окопах и землянках, даже несравнимо с казармой. Спустившись вниз, мы перекусили в небольшом, примитивном ресторане, напоминавшем общепитовскую столовую. Нам подали довольно вкусный, густой суп-пюре из овощей и неплохое овощное блюдо. Мы экономили и выбрали самое дешевое, но оказалось сытно. Зал был заполнен немцами, которые посматривали на нас с любопытством, но без враждебности, военными были только мы. Сержант пытался "приклеится" к хозяйке, но, вскоре, он с досадой объявил, что ничего не вышло. Покончив с трапезой, мы поднялись в свой номер, расспросили друг о друге и условились, что удобный тандем "капитан и ординарец" будем использовать до конца поездки. Вскоре, мы легли спать, поразившись необычными пуховыми одеялами, вместо привычных - шерстяных или байковых.
Утром, хорошо выспавшись и рассчитавшись за гостиницу, мы за пару часов доехали на армейских попутках до Стендаля и выгрузились на привокзальной площади. Там мы увидели огромную очередь перед небольшим магазином, сплошь состоящую из немцев - мужчин. Сержант расспросил двух немцев и разузнал, что это очередь за табаком, который стал большим дефицитом, но офицеров союзников пускают без очереди, Он предложил мне воспользоваться случаем и запастись табаком, который пригодиться, да и у него кончился. Немцы (помниться двое), с которыми он разговаривал, с просящими лицами совали мне деньги и я, липовый капитан, с некоторым смущением, пошел к входу. В дверях стоял внушительный немецкий полицейский, шуцман, наблюдающие за порядком и два сержанта из комендатуры, проверявшие документы и не пускавшие рядовых и сержантов. Я решительно двинулся к двери. Шуцман откозырял мне, а проходя мимо сержантов, я вопросительно посмотрел на них и полез вроде в карман за документами. Но они, признав меня за старшего офицера, откозыряли и пропустили внутрь. Купив несколько пачек табаку, я вышел на улицу и, отойдя в сторону, отдал по паре пачек, ждавшим меня немцам, взяв с них фактическую стоимость табака. Они очень благодарили и настойчиво хотели дать мне значительно больше, приговаривая попутно, как плохо было при Гитлере и добавляя, зачем-то, что они коммунисты (или сочувствующие им). Ни в коем случае, никакого навара - сказал я через сержанта - русские не занимаются спекуляцией, в общем, знай наших! Они ушли осчастливленные.
Пока я отсутствовал, Сержант разузнал, где находится армейский (гарнизонный?) госпиталь и мы быстро разыскали его. Комиссию, я и сержант, прошли быстро. Однако, нас признали годными к воинской службе по еще не пересмотренному реестру и, отметив командировки, отправили обратно в часть. Было, конечно, досадно, но несколько дней воли - тоже подарок. Уезжать можно было завтра, времени оставалось много и мы пошли бродить по городу. На улицах было много снующих туда - сюда жителей, гораздо больше, чем у нас в Ратенове. Очевидно, здесь немцы уже не бежали никуда, ведь пришли англичане, а не "дикие орды" из России. Разрушений в городе не было, он оказался в стороне от стратегических объектов. На перекрестках стояли шуцманы и наши девушки регулировщицы. Мне было обидно и стыдно видеть шуцмана в добротной внушительной форме, вызывающей уважение и рядом наших регулировщиц в застиранной убогой, почти нищенской форме, как золушки рядом с ним. Контраст бросался в глаза. Позор победителям! Неужели нельзя было хотя бы их одеть приличней?
По настоянию сержанта мы зашли в небольшой ресторанчик, где было довольно много народу и играл небольшой оркестр. Нас сразу посадили за отдельный столик. Кроме нас за другими столиками сидело несколько наших военных. Я, памятуя свою роль, не снимал парадной фуражки и плащ-палатки, лишь отбросив ее за спину. Заказали пиво и мелкую закуску. Сидели, слегка потягивая приятную жидкость, наслаждались свободой. Подошел некто, очевидно из оркестра, и спросил через Сержанта, что русский офицер желает услышать. Я не хотел ничего, но надо было "соответствовать" офицеру и заказал любую русскую песню, расставшись с несколькими купюрами из своего тощего кошелька. Сначала грянула "Катюша" (когда успели выучить?) потом еще что-то. Сержант опять флиртовал с официанткой. Было покойно на душе и слегка зашумело в голове (я, почти не пил, а тут впервые опробовал настоящее пиво) и тут...в кафе нагрянул комендантский патруль во главе с младшим лейтенантом. Этого еще не хватало! Кто-то из военных рванул к двери, но там стояли двое патрульных. Началась некоторая суматоха. Патруль обходил всех военных, проверял документы, всех сержантов отправляли в комендатуру, а офицерам приказывал немедленно покинуть кафе. Строптивых тут же арестовывали. Оказывается, был приказ, запрещающий нашим военным ходить по ресторанам и кафе (вдруг там шпионы!), а попавшихся арестовывать. Подошли к нашему столику. Неужели влип, подумал я, но спокойно сидел, не показывал вида. Ваши документы! Мой Сержант вытащил своё удостоверение, командировку, направление на комиссию и стал объяснять нашу версию: вот с капитаном направлены в госпиталь, устали, зашли перекусить, не знали, что нельзя... Младший лейтенант оказался молоденьким офицером. Он внимательно просмотрел и вернул документы Сержанта. Обратились ко мне. Я подтвердил версию, сказал, что это мой ординарец, затем медленно полез в карман за документами, слегка приоткрыв свой орден и медаль, вежливо, но с некоторой обидой глядя прямо в глаза офицера говоря: "пожалуйста, проверяйте". И опять сыграла моя форма а, возможно, удачная игра, но скорей форма, которой не было тогда ни у кого из присутствовавших! Офицер махнул рукой, мол, не надо и вежливо, с некоторым почтением (перед ним фронтовики, судя по наградам и, видно этот в форме крупный чин) произнес: "товарищ капитан, нельзя здесь находиться, заканчивайте и уходите". Я заверил его, что сейчас уйдем, только доедим и рассчитаемся. Он кивнул, в знак согласия, добавил "больше никуда не заходите, будут неприятности..." и ушел с патрулем дальше. Опасность миновала, но мы остались единственными военными в ресторанчике. Сержант продолжал что-то говорить с официанткой, а потом обратился ко мне со словами: "Я договорился, мы заночуем у неё, я взял адрес, не ночевать же нам в комендатуре!" Я согласился, т.к. не хотел в комендатуру, где, возможно, придется спать на стуле, а то и на полу. Вообще, не хотелось иметь дело с этой организацией, а тут будем в квартире, в тепле. У Сержанта, правда, были большие намерения. Выйдя из кафе, мы, опять по предложению сержанта, направились в военторг, купили вина и закусок. Не являться ведь ни с чем. В военторге я опять выступал в роли капитана, сержант - адъютанта (солдат и сержантов туда почему-то не пускали). Закупив вина и закуски и побродив немного по городу мы, с наступлением сумерек, направились по полученному адресу к немке.
Она встретила нас приветливо. Мы выпили, закусили, о чем-то поговорили. Точнее, говорил и переводил Сержант, а я, в основном, отделывался отдельными замечаниями. Немка поведала, что муж погиб на фронте, а единственная дочка умерла в войну, в 2-х (или 3-х) летнем возрасте от какой-то болезни. Показала семейный альбом и карточки. Война, слава богу, кончилась, но теперь она одна и ей тоскливо. Сержант стал с ней заигрывать, она что-то отвечала, но, то и дело, игриво посматривала на меня. Мне стало как-то неприятно, она мне не нравилась и я вышел на кухню, предоставив Сержанту свободу действий. Осмотрев кухню и всю крохотную квартиру, я опять удивился, что вот простая немка живет в отдельной квартире, пусть крохотной, однокомнатной, но отдельной со всеми удобствами, а у нас такое было немыслимо. В который раз подумалось, зачем немцы поперлись в нашу нищую, по сравнению с Германией, страну и почему у нас так плохо... Впрочем, немцам внушали, что они высшая раса, и сулили, что, завоевав Россию, каждый сможет стать хозяином имения или своего дела, а низшая раса, русские и прочие, будут у них в услужении. Но почему у нас так бедно и убого? Вот вернусь, кончу институт и займусь электрофикацией села, чтобы было не хуже, чем здесь, вновь думал я про себя. Мои размышления прервал вошедший Сержант. Он сказал, что немка готовит постели, но отказывается от его притязаний, говоря, что тогда скажет герр капитан и явно намекает на желание сблизиться со мной. Я сказал, что мне это ни к чему. Я сейчас выйду на улицу, а ты скажи, что ушел по делу и вернусь через час. Так и поступили.
Я побродил по уже темным безлюдным улочкам, прячась среди деревьев и кустов, когда слышал шаги приближающегося патруля (ведь действовал комендантский час). Вскоре мне это надоело и появилось чувство какого-то дискомфорта. Кроме того, просто хотелось лечь и заснуть. Я быстро вернулся, позвонил. Дверь открыл Сержант и сказал, что у него все благополучно получилось, теперь моя очередь, если я не против. Я ответил, что хочу только спать и прошел в комнату, где были застелены две постели. Немка вопросительно смотрела на меня. Я что-то пробормотал. Сержант перевел, что я устал. Быстро раздевшись, я грохнулся на диванчик и уснул под аккомпанемент тихого разговора сержанта и немки, улегшихся на ее постели. Утром я быстро помылся, оделся и, не глядя в сторону немки, сказал, что надо уходить и искать попутку. Сержант согласился, но сказал, что после вчерашнего немка была оскорблена и отказалась от какой либо близости. Он плохо спал, терзаемый не исполненными желаниями и всё из-за меня. Я махнул рукой, поблагодарил хозяйку за ночлег и попрощался. Она ответила, но смотрела на меня каким- то печальным, непонимающим взглядом как будто я чем-то унизил её. Много позже я, кажется, понял, что она по-женски оскорбилась тем, что ей пренебрегли. Но тогда я был, по существу, неопытным мальчишкой в амурных делах и хотел только одного, скорее уйти.
Вскоре мы с сержантом вновь оказались на площади перед вокзалом, откуда можно было возвращаться поедом с пересадкой в Бранденбурге или подхватить попутку. Мы обменялись адресами, как тогда было принято. Поскольку поезд отправлялся не скоро, я стал ловить машину. Тогда все вояки перемещались на попутках и считалось обязательным подсадить голосующего солдата или офицера. Сержант решил ехать на поезде, поскольку ему надо было далеко за Берлин. Вскоре для меня такой случай представился. Я распрощался с Сержантом, сел в попутную грузовую машину, естественно в кузов, и двинулся обратно к Эльбе. По понтонному мосту мы переехали реку и очутились в небольшом немецком городке, где был пропускной пункт с одного берега на другой. Я слез с грузовика, поскольку машина шла дальше в другую сторону, и, предъявив документы, быстро прошел через пропускной пункт. В ожидании попутки в Ратенов, я побродил поблизости и понаблюдал за очередью предъявлявшей документы для перехода на левый берег. Стояла чудесная теплая, солнечная погода, которая иногда бывает осенью. Очередь состояла, в основном из лиц, угнанных на работу в гитлеровскую Германию, узников концентрационных лагерей и бывших военнопленных союзных держав. Они возвращались домой. Тут были французы, голландцы, бельгийцы, англичане. Наши военные из частей НКВД тщательно проверяли документы и вещи. Мне показалось, что они с излишним подозрением смотрят на каждого репатрианта и ведут себя неоправданно грубовато. Что ждать от этих тыловиков, не нюхавших пороха, укрывшихся, вольно или невольно, от ежедневного ожидания возможной гибели в бою, думал я. Война окончилась и теперь настало их время показать власть. Мы, фронтовики, относились к ним со скрытым презрением, правда, стараясь не показывать вида, а то разозлятся или заподозрят чего и загребут ни за что ни про что. Такие настроения были не совсем справедливыми. Часть войск НКВД принимала участие в ликвидации банд, где мало не покажется. Но фронтовики сталкивались с их представителями, особистами, следственными и прочими органами совсем по другому поводу. Почему попал в плен, зачем ведешь "подрывные" разговоры, в которых критикуешь командование и власть и т.п. А попытки особистов завербовать тебя в осведомители вызывали отвращение. А как бой - их след простыл.
Прохаживаясь по примыкавшей к площади улице, я невольно обратил внимания на молодую влюбленную парочку французов. Они гуляли обнявшись, смеялись, лица их светились счастьем. Казалось, что для них все остальное не существует. На них было приятно и по-хорошему завидно смотреть. Парочка резко контрастировала с очередью репатриантов, часть которых нервничала, другая угрюмо молчала, не понимая, зачем их так осматривают, третьи стояли с безразличным или утомленным видом. Однако, у всех было настроение скорее бы их пропустили и они помчаться домой. Особенно придирчиво проверяли немцев и наших военных на предмет, не нацистский ли преступник или скрытый власовец. Я, с грустью, подумал, что, так или иначе, они скоро будут дома, а у меня ничего не вышло.
Вскоре подвернулась попутка прямо до Ратенова и я вновь оказался в казарме.
ПОПОЛНЕНИЕ ИЗ НАШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Через какое-то время по прибытии в Ратенов наша часть стала получать пополнение из красноармейцев, бывших в плену у немцев. За пополнением выехала отборочная комиссия. Отбирали пополнение, в основном, только из трех категорий: артистов, спортсменов, специалистов, которых не хватало (повара, сапожники, портные). Брали, конечно, и тех, кто хорошо владел артиллерийской наукой, в основном, это были люди по остродефицитным для части специальностям. Но таких было мало. Вскоре у нас образовался хороший художественный коллектив и сильная футбольная команда. Особенно запомнился ансамбль песни и пляски. Они так проникновенно исполняли русские и особенно украинские песни, что у многих выступали слезы.
В нашей батарее появилось несколько молодых ребят из пополнения, без медалей и орденов. Они чувствовали себя несколько неловко перед нами, которые были "не запятнаны пленом". Не очень это было справедливо, но в то время и еще много лет спустя, бывший военнопленный был парием среди военных и не только. Вначале новички держались настороженно и о своем пребывании в плену не рассказывали. Более того, контакты бывших пленных с фронтовиками, даже с теми, кто прибыл к нам в конце войны, устанавливались туго. Я особенно раззнакомился с бойцом по фамилии Принц. Он был артистом по профессии и как-то быстро расположился ко мне, почувствовав, что я нисколько никого не осуждаю, более того отношусь к бывшим пленным с сочувствием и пониманием. Вечерами перед отбоем он много мне рассказывал.
Принц был ленинградец. Попал в плен при очередном окружении его части немцами. Всех пленных затолкали в вагоны и отправили на работу в Германию. Было очень голодно, раз в день подавали какую-то баланду. В Германии распределили, кого в шахты, кого в батраки к немецким крестьянам, бауэрам. Попавших к бауэрам считали счастливчиками. Хотя работали там от зари до зари, но питание и жилье были сносными, да и некоторые хозяева относились, хотя и свысока, но по-человечески.
Принц попал на шахты. Условия ужасные. Скученный барак в лагере для военнопленных, скудное питание, небольшой кусок хлеба и баланда два, хорошо три раза в день. Все время хотелось есть. В шахтах тяжелая работа. Чуть зазевался или приотстал - дубинкой по спине от надсмотрщика. Многие не выдерживали и умирали, а часть, отчаявшись, шло от такой жизни во власовскую РОА (российскую освободительную армию), надеясь на "авось". Вот несколько эпизодов в его изложении (естественно, как удержалось в моей памяти).
Помниться, наша колона шла по городу в окружении эсэсовцев. Шатались от голода. На одной из улиц под ноги попались капустные листки. Строй смешался. Все бросились подбирать и совать в рот эти ошметки, вырывали друг у друга крупные куски. Охрана резиновыми дубинками восстанавливала порядок. Часть прохожих остановилась, молча наблюдая или обмениваясь замечаниями. Принц увидел и услышал (он знал немецкий), как одна дородная немка, показывая сыну на нас, презрительно бросила: "смотри на этих русских свиней, которые вроде животных, смотри и запомни эту низшую расу...". Порядок был восстановлен и нас погнали дальше, в лагерь.
С начала 1944 года бомбежки Германских городов и предприятий англо-американской авиацией усилились. Начались ковровые бомбежки стратегических пунктов, а затем и крупных городов. Ковровые - это когда сотня, а то и больше самолетов, в основном огромных Б-29 - летающих крепостей, в течение часа и больше утюжили объект вдоль и поперек, превращая все в руины. Немцы повсюду строили огромные железобетонные бункера - бомбоубежища с перекрытием по 2-5 метров толщиной, но и они не всегда помогали. Принц видел, как после прямого попадания в бункер 5 или 7 тонной бомбы сам бункер сохранился, но почти все его обитатели погибли от страшного удара. Пленных перебросили на ликвидацию последствий бомбежек на крупный железнодорожный узел Галле. При бомбежках прятались не только немцы, но и разбегалась охрана пленных. Их бросали на произвол судьбы. Они прятались в недалеком лесочке, куда бомбы залетали редко. Улучив перерыв в очередной бомбежке, пленные бежали к составам, взламывали двери вагонов и так добывали себе пищу. Это помогало выжить.
Последние дни плена. Работы кончились. Кончилась и кормежка. Пухнем с голоду, лежим на нарах и медленно умираем. Незадолго до прихода американцев, вдруг завезли хлеб, но быстро распространился слух, что он отравленный, решили уморить оставшихся. Все лежали на нарах, не брали этот хлеб и старались сохранить последние силы. И вот в одно утро в лагерь въехала американская моторизованная часть. Американцы пришли в ужас от увиденного и быстро организовали питание, но непрерывно по громкоговорителям призывали начинать понемногу, а, то отравитесь. Многие из нас не могли терпеть и набрасывались на еду. Теперь смерть наступала от переедания. Сосед Принца объелся и его не удалось откачать.
Всех оставшихся тюремщиков арестовали и устроили суд Линча. Собрали всех пленных, а напротив построили тюремщиков. Американец шел вдоль шеренги, тыкал очередного немца рукой или автоматом и обращался к пленным: пощадить или миловать? Если толпа гневно ревела, его бросали в толпу пленных, решайте сами. Особо ненавистных тюремщиков и охранников тут же приканчивали. Главари тюремщиков, конечно, заранее исчезли.
Вскоре после окончания войны, началось перебазирование пленных в советский фильтрационный лагерь. Некоторые, боясь репрессий от наших органов, остались у американцев. Так старший по бараку провожал уходивших солагерников со слезами: " так хочу домой, но нельзя, загребут как пособника немцам, даже сообщить родне, что живой, боюсь". Его уговаривали: "Не бойся, покажем, что никакой ты не пособник, просто назначили, а отказаться было нельзя...". "Нет, знаю я наши органы, загребут за милую душу, а вы все разъедетесь, да и, скорее всего, испугаетесь говорить правду, а не испугаетесь, то вряд ли вас слушать будут...". Он, конечно, был прав. "Фильтровали" сурово и, часто несправедливо. Вот и наш лагерь. Пристрастный допрос, часто он повторялся несколько раз подряд. Где-то проверяли показания, а затем выносилось решение, напоминающее приговор. В благоприятном случае решение выглядело примерно так. Вы сдались в плен, значит, нарушили присягу и заслуживаете наказания, но, учитывая обстоятельства пленения и конец войны, освобождаетесь от ответственности и направляетесь в часть для продолжения службы. Если решение неблагоприятно (мол, сдался добровольно, бежал из части, похоже(!?), что служил у немцев или, не дай бог, у власовцев, а еще чаще с формулировкой: ваши показания не подтверждаются, причем, без объясненний) тут же брали под стражу и направляли в отдельную команду, которую отправляли на доследование, а то и прямо в наши лагеря. Процентов 20 из нашего лагеря загребли таким образом.
ТОСКА ПО РОДИНЕ
Первое время после перебазирования в город все мы наслаждались наступившим миром, новыми впечатлениями и особой тоски по дому не испытывали. Но прошел месяц другой и я, как и многие, затосковал по дому. Помню, как невыносимо стало ходить по чистеньким улицам, читать немецкие названия, слушать немецкую речь, возвращаться в постылую казарму. Неудержимо тянуло домой, хотя я знал по письмам, что дома будет трудно, голодно на скудный карточный паек, а на рынках и в коммерческих магазинах неподъемные для нашей семьи цены. Кроме того, там, на родине, широко процветает послевоенное воровство и разбой. В общем, будет неуютно по сравнению с жизнью в Ратенове, в оккупационных войсках, где я, в конце концов, "устроился" достаточно комфортно, работая в штабе бригады и освободившись от опротивевшей строевой и основной солдатской деятельности. Но неудержимо тянуло домой, к родным и близким, к такой, казавшейся уютной комнате, к родному Арбату и знакомым улочкам, к довоенному, гражданскому свободному быту и, конечно, главное к учебе в институте и довоенным друзьям. Короче, это была ностальгия по родине, по дому, которая овладела большинством фронтовиков, солдат, сержантов и офицеров, хотя каждый знал, что дома будет трудно и, возможно голодно в разрушенной стране. Все ждали демобилизации, особенно рядовой и сержантский состав. Но, когда демобилизация началась, многие офицеры буквально завидовали рядовым и сержантам, поскольку первые годы после войны демобилизация на них не распространялась.
В июле - августе прошла первая волна демобилизации. Демобилизовали старшие возрасты и часть ограничено годных к военной службе по состоянию здоровья. Вторая волна захватила тех, кто отслужил больше 5 или 7 лет. Ни в одну категорию я не попадал и с завистью смотрел на демобилизуемых, которых торжественно провожали. Им выдавали новое обмундирование, сухой паек. Затем всех выстраивали на плацу, нас побатарейно, а демобилизуемых отдельной колонной с чемоданами, вещмешками и прочими вещами, которые они увозили с собой. Чего только не было у каждого! Помимо чемоданов с трофеями везли приемники, велосипеды, отличный немецкий инструмент, даже попадались лопаты из нержавейки (где они нашли эту редкую тогда вещь?). Чемоданы и баулы были набиты одеждой, бельем, обувью, кусками материи, связками молний, купленных здесь по дешевке и другими вещами. У кого было больше, у кого меньше барахла, в зависимости от возможности достать, сохранить и вообще физически взять с собой. Командование произносило прощальные речи и под звуки оркестра и завистливые взгляды остающихся служак они со своими пожитками шли к машинам и уезжали домой.
Следует отметить, что рядовые сержанты и большинство младших офицеров не связанных с интендантством имели ограниченный набор трофеев, который можно было захватить и перевозить с собой. А вот почти весь высший командный состав отправлял трофеи машинами и даже вагонами. Там грузились мебель (целые гарнитуры), картины, машины, мотоциклы и многое другое. Причем чем выше чин, тем большие возможности.
Вскоре прошла третья волна демобилизации, в которую включались специалисты, шахтеры, еще кто-то и, главное для меня, студенты. Появился шанс вернуться к нормальной гражданской жизни, о которой совсем недавно я боялся даже мечтать. Не раздумывая, я срочно отправил домой письмо с просьбой прислать справку на имя командира бригады о зачислении меня студентом МИМЭСХ, в который меня приняли перед мобилизацией летом 1943 года. Ждал результата с нетерпением. В один прекрасный день меня вызвал к себе командир дивизиона Козиев (я тогда еще находился в строю, в батарее). Он отвел меня на лестничную клетку и очень любезно, даже ласково, стал со мной разговаривать. Такого тона никто из нас за ним никогда не замечал. Он, обычно, говорил коротко, резко, как отдавал команды, говорил часто свысока. Эта манера разговора была у него всегда, как с офицерами, так и с солдатами. А здесь сама любезность. Правда, походила она на разговор кошки с мышкой, трудно было ему перестроиться. Козиев сообщил, что пришла справка, но она не по форме и по ней демобилизоваться нельзя. Для меня это был удар. Козиев еще что-то говорил о том, что надо потерпеть, что он понимает мои стремления, но пока не получается, что я еще здесь нужен, что можно здесь поискать подходящую должность. Вскоре мне, действительно, предложили возглавить клуб, а затем я стал работать в артснабжении. Я слушал в пол-уха и только молча кивал, а в голове вертелись мысли, что меня, оказывается, не хотят отпускать и, главное, что же делать?
На следующий день я уточнил форму необходимой справки и отправил её домой. Уехала очередная команда демобилизованных, а я с нетерпением ждал результата. Прошло довольно много времени. Уже была поздняя осень, кажется ноябрь, когда пришла нужная справка. Мне сказали, что я демобилизуюсь, но очередная партия демобилизованных будет не раньше января, поскольку основная масса уже уехала и нужно набрать команду. Я успокоился, забросил прогулки в город, стал усиленно заниматься, копить деньги, сколотил из фанеры чемодан для вещей, которых у меня оказалось не густо. Настроение было приподнятое, я уже в душе распрощался с Армией.
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ
Вскоре после нового года мне назначили дату отъезда. Мечта стала явью. Я оформил все документы, получил причитающуюся мне последнюю зарплату, обменял оставшиеся у меня оккупационные марки на рубли и стал собирать вещички. Сшил небольшой мешочек со шнурком для денег и главных документов. Поместил туда красноармейскую книжку, партийный и комсомольский билет и пачку денег, которых по моим прикидкам должно было хватить на первые месяцы гражданской жизни. Этот мешочек повесил себе на шею под нательную рубашку и уже не расставался с ним до приезда домой. Перед отъездом я, вместе с остальными, получил новое обмундирование, которое не очень блистало качеством, особенно шинель висевшая мешком, но было добротно и могло еще послужить не один год. Впрочем, это меня мало волновало, я уже сам обзавелся хорошо пошитой формой, в которой мог щеголять первые годы, не заботясь об одежде. За два дня до отъезда у меня вдруг остановились часы. Утром следующего дня я, схватив очередную увольнительную из своего "запаса", помчался к своему знакомому урмастеру. Я давно не был там и опасался, что он не захочет или не сможет сделать срочный ремонт. Опасения оказались напрасными. Урмастер хорошо меня понял и, узнав, что я еду домой, разделил мою радость, обещал тут же отложить остальные заказы и все сделать в ближайшие часы.
К концу дня я получил свои часики обратно и довольно тепло попрощался с Мастером, его женой и мельком с Хильдой, которая уже ходил с довольно приличным животиком. Так вот почему она так пылко кидалась на наших военных, ей не грозило забеременеть от них! Ребенок будет от немца, которого, возможно, уже не было в живых. А когда еще придется ей погулять и придется ли вообще. Впрочем, это меня не занимало, я был поглощен мыслями о скором возвращении домой. Вернувшись в казарму, я посвятил вечер прощанию с друзьями.
Настал день отъезда. Теперь уже провожали нас, небольшую группу специалистов и задержавшихся по разным причинам "старичков" по возрасту и сроку службы в армии. Вновь состоялось прощальное построение на плацу. Была короткая речь замполита, которую мы воспринимали в пол-уха, занятые мыслями о предстоящем возвращении. Нас погрузили в крытый брезентом Студебеккер и с сопровождающим лейтенантом, который вез наши документы, тронулись в путь. Ехали в транзитный лагерь, в какой-то городок восточнее Берлина, на берегу Одера. Там собирали всех демобилизованных, для формирования команд очередного эшелона, направлявшегося в Россию.
Городок мне не понравился. Он, в отличие от того, что наблюдалось раньше, производил впечатление хаотично разбросанных домиков, при полном отсутствии зеленых насаждений. Впрочем, здесь были сильные бои и, возможно, большинство зданий было уничтожено или разрушено, что создавало впечатление хаоса. Говорю, возможно, т.к. мои мысли были заняты другим, скорее домой и что ждет меня там, в России, в Москве. Вот и транзитный лагерь. Лейтенант сдал нас дежурному и укатил обратно. Транзитный лагерь, куда нас доставили, производил еще худшее впечатление, чем город. Запущенное внутри и наружи здание. Зал, в котором располагались наспех сколоченные деревянные двухъярусные нары для временного отдыха. Кругом обрывки бумаги и какого-то хлама. Впечатление грязной, вокзальной обстановки. Впрочем, это и был своего рода вокзал для демобилизованных. Я занял свободное место и только собирался поближе познакомиться с соседями и отдохнуть, как меня и еще нескольких человек вызвали в комендатуру. Я почувствовал что-то неладное и не ошибся. Поручив соседям посмотреть за моими вещичками, я ринулся в комендатуру. Там дежурный офицер разъяснил, что в сданных лейтенантом документах не было моей справки о вызове в институт, без которой меня нельзя демобилизовать. Не было её и у меня. Оказывается, справку должны были передать с лейтенантом или вручить мне лично, но забыли ее в части. Справка должна была служить основным документом для предъявления в любой инстанции, в т.ч. при оформлении гражданских документов в Москве, в военкомате. Что делать? Дежурный, принимавший меня, посочувствовал мне и сказал, что эшелон будет сформирован по прибытии определенного количества демобилизованных, очевидно через 2-3 дня. Я должен срочно обернуться в часть и обратно, если не хочу опоздать. Поскольку, сопровождавший нас лейтенант уехал, он выписал мне что-то вроде командировочной. Затем отдал мне демобилизационные документы (кажется красноармейскую книжку с соответствующей записью) и сказал, что надо поспешить на вокзал, на ближайший пригородный поезд до Берлина. "Они ходят редко, поторопись!" добавил дежурный и я, схватив свои вещички, ринулся на вокзал, благо он был недалеко. К счастью, я успел на поезд, который вскоре отправился. В поезде было мало пассажиров, холодно, и ехали как наши военные, так и гражданские немцы (понятно, почти сплошь женщины и старики), которые, как правило, молчали и вели себя настороженно. Во всяком случае, мне так показалось. Пару раз прошел патруль с проверкой документов. Через час или полтора, мы уже был в Берлине. На вокзале висели расписания поездов на немецком и русском языках. Поезд на Ратенов отправлялся через пару часов. Я хотел посмотреть на жизнь города но, обремененный вещами, не мог далеко уходить и побродил только у привокзальной площади. Вблизи и подальше виднелись руины отдельных домов и построек, но большинство зданий (кроме вокзала) пострадало незначительно. На углу площади было нечто вроде стихийного базарчика. Там, время от времени, появлялись немцы, в основном, с батонами белого хлеба. Они тревожно озирались и, обменяв у наших военных батон на табак, быстро исчезали. Обменивалось что-то еще, но я запомнил эти аппетитные батоны, которых не видел с начала войны, вскоре, после введения карточек, и понял, что в Берлине жуткий дефицит с табаком. Наши патрули не обращали внимания на торговлю. Они, в основном, проверяли документы у военных и лиц, показавшимся им подозрительными. Когда же появлялись немецкие полицейские (шуцманы), базарчик мгновенно рассеивался. Нелегальный, наверное, или в неположенном месте, подумал я, у немцев это строго.
Наконец, подали состав из довольно обшарпанных вагонов. Поезд тронулся и через час я уже шагал по Ратенову к недавно оставленной казарме. Нужную мне справку сначала не хотели отдавать, ссылаясь на необходимость иметь оправдательный документ. После долгих препирательств мне ее выдали, сняв предварительно копию. Получив справку, я тут же или на другой день утром отправился обратно. Но теперь я ехал не один, а в компании с демобилизованным сержантом Сергеем Х., который тоже только что получил документы. Он демобилизовался, как шахтер по справке из Донбасса или подмосковного бассейна. Сомневаюсь, что он был шахтером, но каждый устраивался и "химичил", как мог, лишь бы вернуться домой. Командование смотрело на это сквозь пальцы, понимая фронтовиков, стремившихся домой любой ценой. Общая демобилизация тогда совсем не просматривалась, хотя у союзников она шла вовсю. Мы быстро познакомились (в молодости вообще, а тогда, в особенности, знакомились легко) и всю дорогу до Берлина проговорили о грядущей жизни. По мере приближения к Берлину вагон заполнялся немцами, в основном, женщинами и, частично, стариками, но были и мужчины "в соку" - 30-40 лет. Незадолго до Берлина вагон совсем переполнился. Стояли в проходах и тамбурах. Обращало внимание безразличие, какая-то отрешенность и подавленность пассажиров. Ехали молча, погруженные в невеселые думы, не переговаривались. Лица большинства были бледны, у многих был даже измученный вид. На нас, только двоих в вагоне русских военных, вчерашних врагов, не обращали внимания.
Вот и вокзал. Мы направились к расписанию и кассам. Мой спутник сразу пошел узнать, есть ли уже пассажирские поезда в Россию. Оказалось, что поезд есть, отправляется через день, и он предложил не возвращаться в транзитный лагерь, а ехать пассажирским до Москвы. Я отказался, т.к. не хотел проводить ночь, а может две, в Берлине. Как и где? Опять неопределенность. Рисковать не хотелось. Однако, главное было в высокой стоимости билета (орденских книжек, обеспечивающих бесплатный или со скидкой проезд у нас еще не было), а я жестко экономил, стараясь сохранит деньги до Москвы. Сергей же решил ехать пассажирским и мы расстались, предварительно обменявшись адресами. Я попросил его сразу по приезде в Москву навестить маму и брата и сообщить, что еду эшелоном и скоро буду дома. В душе я надеялся, что приеду следом за пассажирским, но в дальнейшем мои ожидания не оправдались. До отъезда моего пригородного поезда оставалось несколько часов и мы решили побродить напоследок по Берлину. Вещи, кажется, сдали в камеру хранения и налегке отправились в город.
Шли, разумеется, пешком, как туристы, к центру города. Пару раз нас останавливал патруль и проверял документы. Погода была отвратительная. Дул резкий холодный ветер, сыпал и бил в лицо мелкий колкий снег, то усиливаясь, то пропадая. Когда вышли на главную улицу (Унтердерлинден?) порывы еще усилились. По обе стороны улицы мимо разрушенных домов и просто руин брели редкие прохожие, в основном военные. Целых домов было мало и улица выглядела уныло и безлико. Энтузиазм погас, но мы упрямо двигались к Бранденбургским воротам, развалинам рейхстага. Хотелось на прощание посмотреть на "логово фашистов", на место последних боев. По пути набрели на военторг и Сергей предложил зайти погреться и что-то купить. Но не тут-то было! В военторг пускали только по пропускам или офицерским удостоверениям. Пошли дальше. Вот развалины рейхстага со стенами, испещренными надписями нашей братвы. Далее Бранденбургские ворота, колонны которых испещрены следами пуль и снарядов. За воротами начиналась американская зона. Никакой границы. Только патрули не наши, а американские. Остальное также уныло и не интересно. Сергей предложил было прицепиться к какой нибудь немке, но я наотрез отказался. Прошли еще немного и повернули обратно, ведь мне пора к поезду, да и погода не располагала к экскурсии. На вокзале мы вскоре распрощались и я, взяв свой чемодан и вещмешок, сел в поданный пригородный состав. Народу в поезде было мало. Я расположился в свободном купе. В соседнем купе ехали два офицера и две молодые немочки. Оттуда, то и дело, раздавался громкий мужской хохот и женский смех. Я прислушался к непонятному веселью. Боже мой! Наши вояки учили немок русскому мату, показывая на обычные предметы или "переводя" немецкие слова. Немки, коверкая слова, повторяли, думая наверное, что у них смешно получается. После каждого "упражнения" следовал очередной взрыв хохота. Стало неприятно и стыдно. Я пересел подальше, благо свободных мест хватало, и погрузился в мысли о скорой встрече с домом. Было неуютно и, главное, холодно. Стоял январь, а вагоны не отапливались. Через час или два доехали до места и я вновь очутился в казарме.
Здесь я узнал, что уже завтра утром подадут эшелон, и мы двинемся домой в Россию. Утром следующего дня после короткого завтрака нас разбили на маршевые команды по месту назначения (Москва, Ленинград, Урал, Киев, Украина Казахстан, Средняя Азия и т.д.). Затем всех построили в колону с духовым оркестром во главе. Под звуки бодрых маршей колонна двинулась к вокзалу по главной улице этого разбитого немецкого городишка. Шли, естественно нестройными рядами, т.к. каждый нес свою, часто нелегкую, поклажу. Немногочисленные жители, попадавшиеся по пути, останавливались и молча смотрели на отъезжающих. Нам казалось, что они испытывают удовлетворение, очередная партия войск недавнего противника покидает страну. По дороге я познакомился с приглянувшимися мне попутчиками и мы договорились сразу же "захватить" приличный вагон. На станции уже стоял готовый состав хорошо знакомых нам теплушек. Погрузка прошла быстро. Наша команда наметила и быстро "захватила" приглянувшуюся теплушку. Мне удалось занять удобное место на верхней полке у окошка. Приятно пахло соломенная подстилка. Вскоре состав двинулся, прогромыхал по недавно восстановленному мосту через Одер и мы очутились в Польше, точнее на земле восточной Германии, отошедшей к Польше по решениям Ялтинской и Потсдамской конференциям союзников.
ДОРОГА ДОМОЙ
Через Польшу мы ехали почти без остановок и без приключений. Дело в том, что в Польше, в отличие от Германии, было опасно и тут время от времени наблюдались различные эксцессы. Еще продолжалась конфронтация между просоветским Польским комитетом освобождения и враждебным нашему государству польским правительство в изгнании во главе с Миколайчиком, обосновавшемся в Лондоне, которое контролировало "свои" вооруженные силы в Польше. Проходили стычки между противоборствующими сторонами, а особо враждебные отряды даже нападали на военнослужащих нашей армии и проводили диверсии (портили железнодорожные пути, подрывали машины, убивали наших солдат и особенно офицеров).
В дороге я близко сдружился с моим соседом К. из нашей команды, москвичом, инженером. Он был старше меня и опытнее в житейских делах. Мы много обсуждали и спорили во время нашей дороги. Так он считал, что немецкую нацию следует рассеять по миру, а Германию ликвидировать как государство. Тогда никакая война в Европе станет не возможной. Кстати, так считали многие. Я считал, что это недопустимо. Причем здесь весь народ.
Вот и граница. Брест. Всем приказано выгрузиться с вещами. Будет таможенный осмотр и пересадка в другой эшелон. Выгрузились, образовав цепочку вдоль состава. Пограничники начали обход, проверяя наметанным глазом вещи. Мимо нас прошли с полным безразличием, слегка взглянув на убогие чемоданы, мешки, баулы. Однако задержали несколько человек. У одного был небольшой, но ужасно тяжелый чемодан. Оказалось, что он набит кремешками для зажигалок, тысячи кремешков. Каждый кремешок стоил в России, помниться, в районе сотни рублей, т.е. он вез домой целое состояние, а не кучу барахла! Тут я вспомнил нацменов, закупавших в Ратенове сотни молний, которые тогда стоили не меньше кремешка. Я еще удивлялся, зачем им столько. Нет, совсем не было у меня коммерческой жилки. Кто-то вез драгоценности. Всех задержанных увели, а мы сели в очередной товарный состав и поехали дальше, уже по своей земле мимо разрушенных и сожженных станций, поселков, городков. Теперь состав тащился ужасно медленно с частыми и долгими остановками. Собственно состава уже не было, он худел от остановки до остановки. Наши вагоны то и дело переформировывали, присоединяя отдельные вагоны к попутным (по направлениям) товарным составам и где то за Минском осталось не больше десятка вагонов. Почти на каждой остановки, особенно в крупных городах и на железнодорожных узлах, из эшелона выбывали демобилизованные, возвращаясь домой, в свои родные места или пересаживаясь на другие направления. Эшелон, точнее его остатки, стремительно пустели. Пустел и наш вагон. Мой новый товарищ от вынужденного безделья и холода (теплушка не отапливалась) то и дело прикладывался к фляжке со спиртом и втягивал меня. Как то поздно вечером на очередной узловой станции мы, выпив и перекусив, собиралась спать. Наш вагон, то и дело дергался от очередного маневра. Затем, не предупредив нас, его отцепили из-за неисправности и мы чуть не остались в отцепленном вагоне. Получалось, как у Чуковского в известной сказке про "человека рассеянного ...". Хорошо, что кто-то из соседнего вагона, пробегая мимо, крикнул: вылезайте скорее, а то останетесь. Мы еле успели схватить вещи и прыгнуть в вагон другого состава, как он двинулся дальше. Проехали Гродно, Минск, Смоленск. В нашем вагоне осталось несколько человек. Прошло уже больше недели, как мы тащились до Москвы, и я уже страшно жалел, что не поехал из Берлина на пассажирском поезде. Мы с К. решили при первой возможности пересесть на пассажирский поезд до Москвы, но никак не получалось.
Вот, наконец, Можайск. Наш товарняк опять стоит! Говорят, что нас отправят, возможно, завтра и на Киевском вокзале будет, тоже возможно, официальная встреча нашей группы фронтовиков. Нам не до встреч, да еще возможных. Не терпится добраться до дому. Я спешно направился на станцию, чтобы понять ситуацию. Было воскресенье. Морозный день. Идут первые послевоенные выборы в Верховный Совет. Везде вывешены флаги, а на пристройке к станции разбит избирательный участок. Мимо строем идет на участок группа вояк. Мы тоже можем проголосовать, но нам не до этого. На путях стоит пригородный пассажирский поезд. Узнаю, что скоро отправка. Втроем бросаем свой эшелон и быстрей на пригородный поезд. Покупаем билеты. Поезд трогается. Через пару - тройку часов мы будем в Москве. Так приятно. Наконец, возникает ощущение нормальной гражданской жизни, от которой мы так отвыкли. Едем в пустом вагоне. Всё! Война, Армия позади! Впереди дом, гражданка, новая, свободная жизнь! На одной остановке в вагоне появляется сильно поддавший гражданин. Он лезет к нам с какой-то чепухой, портит наше праздничное настроение и мы еле от него отвязываемся. Пьяный продолжает бушевать в соседнем купе и тут входит контролер. Проверив наши билеты, он идет к пьяному и пытается его урезонить. Ничего не получается. Пьяный едет без билета и лезет с кулаками на контролера. Тот хорошенько вмазал ему. Пьяный свалился и, лежа, что-то бубнит. Из кармана у него вываливается бумажник и золотые часы с цепочкой. Контролер подбирает часы и мельком вопросительно взглянув на нас (вдруг отреагируют эти фронтовики), уходит. Мы никак не реагируем, неохота ввязываться портить праздничное настроение, подпорченное этой нелепой сценой. Хотя остается неприятный осадок. На очередной остановке милиция выволакивает пьянчужку. Оставшийся путь едем без приключений. Вот проезжаем Кунцево. Скоро Киевский вокзал.
ПЕРВЫЕ ДНИ ДОМА
Киевский вокзал. Вечер. Сходим с поезда и на привокзальную площадь. Идет легкий, приятный снежок. Едем на такси с приятелем К. Я хотел идти пешком через Бородинский мост, тут совсем рядом, и приятно вновь пройтись по таким знакомым с детства местам. Но приятель настоял, едем на такси! Ему далеко и он меня подвезет. Вот и мой дом, Арбат 51! Подъезд №2 между кинотеатром АРС и овощным магазином. Я вылез из такси, попрощался, договорились о встрече и с бьющимся сердцем шагнул в свой подъезд, который оставил хмурым осенним вечером 17 октября 1941 года. Господи, как хорошо! Лифт не работает, но это чепуха. Бегом с чемоданом и рюкзаком, я поднялся аж до 5 этажа. На площадках редкие голые лампочки, без плафонов. Сел на чемодан отдышаться. Чувство абсолютного счастья! Уцелел! Вернулся домой практически не покалеченный, так, легкое ранении, пустяки! Получил высшую награду - жизнь! Впереди нормальная жизнь! Трудно пока будет, наверное, но мне сейчас всё "море по колено". Любые трудности - ерунда по сравнению с тем, что было! Через несколько минут я буду дома. Как передать это сверх-блаженное состояние, когда ничего больше не надо! Спокойно прошел последние 2 этажа. Вот и дверь моей 57-ой квартиры. Ставлю чемодан. Стучу кулаком 4 раза (звонка, как и прежде, нет и приятно стучать!). Шаги и дверь открывает мама! Подбегает Феликс, виснет на шее. Мама плачет, что-то говорит. Оказывается, приходил мой спутник - шахтер, Сергей, который поехал из Берлина на поезде. Он уже давно здесь! Удивлялся, что наш эшелон еще не прибыл. Мы стали беспокоиться, говорит мама, где ты пропал? Идем по коридору к нашей комнате. Вот вешалка у двери, напротив, на стене телефон. Все, как и прежде! Снимаю рюкзак, вешаю шинель, открываю свою 2-х створчатую дверь и, наконец, я у себя. Все на прежних местах. Начинается новая и, наконец, прекрасная, нормальная жизнь. Я вернулся в свое довоенное время! Трудно, невозможно передать это ощущение свободы, счастья и надежд! Мама звонит родным и сообщает долгожданную новость. Несмотря на позднее время, приезжают родственники - москвичи, дяди, тети, сестра двоюродная. Разговоры, разговоры... А подарки? Раздаю то, что привез, очки, чулки, еще что-то. Помню, что дяде досталась великолепная фетровая шляпа. Он, заведующей кафедрой электротехники в МИМЭСХ, был очень доволен. Бедно, очень бедно жили все тогда.
На другой день иду в военкомат, сдаю документы. Мне присваивают очередное звание, младший сержант запаса, т.е. я перехожу на следующую воинскую ступень. Справляются, заранее предвидя отрицательный ответ, не хочу ли я в военное училище, выдают документ о демобилизации и, конечно, важнейший тогда документ - рабочую продовольственную карточку на месяц. Куда же без нее! А дальше устраивай свою жизнь сам. В милиции получаю паспорт. Далее прописка. Через несколько дней, как только все документы выправлены, с оформленным паспортом и вызовом в институт еду в МИМЭСХ, где я еще не был ни одного дня, хотя и числился студентом. Скорее, скорее, наверстать упущенное за войну время. Ехать очень далеко, с Арбата на северную окраину тогдашней Москвы, до Тимирязевской академии (Тимирязевки). Единственное, но очень важное, удобство, что от нас, прямо от Смоленской площади, идет прямой трамвай №15. Никаких пересадок. Пять минут от дома до трамвая. Подождешь не больше 10 минут, а далее едешь, приютившись на свободном месте, почти полтора часа! От Тимирязевки опять рядом, всего 3-5 минут и ты в институте.
Третий этаж института, деканат факультета электрификации сельского хозяйства. Меня приветливо встречает сам декан Ш. М. Алукер. Знакомимся. Он явно доволен. В институте, наконец, появляются мужчины, да еще фронтовики! В основном на 1-ом курсе. А то военный и послевоенный недоборы и почти все старшие курсы состоят из одних девиц. Я же доволен вдвойне. Солдатская лямка кончилась и я уже студент, а не рядовой младший сержант! Получаю студенческий билет и еще одну продовольственную карточку на следующий месяц. Возвращаюсь домой.
ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ
После приезда хотелось, нет, не то слово, жаждал встретиться с прошлым, точнее с друзьями детства и отрочества. Первой была школьная компания.
Решил собрать всех одноклассников к себе, пообщаться, отметить возвращение. Я, как и многие вернувшиеся с фронта, жаждал встретиться с прошлым, что-то восстановить после кошмара войны. Обзвонили всех, кого сумели найти, договорились о времени и конечно, меню. Главное встретиться, но как без застолья! Время голодное, все живут на скудный карточный паек. Решили, как тогда было принято, сделать все в складчину, кто что может. Составили нехитрое меню: винегрет, селедка, картошка и капуста. Кто-то принесет спирт (цена водки неподъемна!), закупим пару бутылок вина.
В день встречи пришло только 9 человек. Остальных не нашли или они погибли. Первой, на правах моей подруги, пришла Неля. Её уже все, в том числе и моя мама, считали моей потенциальной невестой. Затем подошли остальные. Каждый захватил пайку хлеба и, если мог, нехитрую закуску. Я закупил картошки, самую ходовую, не дорогую "народную" селедку иваси и вино. Пока я ходил в магазин, появилась наша классная знаменитость Марина Эсипова, блиставшая в предвоенный год неповторимым талантом чтеца-декламатора. Когда я зашел, то она собиралась уходить, но, завидев меня, задержалась. Было видно, что она страшно обрадовалась, как, впрочем, и я. Марина чуть было не кинулась мне на шею, но сдержалась, поскольку рядом стояла "моя" Неля, её ближайшая подруга. Но, боже мой! Марина говорила хрипло, почти шепотом. Куда девался её звонкий, проникновенный голос! Временная простуда? Нет, значительно хуже. В войну она с семьей эвакуировалась к родным или близким в деревню Рязанской или Пензенской области. Там застудила горло и потеряла голос. Пыталась вылечиться, но ничто не помогало. Для нее это было трагедией.
Марина считалась в нашем классе второй красавицей, общительной, доброжелательной и очень кокетливой. Училась она средне, особенно, по "точным" предметам: математике, физике, химии, которые не любила. Но по литературе была среди первых. У неё был незаурядный талант чтеца и необыкновенно проникновенный голос. Она запоминала множество литературных отрывков и, главное, как она читала их со сцены! Заслушаешься. Помню в 8-м классе, зимой 1941 года мы устроили школьный вечер. Когда Марина читала со сцены отрывки из Толстого и Тургенева, в зале стояла мертвая тишина. Даже младшие школьники, 5-7 классов, которые обычно шушукались, елозили и "прикалывались", сидели молча, раскрыв рты. Её прочили в артистки и, думаю, так бы получилось, она была бы не последней на эстраде, если бы не война, которая лишила ее чудного голоса и тем самым поломала жизнь.
Сейчас она торопилась на важную, заранее согласованную встречу, жалела, что не может остаться и, коротко расспросив меня об армии, отметила, что я здорово изменился, возмужал. Вздохнув, она попрощалась и ушла.
А как остальные мои одноклассники? Правда, не все, но основная наша компания. Вот они передо мною на уже, увы, потускневшей карточке, фото.
Дима Шибаев, который работал на каком-то оборонном предприятии, имел броню и не служил в армии.
Ира Патрикеева, наша первая красавица, удивительно обаятельная, доброжелательная и скромная. Ира, по которой вздыхали все мальчики 8-х и 9-х классов, включая конечно, меня, хотя, я и не показывал виду из-за стеснительности и нежелания обидеть Нелю. Ира, как-то несколько обреченно сообщила, что выходит замуж. Мне показалось, что она не очень рада этому событию, но расспросить больше постеснялся.
Слева, сзади Иры, её подруга рыжеволосая и, по контрасту, некрасивая Степанова.
Мои ближайшие школьные друзья Саша Мерман (справа от меня) и Валя Митрофанов (рядом с Шибаевым) не были в армии. Саша, на год моложе, поступил в МАИ, а в конце войны из такого института в армию уже не брали. Валентин работал на оборонном предприятии, имел броню и учился в техникуме. Фронтовиком оказался я один.
Серебрякова (крайняя слева), с которой я играл на последнем новогоднем школьном вечере (было такое!) в одной пьеске. Там по ходу действия я должен был обнять и поцеловать ее при встрече, но никак не мог это сделать, испытывал непреодолимую неловкость. Артист из меня не мог получиться, в принципе, из-за повышенной стеснительности и, главное, ввиду отсутствия артистического таланта.
Единственным на фото в парадном мундире изображен я собственной персоной в уже осоловелом виде от выпитого.
Застолье прошло на славу! Все оживленно болтали, вспоминали довоенное житье - бытье, делились своими мыслями. Меня расспрашивали о фронтовой жизни, но мне не хотелось ничего вспоминать и я отделывался общими фразами. Больше мы не собирались. Были отдельные встречи с Сашей Мерманом и Валей Митрофановым и, конечно, с Нелей. Всем было некогда, да и послевоенная жизнь погружала во множество забот от добычи пропитания (вплоть до борьбы с голодом) до устройства личной жизни, в том числе учебных забот.
Отмечу ещё несколько эпизодов, связанных с Армией.
В один из ближайших дней после приезда я вышел из квартиры, поднялся на один пролет выше, позвонил к Бельским, узнать о судьбе моего предвоенного товарищ по дому Алеши Бельского. Дверь открыла его мать, сухонькая старушка. Я назвался. Она всплеснула руками, произнесла как-то просто "А Алеши нет, его убило..." и тотчас пригласила меня в такую мне знакомую до войны комнату. С тех пор здесь ничего не изменилось, тот же стол посередине, диван, на стене оленьи рога, в углу, перед одним окном та же, крашенная коричневым, дощатая отгородка, где до войны Алеше имел свой угол. Только всё показалось мне запущенным. Мы сели за стол. Она заплакала и стала рассказывать, что они получили "похоронку" в 43-ом году со стандартным текстом: "...погиб в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками...". Далее ей удалось узнать, что Алеша был пулеметчиком, погиб под Сталинградом на знаменитом тогда Мамаевом кургане, где были особенно ожесточенные бои и который переходил из рук в руки. Погиб, заменив убитого пулеметчика, а потом на его место встал, точнее, лег к пулемету, другой и тоже погиб. Я слушал, что-то говорил, чувствовал, как ей тяжело нести эту утрату и меня охватило чувство неловкости. Вот я вернулся, практически не пострадавший, а она осталась без единственного сына. Ушел я с тяжелым сердцем и больше не заходил, хотя она и приглашала. Тогда мне казалось, что моё появление бередит ее душу. Наверно зря так думал.
Мой квартирный товарищ детских игр Вильмар Морозов был еще в армии, радистом дальней авиации и его мать Серафима Архангельская завидовала, что вот я вернулся, а ее сын вернется неизвестно когда.
Прошло уже несколько недель после моего приезда, а Сергей, с которым мы расстались в Берлине и который заходил до меня, не появлялся. Наверно уехал к себе - думал я, но ошибся.
Я уже регулярно ходил в институт, приезжал поздно. Однажды, вернувшись, узнал, что за мной приходил армейский наряд. Я обеспокоился. Что такое, по какому поводу? Вроде ничего не нарушал. Поздно вечером наряд из двух автоматчиков во главе с сержантом появился вновь. Они не зашли в квартиру, а пригласили на лестничную клетку. Предъявили документы, расспросили, знаю ли я Сергея и, ничего не объяснив, вручили повестку на прием в военную прокуратуру. Там меня подробно расспросили о нашем знакомстве, составили протокол допроса, который я подписал и отпустили. На мои вопросы, в чем дело и что случилось, ответили уклончиво, что, вроде, удостоверяют личность, а остальное я узнаю после. Больше они не вызывали и я всё гадал, что случилось? Потом предположил, что Сергей загулял, попал в какую-то историю, возможно, с криминальным оттенком и потерей документов, его задержали и он дал мой адрес (или его нашли в записках). Возможно, его даже убили. Последняя версия долго казалась мне правдоподобной, поскольку он не давал о себе знать. Таких историй с демобилизованными и загулявшими солдатиками было немало.
Ирина Зеликина, с которой мы были на дружеской ноге еще в школе, училась в 3-м мединституте и довольно часто приезжала к нам, даже оставалась ночевать. Иногда она появлялась со своим кавалером Павлом, инвалидом войны, который потерял на фронте ногу. Он был старше её, еще до войны стал маркшейдером, но выглядел молодо, разницы в возрасте я не замечал. Ходил он с палочкой, прихрамывая на протез, был всегда одет в военную форму, как и все вернувшиеся фронтовики. Как человек, Павел казался мне несколько занудливым собеседником. Короче, был мне не интересен, хотя я никогда не показывал виду. С ним у меня был связан курьезный случай. Где-то в конце второго семестра в институте, а для меня первого, я сидел дома за своим любимым письменным столом полностью погруженный в подготовку к экзаменам. Вдруг раздался стук по входной двери, четыре раза, значит к нам. Кого это принесло в дневное время? Я открыл дверь. На пороге стоял одетый в шинель, инвалид войны с палочкой. Он поздоровался, спросив: узнаешь Павла, не помешал? Как не знать мне Зеликиного Павла! Но почему он один, а не с Риной? Он никогда не приходил один. На носу экзамен и не могу я сейчас уделять ему время да еще разбираться в их конфликтах! Я впустил его в квартиру, но довольно холодно сказал, что сейчас очень занят, готовлюсь к экзамену, извини, мне некогда... В общем дал понять, что его визит не во время. Он понял и, обменявшись незначительными фразами, мы расстались. Когда дверь захлопнулась, до меня дошло, что он говорил как-то невпопад. Вроде не пьяный, но какой-то странный. Впрочем, мне было некогда задумываться и я погрузился в занятия. Позже Рина Зеликина сказала, что её Павел не приходил, это какая-то ошибка.
Двадцать лет спустя, в 1965-ом году состоялась первая встреча однополчан нашего полка, которую организовал Павел Соболев, мой командир взвода на Магнушевском плацдарме. Оказалось, что в далеком 1946 году это он приходил после госпиталя ко мне, а я спутал его с другим Павлом. Уж очень они были похожи, рост и облик одинаковы и у обоих протез и палочка. Соболев тогда обиделся, но после двадцатилетнего перерыва, конечно, не придавал этому значения. Он просто хотел понять, чем была вызвана такая реакция на тот его приход.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В феврале 1946 года, с началом второго семестра в институте, я погрузился в учебу. Надо было быстро нагнать упущенное, т.е. подготовить и сдать экзамены за первый семестр. Я с жаром и удовольствием окунулся в учебу, отметая, по возможности, всё остальное. Но это уже другая, институтская, послевоенная жизнь. Война позади и больше ее никогда не будет! Таков был общий настрой. Трудно, голодновато, но это семечки! Мне это - море по колено после пережитого.
Сам я ощущал тогда чувство полного удовлетворения. Война кончилась, я остался жив, легко ранен, не ударил в грязь лицом, не отлынивал от службы в армии, побывал на передовой, отмечен престижным солдатским орденом "Славы", который давали только фронтовикам, непосредственно участвующим в столкновениях с противником, и медалью "За боевые заслуги". Но все это уже в прошлом. Более того не хотелось вспоминать то время, хотелось поскорее забыть тяготы войны, цепь ужасов, лишений, унижений, когда ты ежедневно зависишь от чьей-то воли, не всегда доброжелательной, когда сама жизнь зависит от случая. Началась новая, мирная жизнь со своими радостями и печалями.
Со временем мои оценки военного периода в чем-то изменились. Частично это отразилось в приведенных здесь комментариях, но в очень малой степени. Более полный анализ того времени в моем представлении сейчас это отдельная тема, которой не место здесь касаться.
Воспоминания прислал автор