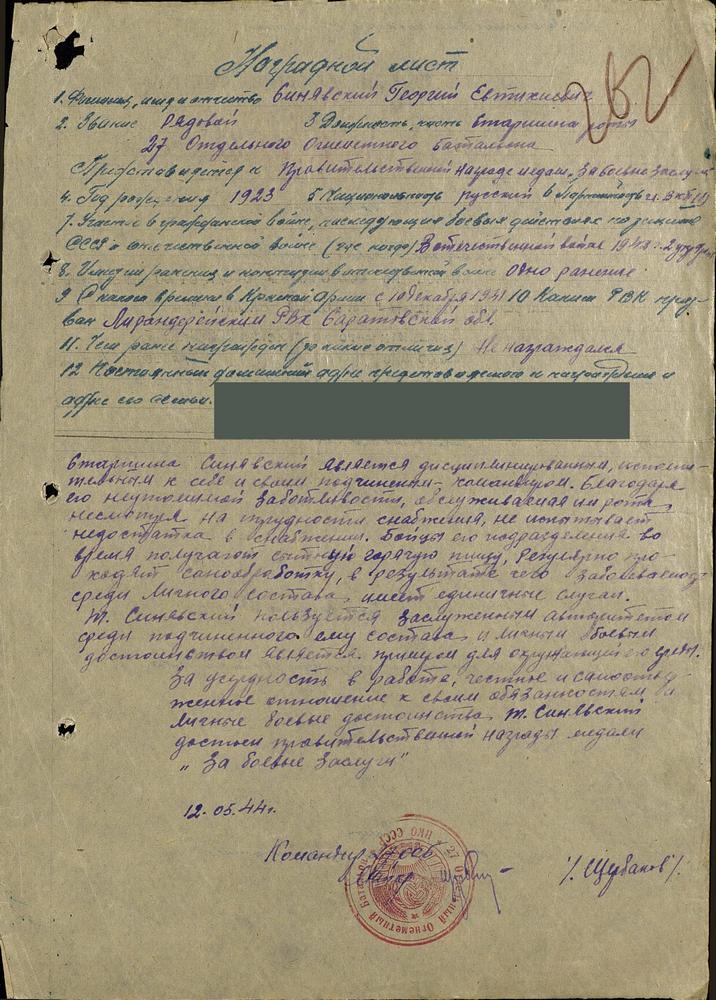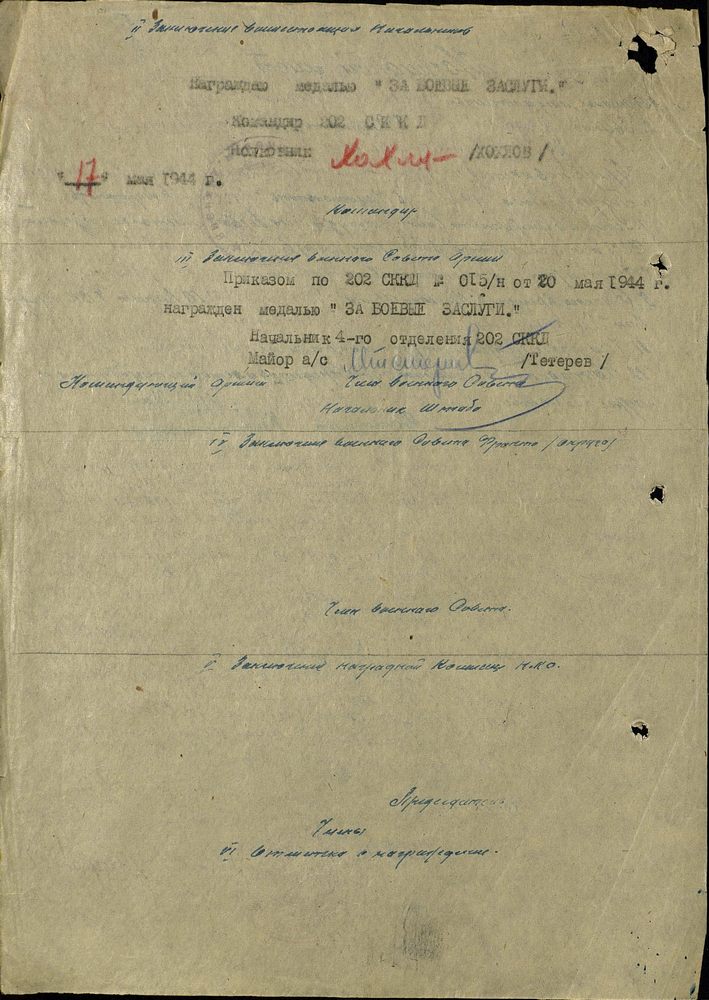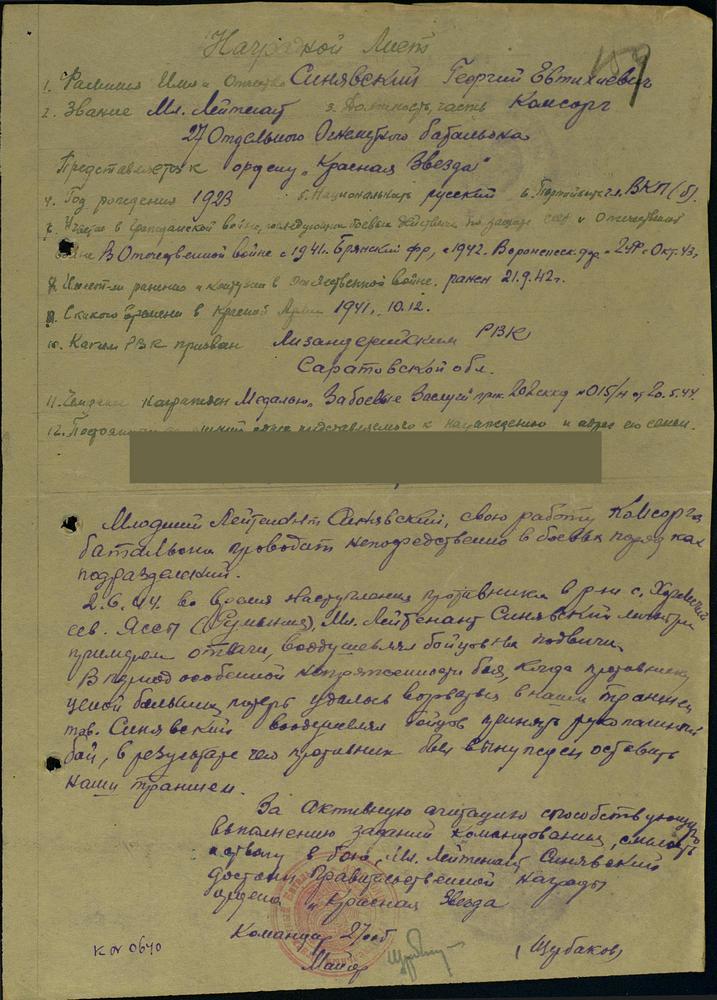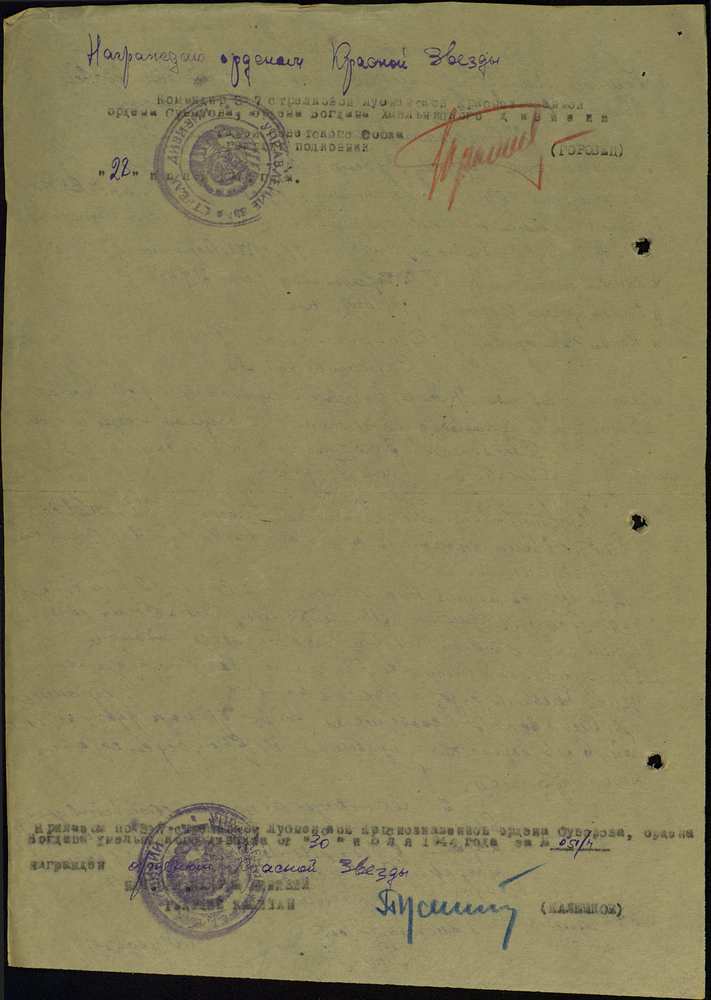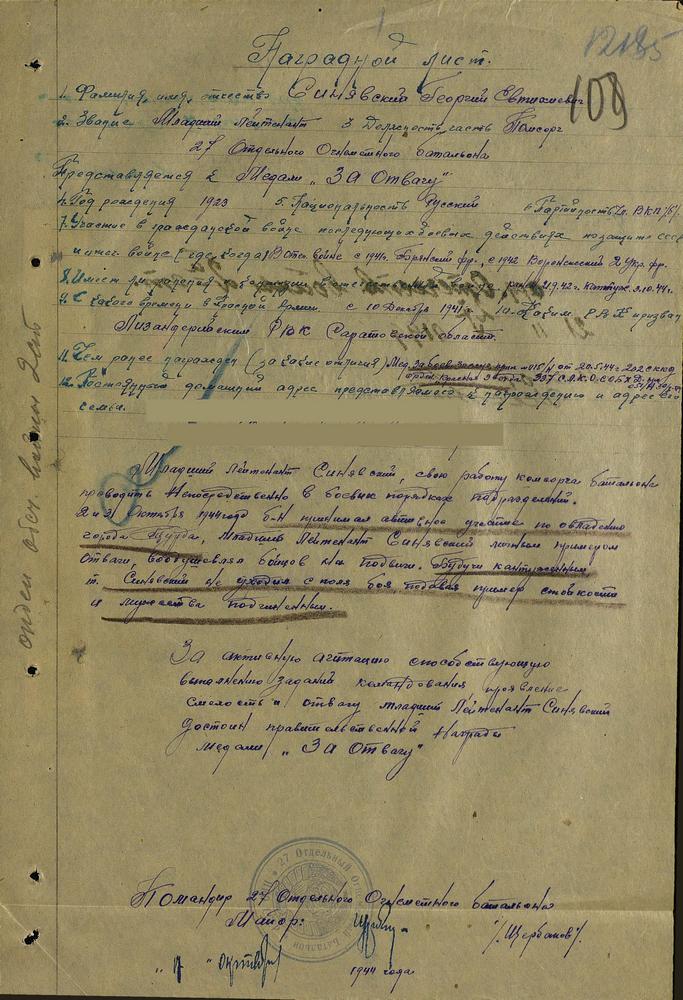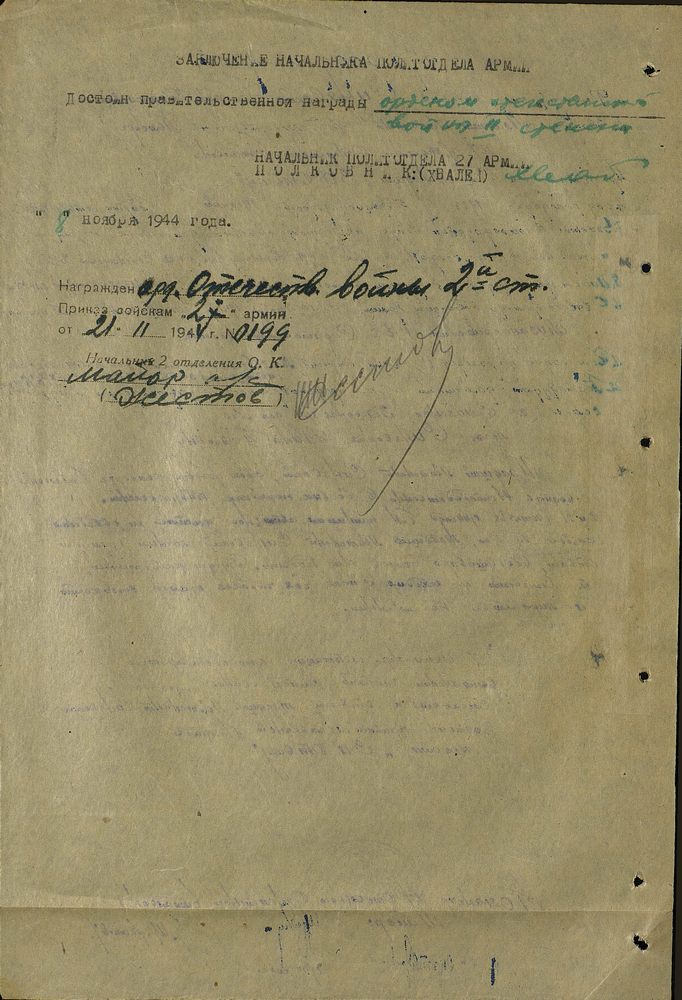Я помню себя не совсем с пеленок, но с весьма малых лет. И дошкольником, и мальчишкой. Я родился в 1923 году, в доме напротив памятника 1812 году, около стадиона, рядом с роддомом. Дом, в котором был роддом, существует и поныне, только теперь в нем люди живут. Мы же проживали на Большой Казанской улице, ныне улица Бакунина. Тех больших каменных домов, что стоят там сейчас, и в помине не было. Улица была длинная, гористая. По спуску в километр длиной мы на санях катались до самого Днепра. Вплотную к дому подходил участок крепостной стены. Ее торец был виден из нашего окна. Мне вспоминается, что в то время - в 20-е, начале 30-х годов тот участок стены был в 90-процентной сохранности. А потом его начали ломать. Ломали года два, где-то между 1934 и 36 годами. Причем, кирпичи за плату (по-моему, 5 копеек за штуку - тогда это были деньги) отбивали от застывшего раствора. Он был настолько прочен, что иногда кирпич ломался, а раствор оставался в целости. Легенда гласит, что этот раствор замешивался на яичном белке, оттого и был такой несокрушимый. Потом этот "освобожденный" кирпич пошел на строительство трех зданий: льнокомбината, Дома Советов, который стоял на месте ныне существующего и Дома специалистов, который и теперь находится на проспекте Гагарина. Размер этого кирпича больше, чем современный, стандартный. Насколько мне известно, он пошел на закладку фундамента. Разборка стены была особенно интересна нам, ребятам, потому что мы не знали, что там внутри - стена и стена: Оказалось, что кирпич - это только облицовка. Ширина фундамента такая же как высота стены. А в середине, под кирпичом, валуны, диаметром до полутора метров. В общем, сооружение было непробиваемое. Если вспоминать о зданиях 30-х годов, то хочется сказать и про Дом Коммуны. Теперь он потерялся в городском пейзаже, а раньше торчал над деревьями и домами. По нашим, пацанским данным, таких домов было построено в Советском Союзе три - в Смоленске, в Воронеже и еще в каком-то городе. Я бывал в этом доме уже после войны, когда его восстановили. Никаких лифтов в нем не было, да и жила в нем не всякая советская знать, а простые люди, кому повезло. А знать жила в доме, напротив 7-й средней школы, тогда имени Надежды Константиновны Крупской, а теперь гимназии имени Пржевальского. В ней я, кстати, проучился с первого по десятый класс и закончил ее в 1940 году. Улицу, на которой она находится, разделяет, так называемый "Собачий садик". Название это родилось так: на ограде городского сада Блонье до революции висела вывеска: "Собакам и солдатам вход воспрещен". А в этом скверике, который был продолжением Пушкинской улицы, собак выгуливать разрешалось. Пускали туда солдат, или нет, я не знаю. Прямо напротив входа в гимназию есть железные ворота. Не знаю те ли это, что были до войны. Там всегда стоял постовой милиционер. Через калитку нужно пройти метров пятьдесят, и вы увидите четырехэтажный дом. В нем жило руководство Западной области. Лично первый секретарь обкома Иван Петрович Румянцев там жил. Дочка его - Нина бегала в школу, даже без верхней одежды. Жили там и заместитель председателя облисполкома Сосин, заместитель секретаря обкома Резник, Ракитов и другие ответственные товарищи. Всего в доме было два подъезда, лифт и всего восемь квартир. Квартиры просто огромные. У Сосиных я бывал почти каждый день, потому, что с их младшим сыном Шуркой учился с первого по восьмой класс, до 1937 года, когда все руководство Запобласти арестовали. В домах, которые выходили на "Собачий садик" фасадами, жило почти все руководство Белорусского военного округа. Кстати, парады у нас были значительно лучше, чем в Москве. Прямо около нашей школы скапливалась военная техника - танки, пушки. Авиапарады богатые очень были. Перед Блонье выставлялась трибуна. Мимо нее войска шли вдоль Дома Советов, а потом растекались по улицам города и уходили в казармы. Военные много в Смоленске строили. В 1936 построили дом со львами, или Дом горсовета имени героев Железного потока. Там изначально была мемориальная доска с надписью: "Дом горсовета имени героев Железного потока. Штаб энского корпуса (речь идет о : стрелковом корпусе, которым командовал комкор Ковтюх). А когда Ковтюха, заодно со всеми, посадили и расстреляли, ту доску сняли. В этом доме, кстати, были и служебные помещения, в которых штаб корпуса и работал. Штаб БВО располагался в Смоленске, на Козловской горе, на улице Реввоенсовета. Там овраги и улицы образовывали такой полуостров со зданием монастыря. Там штаб БВО и сидел. Так вот, улица вдоль "Собачьего садика" и дом, в котором жило начальство, опустел в два дня. Всех пересажали, а детей распихали по детдомам. Кое-кого я потом встречал. Шурка Сосин после войны неоднократно приезжал ко мне в Москву, уцелела его мать, да и младшая дочь Сосиных - Зарина тоже. Она потом даже жила в Смоленске. А вот отец их - Александр Иванович Сосин, мировой мужик, по информации семьи умер в 1944 году в Саратове. Я лично думаю, что его расстреляли в 1937, вместе с Румянцевым, Ракитовым и другими. Тогда говорили, что все они на XVII съезде ВКП(б) голосовали против Сталина, и тот им это припомнил. Впрочем, дело темное.
Нравы в те времена сильно отличались от теперешних. Начальство свободно ходило по улице. Никакой охраны и в помине не было. Однажды в Смоленск приехал Михаил Иванович Калинин. Площадь Ленина у здания областной администрации - она искусственная. Там раньше было две улицы: улица Ленина, бывшая Пушкинская и улица Карла Маркса не ограничивалась "Собачьим садиком, а шла дальше. Вдоль нее на территории нынешней площади стоял длинный глухой дом, который позднее, после войны, разделили на три части. Это были казенные палаты или присутственные места, построенные еще при Екатерине. Рядом стояла Ильинская церковь. Вообще тут все было застроено небольшими домами. И в начале 30-х годов все это хозяйство сломали и начали строить Дом Советов. В результате получилась площадь, но еще не такая большая как теперь. Ну а на сносе старинных казенных палат настоял в 60-е годы скульптор Лев Кербель, который, кстати, окончил нашу школу в 1936 году. Так вот, он сделал памятник Ленину, который и теперь стоит там, где его поставили, и спроектировал площадь под него, чтобы раскрыть вид.
А в 30-е, во время парадов, трибуна устанавливалась спиной к Блонье. На ней бывало не только руководство области, но и военные - Уборевич, Ковтюх. Мог быть и Жуков. Он тогда командовал одной из кавалерийских дивизий БВО и жил какое-то время в Смоленске.
Так вот. Приехал Калинин. Конечно, Всесоюзного старосту тут встречали все. Дом Советов тогда был не такой как теперь - серого цвета, построенный в стиле конструктивизм. Большие, широкие окна, огромный балкон. Когда его достроили, на нем все начальство и стояло. К Дому Советов Калинин приехал на кабриолете. Толпа стояла такая, что машина не могла проехать. В основном, школьники и молодежь. Дело было, кажется, в начале лета, автомобиль просто завалили цветами. С колоссальным трудом он доехал до Дома Советов. Калинин вышел на балкон. Все ожидали, что он будет выступать. Но Калинин только помахал народу кепкой. Потом кто-то объявил, что Михаил Иванович очень устал и должен отдохнуть. На этом встреча и закончилась. Позже к нам приезжали Ворошилов с Буденным - сразу вместе. Так вот, Ворошилов речь толкал. О чем говорил, не помню, но припоминаю такой момент: Ворошилов стоял прямо около перил, а Буденный сзади, среди начальства. Так вот, Румянцев его взял под локоток и вывел вперед. Стоял Буденный, усищи в стороны, а ему все хлопали. Толпа тоже была огромная и никакой охраны. Областное начальство передвигалось по городу почти всегда пешком. Машины у них, конечно, были, но я, например, у Сосина - зампреда облисполкома, ее не помню. (А область была огромная - включала в себя нынешние Брянскую, Псковскую, Тверскую и Смоленскую области. На карте выглядела как огромная такая свинья). В Красном Бору находились два пионерлагеря, областной и городской. Я был в городском лагере. Помню, приезжал к нам Ракитов, председатель облисполкома, совершенно свободно. Никаких современных фокусов с телохранителями не было. Сам Румянцев тоже ездил по области, заезжал часто на швейную фабрику имени себя. Тоже никакой охраны. Как я уже говорил, у ворот их дома дежурил милиционер, но на нас он вообще никакого внимания не обращал.
Когда начались репрессии, нам, ребятам, было, в общем-то, до лампочки. Не знаю, что чувствовали отец, мать, другие взрослые. Отец был ярый сторонник Советской власти, солдат Первой мировой войны. Он служил в младших чинах, и терять ему в 1917 было нечего. Думаю, за себя он не опасался, впрочем, что творилось в его душе, не знаю. До нас это никаким образом не доходило. А вот арест Александра Ивановича Сосна, Шуркиного отца у нас вызвал даже чувство какого-то злорадства. Хотя Шурка дружил со мной и даже с братом своим Толиком бывал у нас на Казанке. Чем объяснить это чувство, я не знаю. Но оно было. И мы были убеждены, что если арестовали - значит враги народа. Так были воспитаны. С другой стороны, если сейчас патриотизмом и не пахнет, несмотря на высказывания некоторых деятелей, тогда патриотизм был у нас в крови. Мы настолько были патриотами: Были уверены, что моментально разобьем любого врага - шапками закидаем. Из моего класса четыре человека пошли в аэроклуб. Тогда был призыв: "Дадим стране 150 тысяч летчиков". И мы, учась в десятом классе, пошли в аэроклуб. Хотели стать военными летчиками. Вообще тогда быть военным было почетно. К военной форме с уважением относились абсолютно все! Сейчас пишут, что в стране царила атмосфера террора, и все боялись ареста. Глупости это все! Если и боялся кто-то чего-то, то только какая-то небольшая прослойка. Мы жили в бывшем доме помещиков Лазаревских. Один одноэтажный дом, двухэтажный, сарай и жилое помещение в торце сарая. Мы жили в одноэтажном доме, по моей нынешней оценке - довольно бедно. Очень скромно, хотя и мать, и отец работали. Черный хлеб стоил 85 копеек за килограмм, а белый хлеб - в два раза дороже 1 рубль 70 копеек. Так вот, белый хлеб мы не покупали. Так же скромно жили и семьи почти всех моих одноклассников. Но, несмотря на бытовые трудности, мы были настроены сверхпатриотично. Готовы были защищать Родину в любых войсках, как только прикажут. Что касается старшего поколения, нам они ничего не высказывали, да и мы не так, чтобы уж с ними общались. Школа, аэроклуб, гимнастическая секция. Мы всегда почему-то учились во вторую смену. Утром - с 9 до часу дня я в аэроклубе. Он располагался на улице Маяковского, рядом с нынешним музеем Коненкова. К половине третьего в школу. Домой появлялись уже вечером. Наша школа была одной из лучших в городе. Преподавали еще старые, дореволюционные учителя, а потом пришли и молодые педагоги. Помню Михаила Моисеевича Иоффе. Мировой был мужик. Незадолго до войны он стал директором школы, а потом погиб в войну. Был еще физик по кличке Чижик. Маленький такой. Если был недоволен чем-то, то страшно кричал, но учитель был очень хороший. Была такая старуха Юшкевич, по кличке Рыба. Понятно, что старухой тогда она казалась нам, детям, хотя она еще в гимназии учила моего дядю Николая. Тогда ее звали Жабой.
Примерно в том месте, где сейчас телевышка, стоял деревянный цирк. Он работал только летом и осенью. Я там видел, как боролся Иван Поддубный, которому тогда было уже 65 лет. Там вообще выступали многие известные борцы, помню афишу "Победитель гамбургских состязаний". Мы туда лазили через слуховые окна, поскольку билеты не всегда можно было достать. Борьба всегда была в третьем отделении. Первая схватка - 20 минут, потом борьба-реванш - 40 минут и третья схватка - борьба до победного конца, пока кто-то кого-то не положит на лопатки. Соответственно, боролась вся школа. На перемене выскакивали в "Собачий садик" и боролись там.
По воскресеньям я ходил в гимнастическую школу. Она располагалась в церкви, в которой сейчас музей льна. Ну а зимой - на лыжи. Бывало утром идешь в школу, а там занятия отменили - 25 градусов. Все в восторге домой и на улицу. К вечеру тут все было в лыжных следах. Не сказать, что в то время было много детских клубов и секций. В Дом пионеров, который был там же, где и теперь, жизнь просто кипела. Пробиться туда не было никакой возможности. Но пробивались. Я ходил в шахматный кружок. Бильярдная классная была, но приходилось долго стоять в очереди. Кроме того, мы как-то самоорганизовывались. Я в школе был одним из спортивных активистов. Той же гимнастикой занимался. Школьный спортзал всегда был занят, даже на каникулах. После занятий мы часто оставались, поиграть в волейбол. Разумеется, никто никого не заставлял. А на улице у нас была футбольная команда. Мы играли с Рачевкой, с улицей Кашена, со Свирской (б. Краснофлотской) улицей. При этом, мы очень интересовались политикой. Отец меня все время отправлял за газетой. Подписаться не было возможности - на всех не хватало. Кроме того, газеты были привозные, поэтому приходилось бегать, покупать. Мы всегда брали "Правду" и "Известия", стоили они по 10 копеек. Газетные киоски были на Базарной площади. От нас недалеко, а зимой вообще через Днепр ходили. Да, честно говоря, в Смоленске все было недалеко. Довоенное население - 157 тысяч человек. Весь почти город - деревянный, зеленый, кругом сады. Около нашего дома, кстати, располагалось огромное немецкое кладбище. На нем были склепы, роскошные захоронения с готическими буквами. Мы там все лазили, играли в жулики-сыщики. Роскошные были мраморные и гранитные плиты. Когда строили здание НКВД, на облицовку большого центрального крыльца и пустили камни этого кладбища, причем, сволочи, кое-где эти готические буквы даже не стерли. После войны я пытался их разглядеть, но их уже чем-то заменили или затерли. Между прочим, когда говорят про смоленских чекистов, то часто вспоминают про Катынь и расстрелянных поляков. Со мной училась такая Валя Бельская. Ее отец был майором, служил где-то на Покровке. Он носил летные голубые петлицы, но летчиком не был. Он к 1 мая доставал грузовую машину, и мы всем классом ездили туда на маевки. Мы ехали мимо изгородей, но туда не совались, потому, что не разрешалось. Там забор стоял зеленый, такой же как и в 70-80 годы. Разумеется, никаких слухов, что где-то рядом могут держать поляков, не было. У Гнездово, на левом берегу Днепра есть такая деревня Луговцы. Там жил однополчанин отца по Империалистической войне, некто Моторин. Он приезжал часто в Смоленск, торговать на рынок, останавливался у отца. И мы у них часто жили - ездили как на дачу. Так вот, Моторин до войны стрельбу слышал, причем, почти каждый день. Уже после войны, когда сюда стали приезжать, защитники эти, которые права качают. Они с ним пытались разговаривать, но он был мужик умный и ничего им не сказал. Пионерские лагеря все располагались до Гнездово, а потом были еще в Вонлярово. Там еще находились дачи областного руководства.
23 августа наша страна заключила с Германией Пакт о ненападении. Это широко освещалось в печати. Радио практически не было. Даже круглые такие репродукторы "Рекорд", не помню, сколько они стоили, были не у всех. У нас такой репродуктор был, а вот нормальный приемник позволить себе мы уже не могли. Когда сообщили о заключении договора, все были, в общем, довольны, но держались настороже. Подспудно понимали, что война все-таки будет. Не очень понятно с кем, но будет. Мы, конечно, обращали внимание, что с англичанами и французами у них есть какие-то противоречия. Интересно было, что после Пакта информацию о событиях в мире стали подавать больше глазами немцев. Как бы то ни было, мы, молодежь, войны именно с немцами как-то не ждали. Тем сильнее была потом неожиданность.
17 сентября, когда наши войска вошли в Польшу, в Смоленске ввели затемнение. Помню, мы возвращались из школы после второй смены, а в городе темень, ничего не видно. Наша учительница немецкого языка попросила, чтобы мы ее проводили. Она очки носила, и так плохо видела. Ну, проводили. Но главным в те годы был аэроклуб, окончание школы и стремление попасть в авиационное училище.
А потом я попал в тюрьму. Дело было так. Летом 1940 года я закончил школу и аэроклуб.
Мы все сдали комиссии Наркомата обороны теорию, летную практику, уставы и стали летчиками запаса.
Начальник аэроклуба сказал:
- Ребята, мы вам документы на руки выдавать не будем, потому что вы все закреплены за определенными авиационными училищами. Те, у кого среднее образование, попадут в Чугуевское истребительное училище, остальных отправят в Белоруссию и куда-то под Свердловск, в бомбардировочные училища. Сейчас там пройдет выпуск, освободятся места, и мы вас туда направим. Ребята! Вам пока что делать нечего, вы, пожалуйста, не набедокурьте!
В общем, сидели, маялись от скуки и ждали. В один прекрасный день, мы с моим другом Леней Кравченко пошли в парк культуры. Выпили по две кружки пива, и пошли смотреть кино. Прямо за 7-й школой был такой деревянный загончик, в котором оборудовали летний кинотеатр. Он и теперь там. Показывали фильм "Большой вальс". Купили мы билеты, прошли и сели. От будки, из которой крутили кино до задних рядов - травка. Сидим, смотрим. Мне захотелось пописать.
- Лень, - говорю, - ты сиди, а я сейчас вернусь.
Подошел к двери, а она закрыта. Обежал будку - и там дверь заперта. Что мне оставалось делать? Ну, я пописал, отряхнулся, выхожу из закутка, а в темноте какая-то женская рожа. Иду дальше, тут рожа появляется уже с милиционером. Подходят ко мне: рубль штрафа. Рубля у меня не было, пришлось идти в отделение, которое находилось совсем рядом. Это было 10 августа 1940 года. А за два дня до этого - 8 августа 1940 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "О борьбе с мелким воровством и мелким хулиганством". По нему давали год тюрьмы. Когда меня уводили, я крикнул Леньке, думал, что в отделении разберутся. Он пришел в милицию, пытался там выяснять отношения. Я ему сказал тогда, чтобы он никому ничего не говорил, а утром я домой приду. Отец мой в это время в городе отсутствовал - лечил свой туберкулез в санатории железнодорожников. В милиции и НКВД у нас было много знакомых, которые бы договорились, что меня выпустят, но они ни о чем вовремя не узнали. В милиции составили протокол. Я, дурак, рассказал все, по-честному, хотя нужно было отказываться, так как никто ничего не видел. И понеслось мое уголовное дело. Намного позже я узнал, что родные мои обращались за помощью к известному смоленскому адвокату Меньшагину. Он взять мое дело отказался. Объяснил это тем, что я попал под указ ("под замес" в просторечии), а значит, посадят невзирая ни на какие оправдания и вся его работа все равно пропадет. В годы оккупации Меньшагин был при немцах начальником города Смоленска, а после войны сидел.
Сидел я в тюрьме до суда месяца полтора, а ко мне пришло еще три вызова из училища. Сестра мне приносила их в тюрьму, которая, сволочь, целая и невредимая стоит. Кроме того, была еще одна тюрьма в городе - у виадука, бывшая женская. Потом из нее сделали гостиницу, а теперь там коммуналка. И где-то еще я в КПЗ сидел. В общем, преступник, наверное, был очень важный, раз так часто меня с места на место перевозили. Народ все больше сидел по мелочи: за бытовые преступления или растраты. Были конокрады - в то время довольно частое преступление. Помню, привели в камеру здоровенного цыгана. Выглядит как настоящий цыганский барон. Вошел, поздоровался. Мы его спрашиваем:
- За что тебя?
- За халатность!
- А в чем дело?
- Да коня увел, а жеребенка оставил:
Впрочем, с политическими я тоже пересекался. Со мной в камере сидел один красноармеец. Где-то он что-то ляпнул или анекдот рассказал. Солдатик был припадочный. Падает на бетонный пол и начинает колотиться в судорогах. Как только упадет, на него сразу напрыгивают сокамерники и держат голову и плечи, чтобы не разбил. Потом он затихал и засыпал. Проснется - ничего не помнит. Больше я с политическими не пересекался, потому что их отправляли в дальние лагеря.
Наконец, повезли в суд. Заседание проходило в помещении нынешнего мирового суда, у часов, на улице Б. Советской. Пришла вся моя улица. Ребята подсаживались на скамью подсудимых, угощали меня чем-то. Говорили:
- Ничего, Гора, сейчас все выяснится, пойдем, выпьем.
Дали год. В тот же день, что меня поймали, кстати, другой мой знакомец, одноклассник старшей сестры моей Натальи - Мишка Фомин, там же в парке, вышел с танцплощадки на Мостик Вздохов и пописал на головы трудящимся. И тоже год заработал. Вот так я стал заключенным.
И это клеймо висит на мне до сих пор. А узнал я об этом так. 1945 год. День Победы я встретил в городе Сталиниди, ныне Цхинвал, в офицерской палате местного госпиталя. Осетины нас буквально носили на руках. Шефы наши - Юггосторг принесли вина. Вышли мы на улицу, кто в чем мог. У офицеров одежду не отбирали, а у солдат были нательные рубахи и кальсоны. А у офицеров - у кого китель, у кого галифе, у кого сапоги. Кому нужно было, экипировался по полной, и уходил по девкам. В общем, пошли мы по Цхинвалу. Весь город был на улице. Собственно, улица, в нашем понимании этого слова, там была одна. Называли ее "стометровка". Там были гостиница, ресторан. А все остальное - это сакли, мазанки, да кривые улочки, на которых легко было заблудиться, хотя, вроде бы городишко совсем маленький был. Погода стояла очень теплая, и у каждого дома был накрыт стол. Мы идем, а нас все к себе зазывают. Сунулись в одну семью, а нас Катя-осетинка по фамилии Голованова остановила. Говорит:
- Не ходите, это евреи.
- Ну, евреи и евреи, какая разница?
Примерно 25 мая я приехал в Москву. Еще не доехав до Смоленска, где я должен был демобилизоваться, из госпиталя, решил дождаться одноклассника своего - Шурку Семенского, который ходил со мной в аэроклуб и попал в Поречье в бомбардировочное училище. Он по-прежнему летал на самолетах, перегонял в Германию "Ил-2" и должен был появиться в Москве. Пока я его ждал, подал заявление в институт. Понятно, что при мне из документов была только офицерская книжка, ни аттестата и ничего другого. Заполняю анкету. Они были многостраничные, кем был до революции, есть ли родственники за границей, был ли в заключении и т. д. Я написал, что сидел по 74-й статье и по Указу. Сдал листы в приемную комиссию. Женщина прочитала и говорит:
- Ну зачем вы это пишете? Вы же орденоносец, герой войны и все такое. Напишите, где вы находились, но не указывайте, что были в заключении.
Я написал, что работал на Оршанском авторемонтном заводе, а потом на автобазе №8, что, в общем, было чистой правдой. У меня приняли заявление, и все было забыто. Я благополучно заканчивал институт. На преддипломную практику нас отправили в Горький, на авиазавод № 19. Мы там находились месяца три, содрали в свои карманные записи кучу совершенно секретных сведений для дипломных работ и должны были возвращаться в Москву. Вдруг вызывает меня какое-то начальство и сообщает, что я и еще несколько человек должны получить допуск к секретным материалам. Сдали мы анкеты, вернулись в столицу. А там нас направили работать к Сергею Павловичу Королеву. Поехали к нему в Подлипки. Он нас всех собрал, познакомил с начальниками отделов и сказал:
- Ваши дипломные темы забыть. Будете работать по той тематике, которую мы вам дадим. Вас распределяют по начальникам отделов. У вас, как мы знаем, гриф "Секретно", а у нас работ ниже чем, "Совершенно секретно" нет. Если что-то нужно, обращайтесь к начальникам отделов, они в 1-м отделе вам будут брать необходимые документы.
Первое время так и было, но потом началось анкетирование на повышенный гриф секретности. Через какое-то время меня вызвали в 1-й отдел. Я сразу догадался, в чем дело. Прихожу - сидит начальник - женщина - такой конь с яйцами. Спрашивает:
- Вы были в заключении?
- Был.
- Почему скрыли этот факт?
Я ей тогда все и рассказал.
- Ну что же вы, такой малозначащий факт, а вы его скрыли. Пишите объяснение.
Я все написал, сдал бумагу и больше меня по этому поводу никто и никогда не трогал.
После суда отправили нас в поселок Дурово. В это время строилась автомагистраль Москва-Минск. В числе прочих строила ее такая организация Вяземлаг НКВД. Управление находилось в Вязьме - отсюда и название. Вся дорога строилась одновременно. Примерно через каждые пять километров были устроены зоны, окруженные проволокой. Там бараки, а в бараках - заключенные. Они и обслуживали всю 700-километровую стройку. Само полотно было уже пробито. Мы проводили земляные работы - формировали обочины, скаты, выравнивали все. Рядом с зонами были расположены АБРы - асфальтово-бетонные районы. Там стояли бетономешалки, камнедробилки всякие. Необходимые материалы делали прямо на месте. Я работал не на самой трассе. Мы строили дорогу, которая шла от шоссе к станции Дурово. Было очень холодно, морозы стояли сильные, а с одежной у меня было плоховато. В это время родные и близкие обо мне и Мишке беспокоились. Хотя им и говорили, что смысла нет, они писали во все инстанции, даже Калинину. Но результаты все-таки были. В Вяземлаге работал один человек. Фамилию его я не помню, но это был довольно крупный начальник. Он занимался вопросами воспитания сидевшей молодежи. Все же понимали, что многие сели ни за что, старались оказать им какую-то помощь. Он приехал в Смоленск и даже ночевал на Казанке у наших. Вскоре в Дурово пришел приказ: Фомина и меня вызвали на станцию, посадили в столыпинский вагон и привезли под конвоем в Оршу. Там нас через весь город отвели на Оршанский авторемонтный завод. Здесь работали примерно сто зеков-специалистов, а остальные - вольнонаемные. Они нам, между прочим завидовали даже, поскольку, нас кормили и неплохо, а им приходилось все покупать. Принял нас на заводе замполит. Звали его Лука, ну за глаза, естественно, Лука Мудищев. Большая был сволочь. Директор завода Альбощин, который когда-то отсидел десять лет за что-то, был в командировке. Лука сразу понял, что мы никакие не специалисты и быстро от нас избавился. Попали мы куда-то близко к Орше, на АБР и толкали там тяжеленные тачки к камнедробилкам. Так прошел примерно месяц. Потом нас снова вызвали на завод. Оказывается, Альбощин, вернувшись из командировки, узнал, что Лука нас выкинул с завода и затребовал обратно. Меня он определил помощником повара, а Мишку в цех шасси. Работы у меня было много - сто человек прокормить - не шутка. Рубил дрова, орудовал на кухню. За зону практически не выходил. Поваром был Петька - убийца, осужденный на десятилетний срок. Жили мы в бараках. Быт был налажен очень неплохо. Охраны практически не было, ходили за зону мы свободно, только нужно было отмечаться раз в день у дежурного. Прошло какое-то время, и меня назначили каптенармусом - начальником над Петькой. Я получал продукты и хлеб, выдавал их на кухню, а хлеб раздавал заключенным. В этой должности я проработал до самого конца отсидки. Интересно, что до того, как меня посадили, я считал, что заключенные - это отребье, отбросы общества и вообще, черт знает, что. На самом деле, в лагере мне попадались такие замечательные люди! Сидел со мной бухгалтер - семь лет за какую-то ошибку. Потом был человек, который многому меня научил в зоне, как себя вести и т. д. Его посадили за нарушение паспортного режима.
Почему-то в память мне врезались последние дни накануне войны. 19, 20, 21 июня стояла великолепная погода. Мы смотрим, на большой высоте поодиночке время от времени пролетают самолеты. Их никто не трогает, никто по ним не стреляет. А они спокойно шныряют туда-сюда. Разглядеть невооруженным глазом, чьи это самолеты, мы не могли. Стали спрашивать у начальства, что это такое летает, и почему месяц назад самолетов не было, а теперь есть. Ну, товарищи, которым положено, стоят рядом и пропагандируют, что это вполне себе наши советские самолеты, а что летают, так значит, есть зачем. Понятно, что ни у кого из нас даже мысли не было, что это могут быть немецкие самолеты. Потом уже, после войны, я понял, что это были как раз те самые машины, которые вторгались в воздушное пространство СССР и вели фотосъемку объектов, предназначенных для бомбардировки.
21 июня ко мне приезжал отец. Я еще не знал, что вижу его последний раз в жизни.
По воскресеньям нам полагался выходной. Не было исключением и 22 июня 1941 года. У нас на заводе и на зоне работало радио. 22 июня 1941 года мы по нему услышали знаменитое выступление Молотова и вместе со всей страной узнали о том, что началась война. Никого эта новость не испугала. Настроение было у нас совершенно шапкозакидательское: "А, полезли? Ну, сейчас вам хвост надерут"! Считали, что немцев разобьют в считанные дни. Никаких ощущений войны в тот день в Орше не было, хотя в городе моментально организовали истребительные батальоны. А мы сидим дальше и продолжаем работать. Единственное, чем отличался наш быт от мирного - стали копать убежища-щели, как по всему городу, да ввели у себя затемнение. В один из этих дней мимо нас, на большой высоте снова пролетел одиночный самолет. Потом говорили, что из него выпрыгнул парашютист. На его поиски направили те самые истребительные батальоны. Сами мы этого не видели, по понятным причинам, однако через вольнонаемных работников были в курсе всех новостей. Беженцев мы в первые дни не видели. Говорят, что в Минске они появились уже вечером 22 июня, но Орша все-таки значительно восточнее. До нас. Пока мы были в городе, они не дошли. А местные никуда не уходили. Все надеялись, что немцу скоро дадут по шапке и война кончится.
Проходит еще дня два-три. Кажется, ночью с 25 на 26 июня мы заснули и вдруг слышим страшный грохот. Никакой воздушной тревоги не было! Выскакиваем из своего барака, вышли за территорию и направились к Днепру. Кругом висят "люстры" - осветительные бомбы и видно, все как днем, даже ярче. Немцы могли бросать бомбы совершенно прицельно. И это освещение, кстати, пугало больше всего, очень мы тогда ощущали свою полную беззащитность. На наш завод ничего не попало. Скорее всего, бомбили железнодорожную станцию. А снизу, с земли - это особенно врезалось в память, летели огоньки ракет. Кто-то сигнализировал немцам. И таких ракет было очень много. Но все когда-то заканчивается. Кончилась и эта бомбардировка. Мы, под впечатлением от увиденного, стали относиться к копке щелей намного серьезнее. Местные рассказывали, куда в городе упали бомбы. Вроде, что-то было повреждено на станции. Потом, уже из фронтового опыта я понял, что всякая бомбежка имеет эффективность ноль целых, хрен десятых. Попасть в дом, эшелон, мост - это проблема. Хорошо, если из сотни сброшенных бомб попадет хотя бы одна. А если учитывать огонь зенитной артиллерии, сопротивление истребителей. Над Оршей, мы, правда, истребителей видно не было. Хотя в то время уже существовали неплохие самолеты: "ЛАГГи", "МИГи" и мы видели перед войной, как они пролетали над нашим заводом. Зенитки тоже стреляли, но, как мне кажется, никакого эффекта не достигли.
Позже, под вечер прошел слух, что следующей ночью будет окончательная бомбежка Орши. Думаю, что этот слух специально распускали немецкие агенты, чтобы посеять панику. Мы решили, что предстоит нечто не очень приятное. Легли спать, трясясь, а обещанной бомбежки не произошло! А наступившим днем нас построили, вывели на Минское шоссе и погнали пешком в сторону Смоленска. С нами был всего один конвоир и, если бы не мы, он бы сдох от голода и жажды. Мы его кормили и поили. Вот такая у нас была охрана. И ни один человек никуда не ушел. Даже мыли ни у кого такой не возникло. И дело не в том, что мы боялись кого-то. Вовсе нет! Мы были коллективом, мы были патриотами.
Отошли мы от Орши и увидели следы войны. Судя по всему, над шоссе летали немецкие охотники. Они бомбили, обстреливали кого попало. Нам попадались убитые люди. Они лежали, никому не нужные. Потом по левой стороне, километрах в десяти от шоссе мы увидели дымы. Это горела БелГРЭС. Ее, стало быть, уже раздолбали. Потом дымы появлялись справа и слева. Шли мы довольно долго. Кажется, было две ночевки. Продукты, наверное, взяли с собой. Точно помню, что не голодали. Потом навстречу нам пришла колонна машин. Мы сели на них и поехали в сторону Москвы. Проезжали мимо Смоленска. Солнце уже садилось. Сам город с Минского шоссе не виден, но по дороге из Смоленска тянулись люди. Они выходили на шоссе и направлялись в сторону Москвы. Город горел, зарево было видно очень далеко. Мы сидели в машинах спиной к ходу и видели, как с левой стороны на Смоленск идет девятка самолетов. Большинство из нас были смоленские. Мы смотрели, как немцы летят бомбить наш город и ничего не могли поделать. Это было 29 июня 1941 года. В тот день Смоленска, в котором я вырос, не стало. А мы добрались до Ярцево, в 60 километрах от Смоленска и заночевали в огромном лагере. А утром нас погрузили на транспорт и повезли в Вязьму. Там мы снова расположились в большом лагере. Нашу группу хотели отправить на тяжелые работы - землю таскать и т. д., но тут мы взбунтовались. Сейчас я понимаю, что мы рисковали, потому что могли пришить саботаж и устроить веселую жизнь по законам военного времени, но тогда об этом не думалось. Стали кучей и орем:
- Да мы - специалисты! Что вы тут задумали!
И, как ни странно, наши требования учли! Всю нашу группу собрали и направили на станцию Вязьма-Брянск. Там строили военный аэродром. Видимо, он был совсем недавно начат. Мы строили на нем бетонную полосу. (Это аэродром Вязьма-Северный, который используется до сих пор. На нем, в частности, базируется пилотажная эскадрилья "Русь" ГП). Откуда-то приехали машины с нашего завода, завезли оборудование. Мы накопали себе землянок и стали в них жить. Я работал ночным диспетчером. Грамотных было мало, так что бумажная работа меня везде находила. Выписывал наряды, бензин, путевки. Эти занятия занимали у меня часа два. Потом я ложился спать. А днем с шоферами, которые ездили за гравием и песком, катался куда попало. Однажды купаться до самого Малоярославца доехал. Лето очень теплое было. Вечером возвращался.
Хотя аэродром строился, на нем уже были самолеты. Это были, в основном, новые "ЛАГГи", но садились и бомбардировщики. Один раз садились туда СБ. Хорошие бомбардировщики, но к войне устарели. Один раз прилетел совсем новый самолет "ПЕ-2".
В один из вечеров сидим у землянок. Солнце заходит. С запада ослепительный свет. И вдруг из этого света вылетает девятка немецких самолетов "Мессершмитт-110" (я их отличал, к тому же в начале войны очень быстро были выпущены всякие справочники для зенитчиков и МПВО. Мне этот самолет очень нравится. Не когда он тебя бомбы кидает, а вообще, как таковой) и начинает нас бомбить. Они спикировали, скинули бомбы на нас, пролетев метрах в пятнадцати, не попали, развернулись и полетели к станции. Там стоял каменный дом, этажа в два. Около него гулял с ребенком какой-то мужик. Увидев, что летит бомба, он схватил сына, успел заволочь его за угол. Так они спаслись. Немцы взмыли в воздух, развернулись и полетели бомбить станцию Вязьма. Там они шороху, судя по всему, наделали много. Скорее всего, они попали в цистерны с горючим. Там всю ночь что-то горело и рвалось. И только после того как немцы отбомбились, с аэродрома поднялись наши самолеты и погнались за ними. И мы даже видели, что далеко от нас, километрах в десяти, образовалась "карусель" и завязался воздушный бой. Потом наши вернулись на аэродром. Вроде бы, они сбили несколько вражеских самолетов. А вот были ли потери у наших, я не помню. На следующий день кто-то говорит:
- Ой, там, на аэродроме бомба валяется.
Ну, пошли мы посмотреть, что к чему. Оказалось, действительно, лежит 250-киллограмовая бомба. Из-за того, что немцы бомбили с очень маленькой высоты, бомба не успела извернуться, поехала по земле. А стабилизатор оторвался. Мы идем и смотрим: по аэродрому какие-то пунктиры и канавы. Это был путь, по которому бомба кувыркалась беспорядочно. Подошли мы к бомбе, посмотрели на нее. Трогать на всякий случай не стали. Чуть позже, мы вырыли окоп, а охрана положила рядом с бомбой гранату и стала ее из окопа расстреливать. Все взорвалось. Я потом залазил в воронку. Она была вровень с головой, глубиной в мой рост.
При мне на аэродроме совершенно бездарно погибло несколько самолетов. Один, кажется "МИГ" сел на аэродром и "промазал". Выскочил на проселочную дорогу, колесо попало в дождевую канавку, и самолет скапотировал и медленно-медленно перевернулся. Килем об дорогу хрясь! И хвост переломился. К счастью, не загорелся. Мы подбежали к самолету. Тут же подъезжает машина с охраной. Нам кричат, чтобы мы не подходили. А мы-то летчика спасти хотели. Ну, остановились метрах в двадцати пяти. Тут охранники нам кричат:
- А ну, идите сюда!
Оказывается, летчик остался цел, но его зажало в кабине. Если бы самолет загорелся, он бы сжарился заживо. Подбежали мы и начали приподнимать обломок. Пилот, вниз головой висящий, нам кричит:
- Осторожно, пулеметы!
Боялся, что мы не гашетку нажмем случайно. Вытащили его, в конце концов. Он цел и невредим, а самолет - сплошные обломки.
В другой раз прилетела "Пешка" - "Пе-2". Замечательный самолет конструкции Петлякова и Мясищева, моего будущего генерального конструктора. Так вот, он тоже мимо посадочной полосы "промазал". Катился, катился по полю, пока не попал в окоп. Ему шасси срезало, так он еще на брюхе проехал. А на аэродроме как раз оказался какой-то генерал. Он летчика крыл настолько, насколько может русский человек знать мат. Летчика я потом видел. У него все лицо перебинтовано было. Видимо, когда сажал самолет, ткнулся лицом в приборную доску и разбился. Генерал поорал, поорал и успокоился. А летчика никуда не отправили.
А в третьем эпизоде виноваты немцы. Прилетел из Москвы "Дуглас DC-3", который у нас назывался сначала "ПС-84", а потом "Ли-2". Он какое-то время постоял, потом поднимается в воздух метров на 150 и улетает в сторону станции Вязьма-Брянск. А погода стояла хорошая, маленькие облака. И тут из облака вываливаются два "Мессершмитта-109" и к нему. Прошили "Дугласа" трассирующими пулями с носа до кормы и он, задымив, пошел куда-то на посадку и благополучно сел на лес, километрах в пяти от нас. Оказалось, что убита была только женщина-пилотесса. Все пассажиры (только летчики) и остальные члены экипажа уцелели. Пассажиры вылезли из самолета и пришли с чемоданами к нам.
Был и еще один случай. Мы уже почти доделали к тому времени бетонную полосу. Рано утром слышим рев моторов. Не ясно, сколько самолетов взлетало, но вдруг слышим обрыв звука. Как точку поставили. Самолет не оторвался от бетонки и вмазался в насыпь, в конце, над которой должен был пролететь. Машина загорелась, а пилот был еще жив. Он кричал, но подойти к нему никак нельзя уже было.
Врезался в память мне и прекрасный день 22 июля. Мы уже закончили работу. Солнце еще не зашло. Вдруг на западе появилась странная черная туча - полосой длиной с километра два. Довольно широкая - с километр.
- Какая, - думаем, - туча странная.
А она, в это время, увеличивается в вертикальном размере и как бы приближается. Вскоре мы поняли, что это летит армада самолетов. Сначала мы подумали, что она летит на наш аэродром. Кто-то говорит:
- Ну, ребята, прячься кто куда. Сейчас всех засыплет.
А они прошли прямо над нами на Москву. Это мы осознали только через несколько минут. На нас они - всего 220 самолетов - внимания не обратили. А расчет у них был такой, чтобы к Москве подлететь уже в темноте. И вот, прошло минут сорок, и мы увидели всполохи на востоке! А ведь от нас до Москвы было больше двухсот километров! Звука слышно не было. А чуть позже мы слышали, как, то тут, то там над нами пролетали самолеты. Такой большой группы обратно уже не было. В последующие дни немцы часто летали над нами на Москву - и днем, и ночью.
Жили мы относительно изолированно, но какая-то информация до меня доходила. Мы не знали, где находятся немцы. Впрочем, этого не знал никто, да я, кстати, совершенно убежден, что этого не знали и военные. Связь была очень плохая. Часто командиры не представляли, что у них творится справа и слева. Связь и карты на фронте - великая вещь, а поначалу с ними были большие трудности. Разведка работала очень плохо. Откуда брали информацию? Немцы бросали много листовок. Однажды под Вязьму сбросили листовку с изображением Якова Джугашвили. Она была большая. Наверху надпись: "А вы знаете, кто это"? И фотографии. На лицевой стороне фотографии Якова с немецкими офицерами, а на другой стороне текст: "Сдавайтесь к нам в плен, ибо даже сын вашего правилы сдался к нам". На нас это не действовало. Если кто-то и имел что-то в душе, то он этого не показывал. Относились к ним как к макулатуре и тогда, и на фронте. Вообще, хранить бумаги было опасно. Я на Дальнем Востоке вел дневник. Каждый день на газетах писал между строчек о происходящем в части. Ценнейший был материал. И я привез его на фронт в вещмешке. Потом додумался, что если меня ранят и все это прочитают, мне несдобровать. Никакой контрреволюции там не было. Я просто описывал ежедневную жизнь нашей части на Дальнем Востоке. Была у меня тогда такая потребность, вести дневник. А уже в окопах мы его скурили. Потом, на фронте я помню листовку с обращением Власова "Почему я встал на путь борьбы с коммунизмом". Она была довольно толково написана, но никаких крамольных мыслей ни у меня, ни у моих сослуживцев не породила. Шли мимо нас раненные бойцы. Они говорили, что немец "задушил минометами". Очень губительный огонь. А у нас тогда минометы, конечно, тоже были, но или мало, или пользоваться ими еще не умели. Зато потом их появилось много. И, главное, калибр нашего ротного миномета был 82 мм, так что можно было стрелять немецкими минами, которые были 81 мм. И мы этими минами по ним стреляли. То, что мина не совсем точно полетит - значения не имеет. Лишь бы рядом попала.
Мой срок заканчивался 8 августа 1941 года, но из-за того, что бумаги где-то застряли, освободился я только 29 сентября. К этому времени мы уже достроили вяземский аэродром и были переведены под Медынь, в деревню Синяево. Там мы строили еще один аэродром. За пересидку нам заплатили какие-то деньги, выдали на руки бумаги и предоставили возможность идти на все четыре стороны. Мы с Мишкой Фоминым поехали в Вязьму, где сидели руководство области и разные организации, чтобы узнать о наших родных. Там мы нашли знакомых. Я выяснил, что мои родители, бабушка и тетки остались в Смоленске, так как отец был очень тяжело болен. Позднее, я узнал, что папа умер 25 сентября 1941 года, ровно за два года до освобождения Смоленска. Старшей моей сестре Наталье он сказал, чтобы она уходила из города. В Вязьме я узнал, что смоленский мединститут эвакуировался в Саратов и решил ехать туда. Я тогда не знал, что Наталья ушла в армию с патологоанатомической лабораторией Западного фронта. А Мишкин отец, как оказалось, был в Вязьме, но как раз в тот момент уехал в командировку в Моссальск. Где-то 1 октября мы расстались. Он пошел к отцу, звал с собой, но я распрощался с ним и поехал в Тулу. Поезд брался с боем. Я был ободранный, молодой, но сильный. Доехали мы до Тулы благополучно - под бомбы ни разу не попали. Там с боем сели в поезд и доехали до Мичуринска. В Мичуринске с боем сели в поезд. Забрались в вагон, в котором ехали жены комсостава. 8 или 9 октября я вылез из поезда на саратовском вокзале и услышал из репродуктора, что наши войска оставили Вязьму. Стою и думаю:
- Черт, вовремя же убрался я:
А Мишка оказался в окружении. Как он оттуда выбрался, я не знаю, но так же, как и я, потом он попал в огнеметные войска! Такая судьба. Вместе учились, вместе сидели и в одних войсках служили. Только он попал в ранцевые огнеметчики. Свезло человеку, так свезло! А после войны пошел Мишка Фомин по тюрьмам и лагерям. Стал уголовником, заболел туберкулезом. Его комиссовали из тюрьмы, а потом Наташа его вскрывала. Такая судьба. А тогда я ушел из-под немецкого "Тайфуна". Не исключаю, что поезд, на котором я уехал из Вязьмы, был самым последним:
В Саратове я никого не нашел. В то время уже работали справочные пункты, в которых можно было попытаться узнать судьбу близких людей. Мне там подтвердили, что смоленский мединститут действительно находится на базе саратовского института, но, сестра в нем не числится. Позже выяснилось, что мы с Наташкой все-таки оказались в Саратове в одно и то же время. Но когда она туда приехала, через несколько дней, я уже был в Республике Немцев Поволжья, на станции Безымянная, Лизендергейский район, колхоз "Ротер Штерн".
В справочном пункте я ничего не узнал. Из документов у меня только справка об освобождении. Выхожу, иду тихонько и думаю, что же мне дальше делать. Было сухо, но уже подмораживало. Я весь ободранный, буквально в лохмотьях и ботинки прохудились. Вдруг слышу оклик. Думаю, что это не меня, поскольку в Саратове меня никто не может знать и продолжаю движение в задумчивости. Опять оклик. Я обернулся. Смотрю, какой-то лейтенант-артиллерист. Весь подтянутый такой. А я - оборванец в прожженной телогрейке, обувка разваливается. Спрашиваю его:
- Вы меня?
- Да, да!
Я подошел к нему. Лейтенант начал меня расспрашивать, кто я и откуда. Я ему рассказал. Он говорит:
- Я сам из Днепропетровска, тоже пытался тут своих найти.
Поговорили мы с ним. Вдруг он лезет в карман, вынимает пачку денег и говорит:
- Возьмите!
- Да вы что!
- Возьмите. Я вижу, что вы в тяжелом положении. А мне деньги не нужны. Я на полном довольствии, а аттестат послать некому.
Я подумал, и взял. В самом деле, я же не побирался, а он сам мне деньги предложил. Сумма была довольно большая, но тогда деньги уже начали терять свою стоимость. Лейтенант оставил мне адрес своей полевой почты и даже назвал свой днепропетровский адрес. Потом мы долго переписывались. Понятно, что он не мог мне сказать, где воюет, а я не мог его спросить. Переписка продолжалась с полгода, а потом на одно из моих писем ответа не последовало. Что с ним стало, я не знаю. Вот такие были люди.
С деньгами в кармане я пошел в военкомат, чтобы записаться добровольцем. Почему так решил? Подумал:
- Денег у меня пока хватает, но они кончатся. Никого в Саратове у меня нет. Воевать все равно буду. Следовательно, почему бы не пойти сразу в армию?
Попал на прием прямо к военкому и начал излагать ему свою историю. Рассказал, что я закончил аэроклуб и если меня нельзя отправить в училище, то пусть хоть куда-нибудь направят, потому что хочу защищать Родину. Военком отвечает:
- Я просто так вас направить никуда не могу. Устраивайтесь на работу, определяйтесь с местом жительства и ждите планового призыва в армию.
Военком мне дал совет: за Волгой пустая земля. Всех поволжских немцев выселили. Урожай на полях, а убирать некому. На том берегу есть двухэтажный дом. Там набирают людей для работы в сельском хозяйстве.
Что мне оставалось делать? На каком-то катере я перебрался через Волгу и меня тут же, с радостью записали в этот самый колхоз "Ротер Штерн", которых находился в 52-х километрах от Саратова. Как-то я до него добрался, и меня заселили в один из немецких домов. Там уже жили ребята и девчата из Саратова, примерно мои ровесники. У нас сложился очень хороший коллектив. Вместе мы учились разжигать немецкую печку с двумя казанами. Растапливать ее очень сложно. Кормили нас просто и сытно: давали по караваю великолепного хлеба, литра три молока, муку, картошку и семечек сколько хочешь. Мы делали лапшу, варили в молоке. В общем, жили неплохо. Работать меня назначили ночным конюхом. А я сроду с лошадьми дела не имел. Когда коней приводили с работы, я чистил их, убирал, да и ночевал прямо в теплой конюшне.
Не обошлось без приключений. Жил с нами Мишка с Украины. Как-то раз говорит мне:
- Давай сбежим отсюда и поедем в Ташкент - город хлебный.
Ну, авантюризма во мне было еще много, я и согласился. Добрались мы до городка Пугачев. Там я встретил еврея, с которым работал в Орше на заводе. Его, кстати, арестовали там за то, что он, якобы, подавал сигналы ракетами. В Пугачеве он работал по продовольственным поставкам. Он нас накормил и сказал, что в Ташкент не проехать: на дорогах заслоны и могут арестовать. Пришлось нам возвращаться. Тут Мишка говорит:
- Давай в Ивантеевку. У меня там сестра с Украины эвакуированная живет. Поищем ее.
Добрались до Ивантеевки. Оказалось, сестра была, но куда-то уехала. Нам там кто-то дал денег, и мы вернулись окончательно. Встретили нас недружелюбно и даже обозвали дезертирами. Но кормить кормили. Прожил я после этого в колхозе с неделю, и тут пришла повестка на меня и еще несколько человек. Тем колхоз дал с собой хлеба, другой еды, а нам с Мишкой - фигу.
Погрузили нас в Саратове в эшелон и куда-то повезли. Ехали мы в телячьих вагонах, оборудованных нарами. Холод был страшный. Приходилось все время топить печку, иначе замерзли бы. Поворачивались по команде - 32 человека ехало - так было тесно. Обмундирования никакого нам не выдали, кто в чем был, в том в вагон и залез - все в рванине. В общем, ехали мы, как потом выяснилось, месяц. Кстати, на фронт потом мы ехали всего десять дней. По дороге нас кормили на станциях, на пунктах питания. Останавливаемся, нас ведут куда-то, а там уже стоят кружки и пайки хлебные. Мы тогда научились косить пайки: хватаешь незаметно несколько, пока все не пришли. Приходит вторая очередь. Хлеба не хватает - поднимают шум. Тогда приносят еще. В общем, никто не голодал, хотя есть хотелось все время - молодой организм требовал еды.
Таким образом, мы доехали до Дальнего Востока. Выгрузили нас на станции, отвели в какую-то стрелковую часть. Для начала нас всех построили, кто в чем был. Я умудрился отморозить большой палец ноги, поскольку ботинки были порваны, да и носки тоже. Потом помыли, обстригли и одели: дали бушлаты, брюки-галифе, обмотки и ботинки. И буденовки - суконные шлемы. Был страшный холод - мороз 43 градуса. Кормили нас точно хуже, чем в лагере. В столовую мы ходили строем и раздетые - в гимнастерках, но обязательно при головном уборе. При этом, уши на буденовках опускать не разрешали. Некоторые обмораживались, а вот простудившихся, как ни странно, было очень мало. Мне, пока раздувшийся палец не зажил, давали освобождение от службы. Придем в столовую - команда: "Головные уборы снять"! Снимаем, садимся, столы уже все накрыты. На вкус пища была очень неплохая, но порции совершенно недостаточные. Казармы были одноэтажные, бревенчатые и холодные. Одеяла не помню, были или нет, но точно укрывались шинелями. Утром полагалось за три минуты одеться, застелить койку и построиться в промежутках между койками. И, не дай Бог, обмотку упустишь! Раз, и раскатилась. А она длиной два с половиной метра! Обмотки, кстати - хорошая вещь. Теплые очень, двойные, из хлопчатобумажной ткани. Наматывались они выше голенища ботинка и шли до колен. Получалось такое эрзац-голенище, намного более теплое, чем у сапога. Потом начальство учло, что все-таки холодновато и приказало выдать нам серые такие шерстяные подшлемники. А сверху уже надевали буденовки. В комплексе, особенно если еще и буденовку развернуть, все это было теплее, чем ушанка, потому, что, во-первых, настоящая шерсть, а во-вторых, прикрывало шею и даже немного грудь.
А служба была очень тяжелая. На тактические занятия выгоняли на четыре часа в тайгу. А там снег, хорошо, если по пояс, солнце сияет и мороз такой, что все трещит. Нам командир, лейтенант, добрый попался. Отведет нас подальше, приказывает развести костер. Мы разводим - огонь выше леса и сидим вокруг, вместо того, чтобы по снегу скакать. А так, обычно стреляли, бегали куда-то короткими перебежками, ползали. Сложно даже сформулировать, чем мы там в снегу занимались. Чаще всего просто сидели у костра и ничего не делали. Месяца через полтора-два после прибытия на эту станцию, в феврале или марте 1942 нас, уже полностью обмундированных, построили и часть народу, в том числе и меня, отобрали в Куйбышевское военно-пехотное училище, на пулеметную специальность. Думали, что повезут нас в Куйбышев, который теперь снова Самара, но ошиблись. Речь шла о Куйбышевке-Восточной. Теперь он называется Белогорск. Оттуда до Благовещенска железнодорожная ветка - меньше ста километров. Там было очень тяжело. Вроде бы и южнее, но дикий ветер. Теоретическая программа в училище была очень ограниченная. Готовили из нас командиров пулеметного взвода. Уставы, политзанятия. Ходили на стрельбище, таскали на себе пулеметы. А что такое пулемет "Максим"? Это 72 килограмма массы. Он разделяется на три составных части: тело пулемета - 24 килограмма, станок - 32 килограмма, щит - 8 килограмм и два патронных ящика - по 8 килограмм. До стрельбища - семь километров. Прешь все это на горбу, плюс еще винтовка и противогаз. Станок, хотя и самый тяжелый, но его вешали на шею. А вот тело пулемета приходилось тащить на плече, как бревно. Бывало, возвращаемся в казармы, 14 километров отмахав, и тут команда: "Песню запевай"! А все молчат. Тогда командуют "Бегом марш"! И бежим с этим грузом. Стреляли мы довольно много. И одиночными, и очередями. Но патроны считали и за каждый отчитывались. Кормили лучше, чем в части, но тоже маловато. Курева не было. Я тогда не курил, но многие от его отсутствия просто страдали. Осьмушка табаку стоила 400 рублей, а жалование по курсантской ставке было 90 рублей. Мы ее даже на фронте получали. Курить я начал году в 1944, под Яссами. Мы тогда ждали немецкое наступление. Обстановка была очень напряженная, нервная. Кормили тогда уже до отвала. Вот сидишь в окопе, жрать не хочется и куришь.
Но мы не доучились. Было лето, оставался месяц до присвоения нам звания "младший лейтенант" и вдруг нас поднимают и устраивают марш-бросок. Шли мы через сопки. Местность красивейшая и пришли в Ленинск-на-Амуре. Деревенька маленькая, зато Амур - гигантский. Приехали мы на фронт, выгрузили нас, курсантов в чистом поле, кажется, где-то на Брянском фронте и куда-то повели. Даже сейчас не представляю себе, где это было. Деревню надо бы найти Скляево. Первое Скляево, Второе Скляево, но где это - черт его знает. Куда нас вести командиры знали, а мы нет. Только слышно, что стреляют. Солдат, кстати, почти всегда ничего не знает, поскольку военная тайна. Даже грамотный солдат. Что уж говорить про тех, кого ничего не интересует. У меня лично был природный интерес, всегда пытался выяснить, что куда и зачем, а основная масса просто шла, куда вели, и делала то, что скажут. И вот идем, а кругом валяются патроны. Мы за каждый в тылу отчитывались, а тут они прямо на земле. Бросились их скорей собирать, а их тьма! Подбегаю к командиру взвода, мол, патроны валяются, государственное имущество! Он меня похвалил, но особого интереса не проявил. Наверное, был не совсем глупый мужик, хотя на фронте до этого и не был. Вообще, из нашей курсантской бригады воевал только ее командир - полковник. У него орден Красной звезды был. Вскоре я понял, что патронов можно набрать хоть миллион. Везде валялись. Проблем с боеприпасами никогда не было. Тут же я убедился, что наши командиры тоже ни хрена не знают. Меня вызывают и приказывают:
- Иди в тот лесок и сообщи, что мы прибыли.
Я бодро пошел, куда сказали. Иду, смотрю, слева от меня солдаты в окопах сидят. Вдруг какой-то дикий шум. Я, хотя еще не воевал, но уже не совсем дурак, бряк на землю. Слышу, в окопах хохот. Я приподнялся и вижу, что через меня по небу летят ракеты. Откуда-то била "Катюша" и этот звук меня напугал. Иду дальше. Тут начинается обстрел из минометов. Вокруг меня начали шлепаться мины. Солдаты мне кричат, чтобы я к ним в окоп спрыгнул. Спрыгнул, спросили куда иду. Сказал, что в тот лесочек, доложить о прибытии.
- Ты что, - говорят, - там же немцы!
Пришлось возвращаться. Нашел своих, и доложил, что в лесочке немцы. Не туда меня послали. Страха при этом, никакого у меня не было. Страшно стало, когда выписали из госпиталя, и нужно было снова идти на фронт. Вот это был страх! Потом, после приезда на передовую, дня через три-четыре, все приходило в норму. Обычная жизнь. Стреляют, убивают, но на это не обращаешь внимания. Человек ко всему привыкает.
Из нашего училища и из других училищ Дальнего Востока образовали две курсантские стрелковые бригады - 250-ю и 253-ю. Одна, в которой оказался я, попала на Брянское направление, а другая - в Сталинград. Дело было примерно в июле 1942 года.
Не могу сказать, что на участке, на который я попал, шли сильные бои. У нас просто переводили живую силу. В том смысле, что не умеющие воевать командиры вели людей на гибель. Какие-то абсолютно неподготовленные наступления местного значения. Мы шли вперед на немцев и не знали, что у них там, какая оборона, сколько их, что нам вообще делать. Команда была такая: идите вперед, там ДЗОТ, уничтожьте его. Где он? Как к нему подходить? Никакой разведки вперед не отправляли. Понятно, что вся отправленная группа уничтожалась. До того, как меня ранило, я один раз был в бою, в котором мы потеряли половину личного состава, ранеными и убитыми. Собственно, это даже не бой был. Нам приказали сложить шинели и двигаться налегке. Больше я свою шинель и не видел. Мы ползли на передовую, а где она даже командиры не знали. Помню, что мы ползли через ржаное или пшеничное поле, днем. Поле спускалось вниз, а немцы сидят в укреплениях на пригорке, видят нас и расстреливают. А мы не знаем, куда ползем. Точнее, знаем, что ползем вперед. Доползли до окопов. Просидели в них дня три или четыре, а потом нас сняли и перевели в другое место. Там собрали команду - человек сорок, придали нам саперов, на случай если мины попадутся, назначили командира - младшего лейтенанта и приказали уничтожить ДЗОТ. Половина группы - казахи, которые вообще ничего не понимают. Ну, мы и полезли через сухой бурьян. Был, наверное, уже август-сентябрь. Пока лезли по бурьяну, нас видно не было. Ни одной мины мы по дороге, к счастью, не встретили. Потом мы доползли до грунтовой проселочной дороги. Она начиналась на нашей стороне, шла по диагонали и уходила к немцам. Вот как вылезли мы на нее, немцы нас увидели и начали поливать огнем из автоматов, пулеметов, минометов. Окопов, понятное дело, никаких, но было несколько брошенных ячеек. Мы нашли маленькую такую ячейку и сели в нее. Первый номер у меня был Кравцов. Уже немолодой мужик. У него был орден Красного Знамени за КВЖД. Он сел на дно ячейки за пулемет, а я стою над ним, согнувшись, и прячусь за щитком. Впереди кто-то из наших тоже залез в ячейку. Слышим кричат: "Немцы обходят"! Мы начали стрелять из пулемета. Было видно, как пули попадают в брустверы и от них отлетают комья земли. В этот момент бумс слева - в казахов попал снаряд или мина (потом я понял, что нас просто забрасывали гранатами - расстояние до немцев было всего метров тридцать). Видно кого-то ранили, они повыскакивали и орут чего-то на своем языке. Вообще, у азиатов, особенно необстрелянных была такая особенность. Ранят кого из них, или убьют, они соберутся кучей и начинают орать. Понятно, что немцы в эту толпу стреляют. У нас тоже гранаты были, но мы-то не знали, где немцы прячутся. Может быть, они нас и обходили, но наш пулемет из остановил. А мы стреляли просто по указанному направлению, водили стволом туда-сюда. "Максим", что ни говори, хороший был пулемет. А в кучу казахов прилетел-таки снаряд и, кажется, всех их там положил. Тут наш пулемет заело. Ленты - хлопчатобумажные, а патроны в ней набиты неровно. Была даже такая машинка, чтобы патроны в ленте равнять. Потому. что может получиться перекос. С правой стороны пулемета ходит такая ручка. По ней нужно бить, чтобы патрон дослать. Потом, когда я уже раненый полз, чувствую, рука болит. Посмотрел, а она до кости сбита. Я, когда ею по пулемету лупил, ничего не ощущал. Вроде, снова стрельбу наладили. Боковым зрением вижу, что метрах в пяти от меня катится камень. Катился, катился и вдруг исчез. Потом я понял, что это была немецкая граната, и я видел, как она взорвалась. Но эта граната меня не повредила. Зато ранила другая. Вероятно, она взорвалась сзади. Удар был совершенно безболезненным, как будто лыжной палкой ткнули. Я рану, скорее, понял, чем почувствовал. А осколок тот до сих пор во мне сидит. Кравцов все это время стрелял и вдруг осел на дно ячейки. Я ему ору: "Стреляй"! А он в ответ мычит: "Не могу". Я ему: "Стреляй, ёб твою мать"!!!, А он: "Не могу. И затих совсем. Тогда я над ним, точнее, на нем устроился и сам начал стрелять. Второго номера нет, досылаю патроны сам, луплю по рукоятке и думаю: "Какого хрена я тут делаю, стреляю, черт знает куда. Я же ранен и имею право выйти из боя". Но пострелял еще. Потом наступило затишье, и я понял, что действительно нужно как-то отступать. А куда ползти - непонятно. Когда ползли, кроме бурьяна ничего не видели. Побежишь, немцы или убьют, или к ним попадешь. Но как-то сориентировался. Сначала пополз, а потом решил: была не была: Двум смертям, как говорится, не бывать, а одной не миновать. Вскочил и побежал. Пробежал - падаю, отползаю метра на три-четыре в сторону, чтобы на мушку не взяли. Опять вскакиваю, и бегу. О минах я не думал, впрочем, они мне и не попались. В какой-то момент я понял, что спустился в низину, где были наши позиции, а пули уже свистят надо мной. Попал я в мертвую зону, где можно было идти в рост. Пошел к нашим окопам. По дороге нашел мертвого немца, решил, было, в нем покопаться, но потом плюнул на это дело. Из всей группы остался жив только я один и, вроде еще кто-то раненый вернулся. За три дня в этом месте извели таким образом три батальона. Ничего не достигли, а народу положили много. Вот такие у нас были наступления.
Добрался я до своих, завалился в землянку, в которой уже лежали раненые. Спину немного жгло, но орать или стонать необходимости не было. Немцы вели обстрел, и мы гадали, попадет в землянку снаряд, или нет. Санинструктор - какой-то азиат сделал мне перевязку. Кто-то пришел и спрашивает: "Ребята, есть хотите"? Я попросил, чтобы мне дали котелок. Начал жевать и вдруг чувствую за ухом, с правой стороны страшную боль, которая отдавалась в челюсти. Пощупал - запекшаяся кровь. Осмотрел гимнастерку - воротник в кровище. Оказалось, за ухом у меня крошечный осколочек, меньше спичечной головки, прямо под кожей. Жить он не больше не мешал - быстро инкапсулировался. Вынула его жена лет через десять, когда он сам почти вышел на поверхность. С наступлением темноты нас увезли на подводе. Днем этого сделать было нельзя. Все простреливалось, а никаких ходов отрыто не было. Это потом уже ходы сообщений уходили в тыл, по нескольку километров идешь внутри окопа. Все зависело от того, насколько стационарной была оборона. Если останавливались надолго, то зарывались в землю. Земли за войну наворотили ужасное количество. Когда меня второй и последний раз ранило, я летел из одного госпиталя в другой на самолете "По-2". Летели мы довольно низко, и я наблюдал сверху землю. Все изрыто.
Увезли нас на подводе. Со мной был еще один боец. У него было тяжелое ранение - перебита нога. Привезли в какую-то деревню, а там медсанбат. Попросил ездового, чтобы он сходил, сообщил, что раненых привез. Он возвращается, говорит, не принимают, так как мы не из той части, которую они обслуживают. У меня с собой был то ли пистолет в кобуре, то ли автомат, не помню. Мне-то, в общем, ничего, а парень просто кровью истекает. Говорю ездовому: "Скажи им, если они нас сейчас не примут, я их к чертовой матери перестреляю". Помогло, сразу прибежали, приняли нас. Я про того парня потом спросил, как он. Сказали, что перевязали его, но большая потеря крови.
- Так перелейте, - говорю.
- Нету, отвечают, - крови.
В общем, не знаю я, что с тем раненым стало.
Потом был целый ряд госпиталей. Перевозили из одного в другой. Помню, была какая-то церковь около Задонска, потом какой-то монастырь в лесу. А оттуда меня перевезли уже в Тамбов. Все подходящие здания этого города были забиты ранеными. Госпиталь на госпитале. В здании автотехникума я провалялся около двух месяцев. До того, как попал в госпиталь, я так и числился курсантом. Хотя, никаких документов на этот счет у меня не было, продолжал получать курсантскую ставку. Но когда попал в госпиталь, курсантство мое закончилось и я оказался простым красноармейцем. В один из дней пришел в госпиталь како-то солдат спрашивает: "Кто тут Синявский"? Я отозвался. Он говорит: "К тебе сестра приехала", а я его послал матом в ответ. Но он клянется и божится, что это - чистая правда. Пришлось мне вставать с койки и идти в коридор. А там - Наталья. В петлицах три кубаря - старший военфельдшер. Первое родное лицо за всю войну. Оказывается, она связалась через Москву с дядей. Он был в Севастополе, но уже в ноябре 1941 вернулся оттуда без ноги. Я написал ему письмо и Наталья в то же время. Он ей и сообщил адрес моей полевой почты, а Наталья разыскала меня в госпитале. Она отпросила меня на улицу. Мы с ней ходили по Тамбову. У Наташи было золотое кольцо с отломанным камешком. Его мы обменяли на буханку хлеба.
В ноябре меня и еще несколько красноармейцев выписали из госпиталя. Не помню, как, но мы добрались до небольшого городка Усмань, Воронежской области. Там расположен огромный лесной массив - Усманский лес. Не знаю, какую он площадь занимает, но выглядит впечатляюще. Вот в этом лесу находился запасной полк. Туда направляли солдат, прошедших излечение в госпиталях. Офицеров направляли в ОПРОС - отдельный полк резерва офицерского состава, а нас в такие полки. Оказалось, что весь лес изрыт. Землянка на землянке - гигантские, на сто, двести человек. Огромный подземный город. Там мы и поселись. Прожил я там недолго и совершенно не запомнил никаких бытовых деталей. В один прекрасный день приехали "покупатели". Нас выстроили. Было много народу. Выступал замполит. Он рассказал нам, что формируется особая часть, правда, какая не говорил, что все будут орденоносцами. Рядом со мной стоял старшина, с которым мы выписались из госпиталя.
- Давай, - говорит, - хуже, чем в пехоте, нигде не будет.
Сделали мы три шага вперед, и попали в это таинственное подразделение. Пришли в Усмань и узнали, что служить будем в 191-й ОФОР - отдельной фугасно-огнеметной роте. Поскольку я имел среднее образование, я сразу и попал в штаб. Образованные люди тогда очень ценились. Это я понял еще на Дальнем Востоке. Рота находилась в процессе формирования, людей искали по запасным полкам, а я был писарем. Прошло какое-то время и командование решило заменить старшину роты. Не знаю, в чем он провинился, но на его место назначили меня. Я отнекивался, мол, не моего это ума дело, но меня заверили, что все получится. Пришлось впрягаться в новое и непонятное дело. Понятно, что старшина роты отвечает за все хозяйство. В его ведении находятся и лошади, кормежка, обмундирование. Когда в роту пришли машины, я и за них нес ответственность. Повар и кухня также находились в моем подчинении. С самого начала пришлось мне поездить по ДОПам. ДОП - это дивизионный обменный пункт. Всю бухгалтерию вел Юрка Луканин. Он был властью законодательной, а я, соответственно, исполнительной. Мне выписывали лист-требование. С ним мы приезжали на склад и получали все, что нам было положено. Все продовольственные нормы я быстро выучил наизусть. Замечу, что они были вполне приемлемые, но при одном условии: на складе все есть. А бывали случаи, что приедешь на склад, а там ничего нет. То есть, что-нибудь всегда было, но вот что с этим что-нибудь делать не всегда было понятно. На такой случай существовали, так называемые, нормы замены. Нет мяса - получаешь соответствующее количество рыбы. Нет картошки - дают крупы, сколько положено. Был со мной совершенно дикий случай. Нашу роту уже переформировали тогда в отдельный батальон. Приехал я однажды на склад, а там только крабы. Крабы! Металлические баночки по 224 грамма. На них написано "CHATKA". Больше ничего нет. Стою и думаю, брать или не брать. Если не взять, то вообще ничего не привезешь. Если брать, что мы с ними будем делать? Мы в это время уже наступали и везли с собой кое-какой запас, да еще и гнали стадо овец. В общем, взял полную машину. Большинство солдат - деревенские, в основном, неграмотные. Они вообще не знали, что такое крабы и есть побоялись бы. Зато офицеры обрадовались как дети малые. Увидели, что я привез, и кричат: "Жора, это ж самая лучшая закуска"! А крабы в баночке были завернуты в бумажку, в собственном соку. И когда выпиваешь стакан, нужно было изловчиться и запить спиртное этим соком. В общем, на кухню эти крабы так и не попали. Да и что с ними делать? Это не еда. Солдат крабом не насытится. Так что кормили бойцов бараниной из того самого стада. Зато офицеры питались настоящими деликатесами.
В то время уже был опубликован знаменитый Приказ Наркома обороны № 227 "Ни шагу назад". Я, к сожалению, совсем не помню, чтобы до нас, курсантов его кто-то каким-то образом доводил. Уж точно, по поводу ознакомления с ним мы нигде не расписывались. Были, конечно, какие-то разговоры о заградотрядах и об остановке бегущих с поля боя, но я с такими вещами ни разу за всю войну не встречался. А вот штрафников повидать приходилось. Они делились на две категории: существовали штрафные батальоны и штрафные роты. В первую направляли командиров, а во второй - нижних чинов. А попадали туда по совершенно разным причинам. Например, уже во время нашего всеобщего наступления в конце войны, немцы по дороге оставили много венерических заболеваний. Естественно, передавались они и нашему брату. У нас такой был порядок: подцепит кто-то из офицеров это дело, его на излечение в штрафбат. Он там повоюет немного и, если остался жив или получил ранение - реабилитируют. Штрафники часто получали сложные задания. Один из их боев я видел лично. Когда мы находились под Яссами, у самой границы, недалеко от Прута там течет речка Жижеа. В наших порядках появилась штрафная рота. Ей дали задание взять одну высотку. От Ясс поднимается такая наклонная плоскость. Как раз над Жижеа она обрывается. Внизу видна вся равнина и эта огромная ступень нависает над ней метров на 250. А на той наклонной плоскости была еще высотка, на немецкой территории. Вот эту высотку штрафникам и приказано было взять. Не знаю, кому и зачем она была нужна. Тем не менее, рота пошла. Единственно, о чем они попросили перед атакой - не давать никакого огня, чтобы не выдать их и не вызвать соответствующую реакцию с немецкой стороны. Они взяли в зубы ножи, было у них и стрелковое оружие, разумеется. Незаметно подползли к окопам, залезли в них и пока немцы разбирались, что к чему, перерезали их и заняли высоту. Сидели они там целые сутки. Как только немцы поняли, что у них в тылу произошло, они начали эту высоту отбивать. Обстреливали ее из минометов, пулеметов. Дело было летом, день длинный. И пока было хоть чуть светло, штрафники отбивались. А, к ночи, те из них, кто остался жив, не больше трети от первоначального состава, вернулись в наше расположение - все черные от пороховой гари. И всех реабилитировали. Своей цели они добились, приказ выполнили. Не знаю, зачем они были должны брать высоту. Со стратегической точки зрения это точно не имело смысла, с тактической, может, были соображения, о которых я не знаю. Скорее всего, просто послали людей взять высоту. В основном, в штрафротах были уголовники - жулики, бандиты. И все они были патриотами. Предателей среди них не бывало. И хотя их за их деяния, как говорится, приветили, они сохранили к стране, к государству патриотическое чувство. А в штрафбатах, видимо, режим был помягче. Некоторых даже отпускали на побывку в свои части. Побудет пару дней с нами и снова в штурмбат. Был у нас начальник боепитания, старший лейтенант. Вот он, как раз, подхватил на одной даме венерическую болезнь. Обратился, естественно за лечением. Это дошло до начальства, и оно его отправило лечиться в госпиталь, а потом и в штурмовой батальон. Потом вышел приказ лечить при части, поскольку зараженных, в основном, триппером, было довольно много. Помню такой эпизод. Летом 1943 года, под Харьковом тогдашний командир нашей роты Виктор Иванович Катуков собрал свой совет. На такие заседания он обычно брал меня и моего приятеля Кольку Плохотнюка и писаря Юрку Луканина. Я имел полное среднее образование. Плохотнюк закончил техникум. Юрка тоже закончил школу. Он почти ничего не видел, числился нестроевым, тем не менее, попал на передовую. Комроты брал нас с собой, потому, что мы были люди образованные и могли во многих вопросах помочь ему больше, чем его офицеры. Катуков, кстати, был кандидат каких-то наук, заядлый охотник и при необходимости мог весьма затейливо материться. Иногда он получал письма от жены, в которых та распиналась ему в верности. Н читал все это, брал красный карандаш, писал через весь лист: "Не верю"! Затем, запечатывал треугольник и отсылал обратно. В тот раз ротный выступил перед нами с такой речью: "Что это за безобразие? У нас на сто человек личного состава десять человек больны триппером, в том числе и я"! Как вы понимаете, выступление я привожу в сильно сокращенном виде. Мы после такого откровения от хохота просто под стол попадали. Вот такой был человек Виктор Иванович Катуков. Когда нашу роту переформировали в батальон, ему предложили стать начальником штаба и подчиняться непосредственно комбату. А комбатом у нас был человек, не хочу называть его фамилию, имевший всего семь классов образования. Каким-то образом, он дослужился до подполковника и получил под команду отдельный батальон. Это был до крайности ограниченный человек. Катуков, как узнал, что ему предлагают, говорит: "чтобы я какому-то говнюку подчинялся? Нет"! И ушел из батальона. Уже после войны он был начальником спортивно-охотничьего отдела Киевского военного округа.
Пока шло формирование, мы учились обращаться с нашим новым оружием - фугасными огнеметами (ФОГ). Грубо говоря, это газовый баллон, литров на 50. Внутреннее устройство у него как у пульверизатора для дезодоранта. Только вместо кнопки, на которую нужно нажимать, сверху наворачивался металлический стакан. В него вставлялся, так называемый ПАД (пороховой аккумулятор давления). К нему были подсоединены провода. Если нужно взорвать ФОГ, крутили подрывную машинку, которую обычно устанавливали метрах в 150. Патрон срабатывал, в баллоне создавалось давление. Потом выбивало мембрану в сопле, и из него мгновенно выбрасывалась мощная струя вязкой жидкости. На выходе, одновременно с ПАД, загорался пороховой заряд, который запаливал эту жидкость. Огонь вылетал из баллона с каким-то жутковатым ревом. Струя била метров на 70. А поскольку ФОГов мы закапывали по нескольку штук, они создавали мертвую зону, в которой сгорало все, что могло гореть, да и не могло тоже. Ячейки с ФОГами мы зарывали на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Получалась сплошная завеса огня. Мы принадлежали к химическим войскам. Рота наша была отдельная. Это означает, что она никому конкретно не подчинялась, кроме командования армии, а придавалась полку или дивизии по необходимости. Позже ее переформировали в 27-й ОПТОБ - отдельный противотанковый огнеметный батальон. Существовали еще РОКСы - ранцевые огнеметы. Слава Богу, с ними я дела не имел. Работа наша выглядела жутко: струя пламени, клубы черного дыма. Зарывали мы огнеметы глубоко в землю, так чтобы чуть торчало сопло. Нужно было так рассчитать, чтобы струя била в нужном направлении. Ну, а если наступление, то выкапывали баллоны, и, снаряженными, везли с собой. ФОГ весил килограмм 60-70, мы перетаскивали их вдвоем. Молодые были, сильные. Поскольку я был старшиной роты, то ездил за продуктами, и иногда приходилось возить сахар. Подъезжаешь к пакгаузу. Мешок взвешивают: 100-103 килограмм. Сам взвалить на плечо я такой мешок не смог бы. Поэтому, подходили к штабелю, и кто-то сверху на тебя его укладывал. Сгибаешься под его тяжестью и идешь. Держать мешок не нужно, смысла нет. Он сам на тебя давит. Хорошо, если еще песок, а могли нагрузить и кусковой! От него даже следы потом оставались. Несешь на себе мешок, и надо спуститься на четыре-пять ступенек. Это было самое страшное, потому что всю массу приходилось хоть и ненадолго, но перемещать на одну ногу.
Наконец, роту нашу укомплектовали и поехали мы под Воронеж. Высадили нас на станции Масловка, в 12 километрах от города. Рядом река то ли Ворона, то ли Воронеж. Там мы заняли оборону. Правый берег реки был очень высокий. Наверху сидели немцы, а мы сидели внизу. Зима, конец 1942 года. Немцы облили эту гору водой. В декабре шел бой местного значения. Мы стреляли в немцев, они в нас. Солдаты, которые не находились непосредственно в окопах, жили в самой Масловке, в домах. Было очень холодно, окна заткнуты соломой. Спали мы, напялив на себя все, что только можно, чтобы согреться. И как-то ночью я почувствовал, что на меня летят осколки стекла и солома. Вскочили, выскочили на улицу. Смотрим - из всех домов тоже люди выбежали. В чем дело? Ничего не понимаем. Оказывается, на станции, которая немцами простреливалась, взорвался эшелон с боеприпасами - минами, снарядами. Был страшный взрыв. Но поезд взлетел на воздух не весь. Вагоны чередовались. Несколько с боеприпасами, несколько с какими-то грузами. В этом эшелоне был сахар. Это я знаю точно, потому что мы потом на горбу мешки оттуда таскали. Мешки весили 100 килограмм. Понятно, что такой не уволочешь. Так мы их дырявили, высыпали излишек прямо на снег, а сколько могли, волокли к себе. Охраны никакой не стояло, так что была у нас сладкая жизнь. На месте взрыва образовалась огромная яма, метров 60-70 в диаметре. Вот так мы прожили до нового, 1943 года, а в январе началось наступление. Движение пошло справа от нас, из района Воронежа. Вероятно, наступление шло успешно, зашло немцам в тыл и в одну из ночей они с нашего участка удрапали. Встаем утром. Тишина. Никакой стрельбы. Получаем команду: двигаться вперед. А куда идти, черт его знает. Войска ушли, связи нет. Мы в тот момент были приписаны к 100-й стрелковой бригаде. Вызывает меня командир роты и говорит: иди вперед и ищи нашу главную часть. И я первым полез на эту гору. Один, с винтовочкой. Забрался в немецкие окопы, полазил по ним. Повсюду валялись огромные соломенные чоботы, в которые они становились, чтобы не замерзнуть. В землянках стояли печки, куча всякого брошенного барахла. Потом, по глубокому снегу я прошел километров пятнадцать или двадцать и нашел штаб бригады. Начальником штаба был еврей, не помню его фамилию. Он очень хорошо говорил по-немецки. Только я пришел, прибегают мальчишки и кричат:
- Дядя, дядя! У нас немец спит.
Минут через пять его привели. Молодой парень, рыжеватый детина, выше меня ростом. Прямо на улице посадили его на бревна, и он начал быстро-быстро лопотать. Я в школе немецкий учил, поэтому кое-что понимал. Немец говорит:
- Майн фатер вар руссиш эмигрант (Мой отец был русским эмигрантом).
Начштаба ему отвечает:
- Дизе мир зер вениг интерессирт (Это меня мало интересует)
Оказывается, этот немец, кстати, первый живой немец, которого я видел так близко, уснул на печке и проспал момент, когда его часть ушла из деревни.
Мне указали направление, куда нам положено будет выйти, и я пошел обратно. А она уже шла прямо по моей тропинке, только уже протоптали настоящий тоннель. Потом вышли на тропу, которую протоптала вся бригада. Смотрю, тот самый немец в снегу валяется. Пристрелили его из автомата, раздели и бросили. Погиб бесславно. Война есть война. Никуда не денешься. Таких случаев было много.
Наступление продолжалось. Мы продвигались вперед. Уже в феврале, когда взяли Касторную, там захватили огромные продовольственные склады. Мы вдруг получили водку в бутылках. Это огромное событие - водка в бутылках во время войны. Мы уже даже забыли, что такое бывает. Обычно, водку привозили в прямоугольных емкостях из нержавеющей стали, литров на 20, как керосин. Оттуда нам "наркомовские 100 грамм" и разливали. А тут привозят советскую водку с этикетками, с пробкой под сургучом. Оказывается, склады в Касторной сначала захватили немцы, превратили их в свою базу снабжения. Надо сказать, что сами они тоже завозили туда продовольствие и спиртное, потому что вскоре у нас появились оттуда ром и разная немецкая еда. Потому, все части старались пройти через Касторную, чтобы поживиться. Вообще, в наступлении кормили хорошо, так что всех больше интересовала водка.
Фронт двигался вперед и мы с ним. Ни в какие бои не ввязывались. Все шло вперед - танки, орудия, пехота. Немцы драпали. Где-то впереди, конечно, были боевые соприкосновения, но, наверное, минимальные, так как немцы, скорее всего, планово отходили на новые рубежи. В какой-то момент мы получили приказ двигаться под Белгород, грузиться на станцию. Времени дали всего два часа. Наше начальство возмутилось, поскольку этого было недостаточно. Хозяйство-то большое было: лошади, машины. Наверху подумали, согласились и приказали добираться своим ходом. И мы поперли на Белгород. Думаю, что это уже был март. Слякотная, мерзкая погода. Уже вечером мы подошли к городу. Слышим, что вперед какое-то столпотворение: стрельба жуткая, идет бомбежка, треск, шум: Командование роты поняло, что лезть вперед смысла нет. А вскоре нам поступила команда убираться в тыл. Мы отступили, в бой ввязываться не стали. Да мы для таких столкновений и предназначены не были. Только людей переведем, да имущество пропадет. Отходили мы километров 30 до станции Чернянка. Там остановились и начали выяснять обстановку. Чуть позже, когда мы уже подошли совсем близко, выяснилось, что там действительно шел тяжелый бой и именно на Северском Донце, в районе Белгорода, остановились наши войска, выбитые из Харькова. В Чернянке мы были довольно долго, до конца апреля, а потом получили назначение в Белгород, в Старый Город. Выдвинулись туда, заняли оборону, и началось сидение. Обычные фронтовые будни. Мы стреляем, они стреляют. Мы бомбим, нас бомбят. Закопались мы здорово. Настроили под домами блиндажи. Когда началось немецкое наступление, это сыграло плохую службу. Обстрел был такой мощный, что дом, рядом с которым упал тяжелый снаряд, сполз вниз, да еще и загорелся. И в блиндаже погибли наши люди. Этого наступления все ждали, но не знали, когда оно начнется. Все перипетии достаточно хорошо описаны в литературе. Теперь я знаю, как было дело, что задумывали противоборствующие стороны, а тогда нам ничего не было известно. Солдат на фронте вообще ни хрена не знал. Знали только одно: дали команду - выполняй ее. Думать было некогда, точнее думать можно было, как уничтожить противника и самому уцелеть. Никто ничего не знал и не понимал, а надо было бы знать побольше.
На Курскую дугу, как потом все это назвали, было стянуто очень много войск. Оборона была выкопана на всех направлениях. Даже если бы немцы прорвались, то наткнулись бы на новую линию обороны. Мы сидели на самой передовой. Если точнее, то те, кто нес боевое дежурство, сидели в окопах, а остальные жили дальше, в тыл, в землянках. Местных всех оттуда выселили, а мы ночами шарились по погребам, искали чего пожрать, что, кстати, немцы до нас тоже делали.
Пятого июля утром началась стрельба. Мы услышали мощный гул. Немцы лупят по нам. Естественно, мы отвечаем. Линия фронта вдруг четко обозначилась. Стена дыма, пыли. Мы находились в расположении части, километрах в пяти от передовой. Забыл, как называлась эта деревня, прекрасное место. И впервые немцы начали стрелять не только по передовой, но и по тылам. Тяжелые снаряды падают недалеко и взрываются, а мне нужно ехать за продовольствием. Тут летит армада самолетов. Мы решили, что сейчас достанется всем - и тем, кто в окопе, и нам. Но самолеты долетели до линии фронта, развернулись и полетели налево от нас, на север, в сторону Орла. Я спрашиваю комроты:
- Что делать-то мне, ехать или не ехать?
Связь тогда еще была довольно паршивая, так что о происходящем мы полного понятия не имели. Командир говорит:
- Езжай. Если что, ты не дурак - найдешь нас.
Я сказал "Есть" и говорю своему ездовому - вагонному мастеру из Грязей, Воронежской области Антоше Ломакину, 1903 года рождения, в стариках у нас ходившему:
- Запрягай, Антоша, поехали!
Ехали мы по совершенно открытому месту, это же тыл наш. И вот по нашей подводе немцы били, с расстояния больше семи километров! Они вообще стреляли по любому движущемуся объекту. К счастью, мы спокойно проехали этот открытый участок и спустились в овраг. Получили на складе все продукты, которые было положено, и сразу отправились в обратный путь. Почти доехали до места, а там уже стоят через каждые 20 метров 76-мм пушки "ЗиС-3", куча военных, хотя раньше кроме нас никого не было. Оказывается, это уже из тыла выдвинулись заслоны и образовали новую противотанковую позицию. Но у меня-то целая подвода продовольствия и мне нужно доставить его своим. Я нашел начальство, доложил, кто такой и откуда. И тут придумал, как аккуратно спросить о моей части:
- Где, спрашиваю, пути отхода 191-й отдельной огнеметно-фугасной роты?
- Не пути отхода, а оборона, - поправляют меня.
В общем, сориентировали меня приблизительно, где моя рота и мы поехали. Заезжаю в какую-то деревню, совсем в другом месте, довольно далеко от того, где мы стояли сначала, и встречаю солдата из роты. Там же были и все, кому удалось уцелеть в бою. Немцы смогли прорвать оборону, прошли километров семь и были остановлены. А нас больше в бой не послали и отвели в деревню Красная Поляна, недалеко от которой размещался штаб 7-й гвардейской армии. Там мне вручили карточку кандидата в ВКП(б). Генерал, который вручал ее, сделал мне замечание, что у меня на пилотке нет звездочки, и велел вырезать е из консервной банки. В этой Красной Поляне торчали мы, наверное, целый месяц. В этой деревне, кстати, жили многие эвакуированные из прифронтовой полосы жители. Частично пополнились, ну и вели боевую подготовку, конечно. А потом поступила команда: двигаться вперед. И рота пошла по восточной стороне Северского Донца на Харьков. Дошли до города и разместились недалеко от тракторного завода. А карты у нас были интересные. Двухкилометровки, мутные синьки, да еще и тракторного завода на них не было! Рядом с тракторным был еще громадный завод "Станкострой", но и его не отметили! А мы по таким картам воевали. Постояла наша рота в Харькове какое-то время, а потом пошла вперед вместе с наступающей армией. И в бой мы после этого вступили уже через год, в Молдавии. С какими-то остановками мы все время двигались вперед и заняли оборону в 12 километрах от Кишинева, в городе Аргееве. Причем, как шли! Остановились - закопались. И никто команды на это не давал! Существовал железный принцип: остановился - сразу закапывайся! ФОГи мы без приказа не ставили, но себе окопы рыли обязательно. Помню, дошли по пути из Харькова до Мерефы. Вышли из леса, и попали на громадное поле, чуть наклонное в сторону железной дороге. На нем было огромнейшее немецкое кладбище. Кресты с касками, все идеально геометрически правильно. Понятное дело, что мы тут же начали сшибать ногами эти кресты. Думаю, что теперь уже там все уничтожено. Таких кладбищ, мы, кстати, встречали довольно много. Наглядное пособие того, сколько погибло немцев. У нас, где убили, там закопали, а у немцев были специальные похоронные команды. На каждом кресте готическим шрифтом выжжен год рождения, дата смерти, фамилия имя. Так вот, в Мерефе произошел такой случай. Приехал начхим дивизии - майор и к командиру роты Катукову, который старший лейтенант и говорит:
- Выставляй роту туда-то.
Достал карту и указал место. Нас собирались использовать как простую пехоту. Катуков отвечает:
- Хрен тебе, а не роту. Взвод выставлю, а больше не дам.
Как я уже говорил, мы числились в составе химических войск и подчинялись напрямую начхиму армии и начхиму части, которой были приданы. Хотя погоны носили общевойсковые, да и знаки, потому что других и в помине не было. Майор начал возмущаться. Тогда Катуков вызывает своего ординарца Миколу Аверковича Плахотнюка:
- Николай, садись в свою таратайку и езжай к полковнику Маевскму.
Маевский был начхимом 7-й гвардейской армии. Умнейший был человек, но совершенно не военный. Кажется, профессор химии. Катуков написал записку начхимарму, а майору сказал:
- А ты сиди и жди!
Майор сел ждать, а Катуков вместе с Николаем поехал на таратайке. Через какое-то время, час или два возвращается и дает майору записку, в которой рукой Маевского было написано: "Роту не трогать":
- На, смотри, ёб твою мать!
Тот начал возмущаться, мол, как ты со мной разговариваешь, да я старше по званию. А Катуков отвечает:
- Я такой же майор, как и ты!
Он был командир отдельной роты, а эта должность соответствовала званию майора. Кстати, именно в Мерефе нашу роту преобразовали, в соответствии с приказом Сталина, в 27-й ОПТОБ.
Итак, мы не воевали почти целый год. Через Днепр переехали по переправе. Повсюду видели мы следы пребывания немцев. Помню, пришли мы в городок Нехвороща, который находится на границе Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей. Переправились через речку Ориль и расположились в деревне. Довольно долго там находились. Деревня была нетронутая. Мужиков не было только женщины, дети и старики. Жили с ними и кормились вместе. Оттуда направились к Днепру, а там что ни деревня - одни трубы торчат. Тогда уже было много освобождено наших военнопленных, но мы с ними никогда не встречались. Вероятно, дело было в том, что шли мы по югу, где лагерей было мало. В строй из плена к нам тоже никто не возвращался, так что с бывшими пленными тогда мне пообщаться не удалось. Зато много я видел много, так называемых "чернорубашечников" или "винницких сибиряков". Это были бывшие красноармейцы, которые попали в окружение еще в 1941 году, вернулись на родину, или были отпущены немцами из плена. Их призывали всех. Возможно, кого-то потом и привлекали к ответственности, но такого, чтобы кого-то арестовали из нашей части, случаев не было. При этом, наша любимая служба работала четко. Как только освобождали населенный пункт, сразу отыскивали бывших старост, городских голов и всяких полицаев. Многих вешали, чему я сам был свидетелем. Стояли мы в Днепропетровской области, в огромной деревне. Я, как всегда, поехал за продуктами. Возвращаюсь уже в темноте. Грязища, ничего не видно. И тут натыкаюсь на сооружение, на котором что-то болтается. Присмотрелся - висит человек. На груди повешенного доска, на которой написано: "Предатель, шпион немецкого гестапо". Дня три он провисел. И относились к этим вещам нормально.
| Интервью и лит.обработка: | Г. Пернавский |