БЛОКАДА (ВОСПОМИНАНИЯ)
(Уствольская Н.М. 1909 - 1986г.)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эти воспоминания написаны уже смертельно больным, но очень мужественным человеком - Натальей Михайловной Уствольской. Листы рукописи, по мере их написания, брала приятельница Натальи Михайловны, тоже блокадница - Похитонова, и, сразу их печатала. Когда рукопись была вчерне закончена, и я читала её своей сестре, мы обнаружили в ней повторы, длинноты и другие редакторские недостатки. Т.е. её надо было отредактировать и заново перепечатать. Кое-что было сделано, но на серьёзную авторскую правку времени не хватило. Натальи Михайловны не стало. Первоначально, я решила ничего не менять и оставить всё, как есть. Но сейчас, приняв решение издать этот материал, текст был минимально отредактирован. К сожалению, на некоторые вопросы, особенно касающиеся людей упоминающихся в тексте, ответить уже некому. Письма, приведённые здесь, а также сама рукопись и записи воспоминаний хранятся в нашей семье. Мне бы хотелось передать их в один из архивов, желательно в Санкт-Петербурге.
Наталья Михайловна, собирала сведения для написания этих воспоминаний, записывала рассказы своих знакомых, тоже переживших блокаду, будучи ещё здоровой. В её планы входило довести эти записки до Дня Победы, но смерть прервала её планы. В какой-то мере, это черновой материал. Кроме того, надо помнить, что оценка событий и лиц с тех пор во многом изменились и со времени написания этих воспоминаний и, тем более, со времени описываемых событий, ведь прошло уже двадцать лет.
Вот об этом я и хотела предупредить будущих читателей.
М.М. Уствольская. 2006г.
Глава 1. Последний счастливый день нашей молодости.
Почти весь июнь 41-года был ненастным. Наша компания - молодых Ленинградских архитекторов, заядлых туристов, любителей неизвестных троп, всю весну мечтало выбраться за город, куда-нибудь подальше с ночёвкой. Например, многим тогда было очень интересно, освоить новые для нашего поколения места на недавно отвоёванном у финнов Карельском перешейке.
Дни становились всё длиннее. Лето постепенно всё больше входило в свои права. Было дивное время белых ночей. К 20-му июня погода налаживалась. И "Фусеки", так называла себя наша компания, стали собираться в поход. Поход был намечен на субботу 21-е июня. Надо не забывать, что тогда был только один выходной день - воскресенье, а в субботу рабочий день был укорочен. Здесь надо представить нашу дружную компанию, члены которой называли себя "Семья Фусек" по первым буквам наших фамилий: Фукин, Уствольская, Сабуров, Ефимович, Катонин, с присоединившимися позднее Лебедевым, Назариным и Пащенко.
Намечено было ехать до станции Раута, теперь Сосново, а оттуда пройти около 20-ти километров до Суванто-Ярви. И вот, светлым, душистым вечером 21-го мы уже шагали своим привычным походным шагом, сверялись с картой, которую раздобыл Серёжа Катонин. Дорога идёт по высокой гряде, внизу виднеются озёра и озерки и дали, дали... Ещё доцветает черёмуха, соловьи щёлкают и заливаются в этих зарослях. Мы, это я и Марьяша, моя младшая сестра, Сергей Катонин, двое неразлучных - Коль, Фукин и Назарин и Коля Лебедев. Остальные Фусеки не смогли выбраться в тот вечер из города. Светлой и тихой северной ночью, дошагав до кого-то безлюдного берега, мы расставили палатки, разожгли костёр. Спать не хотелось. Так было хорошо, красиво, тихо. На следующий день, весёлые и беспечные, радуясь прекрасной тёплой погоде, мы принялись обследовать интереснейшие места: берега озёр, бурные, неистовые пороги Вуоксы. Всюду нам попадались следы недавней войны. Колючая проволока на кольях, извивы траншей, полувзорванные доты, всюду валялись каски. У Коли Фукина долго хранились фотоплёнки того далёкого рокового дня. На пожелтевших и помутневших кадрах виднеемся мы. Мы весёлые, мы беспечные. Вот мы позируем, напялив на себя финские каски. И хохочем, хохочем неудержимо. Вот в тех же касках забрались на поросший травой дот. Мы забавлялись с этими касками, снимались среди следов прошедшей войны и не подозревали, что уже несколько часов, уже почти половина суток, как на нашей земле идёт настоящая, страшная война, что враг вторгся на нашу землю и стремительно продвигается вперёд, сея смерть и разрушение.
Вечером, набрав огромные охапки черёмухи, она уже осыпалась, мы двинулись в обратный путь, никого не встречая по дороге. С песнями вошли в посёлок Рауту. Мне бросилось в глаза, что в толпе уж очень много милиционеров. Какой-то парень подошёл к нашей весело шагавшей ватаге. "Ребята, вы что, ничего не знаете? Ведь война!". И сразу, что-то в каждом из нас оборвалось. Никто из нас не усомнился, что эти слова - жестокая, правда. Что кончилась мирная и по- своему счастливая жизнь, что кончилась и беспечная наша молодость. Но никто из нас не представлял себе, какая это будет война и что ждёт каждого из нас, что ждёт наших близких, наших товарищей. Двое Коль, Фукин и Назарин в ближайшие дни пошли записываться добровольцами в ополчение. Оба были ранены, но оба воевали до Победного 45-го года. Энергичный и изобретательный Сергей Катонин, наоборот, постарался увильнуть от фронта и умер в первую блокадную зиму. Умер в стационаре в "Астории" и доверчивый, слабенький Коля Лебедев. Мы, сёстры, потеряли отца, в разное время были эвакуированы. В Ленинград вернулись к разбитому корыту, потеряв почти всё имущество и квартиру, меньшую часть которой с огромным трудом и значительно позже удалось вернуть. Коля Сабуров воевал, под Лугой был ранен, попал в плен, прошёл немецкие и наши лагеря, которые (наши) превратили этого здоровяка в инвалида. Он умер в конце 50-х годов. Из Фусеков, не воевавших, благополучно уцелели - Федя Пащенко, Надя Ефимович-Платонова и я.
В юбилейном 1975 году 22-ое июня снова было воскресным. И старый друг Коля Назарин приехал по моему зову, к нам на дачу в Рощино, бывшее - Райволово, вспомнить те дни, на зелёных лужайках возле речки Линдоловки, привёз альбомы с военными фотографиями, журналы со статьями, посвящёнными боевым эпизодам и... бутылочку Напариули. Да, было что вспомнить, о чём поговорить. А нынче - в 1985 году...?
Глава 2. Первые месяцы войны
Итак, война оказалась реальностью. Она шла. Люди уже гибли. А сводки! Сводки с фронтов! Они ошеломляли! Враг двигался неудержимо. Каждый спрашивал себя: "А мы? Что же мы? Где же наша доблестная Красная Армия? Как же так?". Ведь мы давно были приучены и привыкли верить лозунгам: "Чужой земли не хотим, а своей ни одной пяди не отдадим!". Да, мы верили нашим советским песням. Ведь вчера мы пели: "Мы войны не хотим, но себя защитим..". или вот ещё:
"Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны".
И главное, мы привыкли верить товарищу Сталину, во всём полагаться на него, верили в его дальновидную политику. А теперь, в эти дни, Сталин, тот, с чьего имени, каждое утро начинались радиопередачи, чьё имя стояло всегда на первой странице любой газеты или журнала, он наш вождь, наш великий кормчий молчал, а по радио раздражающе гремели самые мажорные марши. Сталин молчал целых 12 дней, до 3-го июля. 3-го июля, наконец, по радио раздался голос Сталина. Какой голос! Какое обращение к народу: "Братья и сёстры..".
Да, это были слова серьёзные, честные, братские. Такие именно слова, каких все ждали. Сталин нашёл в этом своём обращении самый верный тон. Ему поверили.
Все поняли, что эта война, так подло, так жестоко, в нарушение всех договоров, навязанная нашей стране фашистами, не "Блицкриг", это кровавая война, война надолго, и всю жизнь теперь надо перестраивать для войны.
Всё-же, в начале лета Ленинградцы не подозревали, что немцам удастся приблизиться к городу, да ещё так быстро. "Все считали, что вот-вот произойдёт перемена" - написал в своей книге "Силуэты блокады" бывший тогда главным архитектором города Н.В. Баранов. "Настроение было бодрое". Стало казаться, что главная, реальная опасность Ленинграду будет грозить с севера. Для Ленинграда угроза со стороны финнов была неожиданной, ведь совсем недавно, на обстоятельном докладе председателя Горисполкома т. Попкова, во дворце труда, на вопрос о поведении финнов, он ответил: "Пока - спокойно. Ещё вчера Финляндия приняла от нас два эшелона пшеницы, полагающихся им по договору"! Пшеницы! Вывезенной с Ленинградских складов! А через четыре дня после вторжения немцев и Финляндия объявила нам войну. Военные действия на севере начались 2-го июля. Всё то, что полтора года назад, страшной морозной зимой 39-го - 40-го года было отвоёвано у Финляндии ценой страшных жертв и кровопролития. Когда наша армия впервые познакомилась "на деле" с западной техникой и оснащённой этой техникой "Линией Маннергейма" с дотами и дзотами. Когда мы отобрали у финнов назад г. Выборг и вообще Карельский перешеек, мы вновь теряли эти земли, отступая к прежней с финнами границе. 2-го июля вышел приказ о всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне, были созданы штабы МПВО, а при каждом жилом доме - бригады МПВО из его жильцов. Я вошла в противохимическую бригаду, что, как оказалось на деле, к счастью, не пригодилось. В подходящих для устройства бомба и газоубежищ подвалах зданий, будь то общественные, жилые и даже церкви, под которыми, к стати сказать, были великолепные подвалы, начали оборудовать убежища и санпропускники. А в садах и скверах и на пустырях рыли специальные траншеи и щели для укрытия. Промышленность, научные учреждения перестраивались на удовлетворение военных нужд. Строители устройством бомбоубежищ. По всей стране снова ввели продовольственные карточки, установили строгие нормы выдачи продуктов. Карточки были: 1-ой категории (для рабочих); 2-ой - для служащих; 3-ей категории для иждивенцев и отдельно детские карточки. Многие учреждения свёртывались, музеи начали подготовку к укрытию и вывозу вглубь страны ценных экспонатов.
Молодёжь - мужчины и женщины сразу как-то разделились, словно между ними прошла невидимая демаркационная линия. Мужчины, молодые люди устремились в военкоматы, женщины продолжали работать, становились к станкам вместо мужчин. Многие архитектурные учреждения занялись подготовкой к самоликвидации. Главное архитектурное управление (АПУ) перешло на проектирование военных объектов или к проблемам маскировки на случай налётов с воздуха. С 10-ти часов вечера запрещалось пребывание на улицах и движение транспорта. Ко всему этому надо было привыкать, приспосабливаться. А лето, тем временем, установилось прекрасное, солнечное и, несмотря на войну, многие семьи стали подумывать о дачах или отправке детей в летние лагери. Никому ведь и в голову не приходило, что нашему прекрасному городу грозит опасность, хотя по сводкам уже знали, что враг занимает Прибалтику и приближается к Пскову. Но привычки мирной жизни ещё довлели в понятиях, в быту. И в нашей семье, например, считали, что пора позаботится о даче для всеобщего любимца, двухлетнего Андрюшенька, сына моей сестры Ирины. Весной Андрюша сильно болел. В роковой день 22-го июня, мой отец - Уствольский Михаил Михайлович поехал в Териоки (ныне Зеленогорск) снимать дачу. И там, на вокзале услышал по радио голос Молотова, извещавший о войне. Стало ясно, что Териоки не годятся, слишком далеко от города и слишком близко к Финляндии. Стали искать поближе и, наконец, сняли две комнаты в Детском Селе у одной маминой сослуживице по школе.
Мои друзья "Фусеки" разделились. Двое наших "альпинистов", два Николая: Фукин и Назарин решили завербоваться в альпинистко-лыжный батальон, который, по их мнению, должен был сформирован. Летом прошлого 1940-го года оба Николая, отколовшись от Фусеков, провели свои отпуска в альплагере "Рот Фронт", победили как-то учебную вершину и украсили свою грудь значком "Альпинист СССР", которым страшно гордились. Но попали они в Ленинградское ополчение. Остальные где-то ещё работали. Всем Фусекам стало ясно, что та архитектурно-литературная работа, которой мы так дружно и увлечённо занимались, сама собой отпадала, откладывалась до возвращения к мирному времени. Работа эта называлась: "Архитектурный путеводитель по Центральному Кавказу". Этот путеводитель составлялся по материалам исследований и архитектурных обмеров народного зодчества народов Центрального Кавказа. И для издания его у нас был заключён договор с издательством Академии Архитектуры в Москве. Да, многое стало ненужным, отложенным в долгий ящик. Происходила не только переоценка ценностей, но и понятий. А женщин Ленинграда, в основном женщин, ожидала неожиданная мобилизация - "Окопы".
Глава 3. Окопы.
Ленинград стал опоясываться противотанковыми рвами и заграждениями. И целая "лопатная армия" была направлена на подступы к городу с юго-запада.
Наша проектная группа "Техторгснаб" входившая в состав проектного института "Гипроторг", во главе с главным инженером Иваном Матвеевичем Кутузовым первоначально была направлена в район станции "Оредеж" Витебской железной дороги в 130 км. От Ленинграда. Красивейшие места! Попав туда впервые, я пожалела, что во времена наших весёлых походов "семьи Фусек", мы не знали этих мест, хотя как раз бродяжничали по реке Ореджи от Вырицы до Сиверской. Здесь Оредж, более спокойная и плавная, текла среди привольных, слегка всхолмлённых, обработанных полей. На берегах её стояли добротные и красивые деревни с садами и огородами, притенённые высочёнными старыми берёзами. Попадались и дачи. И названия деревень были красивые, какие-то старорусские. Недалеко от нашего участка находилась деревня "Княж-гора", мы покупали там творог и молоко. Июль стоял великолепный, солнечный, погода просто курортная. Вдоль высокого берега реки мы копали глубокий ров. Почва здесь была песчаная. Первоначально нам было трудно из-за солнцепёка, ведь работать приходилось, чуть ли не от зари до зари, правда в самое жаркое время мы отдыхали, купались, а также бегали к опушке леса "по ягоды", ведь там притаилась в траве крупная спелая земляника. А иногда попадалась и нежная лесная клубничка. Черника же ещё только начинала поспевать. Скоро все мы стали чёрными, как негры, к работе привыкли, копали с песнями, с задором. Иногда, высоко над нами, пролетали самолеты, увы, не наши. Через какое-то время нас сняли с участка на Оредежи и перевели дальше к западу, к станции Передольская, на берега реки Луги. 147 км. От Ленинграда. И вновь мы нашли приветливые, зелёные берега, чудесную спокойную реку, деревни, поля, луга и, еще большее количество, лесочков и рощ, которые манили обилием ягод. Но, хотя погода стояла всё такая же ровная, солнечная, хотя июль продолжал ласково сиять, сам воздух становился всё тревожнее. По дорогам, в направлении севера, к Ленинграду, двигались колонны беженцев, крестьян из более южных районов за Лугой, скрипели телеги, гнали скот, мычали коровы. Над дорогами висела знойная пыль. И самолёты пролетали всё чаще, всё ниже. Окопников они пока не трогали, хотя прекрасно всё видели. Листовки же сбрасывали частенько. Был приказ - не читать этих листовок, но непременно подбирать и сдавать политруку. Да никто и не хотел читать этих листовок, противно было к ним прикасаться. Крестьяне уходили, угоняли скот. Хлеб окопникам почти не доставлялся, захваченное с собой давно было съедено. И мы перешли на подножный корм. Для своей группы я стала активным "снабженцем", так как привыкла проходить большие расстояния, носить тяжести, а чудесные прилужские дали так и манили меня. Я обследовала картофельные угодья, поля с неубранным горохом, где-то нашла целое поле репы. Кроме того, у беженцев, которые гнали скот, я покупала молоко и даже мясо, когда они резали какую-нибудь свою животину. Тревожный гул всё нарастал. Немцы начали бомбить ближайшие станции. Взрывы и дым доносился к нам с линии Витебской железной дороги. Когда вражеские самолёты проносились над нами на бреющем, нам приказывали разбегаться по кустам. Да, враг приближался. Где-то горело, дымы заволакивали горизонт не только впереди, но и в тылу у нас, ближе к городу и всем становилось страшно за родной Ленинград, за своих. Как-то там? А свои, в Ленинграде, в ещё большей степени тревожились о своих "окопниках-лопатниках". В нашей семье отсутствовали двое, я и Марьяша, которая поехала со своей геологической партией рыть окопы где-то под Новгородом. Они попали в болотистые места, кишевшие комарами. И организованно там было всё настолько бестолково, что вскоре они убедились, что работы они проводили не там, где нужно и не так, как нужно. И что чуть ли не полезнее было бы засыпать всё обратно землёй. Поэтому и настроение было у них подавленное. Полезны ли были наши труды, или нет? Но в конце июля или начале августа окопной армии был отдан приказ: "домой!" Причём уходить надо было только ночью, небольшими группами и не приближаться к линии железной дороги. Наконец и наша, порядком потрёпанная, похудевшая "цыганская армия" двинулась со своими лопатами в обратный путь. Летние ночи к тому времени стали уже темнее и длиннее. Всю ночь мы шли без остановок лесом. Выяснилось, что к станции Батецкая уже нельзя подойти, там всё горело. На следующую ночь двинулись дальше. Кое-кто и лопаты побросал, да и к чему они были? Так, некое символическое "оружие". Среди ночи нас всё-таки вывели к какому-то разъезду, где стоял готовый тронуться товарный состав. Набились на платформы, в теплушки. Наконец-то мы ехали. Прощались друг c другом. Никто не знал, что нас ждёт в Ленинграде, где и как придётся работать, ясно было одно - вряд ли архитекторами. Наш поезд проскочил до Ленинграда благополучно, правда, высадили нас не в городе, а где-то на дальней товарной станции. Усталые и грязные, ранним утром, все побрели по домам. Окопная эпопея закончилась. На следующий день вернулась и Марианна. И всё-же, скажу здесь, что инерция прежней, счастливой мирной жизни была ещё так велика, так крепко во всех нас сидела, что, отдохнув и отмывшись, мы принялись рассказывать об окопных работах, как о каком-то очень интересном и даже весёлом приключении. Так, этот солнечный "окопный" июль и остался в моей памяти. Солнце, работа, река, обилие ягод, некоторое щекочущее чувство опасности и - приключения.
Теперь, по прошествии более чем сорока лет, ознакомившись с материалами о военных операциях на подступах к Ленинграду в 41-ом году, я с удовлетворением отмечаю, что труд нашей июльской "окопной" армии сослужил хорошую службу, город Луга так и не был взят фашистами, с ходу. Лужский оборонительный рубеж задержал вражескую армию на целый месяц и сорвал план Гитлера уже к 20-му числам июля быть под стенами Ленинграда. Забегая вперёд, скажу здесь, что ещё 21-го августа наши части удерживали противника, но в результате обхода немецкими армиями района Луги и с запада и с востока, советским войскам в районе Луги грозило полное окружение и они вынуждены были с тяжёлыми боями отойти на север. Там-то и попал тяжело раненный Коля Сабуров в окружение и очутился в фашистском плену. И вся дальнейшая жизнь нашего друга была исковеркана. Ведь в Сталинское время пленение приравнивалась к предательству.
Но далеко не везде "окопная страда" проходила благополучно. О бедствиях подчинённой ему группы лопатников и о вопиющей неорганизованности этого важного дела рассказал мне впоследствии архитектор Мирон Яковлевич Розенфельд. Привожу его рассказ:
"Я работал в Ленинграде в военной организации военным строителем. В конце июня меня вызвали в Райком и дали задание организовать оборонные работы (рытьё окопов и сооружение огневых точек), указав место на карте. Рабочими были мобилизованные трудящиеся, в основном женщины Куйбышевского района. Это были сотрудницы Публичной библиотеки, работники театров, ещё кто-то.
Я задал вопрос в Райкоме о том, как они предполагают обеспечить рабочих всем необходимым? Как будет организовано снабжение, будут ли кипятильники? "У вас всё будет! Это не ваша забота" - ответили мне. - "Ваше дело инженерное, станция назначения такая-то, отправление тогда-то. Действительно, в назначенный день и час - уже стоял состав с теплушками. Стали прибывать люди. Были доставлены палатки, лопаты. Отправились. В назначенное место прибыли вечером. Здесь начиналась железнодорожная ветка на Новгород, пустынное и болотистое место. Железнодорожную линию пересекала шоссейная дорога. На месте пересечения домик при шлагбауме. Сам сторож отсутствовал, его заменяла его жена. Прежде всего, надо было ознакомиться на месте с природными условиями. Я и политрук распорядились, что бы люди, здесь же в ближайшем лесочке расположились на ночлег, а сами пошли по дороге на запад, знакомиться с местностью. Гиблые, болотистые места. Ни одного селения. Вода только из болот. На карте, выданной нам, красной чертой была проведена линия для оборонных точек. Мы прошли по дороге километров пять, отмечая колышками, через каждые 400 - 500 метров те места, на которых должны были расположиться рабочие бригады. Утром собрали своих людей, отдали приказ организоваться в бригады по 30 - 40 человек, разобрать лопаты, взять свои вещи и повели свою "армию" по дороге, указывая по колышкам их участки работы. В каждой группе были назначены старосты. Предложили расставить "лагеря". Линия растянулась на эти же пять километров. Подальше от указанной нам линии, местность несколько повышалась, и там обнаружили какую-то покинутую деревушку, в которой, к счастью, нашёлся колодец. Указали нашим "окопо-армейцам", что воду надо брать только из этого колодца. Надо сказать, что лето в 41-ом году выдалось на редкость для Ленинградской области знойное. Стояла неописуемая жара. И вопрос о воде был особенно важным. К вечеру же, нещадно кусали комары. В этих болотах их были миллиарды. Расставив людей, мы с комиссаром наметили - где готовить огневые точки, где рыть ходы сообщения, где окопы. Старшим бригад выдали схемы, отпечатанные на синьках. Ждали обещанные машины с продовольствием, с бочками и кипятильниками. Но никаких машин не было. Вскоре среди наших рабочих начались желудочные заболевания. Штаб мы организовали в будке железнодорожного сторожа, расположились с комиссаром прямо на полу в сенцах избушки. Каждый день обходили по шоссе свои бригады. Я проверял правильность работ, комиссар - должен был поддерживать "моральный дух". Но в один из ближайших дней началось что-то невообразимое. На нашей дороге поднялась пыль от тысячи ног. Откуда-то из под Луги, в сторону города, устремились совершенно не организованные, обтрёпанные, голодные толпы, таких же, как и мы "окопников", удиравших от наступающих на Лугу немцев. У единственного деревенского колодца установилась очередь в тысячу человек. Воду быстро замутили, смешав её с глиной. И ещё эта жара! Среди наших бригад "боевой дух " быстро испарялся. Появились жалобы на дизентерию. Последнее, что я помню - это, что я сам лежу в жару и бреду на полу сторожки. Утром хозяйка запрягает телегу, сваливает меня в неё на солому и куда-то везёт. Когда я очнулся, оказалось, что я лежу на какой-то сырой поляне и, что на это же поляне валяются и другие больные люди, все страдают дизентерией. Ия среди них. И - жара. И - комары. И вода - только из заболоченных канав. Но нас не бросили. Откуда-то появился грузовик и всех нас, как дрова, свалили в кузов и повезли в город. Я очнулся уже в госпитале, в Ленинграде. Там я провалялся недели три. Что стало с моими брошенными "окопниками"? Вероятно, и они бежали, подобно тем толпам из под Луги, стихийно, побросав всё. И каким-то образом, попытались добраться до города... Вероятно.."..
Пока половина женского населения нашего города рыла под Ленинградом противотанковые рвы и окопы и была совершенно оторвана от газет и от радио, ведь газеты попадали к нам только случайно, город уже жил военной жизнью....
Глава 4. Дети уезжают.
Между тем, среди прочих неотложных задач военного времени, ещё в начале лета, в Ленинграде началась "компания" по эвакуации детей. Ленинградское начальство, вероятно, действовало согласно каким-то заранее намеченным, на случай войны планам. Но действия эти, при создавшейся обстановке, были, мало сказать неразумными, а прямо преступными. Многие родители, давно привыкшие отправлять детей в летние лагеря, согласились на эту эвакуацию. Но многих из ребятишек стали отправлять совсем не в сторону подальше от войны, а просто в привычные места летних лагерей: на Сиверскую, в Лугу, за Лугу и, даже, в Старую Руссу. А ведь уже в июле стало ясно, что фашистские войска, двигаясь к Ленинграду, неизбежно, приблизятся к тем местам, куда увезли детей. Там, в этих местах, по мере приближения противника, началась неразбериха, ведь детей опять срочно надо было куда-то эвакуировать. Среди Ленинградских матерей началась паника по поводу судьбы этих эвакуированных лагерей и детских садов, отправленных прямо навстречу наступающему врагу. Матери бросали работу и устремлялись на поиски их, за своими ребятишками. Тут надо уточнить, так было с 1-ой волной по отправке детей. Моя сестра Ира, муж которой работал на заводе № 618, где также началась эта компания детской эвакуации - рассказывала: Андрею Ивановичу и ей тоже предложили отправить их маленького Андрюшу с партией детишек завода, но они от этого отказались, а многие работницы отправили. И вот, паника. Где дети? Что с ними будет. Матери рвались туда, за детьми. И, несмотря на жёсткие законы военного времени, начальство заводов вынужденно было их отпускать. Обезумевшие матери всякими путями пробирались на юг и юга - запад, в районы, куда по первоначальному плану были отправлены дети и искали, искали следы, куда их эвакуировали дальше? В создавшейся страшной обстановке, когда враг двигался к своей цели, к Ленинграду, семимильными шагами, со средней скоростью 25 километров в сутки, когда толпы беженцев беспорядочно заполнили все дороги, разобраться "где и куда" было очень трудно, почти не возможно. Никто ничего толком не знал. Ходили страшные слухи о том, что машины и поезда, на которых в панике и неразберихе, куда-то ещё развозили детей - немцы бомбили, что много детей погибло на дорогах, многие разбежались, потерялись. Увы, это были не просто слухи, это была жуткая реальность. Матери возвращались в Ленинград, кто с найденными ребятишками, а кто и нет, в полном отчаянье, без них.
Наше Ленинградское отделение Союза Архитекторов также занялось эвакуацией детей в глубокий тыл, к счастью не на запад, а на восток. Вместе с детьми отправлялись и некоторые жёны архитекторов или их близкие, или няни. Так отправила своих мальчиков Алёшу и Андрюшу вместе с их вечной "нянечкой" и моя подруга по институту - Галина Андреевна Оль; с няней Натальей Петровной поехали Дима и Саша Сабуровы; Таня Рощина отослала свою Нону, дочку Игоря Георгиевича Явейна; жена архитектора Ф.Ф. Олейника - Тоня, уезжала вместе с сыном. Дети архитекторов уезжали 5-го июля, ещё с Московского вокзала. Первоначально их эвакуировали в Ярославскую область, но потом далее на восток, в Сибирь, в посёлок Емуртла Курганской области. Слава Богу! Хоть эти дети благополучно уехали и уцелели. Страшные испытания, потеря близких, голод и смерть ожидали многих из ребятишек, оставленных их родителями в городе. Так погибли двое из трёх сыновей Серёжи Катонина. Осталось в городе и некоторое количество детских садиков. Многие воспитательницы и служащие жили в этих садиках, вместе с детьми на "казарменном положении". Этих ребятишек берегли, заботились о них, как могли. И многие уцелели.
Глава 5. Новелла о маленьком Андрюшеньке.
Андрюшёнок, это единственный отпрыск семейства Уствольских, любимый внук, любимый племяшек, сын сестры Иры и Андрея Ивановича Стефановского. 20-го апреля 41-го года малышу исполнилось два года.
Вернёмся несколько назад. Мальчишечка был любимцем всей семьи, но особенно привязался к нему дед, наш отец - Михаил Михайлович Уствольский, который говорил об Андрюшике: "Этот малыш, последняя любовь в моей жизни". Двухлетний Андрюша тоже деда своего предпочитал всем остальным домочадцам. И когда дед приходил с работы, встречал его звонким - "Деда, деда!", после чего эта пара уже не расставалась. Были у них и любимые игрушки: оловянные солдатики, которых малыш называл "красноармейчиками" и два слоника - фарфоровый белый и чёрный с белыми бивнями из дерева. Слово - слон, звучало у Андрюши, как "кон". Совсем ещё маленького, грудного Андрюшика, дед укачивал, носил его из комнаты в комнату и мерно, ритмично читал ему стихи Пушкина, которые очень любил. Помню, как раздавалось - "Угасло дневное светило..". и малыш, слушая и покоряясь ритму, переставал капризничать, утихал и засыпал. Весной 41-го года маленький Андрей был сильно болен. Сперва заболели в нашей квартире дети соседей, Шульгиных. У них обнаружили дифтерит. А за ними, в положенный срок и наш малыш метался в жару. И, мало того, не успев выкарабкаться из дифтерита, мальчика захватила в свои лапы ещё и скарлатина. Предполагалось, что эту инфекцию занёс к нам лечивший его врач. Малыша отправили в больницу. Эти две болезни кряду очень подорвали здоровье 2-х летнего мальчугана и на всю жизнь отразились на его сердце. После выписки Андрюши из больницы, конечно нужна была дача. Сняли две комнаты в домике у знакомой мамочки учительницы, на Комсомольской улице в Детском селе (Пушкине). Всех очень устроила эта дача, т.к. снабжение здесь было не хуже, чем в Ленинграде и связь с городом была удобная. Поселились бабушка с внуком в уютном деревянном домике с прекрасным садом, в котором необычно пышно и долго в то лето цвела сирень. Мать Андрюши - Ирина, успокоилась, что хорошо устроила своего сынишку, моталась туда - сюда из города на дачу, ведь вскоре стало известно, что завод, на котором работал её муж, должен быть, как и многие промышленные предприятия города, эвакуирован. И ей необходимо было готовиться к отъезду на весьма неопределённое время и в неведомые места.
Дедушка тоже навещал своих дачников. Так и прожили наша мамочка со своим внучонком в густом и тенистом, полном цветущей сирени саду, почти до дня горького и тревожного расставания. Запомнил - ли двухлетний малыш своё житьё - бытьё под густыми кустами сирени в Детском Селе? Возможно, что что-то всё же сохранилось в маленькой головке. Через два года. Когда, после тяжёлых, выпавших на долю нашей семьи испытаний и потерь, мы объединились в местечке Базарный Карабулак (Саратовская область). Как-то летним вечером, я сидела со своим маленьким племянником в садике тоже среди разросшихся и обильно цветущих сиреней. Я запела в полголоса, особенно любимый мной романс Чайковского на слова КР "Растворил я окно..".
... И с тоскою о Родине вспомнил своей
Об отчизне я вспомнил далёкой,
Где родной соловей, песнь родную поёт
И не зная земных огорчений
Заливается целую ночь напролёт
Над душистою веткой сирени...
Пухленькие губки мальчика вдруг задрожали, глаза стали наливаться слезинками, я - прижала его к себе.
Наверное, несмотря на то, что воспоминания Андрюшенька о его "Родине" были смутны - родной и далёкий наш Ленинград жил в душе ребёнка, как он жил тогда в душе каждого из нас, расставшихся с ним. А ещё через два года, мы вновь оказались Детском Селе. Я начала работать архитектором-реставратором, и мне дали служебное жильё в уцелевшей части Екатерининского дворца.
Глава 6. Сказка - быль.
Прежде, чем перейти к изложению дальнейших событий, в котором я постараюсь придерживаться хронологического порядка, я позволю себе привести на этих страницах "Сказку-быль", рассказанную одним почтенным профессором уже через много - много лет после войны. Этот рассказ прозвучал на одном из заседаний "Общества Охраны Памятников Ленинградской области".
Переписываю из своего альбома - дневника 70 - 74 годов: На очередном отчётном заседании в помещении "общества" в Петропавловской крепости, стоял отчёт студенческой поисковой группы, работавшей в районе Ижор. Молодежь, в основном девушки собрали много интересного, главным образом этнографического материала. Тут-же была организована небольшая выставка собранных ими народных вышивок и поделок. По окончании доклада, было предложено задавать вопросы.
Профессор Михаил Константинович Каргер (историк и археолог), член Научного Совета "общества", задал девушкам несколько странный вопрос: - "Скажите, вот вы обследовали деревни - Куземкино, Каростино, а есть ли там теперь леса?" - "Да, лес недалеко". - "А бывали ли вы в этом лесу ночью? Ну, поздно вечером?" Девушки удивились такому неожиданному вопросу, замялись, ответили, что в лесу, конечно, бывали, но мало. Михаил Константинович сел, но обещал позже рассказать и объяснить, почему он спрашивал про леса в этом районе.
Рассказ Михаила Константиновича Каргера: "В начале Великой Отечественной Войны наш полк стоял в этом районе. А наше подразделение было расквартировано как-раз, в деревне Куземкино. Надо сказать, что в этом уголке, на границе с Эстонией, население тогда было очень смешанное. Были деревни с русским населением или русско-ижорским, были там чисто ижорские деревни, были и чисто эстонские. Со стороны эстонцев мы чувствовали какую-то глухую враждебность, замкнутость и были с ними очень осторожны, ведь их присоединили к СССР только в 1940-м году, в результате "Мирного договора" с Гитлеровской Германией. Русское и ижорское население наоборот очень сочувственно относились к нам.
Немцы быстро наступали. В Эстонии шли бои. И жители русских деревень, где мы стояли, были очень встревожены, чувствуя враждебность своих соседей эстонцев.
Однажды вечером, несколько мужиков, колхозников из села Куземкино, пришли в избу, где стояли тогда и я, и мои соратники и предложили нам пойти вместе с ними. - Куда? - "В лес, но вы не бойтесь, мы хотим вам добра. Там в лесу всё будет хорошо. Мы вам что-то покажем". Это было загадочно, подозрительно, но, в то же время и любопытно. Одним словом, когда совсем уже смеркалось, несколько наших советских командиров, в том числе и я, пошли с этими ижорцами. Мы начали углубляться в лес. Стало совсем темно. Лес был сырой, заболоченный, всюду натыкались на какие-то пни и коряги. Чем дальше, тем глуше и непроходимее становились эти лесные дебри. Вдруг мы стали замечать, что под нашими ногами что-то странно светится, фосфорицирует. Будто под ногами были какие-то змеи, чьи-то щупольцы, светившиеся мертвенным светом. Наконец наши провожатые остановились молча в тёмном, глухом уголке леса. Но, не совсем в тёмном. Здесь уже повсюду, внизу, вокруг всё светилось. Когда мы вгляделись, нам показалось, что светятся какие-то изображения, фигуры. Это не была скульптура, скорее, просто странные и причудливые очертания и силуэты каких-то полусгнивших стволов, корявых ветвей и пней. Под ногами фосфоресцировали узловатые щупальца мощных корней. В молчании леса, в очертаниях светящихся стволов и фигур, было что-то таинственное, древнее. Ижорцы молчали, а может, молились или заклинали. Мы тоже молчали. И время казалось, остановилось, провалилось в какие-то неведомые бездны. Когда едва-едва начало светать, мы все покинули это дикое, заповедное место. С тех пор я там не бывал. Вот и спросил вас, милые девушки, захотелось узнать, сохранился ли после всех разрушений и пожаров войны тот лес? Не слыхали ли вы, собирая свой этнографический материал, каких-нибудь предания, поверий связанных с лесом? Девочки ответили, что ничего не слыхали. Остальные, присутствовавшие в тот вечер в "обществе", заинтересовались и стали сами задавать Каргеру вопросы. Не языческие ли идолы стояли в лесу? Не было ли всё это шаманством, "заговором крови"? Был ли ранен сам Каргер? Уцелели ли его товарищи, бывшие тогда, вместе с ним ночью в лесу? О товарищах Михаил Константинович ничего не знал, о себе же сказал: "Как видите, уцелел, даже не поцарапало.
- Как же Вы сами, Михаил Константинович, объясняете эту историю? - Сам не знаю. Тогда, да и за все годы войны и восстановления, я об этом не думал, не до того было. Вот сейчас на этом докладе - всё снова вдруг вспомнилось, всколыхнулось". Вероятно учёный муж, председатель Научного Совета, сам неожиданно для себя вспомнил минувшее, но не захотел делиться своими предположениями и догадками. Вот бы порасспросить подлинных "ижорцев"... Записано по памяти 2.12.1974года.
Глава 7. "Знакомый дом, зелёный сад..".
Родной, ещё пустынный утром город, "наша" площадь, сад вокруг белого, величественного Спасо-Преображенского собора, выглянувший из-за сада высокий дом, окна, за которыми живут те, кто тебя ждёт...
Сразу отпали, отдалились все тревоги, взрывы и пожары железнодорожных станций, вражеские самолёты на бреющем полёте, ночное бегство через леса... Великое это слово: "Твой дом", возвращение домой... Показалось, что опять всё стало незыблемым, спокойным, что ничего этому дому, городу, саду не грозит ничего и грозить не будет. Увы, это было не так, и в нашем доме было не спокойно. Когда я и Марочка вернулись с оборонных работ, нам сразу же преподнесли, что завод, на котором работал наш зять Андрей Иванович, эвакуируется, что работники завода уезжают с семьями и что очень скоро всем нам предстоит разлука с сестрой, с Андреем старшим и с Андреем маленьким. Оказалось, что весь прошедший месяц Ира готовилась к отъезду, упаковывалась, чемоданы, и тюки были частично уже отправлены для погрузки. Мало того, наш папа, который очень беспокоился за путешественников, тут же стал уговаривать Марочку, тоже поехать с ними, что бы вместе с Ирой, оберегать Андрюшёнка, помогать им в пути. Марьяша, добрая душа, поняла всё и тоже стала собираться, но очень налегке, так как верила, что, как только эшелон доберётся до места назначения, таким местом был назван город Балашов Саратовской области, и наши обоснуются там, она вернётся. Она и не подозревала, сколько трудов и авантюр придётся ей предпринять, что бы, только через четыре года, снова стать Ленинградкой. Отправка эшелона с оборудованием, работниками завода и их семьями, было намечено на 3-е августа 41-го года. Начальником был назначен Игорь Леонидович Эристов - молодой ещё директор, друг нашего Андрея Ивановича. Мамочка с маленьким Андрюшей прожила на даче в Детском, почти до самого дня отъезда. Но всё-же последние пару дней, она вместе с Ирой, что-то собирала и упаковывала. Тревоги и опасения за благополучие в пути. Неизвестность, как будет во время пути и на новом месте со снабжением, жильём. Желание обеспечить отъезжающих продуктами на более долгий срок, привели к тому, что все ящики и полки нашего буфета были опустошены, все, и так небольшие запасы продовольствия были упакованы. Так же, как и всё то, что можно было вперёд выкупить по карточкам, было буквально навязано отъезжающим. Ведь так ещё жила во всех нас неистребимая, удивительная уверенность, что наша Красная Армия - несокрушима, что отступления её - временные, что нашему замечательному городу ничего не грозит... Кроме того, в то лето кое-какие товары в магазинах ещё были. Открылись ещё и "коммерческие магазины". Но наши дамы, сидя на даче, проворонили этот короткий период. А, когда хватились, успели закупить только большой запас кофе. Рынки были завалены овощами и мясом из пригородов. Так что мы, остававшиеся, насчёт продовольствия нимало не беспокоились. После войны, психология очень многих, в отношении запасов, резко изменилась.
Длинный состав с платформами, багажными вагонами, теплушками, из дверей которых выглядывали родные, взволнованные лица - действительно отбыл с Витебского вокзала 3-го августа 1941 года. Папа с мамой провожали своих, последний раз помахали им платками. Но, как оказалось, состав был переведён на товарную станцию Московской железной дороги. О чём мы узнали из неожиданного телефонного звонка Андрея Ивановича. Окончательно они покинули родной свой город 4-го августа. Видимо, это был один из последних эшелонов, т.к., 6-го августа железнодорожное сообщение было окончательно прервано.
Наши - уехали.
Вечерело, когда мама, папа и я возвратились в свой, разом опустевший дом. Мысли возвращались к последним впечатлениям прощания, последним наставлениям, обещаниям... Вспоминался отчаянный крик маленького Андрюши "Деда, деда"! Представлялось, как этот эшелон с оборудованием и теплушками, наполненными людьми, в том числе и самыми дорогими и любимыми, громыхает где-то, всё, удаляясь от Ленинграда, устремляясь в полный опасности и неизвестности путь... Позже мы узнали, что на станции Чудово, эшелон попал под бомбёжку.
А дома - всё напоминало нам о последних сборах, укладке. Валялись бумажки, обрывки верёвок. Грустно было смотреть на ненужные теперь кровати, кушетку, детский стульчик. И я, и мама, понимали, как тяжело папе. Ему шёл 62-й год, он давно уже болел сердцем, в каждый свой отпуск он уезжал подлечиться в санатории Кисловодска. И вот - война, какие уж тут отпуска! Папа, вероятно, уже тогда думал про себя, что вряд-ли доведётся ему увидеть своего внучонка, взять его на руки, заглянуть веселые, доверчивые карие глазки. "А вот "Кон" - то остался", увидев валявшегося на диване белого слона, грустно усмехнулся папа.
В таком настроении я не могла долго оставаться без дела и стала энергично убирать наши комнаты, передвигать мебель. Выметая всякий мусор, оставшийся после сборов, я выгребла вдруг из одного угла - маленького оловянного солдатика "отставшего" от Андрюшиного "оловянного полка", катившегося теперь, вместе с другими игрушками среди вещей эшелона в неведомые края. "Андрюшин солдатик... забыли"... Папа поднял "стойкого оловянного часового". "Это для меня, Память от Андрюши. Пусть он будет мне талисманом". И солдатик был сунут в верхний карман пиджака. Увы, маленький оловянный талисман не защитил Андрюшиного "Деду". Через пять месяцев - папы не стало. В кармане папиного пиджака, за подкладкой, мы с мамой нашли солдатика, сохранили его и привезли в Карабулак. Он и сейчас храниться у Андрея, в Москве. Ведь ни он, ни его мама, оставаясь в душе Ленинградцами, никогда уже не вернулись в "любимый город, знакомый дом, зелёный сад". Они прописаны в Москве.
Глава 8. В августе.
Каким, после долгого "окопного" отсутствия я нашла свой любимый город? Конечно, по-прежнему прекрасным, спокойным, но всё-же заметно преобразившимся на военный лад. На улицах города встречалось много военных. И не только военные, все шли с противогазами через плечо. Появилось много красочных плакатов, лозунгов, в витринах были выставлены очень меткие, талантливо нарисованные карикатуры "Боевого карандаша", "Окон Роста". Проходившие военные подразделения пели новую боевую песню, первую песню 2-ой Отечественной:
"Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашисткой силой тёмною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна
Идёт война народная,
Священная война!..".
(Музыка Александрова, слова Лебедева-Кумача)
Это была волнующая песня, подымавшая боевой дух, именно такая, какая была в те дни необходима, истинно народная.
В городе усиленно шла эвакуация не только промышленных предприятий, но и музеев, театров, консерватории, учебных заведений. И в моём учреждении свёртывали работу, людей было уже мало, большинства мужчин ушло на фронт. Нас, оставшихся, ещё несколько раз посылали, что-то рыть, уже в ближайших пригородах, в огородах и садиках Средней Рогатки. Оттуда я каждый раз привозила груды овощей. Но это продолжалось не долго. И надо было искать другую нужную и полезную работу. При расчёте, нам выдали августовские карточки до конца месяца и довольно большую сумму денег. Пока же я включилась в дежурство по МПВО нашего дома. В надежде получить работу бывала в Доме Архитектора, и разыскивала друзей, ещё оставшихся в городе. Я навестила семьи Назарина и Фукина. Узнала, что мама Фукина, милая Наталья Васильевна, работает на санэпидемстанции в порту, держится бодро. А родные Назарина - болеют. Сам Николай Назарин воевал сапёром, Фукин стал связистом. Жена Коли Сабурова, сама "благословила" своего Колю идти в Военкомат, хотя, он, как другие архитекторы, тем более имевшие детей, мог бы получить "бронь" и остаться работать в АПУ., где были оформлены Коля Лебедев и Федя Пащенко.... Помню, я как то сговорилась с Леночкой Сабуровой (Носович) и мы вместе навестили его, когда его часть стояла где то в Павловске. Коля вышел к нам наголо обритый, в солдатской форме. Это было последнее свидание со здоровым, крепким, неистребимо жизнерадостным Колей Сабуровым. Солдатская служба его была коротка, а всё остальное обернулось для него жестоко и несправедливо. Ниже, я ещё вернусь к этой теме. Сергей Катонин устроился шофёром, у него были права, и на этой должности он получил карточку 1-ой категории. Надя Ефимович уехала в Саратов к своему будущему мужу. Сашенька Крамарева с сестрами тоже была в Саратове, но это была ссылка. Союз Архитекторов, отправив в эвакуацию детей, много занимался трудоустройством своих членов. Председателем Союза был Валентин Дмитриевич Голли - человек очень деятельный, старавшийся помочь людям. Оставался на своём посту и милый, и чуткий Михаил Николаевич Мейсель. Очень помогала устанавливать связь между всеми разъехавшимися, растерявшими друг друга архитекторами и их семьями - секретарь Союза - Анна Александровна Винниченко. Однако, очень многие, как и Сергей Катонин устраивались на работу уже не по специальности, а по иному принципу - или, что бы быть поближе к своему дому, или, что бы получить рабочую карточку и т. д. Очень многие из женщин занялись важным для обороны города делом: плетением сетей для маскировки. О маскировочных работах стоит рассказать подробнее, воспользовавшись, отчасти, книгой "Силуэты Блокады" Николая Варфаломеевича Баранова, который был в то время главным архитектором Ленинграда, и рассказами самих маскировщиков взятые из сборника "Подвиг Века", составленный Н.Паперной. Проблема маскировки важнейших объектов города была одной из первоочередных. И, само собой разумеется, что самым первым объектом стал Смольный. Ленинградское начальство, особенно партийное, вообще очень заботилось о себе и в первый год войны, судя по многим и многим данным фактам, вообще были настроены панически, что сказалось и в заботе о маскировке Смольного и в строительстве, несколько позже, глубоких, необыкновенно благоустроенных бункеров. Маскировка Смольного, первый опыт такого рода в Ленинграде, весьма интересен. И я приведу здесь строки из книги Баранова.
"Я тогда хорошо понимал, насколько сложной была эта задача. Здание Смольного стоит вблизи излучины Невы, неподалеку от Смольного монастыря. Эти ориентиры укрыть невозможно. Решение было единственным: воспользоваться окружающим парком и скрыть здание под искусственным покровом больших куртин деревьев... Над эскизом мы работали, не поднимая головы, и закончили его глубокой ночью. Утром подсчитали, сколько нужно брезента, маскировочных сетей, краски и других материалов. Гардинно-тюлевой фабрике, текстильному комбинату и декорационным мастерским было срочно поручено плести специальные сети и накладывать на них, в соответствии эскизом, в соответствии с эскизом, расписанные куски брезента, имитирующих кроны деревьев. Для маскировочных работ были мобилизованы декораторы всех семнадцати театров Ленинграда". Для плетения сетей не хватало шпагата. И вдруг, кто-то предложил воспользоваться - гамаками, хранившимися на складах ДЛТ, одного из крупных универмагов города. Гамаки эти были сплетены из прочнейшего английского шпагата и превосходно послужили для маскировки, раскачиваясь над крышами Смольного. Сети, с нашитыми на них кусками материи, раскрашенные под цвет времени года, укладывались на растянутые над зданием канаты. Гармоничное слияние маскировки с настоящими насаждениями, корректировали с воздуха. После очень удачного по своей естественности укрытия Смольного, начались работы по технической маскировке наших промышленных, транспортных и прочих объектов города. Ещё в июне, из Ленинграда начали срочно эвакуировать ценнейшие экспонаты из музеев города и его замечательных пригородов. Эту работу возглавила Инспекция по охране Памятников (ГИОП) и лично Н.Н.Белихов. Сергей Николаевич Давыдов пишет: "Уже на второй день войны Н.Н. Белихов представил в Исполком Ленгорсовета проект решения о необходимых срочных мерах по эвакуации ценностей из музеев и дворцов и по защите архитектурных памятников и монументов Ленинграда". Что это была за напряжённая, самоотверженная и героическая работа по снятию, укрытию, а потом и эвакуации сокровищ из пригородных дворцов - Гатчины, Павловска, Детского Села, Петергофа. Об этом подробно рассказано во многих печатных изданиях ("Подвиг Эрмитажа", "Подвиг века" и др.) Эти работы были успешно проведены энтузиастами, сотрудниками музеев, главным образом женщинами и они же продолжили свое святое дело в последующие в труднейших условиях блокады. А оставшиеся в живых, продолжили свои усилия и после войны, восстанавливая всё разрушенное. ГИОП возглавила и работы по укрытию монументов и скульптур города. Некоторые из них были "захоронены", причём предварительно проводилась их фотофиксация, тщательные обмеры, теоделитная съёмка их расположения с привязкой их расположения с привязкой к реперам. Так был зарыт вблизи Инженерного Замка, Растрелливский памятник Петру Первому. Нашли себе убежище в Александровском саду - четыре коня барона Клодта. Были захоронены скульптуры Летнего сада. Некоторые крупные монументы, такие как Медный Всадник, Конная статуя Николая 1-го, Ленин на броневике у Финляндского вокзала, были заделаны деревянными щитами, засыпаны песком и укрыты матами. В статье О.Н. Шилиной "Врачеватели красоты" приведён любопытный анекдот, относящийся к укрытию Александрийского столпа, - гранитной колонны высотой в 47,5 метров, которая держится на постаменте силой собственной тяжести. Были разные предложения, но, в конце концов, решили: "Ладно, пусть так стоит". И гордая колонна, памятник в честь Победы 1812 года, без которой немыслима и вся торжественная Дворцовая площадь - выстояла. Особое отношение и особая судьба досталась монументам в честь великих русских полководцев. Первоначально и их тоже собирались укрыть или зарыть. Но они не были ни засыпаны песком, ни захоронены, они - как бы снова привели участие в борьбе русского народа. Перед памятником Генералиссимусу Суворову на Марсовом поле, перед Кутузовым и Барклаем де Толли и перед монументом "Стерегущему" - стоящими открытыми - проходили воины Ленинградского фронта, ополченцы, проезжала артиллерия, салютуя победителям прошлых воин.
Ведь недаром Сталин, в своей речи, поднимая патриотический дух, неожиданно для всех "воскресил" преданные забвению великие имена. А позднее в Армии были введены ордена Суворова, Кутузова, Ушакова.
Работы по укрытию и маскировке не прекращались и осенью, и в зимние месяцы. И мне, поступившей на работу в Инспекцию по Охране Памятников в сентябре, довелось также принимать в этом участие.
Глава 9. Письма - треугольнички.
Письма военного времени. У кого они сохранились? Если сохранились - это драгоценность. Я берегу пачку таких писем. Часть из них - это письма из блокадного Ленинграда в эвакуацию. Сёстры сохранили эти письма, теперь они передо мной. Это и треугольнички и обыкновенные письма. На всех штамп: "Проверено военной цензурой". На бумаге некоторых из них - лозунги. Это маленькая, но характерная деталь того времени. Наша "домашняя" переписка тянулась примерно с год. С августа 41-го до лета 42-го, когда мы с мамой соединились с нашими в далёком Базарном Карабулаке. Храню и письма с фронта, а также, некоторые другие, до 45-го года. В тексте данных воспоминаний почти все эти письма будут, в своё время, приведены.
В августе 41-го настроение в нашей, уменьшившейся семейной ячейке, несмотря на всё более тревожные сводки Совинформбюро, было самым оптимистическим. И если, что и беспокоило в действительности, как там движется, стучит по шпалам "наш" Ленинградский эшелон, как сложиться судьба, каковы будут условия жизни у наших дорогих уехавших.
Письмо: в г. Балашёв (предполагаемое место назначения). От папы.
10.08.41г. Утро.
"Милая Марочка, 4-го вечером вы уехали. Стало пусто. Все наши думы были о вас. Мама 5-го ни за что не хотела выходить из дому, всё ожидая, что вы ещё позвоните с Сортировочной. Ты не позвонила и мы решили, что вы уехали из Ленинграда окончательно. Ждали твоих открыток из Званки, Тихвина, но вдруг, получили открытку из Любани. Нас очень интересует взятое вами направление. Только что, перед этим, вернулась из Боровичей Ирина Ив-а и многое порассказала. Да, кроме, и так и так было известно, враг не оставлял вниманием этого пути. Я немедленно, через авторитетных лиц навёл справки и к нашей радости получил хороший ответ. Стали ждать новых вестей и вот - 9-го получили сразу две открытки - №1 и №3 из Окуловки. Несмотря на тревогу, мы много смеялись, читая твои сентенции о скорости вашего передвижения. Бог с вами, не торопитесь только доезжайте благополучно. Рады за вас, что чувствуете себя в теплушке неплохо. Жаль, конечно, что Андрюша простужен, но это, пожалуй, неизбежно. И если этим его и наши огорчения в пути ограничится, то можно будет считать благополучно. Живём мы конечно дружно. Мама ведает хозяйством и ради этого экскурсирует по городу. А 7-го мы все втроём сделали вылазку в город Пушкин забрать свои вещи и погулять, но на самом деле провели почти весь день на базаре. Вернулись с изрядной добычей. Заходили там, в фотографию - посмотреть Андрюшину пробную карточку. Карточка вышла слишком "сурьёзной", не передает живости нашего мальчика, но сравнительно ничего себе. Попробуйте заснять его в Балашове. Наташа оставила службу. Пока отмывается и выздоравливает. Она всё время чувствовала себя не совсем ладно. Сегодня едет в Павловск навещать Колю Сабурова, вместе с его женой. А в понедельник выйдет на поиски работы. В Союзе Архитекторов предлагают записываться в совхоз. Наташа склонна пойти на это, смущает погода. Вот уже третий день похолодание, в пору - осеннее пальто. Набегают дожди. Мама мечтает о сборе грибов. Где только? Спрашивается! У меня тихо. Времени свободного достаточно. Использую его для передышки после переутомления предыдущего месяца, много читаю. Надеюсь, что постепенно дела опять наладятся, хотя-бы в скромных размерах. Но мы живём сейчас очень скромно, за пределы карточек не выходим. К тебе пришло письмо от Киры Неслуховского, приглашает тебя, его навестить, он курсант. Ещё раз спасибо тебе за согласие выехать с нашими. Хотелось бы надеется, что проживаете вы дружно, убережёте Андрюшу от всяких бед и напастей. И для тебя самой всё обернётся к хорошему. Спроси Андрюшеньку, помнит ли он ещё своих деда, бабу, Наташу?.. Пиши.
Письмо: в г. Балашов. От мамы.
12.08.41 года. Вечер.
"Дорогие мои здравствуйте! Я сегодня очень счастлива, получила вашу телеграмму из Балашова. Потом, вечером пришли ещё две открытки из Калинина и из-под Москвы. Два дня не было никаких известий. И я, хотя и знала, что это ничего не доказывает, очень, очень беспокоилась. Ну, а теперь, тяжесть ушла с сердца. Постарайтесь хорошенько устроится, получше организовать своё жильё, быт и т. д. От вас самих многое зависит. Вы должны быть самостоятельными, энергичными женщинами. Берегите нашего любимого мальчика. Я думаю, что в Балашове должно быть хорошо с продуктами и, наверное, много фруктов, а для Андрюши это очень хорошо, но только приучайте его к новому режиму осторожно. Сегодня я случайно слышала, что Балашов хорошенький город и прекрасная "дача". Если так, то я рада. Ирочка, ты хорошо, вовремя выехала. Тебе всё равно пришлось бы выезжать, но неизвестно куда, общими эшелонами, в более трудных условиях. Хорошо, что и Марочка уехала. С работой в Ленинграде трудно. Наташа ищет работу, но пока ничего не нашла. Предлагают работать управхозом, или ещё ехать в совхоз. Мы живём дружно..". Здесь письмо обрывается, а на остатке страницы продолжение от 14.08. Утро. "Я не успела кончить письмо. Пришли папа и Наташа пить чай. Вчера мы праздновали Наташин день рождения. Весь день я хлопотала, приготовила тесто, испекла пироги с черникой и малиной. Наташа купила конфет, орехов, печенья, вина. Всё было хорошо и нарядно. Были тётя Киса с дядей Ваней и Леночка Сабурова. Наташа довольна. Ну, до свидания. Я рада, что вы уехали. Мама".
Письмо: в г. Балашов. От папы.
17.08.41 года. (На папиной именной бумаге).
"Милая Марочка, теперь пишу я. До настоящего времени мы получили все твои письма с дороги. Включая и от 8.08. из какой-то Никифоровки, что в 300-х км. От Балашова. Очень рады, что вы так удачно проехали этот трудный путь. Правда, волнения наши закончились с получением телеграммы из Балашова. Но читать твои открытки было очень интересно. Сейчас ждём с нетерпением письма о месте вашего назначения. Надо сказать, что из разных мест приходят разные вести и большей частью - неважные. Где-то люди подолгу живут в шатрах и землянках. Как-то всё выйдет у вас? Волнует нас и то обстоятельство, что линия фронта на юге резко продвинулась на восток и Балашов вовсе уже не является таким глубоким тылом, как был недавно. Неужели вам придётся ещё раз двигаться ещё дальше? Не дай Бог! Продумывая ещё раз ваш, и твой в частности отъезд, я полагаю, что сделано всё правильно. Матерей с детьми до 14-ти лет сейчас из Ленинграда эвакуируют в обязательном порядке. Конечно такой отъезд много хуже вашего. Работы здесь определённо нет. Ленинград всё более приобретает характер прифронтового города. Всякого рода эвакуации в полном разгаре. Уезжают даже театры. Наташа осталась без работы. Мама, правда, получила сейчас открытку от своей школы, надеется, что это приглашение на работу, но пока не знает, так ли это. У меня, так же, как у моих товарищей - заработка не хватает на покрытие расходов, на содержание нашей юридической консультации. Таким образом, если тебе удастся найти место в Балашове, ты определённо выиграла. Кроме того, не исключено, что нас, всех троих, как не связанных с обороной, попросят уехать из Ленинграда. Если так, то попробуем попасть в Балашов. Во всяком случае, есть цель, а ведь иначе, куда бы нам было деваться? Наконец, я и мама страшно рады, что при нашем дорогом внучике, кроме Иры, есть полпред в твоём лице. Как будто и мы сами там незримо присутствуем. Как нам не трудно и бесперспективно жить сейчас, всё-таки некоторые ресурсы у нас есть. Поэтому, если вас с Ирочкой зажмёт с деньгами, телеграфируйте, поможем. Когда получим от вас известие, что вы получили письмо с Андрюшиной карточкой, вышлем 2-ой экземпляр, из полученной дюжины. Наташа занимается устройством квартиры, кое в чём, я ей помогаю. Столовую перенесли в угловую комнату, я поселён в бывшую столовую. Мама с Наташей в 3-ей комнате. Понемногу затемняем всю квартиру, осталось без затемнения одно окно. Завтра и его закончим. Уборки по настоящему ещё не делали, беспорядку ещё достаточно. Фронт всё более к нам приближается. Сегодня улицы были заполнены обозами из пригородной Финляндии и южных окрестностей Ленинграда. Бои около города. Настроение напряжённое. Власти своими мерами предупреждают, что надо быть готовыми ко всему. После вашего отъезда несколько раз бомбили Любань и Тосно. Из соседей по квартиры уехал Колесников. Призвали куда-то на юг. Остальные на месте. Зато квартира №6 наполовину опустела, да и вообще в доме много свободных комнат. Передай Андрею - большому, что его комнатой мы с Екатериной Митрофановной (мать Андрея Ивановича) - занимаемся. Напомни Андрюшику, что у него в Ленинграде есть дедушка, который очень по нему скучает, а ещё есть большой слон, мишки поменьше и лошадка с тележкой, на которой он катался. А - "тревогу" и - "отбой тревоги" - он верно уже забыл? Папа".
Письмо: (переслано из Балашова в Базарный Карабулак). От Наташи.
19. 08.41г.
"Дорогие мои - Марулька, Ирушка и оба Андрюши - здравствуйте! Как вы теперь живёте, почему не пишите? Мы с огромным интересом ждём вашего письма из Балашова, с тем, что бы свои действия согласовать с вами, а письма всё нет. Очень вероятно, что и нам придётся отсюда выехать в условиях значительно менее благоприятных, чем ваши. Тогда мы, конечно, будем держать курс на встречу с вами. И нам очень важно знать стоит ли стремиться именно туда. Уезжать страшно не хочется, как-то глупо всё бросать, тем более что живём мы очень хорошо. Мама замечательно и вкусно нас кормит, денег много, т.к. я при расчёте получила порядочно и всё сдала ей, ну, а папа - тоже подкидывает. В квартире у нас чистота, какой давно не было и очень уютно. У окон целый "зимний сад", причём виноград стоит на низких табуретках у простенков и обвивает окна почти доверху, как трельяж. Столовая получилась чудная. Круглый стол стоит посередине, под лампой. В новом папином кабинете остался рояль, серый диван и скульптура "мальчик на тумбе". Кровать его стоит в самом тёплом месте за книжным шкафом и ширмой. Там тоже должно быть уютно, но пока всё завалено книгами, которые мы повытаскивали отовсюду и теперь просто не понимаем, как их расставить обратно. Такая масса чудесных книг, что даже из-за них стоит оставаться. Я знаю, Маруля, что тебе всё это очень интересно, поэтому так подробно всё это расписываю. Жду письма, как вы устроились; вот где, наверное, пришлось проявить изобретательность. Мне предлагают работу в порту; всё зависит теперь, будем ли мы уезжать или нет. На днях мы замечательно отпраздновали моё рождение, сладкого было столько, что до сих пор мы им кормимся. Первый тост был за вас, думали ли вы о нас в это время? Вообщем, как видите, война нас пока щадит. Но, наверное, немного нам осталось таких счастливых деньков. Ленинград по-прежнему спокоен и удивительно красив, чему немало способствует дивная погода, которая здесь твёрдо установилась ещё с июля. Нет, хоть я заядлая туристка, я - против отъезда. Город будут защищать, а там, может быть, и союзники помогут. Тогда, по крайней мере, и вам будет куда возвращаться. Всё время вспоминаем о Андрюшике, особенно его дедушка. Всюду, на видных местах расставлены его игрушки, кругом Андрюшины карточки. Помнит ли он всех нас? Как ему нравится на новом месте, в новых краях?
Целую. Наташа.
Письмо: Открытка от мамы в Базарный Карабулак.
29.08.41г.
"Дорогие мои, М. и И. и маленький Андрюшенька, будьте здоровы, живите хорошо. Мы получили телеграмму из Базарного Карабулака и письмо, написанное сразу после выгрузки, сидя на вещах. Ждём с нетерпением известий, что вы там нашли, как устроились? Пусть Ира тоже напишет письмецо. Я думаю, что для неё дорога была утомительной. Как денежные дела? Пока мы здоровы, живём хорошо. Что дальше с нами будет - трудно предвидеть. В Ленинграде пока тихо, но это, как перед бурей. В Балашов мы отправили вам пять писем. На всякий случай узнайте, сможет ли каждый из нас получить какую-нибудь работу"?
Крепко целую. Мама.
Письмо: Открытка от Наташи в Базарный Карабулак.
29.08.41г.
"Дорогие мои - И. М. А. и все новые Карабулацкие поселенцы, привет вам из Ленинграда, который, несмотря на все окружающего его опасности, стоит спокойно, красуясь над своей Невой. Тревог почти нет, с продуктами благополучно, живём, даже как-то совестно писать: "очень хорошо". Во всяком случае - уютно и превкусно обедаем, так, как мама просто изощряется, выдумывая всякие блюда из свежих овощей. Я тоже стала заправской домохозяйкой. Теперь уже после десяти нельзя выходить. Мы с папой никак не можем к этому привыкнуть. И мне даже пришлось как-то "по пути" переночевать у тёти Кисы. Но понемногу, даже такие непоседы, как мы, становятся домоседами, читаем много интересных книг, папа читает "Войну и мир". Напишите срочно нужны ли в Карабулаке: юрист, педагог и архитектор? А так же о всех вас и больше всего об Андрюшике, которого вспоминаем каждый день.
Целую. Наташа.
Письмо: От папы - не закончено.
Начато 31.08, а дописано уже 5.09.41г. поэтому - см. письма за сентябрь.
Вот - такова эта августовская корреспонденция из Ленинграда. Многое в ней умалчивается, о многом, умышленно, чтобы не огорчать и не тревожить наших переселенцев. Пишется оптимистически. Но пора, наконец, о самих путешественниках, о том, как они ехали, как попали вместо Балашова в посёлок Базарный Карабулак Саратовской области.
Глава 10. Путь эшелона.
Будущий завод №618 - был пока на колёсах. И оборудование, и станки, и документация, и, что главное люди, которые, прибыв в неведомые им самим края, должны будут всё устроить, наладить и в скорейшие сроки запустить производство на военные нужды. Директором будущего завода был назначен Игорь Леонидович Эристов, ещё молодой, по тем временам, для такой должности. Его заместителем был Наум Маркович Левинсон, вероятно ровесник Эристова, главным конструктором - муж моей сестры - Андрей Иванович Стефановский, очень талантливый инженер, друживший с Эристовым. Парторгом завода был Иван Васильевич Комиссаров. В 1944 году, за год до окончания войны, завод был переведён в город Саранск, где и находится до настоящего времени. Но часть сотрудников, во главе с директором И. Л. Эристовым были переведены в Москву на завод №498, в том числе с семьёй, но заочно и А.И. Стефановский, который в это время находился в длительной командировке в США. В Мордовском книжном издательстве вышла книга: "Всегда в поиске", в которой рассказана история завода, начиная, начиная с момента эвакуации из Ленинграда. В которой об этом этапе рассказано, впрочем, предельно сжато и схематично: "Приказ об эвакуации, обычный путь эшелона".
Приведём лучше рассказ И.Л. Эристова.
Эристовы - остались большими друзьями нашей семьи и по настоящее время. С 1944 года они живут в Москве. Как то, в году 80-м или 81-м, я попросила Игоря рассказать подробнее о их тогдашнем пути. Далее, записано с его слов.
"Наш эшелон окончательно выехал из Ленинграда 4-го августа 1941 года с направлением на Москву. Вагоны и платформы с оборудованием, теплушки с людьми - целый состав. Путь между Москвой и Ленинградом был очень опасен. Этот перегон, до Москвы ехали только по ночам, скорее торопясь проскочить опасные участки. Немцы непрерывно бомбили дорогу, до нас и после нас... Нашему эшелону повезло: проскочили! Конечно, были и "тревоги". По составу передавали приказ: "Покинуть эшелон, укрыться в канавах или кустах. Это было время, когда фашисты усиленно бомбили Москву. Было страшно и неопределённо - что же нас ждёт? Под Москвой эшелон пошёл дальним объездом. А дальше поехали уже спокойнее. От Москвы взяли направление на Сызрань, далее к Саратову. Откуда-то, из "Центра" заводу эшелону был дан приказ: "Станция назначения - город Балашов. Размещаться на территории мельницы №7. (Конечно раньше - никто из ехавших там не бывал и мельницы №7 в глаза не видал). До Балашова эшелон плёлся недели две, с длительными остановками, то в поле, то в лесу, то недалеко от каких-то деревушек, где можно было купить молоко, овощей. Жилые теплушки были оборудованы нарами. Эти нары были сооружены в два яруса по торцам вагона; посередине, на свободном пространстве была установлена печурка, на которой готовили еду. В теплушке, в которой ехали наши, помещались ещё Эристовы - Игорь Леонидович, его жена Валерия Николаевна, двое их сыновей Валера и Вова, Женя и Борис Елизаровы и бухгалтерша Елена Константиновна; на другой половине вагона - Комисаровы и ещё кто-то. Жёны с детьми располагались на втором ярусе. Детей сажали на горшочки, а взрослые свой туалет справляли при остановках поезда. Случались и забавные происшествия, когда кто-нибудь отставал и потом нагонял эшелон. Наша Марьяша, которая предпочитала забираться в самые дальние и укромные кустики, не раз бегала за поездом прямо, как "марафонец". Слава Богу, в пути никого не потеряли.
Наконец прибыли в Балашов. В соответствии со строгими законами военного времени надлежало - по прибытии на место назначения немедленно освободить вагоны. Освободить вагоны, это значит, что всё оборудование завода, персонал и их семьи просто под открытое небо, под сентябрьские дожди... Всё же, прежде чем "вытряхнуться" пошли на риск, решили поехать и самим ознакомиться с назначенным кем-то и где-то в "высших сферах, местом для размещения нового завода. Директор и его Зам отправились в Балашовский Горком Партии и оттуда вместе с местными деятелями - на мельницу №7. Ленинградцам с самого начала казалось странным: кто и как мог дать распоряжение лишить мельницу её основных функций молоть зерно. И это осенью - в пору уборки урожая, да ещё в дни войны! Демонтировать её и отдать в распоряжение предприятию с совсем иным технологическим процессом. Да и пригодны ли строение мельницы для расположения там станков? Не вредительство ли такое распоряжение? Ещё в пути к мельнице Балашовские руководители рассказали о том, что, оказывается, всё оборудование мельницы было поставлено из США. И совсем незадолго до войны начало работать, выполняя своё прямое назначение.
Какой же предстала перед Ленинградцами эта самая мельница? Это оказалась высокая башня, без внутренних перекрытий. Внутри её находились приспособления для помола, который осуществлялся сверху в низ. Т. е. - зерно ссыпалось в верхнюю часть башни и оттуда, самотёком следовало вниз. Да! Вот тебе бабушка и Юрьев день! Станки в высокой башне, да ещё без межэтажных перекрытий! К тому же мельница непрерывно работала, выпуская муку для армии, для страны. Вернулись. Снова Райком Партии. Звонки по телефонам: в Саратов (областной центр), в Москву, в Совнарком. А эшелон, между тем, стоит не разгруженный на запасных путях станции "Балашов", и всем известно, что за задержку вагонов ответственных надо немедленно отдавать под суд! Но Эристов, этот новоиспечённый директор, не ждёт, что бы его арестовали и судили. Он сидит безвылазно в кабинете секретаря Балашовского Горкома и звонит, звонит. Эх, Россия матушка! Такой ты была, такой и осталась! Так прошла неделя. Мучительная, и своей неопределённостью, и своими страхами, и своей ответственностью. К тому же, прибавилась и другая беда: среди вагонного населения началась дизентерия. Наконец получен новый приказ: Эшелону следовать на станцию Карабулак, расположенный на железнодорожной ветке соединяющей города Вольск и Саратов. И там, в районном центре Базарный Карабулак, находящийся в семи километрах от станции, занять территорию и помещения недавно частично сгоревшего Дома Культуры. Снова двинулся эшелон. Ж. д. ветка, соединяющая два волжских города - выгнута дугой и отдаляется от Волги; как раз на середине дуги и находится станция Карабулак. Наконец-то состав прибыл к месту назначения; стали разгружаться, перевозить оборудование, как-то, временно устраивать людей. Большое, когда-то богатое, торговое село, раскинулось среди степных просторов, над маленькой речкой Карабулак (Чёрная вода). Местность - пересечённая, есть и леса, красиво, вольно. По пути со станции - находится ещё одна деревенька, с прямо-таки Некрасовским названием: "Лесная Неловка". Сам посёлок Базарный Карабулак широко раскинулся по холмам и склонам с обеих сторон речушки. Вероятно - здесь жили богато, много каменных домов. Улицы - дороги очень широкие, но пыльные. Центр посёлка - базарная площадь, особенно оживлённая по воскресеньям, когда сюда съезжаются жители соседних деревень. На площади два крытых торговых павильона. Бывший Дом Культуры занимал большую территорию на стыке двух главных улиц "верхней" части посёлка. Основное здание - каменное, оно-то и горело и там многое надо отстраивать заново, но всё-же, Слава Создателю! Есть крыша над головой, сохранились кое-какие подсобные помещения, правда, грязные, запущенные, с выбитыми стёклами, полуобгорелые. Нашлось и место, куда завозить станки и прочее оборудование самого завода. И всё, всё надо начинать с самого начала. А тут ещё - забота о людях, о замученных, исстрадавшихся в долгом пути путешественников. Часть из которых - больны. А ведь им-то и предстоит вся работа, их-то руками и надо заново всё создавать! Первое время все спали прямо на полу в уцелевших комнатах здания. Дизентерия, начавшаяся ещё в пути, угрожающе распространялась. Заболела и наша сестра Ирочка. Очень боялись за малышей, за Андрюшу. Какое счастье, что с ними поехала и Марьяша, на её плечи и легли заботы и о Андрюшике и о заболевшей сестре. В довершение бед этого трудного времени оказалось, что электростанция посёлка недавно вышла из строя, не работает, и электричества нет. Игорь Леонидович начал свою деятельность в Карабулаке с того, что снял с работы директора электростанции, влепив ему и выговор за головотяпство.
И вместе с устройством самого завода, занялся также и восстановлением электростанции, назначив её начальником своего инженера Рахматуллина Касима Загерзяновича. Понемногу, но весьма сжатые сроки, сперва размещение, а потом и производство налаживалось. В бывшем зрительном зале стояли фрезерные и токарные станки, громыхали прессы. Завод начал выпускать купроксные, ртутные, селеновые выпрямители, а заодно ремонтировать трактора для соседней МТС. Работали по 12 - 14 часов в сутки, практически без выходных. Одновременно стали расселять людей по посёлку, в частных домах. Начальство завода заняло для своих семей просторный деревянный дом, бывшего Леспромхоза, а прежде дом купца Малютина. Дом с небольшим садиком и огромным хозяйственным двором находился прямо напротив завода. В этом доме поселились: Эристовы, Стефановские, Уствольские, Левинсоны и Комисаровы. Вот туда-то и полетели письма-треугольнички от родных, оставшихся в осаждённом Ленинграде. Письма на адрес: посёлок Базарный Карабулак, Саратовской области, ул. Степана Разина, дом №1.
Глава 11. Ленинград окружен.
Фашисты, готовясь к войне "Blitzkrieg" - провозглашенной Гитлером в его книге "Main Kampf" - рассчитывали на молниеносную войну. "Blitzkrieg" - это успешный штурм и взятие Москвы и Ленинграда и дальнейшие победоносные действия в стране. Они были хорошо подготовлены к этой войне, которую начали вероломно и внезапно для нас на линиях фронтов огромной протяженности - от моря до моря - тысячи километров! Поражаешься их подготовленности и организованности, но поражаешься так же, как слабо были подготовлены мы, хотя у нас прекрасно знали о планах Гитлера, о стягивании его армий к нашим границам.
За два месяца сражений они были уже на подступах к Ленинграду, 30-го августа заняли станцию Мга, перерезав последнюю железнодорожную ниточку, связывающую Ленинград со страной, а 8-го сентября захватили Шлиссельбург- "город ключ". Таким образом, от Финского залива (Прибалтику они заняли молниеносно) немцы дошли до Ладожского Озера, и вражеское кольцо замкнулось.
Наши стратеги, почему-то считали, что наибольшая угроза Ленинграду будет со стороны Финляндии с севера. И согласно генеральным планам развития города, застройка его велась на юг. И действительно к августу - сентябрю Финны дошли до своей старой границы по реке Сестре, и линия фронта на севере установилась в 30- 50 километрах от города, тогда как на юге, в районе Автова немецкие войска отстояли от него всего в 5 километрах...
Жители и дальних и близких пригородов бежали в Ленинград, и когда город оказался окруженным, в нем оказалось примерно около 2-х миллионов 880-ти тысяч гражданского населения и около 400 тысяч из них - были дети (из книги Павлова "Ленинград в блокаде").
Операции по окружению Ленинграда были завершены, и фашисты, укрепившись на самых выгодных для них позициях, начали систематически бомбить и по квадратам расстреливать весь город. Первые снаряды разорвались 4-го октября на заводе "Большевик" и на станции Витебская-Сортировочная. Но запланированный "Штурм" не состоялся. Но ценой, каких жертв! Начались 900 дней блокады Ленинграда.....
Письмо: (открытка). От мамы в поселок Базарный Карабулак.
2.09. 41г.
" Дорогая моя Марочка, вчера пришла твоя открытка от 22/УШ, где ты пишешь, что вы будете перебираться в отведенные вам две комнатки. Значит, в этом смысле вы неплохо устроились. Теперь самое главное для тебя - работа. Какие в этом отношении перспективы?... есть ли у А. Ив. Относительно тебя, какие-то возможности? Когда ты устроишься на работу, ты сразу будешь себя иначе чувствовать. Мне очень не хватает тебя, но я очень рада, что ты уехала. Наташа до сих пор не устроилась на работу, а ведь она тоже ищет работы всякой, не по специальности.."..
Письмо: От папы в поселок Базарный Карабулак.
31.08.41г.
"Дорогие мои, шлю вам привет из далекого Питера. Когда оно дойдет до вас, неведомо.."..
Дальше три строчки письма глухо замазаны черной тушью. Письмо прервано и продолжено уже в сентябре.
5.09.41г. " Начал письмо и не дописал. Казалось - не было смысла в то время. Сейчас - опять как-будто все наладилось. (С доставкой почты). В город опять пришли письма, появились на улицах московские газеты. Мы живем спокойно, хладнокровия не теряем. Не хотим верить, что наш город кому- нибудь достанется. Но положение конечно очень напряженное. Время пребывания на улицах еще сокращено: с 10-ти часов вечера мы уже дома. Нормы выдачи по карточкам сокращены, коммерческая торговля кончилась. Все полностью по карточкам. Поэтому даже те скромные средства, которые у нас имеются, их некуда тратить. Я послал вам вчера телеграмму с запросом, как у вас денежные дела? Можем - поделится. Погода в конце августа резко изменилась. Сумрачно, холодно. Частенько дождь". ( Снова большой кусок вымазан черным.)
"...Но еще раз повторяю, мы готовы на все, лишь бы враг потерпел неудачу. Хорошо, что вы уехали. Знаем, что едва ли вам очень хорошо живется. Но, конечно, много лучше нашего. Да и нам спокойнее, особенно за маленького. Здесь никаких привилегий для его возраста нет. Достать что нибудь очень трудно, так как в нашем распоряжении только самые близкие окрестности. Наташа без работы. Состоит в противохимическом звене дома, дежурит очень часто, в сутки по два раз, не считая " тревог". В промежутках помогает маме, делая дальние вылазки за картошкой, молоком. По-обычному бодра и энергична. Мама тоже без работы. Все школы для взрослых закрыты. Население либо работает на заводах, либо копает окопы. Теперь - уже поблизости, заканчивают то, что Мара с Наташей когда-то начали. Мама стоит в очередях, изобретает, чем нас кормить... Я работаю, сколько удается. К сожалению, стал сдавать и чувствую себя плохо. Мне будет очень трудно перенести неизбежные волнения и тревоги. Даже то, что курить приходится мало, не помогает. Вспоминаю постоянно о вас. То одно, то другое. Повторяю всякие Андрюшины словечки. Хотелось - бы получить весточку, что вы устроены во всех отношениях. Пока мы знаем, что вы обеспечены жильем.
Петька (кот) скулит и начинает покусывать хлеб. Крепко, крепко вас целуем. Андрею Ивановичу и знакомым - привет.
Папа".
Приведенные два письма - это только еще начало сентября. Мы еще надеялись тогда, что враг, в конце концов, и даже скоро, будет от Ленинграда отогнан. Но эта надежда не оправдалась. Наоборот. Близилось роковое 8-е сентября, когда фашисты, окончательно отрезав Ленинград от страны и развязав себе руки, смогли бросить все свои силы на осажденный город, рассчитывая устрашающим, могучим ударом сокрушить его оборону. Тогда мы не знали, что помочь защитникам города, в Ленинград прилетел генерал Г. К. Жуков и, благодаря его энергичным действиям, невероятной силы штурм был отбит. Да, Ленинградом фашисты так и не овладели. Но с первого - же массированного налета и бомбежки 8-го сентября - обрекли его обитателей на лишения и голод. По нашим последующим письмам, хотя писали мы осторожно, очень неполно и всеми силами старались не тревожить своими бедствиями родных, все - же можно судить, что обстановка продолжала ухудшаться. Но эти письма я приведу позже. Пора рассказать про этот незабываемый первый налет на Ленинград.
8-го сентября, в день "моего Ангела" (Натальин день) фашистами был организован грандиозный, массированный налет на город.
Описания этого налета можно найти во многих опубликованных материалах. Я помню, как зазвучал сигнал тревоги. Как всегда, если во время тревог я находилась в доме, я спустилась в наш двор-колодец, на свой пост противохимической обороны и оттуда мало что могла увидеть, только слышала гудение самолетов, треск зениток.
Один из очевидцев, мой сослуживец, Порфилий Пантелеймонович Некрашевич (сокращенно П.П.Н.), опытный инженер-строитель с первых дней войны был назначен инженером по объектам МПВО в жилых домах Фрунзенского района. Он мне дал прочесть свои заметки о Блокаде (блокадный дневник), выдержки из которого я здесь и привожу:
"С юга, со стороны Пулкова, на город двигались армады фашистских самолетов, волнами. Казалось, весь город покрывала сверху словно саранча. Загремели наши зенитки. С неба посыпались зажигательные бомбы. Стали возникать пожары, горело тут и там... На Международном проспекте (Московский проспект) одним из первых загорелось старое здание ЛИСИ. Дежурившие на крышах зданий гасили тысячи зажигалок. Грандиозный пожар занялся за Обводным каналом, вблизи Новодевичьего монастыря. Увы... это горели Бадаевские склады - главная продовольственная база Ленинграда. Как после оказалось, там при складах не было дежурных пожарных команд, а стояли только один пожарник, да сторож. Конечно, на Обводной канал съехались все пожарные команды города, но вода, которую лили пожарники, тут же испарялась. На складах горело все: хлеб, зерно, крупа, а сахар плавился, растекался и способствовал распространению пожара. Дым и облака пара вздымались в небо над районом складов на громадную высоту, до 1-го километра, и фантастически клубились. Ветра почти не было".
У нас в Дзержинском районе никто ничего толком не знал. Ни папы, ни мамы дома не было, сигнал тревоги где-то их задержал. Когда вечером, после отбоя, я поднялась в наши комнаты на 5-ом этаже, и передо мной открылось всё закатное небо, я была ошеломлена зловещим, но необыкновенно красивым зрелищем розовых всех оттенков, пунцовых золотых, белесых, клубящихся высоко над городом облаков. Ничего не понимая, я вообразила, что немцы изобрели какое-то новое химическое средство, что это облака сейчас накроют весь город, Я принялась плотно закрывать все окна, прекрасно, впрочем, понимая, что если это действительно что-нибудь новое, дьявольское средство химической атаки, то ничто уже не поможет, Но сигналов химической тревоги не было.
Когда-то, в детстве, в день моих именин, папа устраивал на даче для нас - эффектные фейверки, но в этот - 1941 год - именинная иллюминация превосходила все фантазии. И что она означала! Это мы ленинградцы почувствовали очень скоро. Это салютовали осажденному Ленинграду - Голод и Смерть.
Из тех же записок П.П.Н.: " Почти все запасы города находились к 8-му сентября на Бадаевских складах! Вот - беспечные растяпы из Госторга, из Управления по закупке продуктов! Не могли додуматься заранее рассредоточить продукты по магазинам и мелким базам, которых тысячи в Ленинграде! Да - это Госторг. У нас ведь повелось так: младшее начальство привыкло ждать, "пока прикажут" от начальства более высокого. А что - же думали в Смольном? Выходит - там не имели понятия о самых элементарных вопросах военного времени, понадеялись на русское "Авось", ведущее за собой преступление равное измене Родине. Было ли здесь вредительство, сознательная измена? Или положились на пример недавней Финской войны 39-го года, когда со стороны противника не было сделано ни одного налета на Ленинград? Не знаю - ответил ли кто нибудь из высокого начальства по закону военного времени за это преступление. Разбирая стратегию и тактику войны, особенно в условиях окружения, каждый начальник должен был знать военную азбуку... И вот и на Бадаевских складах - гасить зажигательные бомбы было некому... Дежурный пожарник и сторож были во время налета убиты. Но "стрелочника" конечно нашли. Через несколько дней судили начальника складов, забывшего поставить дежурных от МПВО.
Другие склады, Калашниковские (для зерна) тоже в тот день горели, но в них не было столько горючего материала, так как их, совсем накануне войны- очистили от зерна, отправив Финнам 2 эшелона пшеницы и муки. Как же все-таки так случилось, кто виноват в том, что после первого - же налета на город - он был лишен чуть ли не всех запасов продовольствия? Мне рассказывали дежурившие на крышах домов, что когда летели вражеские эскадрильи, то и над Бадаевскими складами и над другими объектами военного назначения, - поднимались ракеты... Но они, эти дежурные, не знали тогда, что значат эти сигналы... Увы, были в городе и лазутчики и изменники...
Пожар продолжался, не ослабевая и на следующий день, Смрад и гарь от горящих продуктов распространялись по всему городу, На следующий день магазины оказались пустыми".
Примечание 85года: В книге Д.В. Павлова " Ленинград в блокаде" - работе серьезной и обстоятельной. Ущерб, нанесенный пожаром для снабжения города продуктами, смягчен. Там сказано: "...За весь период блокады фашистам не удалось нанести серьезного ущерба запасам продовольствия, за исключением потери от пожара на складах имени Бадаева, небольшого количества муки и сахара, Потери произошли 8-го сентября - в день массированного налета вражеской авиации на город. От зажигательных бомб загорелись деревянные склады, построенные еще в 1914 году петербургским купцом Растеряевым. Постройки быстро воспламенились, а так как пожарные разрывы между складами были небольшие (10 метров), то огонь одного горящего склада сливался с другим, образуя большое пламя, что крайне затрудняло борьбу с ним. Потребовалось много усилий пожарных команд и рабочих, чтобы потушить огонь. На складах хранились для текущей потребности некоторые продовольственные товары, инвентарь, запасные части и другое имущество торговых организаций. Через несколько дней после пожара выяснилось, что погибло от огня 3 тысячи тонн муки и примерно, 2500 тонн сахара рафинада превратилось в густой сироп, подернувшийся сверху черной коркой. Позднее эту сахарную массу переработали на кондитерские изделия, так что потери сахара по оценке работников торговли, составили не более 700 тонн". Еще не пришло время объективно оценивать событие. Кто прав - мой ли сослуживец, получивший информацию непосредственно во время и на месте событий, автор ли книги "Ленинград в блокаде", надеюсь, разберутся в будущем. То-то в тот вечер 8-го сентября пировали, вероятно, фашисты на своих позициях под Пулково, на Дудергофских высотах, в Стрельне, любуясь на зажженный ими необычный салют... Посылали торжествующие телеграммы в Ставку к Гитлеру. Что теперь-то Ленинградцы перемрут от голода. И что скоро сам город будет взят... Но они не знали и не учитывали силы духа русских, самоотверженности ленинградцев. Один наш приятель, наблюдавший в тот день этот изумительный по красоте пожар из наших позиций под Красным селом - до сих пор помнит, какая это была потрясающая и жуткая картина.
С того дня положение Ленинграда и ленинградцев резко изменилось к худшему, Торопясь поскорее, до русской зимы, покорить город, гитлеровцы предпринимали налет за налетом, артобстрелы за артобстрелами. При налетах авиации - радио оповещало население заблаговременно, т.к. служба наблюдения и оповещения обнаруживала самолеты заранее, еще на подступах к городу; опаснее были артобстрелы, когда сигнал тревоги подавался в то время, когда на улицах уже рвались снаряды. В книге Н.В. Баранова сказано, например - что 17 сентября - снаряды рвались в городе на протяжении 18-ти часов 33-х минут. Таков стал для Ленинграда Сентябрь. А на подступах к городу все шли кровопролитные, тяжелые бои. И в районе Ропши 9-го и 10-го сентября были ранены двое из моих друзей - два Николая Фукин и Назарин, и я получила от них обоих письма уже из госпиталей, в которые они попали.
Письма из госпиталей:
Письмо: От Николая Фукина. От 15/IX 41 г.
"Ну, Натаха, здравствуй! Я - в Ленинграде, правда, жив, но не совсем здоров, лежу в Институте Герцена, мойка 48, палата 5.
Колька Назарин был ранен за день до того, как увезли меня; он ранен в левую руку (без повреждения кости) пулей, у меня же поврежден правый тазобедренный сустав. Кость, по-видимому (наверняка еще не знают) - цела. Лежу и рвусь обратно к своим товарищам, в мою роту. Раздражает возмутительное бездействие, Да, вот какие дела! А как остальные наши ребята? Где они? Что с ними? Сабур, Лебедь, Сергей и др.? Много событий и дел произошло с того времени, как последний день виделись в Доме Архитектора, Как и чем занят "Союз" наш? Меня очень занимает все это. Черкни. Писать неудобно, царапаю кое-как. Был все последние дни в аду, в особенности 9-го и 10-го, вышел без царапины. И вот глупый случай: переехало машиной, когда я отдавал ряд распоряжений по роте, было дело в лесу, и шофер - мерзавец, Мои бойцы хотели пристрелить, не знаю, выполнили или нет, меня увезли без сознания. Ну - пока.
Коля Ф".
(А вот - выдержка из письма Н. Фукина от 2.04. 1975 г. - воспоминания.)
"По просьбе Комитета Ветеранов Дивизии Народного Ополчения Ленинградского Фронта, необходимо... срочно выслать ряд сведений о первых боях нашего полка народного ополчения, о фамилиях участников этих боев. Все это возможно написать, используя мои записки - воспоминания, которые я вел лежа в госпитале, в 41-ом. У меня даже сохранились схемки расположения рот и батальонов во время 1-го боя и боя под Ропшей".
Николай Михайлович Фукин выслал в Комитет Ветеранов требуемые сведения, но дома у него сохранились все черновики. Николай Михайлович умер в марте 1983 года, вероятно, его документы хранятся у его внука - Гордеева Бориса Всеволодовича, молодого архитектора в Москве.
Письмо: От Николая Назарина. От 23/IX 41 г.
"Здравствуй дорогая Наташа! На днях я получил твое письмо (уже в госпитале). Признаться, я уже перестал ждать от тебя вестей. Так обрадовался. Ты не можешь себе представить, как приятно получать от друзей хоть какую- нибудь весточку, а особенно в такой обстановке. Большущее спасибо за то, что навестила моих. А сейчас у моих... неприятности, заболела мама, довольно серьезно, это во-первых, а во-вторых - нашим пришлось переселяться в другую квартиру: у нас выбиты все стекла; снаряд попал в крыло нашего дома.
Очень беспокоюсь за маму. У меня идет все хорошо, Рана почти заживает, Сейчас начали лечить электричеством и массажем. Кисть уже приобрела чувствительность, и пальцы начали пошевеливаться. Пока как видишь, мне везло. С 13-го августа до 9-го сентября я все время был в боях и на передовой. С Колей Ф. часто встречались. В последний раз видел его 9-го сентября, когда тащился раненым, Он сидел у аппарата. Хотел, кажется, подбежать ко мне, но оставить пункт не мог. Махнул ему рукой и поплелся дальше. Через некоторое время узнал о случае, произошедшим с ним. Такая досада: благополучно провести такие дни, а тут такой случай! Получил от него письмо, тогда еще не было окончательного решения врачей о травме. Меня, все-таки, иногда навещают мои друзья. Заходили - Таля (ты ее знаешь), Андрей Стандровский (!!) на несколько минут, а вчера... уже поздно, Николашка Лебедь! (Н.Н. Лебедев). Утром заглянула Лена, моя сестра, говорила, что К. Лебедев заходил к ним. Молодчина, зашел все-таки. И тебе спасибо, хоть написала. Мы с Н.Ф. уже стали думать, что нас забывать стали. А вот от Сереги (Катонина) так ничего и нет. Только вчера от Коли Л. Узнал, что он благополучно проживает там же. Ты коротенько упомянула в своем письме о нем, а где живет и с кем - нет. Все жду от него письма. С большим интересом читал твое письмо. Очень рад. Что о всех друзьях имеются сведения, только нет о Коле Сабурхане (Сабурове). Не сегодня-завтра, я выйду из лазарета. Постараюсь получить на дня 2-3 отпуск, тогда думаю повидать всех. Наташа у меня просьба к тебе: ты писала в своем письме о Альберте (арх. А.Синявер). Мне очень и очень нужно с ним повидаться (Коля Леб. тоже вчера упомянул о нем) по вопросу о дальнейшем. Пошли, пожалуйста, по моему домашнему адресу - телефон и адрес А. и как его удобнее и быстрее можно найти. Мне сейчас это очень будет необходимо. Относительно твоего предположения о сдаче хранения рисунков - не знаю, есть ли в этом смысл. Я не знаю условий. Лично поговорим об этом, если удастся. Ну, пока, всего хорошего Наташенька! Передай привет своим и всем друзьям. Пиши по домашнему адресу, мне перешлют.
Целую и крепко жму руку. Коля".
У Николая Михайловича Назарина тоже хранится рукопись с воспоминаниями о военном времени и о своих военных дорогах. Он рассказывал мне, что вел свои записи, когда уже после Победы над Фашистской Германией, катил на восток, побеждать последнюю державу пресловутой "Оси" - Японию. Путь был долгий. Коля лежал (и загорал) - на открытой платформе, на погруженных на ней надувных лодках, вспоминал о войне с немцами и писал. Впереди его еще ждали бои в Манчжурии, Китае и Корее. Прекрасные рисунки Н. Назарина, которые (см. письмо) я предлагала ему отдать на хранение в Дом Архитектора - пропали, как и все остальное в его квартире на Фонтанке.
Примечание: Кое-что из рисунков сохранила его жена Елена Михайловна Лавровская.
Когда я получила письма от своих раненых друзей, я сама уже устроилась на работу в Инспекцию по Охране Памятников (вернее - это мой папа меня туда определил). О работе в ГИОП - мне много нужно рассказать, но это уже - особая тема, поэтому я, нарушив хронологию повествования, сперва приведу здесь наши сентябрьские письма в Базарный Карабулак к своим. Общая обстановка продолжала ухудшаться, об этом можно судить по письмам.
Письмо: От Наташи.
16.09.41г.
"Дорогие, милые, любимые, привет из осажденного Ленинграда. Когда вы получите это письмо, все наверно уже кончится и враг будет отогнан. Сейчас же здесь не очень уютно, особенно ночные визиты (о которых вы, наверное, знаете по газетам). Во время которых, мы (трое) отсиживаемся под нашей лестницей в некоем "бомбоубежище". То есть просто, в какой-то дыре с дровами в милом обществе Антонины Михайловны и др. А наш чудный домик в это время - качается вовсю. К счастью налеты длятся недолго. И после них мы вполне успеваем мирно отоспаться в своих постельках (правда, - не раздеваясь). Вчера ночевали у тети Кисы. У них было бы все хорошо, но тетя Киса настроена слишком истерически: Беспокоится о дочери Тане, которая выехала в Ленинград и теперь неизвестно где застрянет. И о Галине (Галина Ивановна Уствольская - композитор, ученица Шостаковича), которая уехала в Ташкент с консерваторией.
Свои чертежи, фото и рукописи собираюсь сдать на хранение в Дом архитектора. Но вообще, мы вовсе, конечно, не собираемся "этого делать", как, впрочем, и остальное энное количество ленинградцев. Эх, Андрюша, Андрюша - большой! Не продлили вы вовремя вашего дела; теперь - бы были, как "у Христа за пазухой". Наше вам завещание: во что бы то ни стало, доведите это дело до конца (речь идёт о каком-то изобретении оборонного характера, которое так и затерялось в недрах бюрократии).
На днях мы получили от вас сразу два письма и были ужасно рады узнать, что вы всё хорошо устроились, Много смеялись над вашими "кастрюльными поручениями. Уже тогда, когда вы писали эти письма, отсюда нельзя было выбраться. Почему вы не получили ничего от нас? неужели вы, этакие растяпы не оставили на Балашовском почтамте заявления о пересылке корреспонденции в Баз. Карабулак? Получили ли деньги? Ирочка, мама очень беспокоится о твоем здоровье, береги себя (из писем мы узнали об её желудочном заболевании). Мы все здоровы, за исключением небольшого насморка у меня, т.к. я, будучи начальником хим. звена группы самозащиты нашего дома, простудилась, дежуря попеременно то на крыше, то в подвале, залитом водой. Настроение у всех у нас хорошее: утром чудное - уцелели, вечером - кислое (хоть бы мимо), ночью - спокойный храп. Все это представления началось в день моих именин, после того, как мы с гостями наелись пирожных от "Nord"-а, и пили чудное вино. Разрушения в таком большом городе пока мало заметны. Говорят - одна бомба попала в зоосад. Решетки разбились, звери разбежались, обезьяны залезли в чей-то жакт, белый мишка попал в кабинет директора, а бедная слониха, увы, погибла! Впрочем, по уточненным данным - она была ранена в хобот, от боли сошла с ума. И ее пришлось пристрелить. Бедный Андрюшенькин "кон"! Маленького Андрюшу расцелуйте тысячу раз и вообще пишите поподробнее, С завтрашнего дня я начну ходить на новую службу (пока - временно) к папе в Комитет по Охране памятников, в котором теперь "дел" значительно прибавилось.
Оба Коли (Фукин и Назарин) ранены, кажется легко. Пишите то - же, туда - же.
Наташа".
Некоторые комментарии к письму от 16/IX:
Кстати, если мы погибнем, имейте в виду, что часть наших вещей (по смене белья, моя шуба и замшевые туфли, все шелковые платья и все рисунки) находятся у Михаила Трофимовича (Иванова), а все белье, кофточки, скатерти и некоторые папины вещи - у т. Кисы.
Да, когда бомба с нарастающим визгливым и противным воем, пролетала близко, от сильной воздушной волны дом качало. Первый раз я не поверила своим ощущениям, но, увы - дом действительно качнуло, как при землетрясении, Потом мы к этому привыкли. Незадолго до войны, муж Ирины, Андрей Иванович, увлекся изобретением системы противоснарядной защиты. Насколько я понимала-создавалась силовая, воздушная "стена", отклонявшая снаряд так, что он поражал тех, кто его запустил. После войны Андрей продолжал свое изобретательство. Увы! Все его предложения попали в "Бюро Патентов" и там сгинули.
Во время налета на район Зоосада - сгорели деревянные "американские горы", там тоже грандиозный и эффектный пожар.
Письмо: От мамочки.
23/IХ 41г.
"Дорогая Ирочка, я получила твое письмо от 26/IХ, а затем от 2/IХ, а затем от 26/УШ из Москвы. Спасибо тебе за твои обстоятельные письма, теперь мы более ясно представляем себе, как вы устроились, как идет ваша жизнь... Ты подробно пишешь об Андрюше. Мы его часто вспоминаем и так хочется знать, как он теперь живет, чем интересуется, что говорит, помнит - ли нас... Единственно, что нехорошо - это твое нездоровье и отсутствие помощи тебе. Я чувствовала, что дорога и всё путешествие, очень интересные для Марочки, будут тяжелы для тебя с ребенком. Да еще с таким, как Андрюша, но острой болезни я не ожидала... Ты, сама, должна о себе позаботиться. Первое условие тебе известно: режим и диета. Надо это наладить... Большое осложнение в твое хозяйство вносит - малое количество посуды... Может попросить кого - нибудь, кто ездит в Москву или в Саратов - привезти оттуда посуду? А можно - ли или совсем невозможно найти тебе няню или домработницу? При твоем состоянии - это было бы необходимо..... Хотя к вам редко попадают газеты, но все же вы наверно знаете, что враг сейчас близко к Ленинграду. Мы - осаждены и испытываем и бомбежки и артобстрелы. Но ко всему привыкаешь. И налеты, и ночные тревоги вошли в наш быт. У нас заготовлены рюкзаки с бельем и необходимыми вещами и провизией. И вечером все это складывается в определенное место, что - бы, как только начнется тревога, сейчас же одеться и спуститься вниз. Мы спускаемся (с 5-го этажа) или вниз в подвальчик, который считается более надежным, или к Мане - дворничихе. (Дворницкая была устроена в помещении бывших каретников со сводчатыми, значит более прочными потолками). После отбоя возвращаемся и ложимся спать. Днем мне приходиться очень много бегать за продуктами, и я более-менее знаю, в каком доме лучше убежище, куда бежать в случае тревоги. В воскресенье мы ездили на трамвае за город, за картошкой. Мы хотели купить ее у колхозников, но они не продавали, а накопать ее в поле можно было, но у нас не было лопат, так что мы привезли домой не много, но все же дней на пять хватит. Был чудесный, солнечный, совсем мирный день, тревог за городом не слышно, мы там отдохнули. Сейчас с продуктами труднее, но все же пока, мы питаемся не плохо. Конечно, мы ничего не знаем о будущем. Мы подвергаемся опасности, но все же мы надеемся, что все переживем, что немцев отгонят от Ленинграда и мы с вами - увидимся. Сейчас - нельзя уехать, но все же мы надеемся, что нынешние тяжелые дни кончатся....
(От себя: они кончились для ленинградцев через 3 года!).
Хотела написать письмо Марочке. Я рада, что она работает, надеюсь, что она хорошо себя чувствует. Марочка! Позаботься о Ире, вечером помогай ей, что бы она поскорее поправлялась... Крепко целую моего милого мальчика Андрюшеньку и вас обоих".
Наташа
В 1971-ом году, во время встреч бывших "Бестужевок" в Ленинградском Университете, среди которых была и наша мамуля, одна из них - Нина Дмитриевна Калугина подарила мне свое стихотворение, посвященное "тревогам" и "отбоям"
Убежище.
Сирены вой зловещий, Слышней зениток гром
И радио взывает, Стоит ли, цел наш дом?
И каждый свои вещи, Но пушки замолчали,
Поспешно собирает. Затих воздушный бой,
Воздушная тревога! Мы мирно задремали
Спасайтесь ради бога! И слышен вдруг: Отбой!
Скорей, скорей в убежище Отбой, отбой, отбой...
На том конце двора! Идите спать домой!
Такая там уютная Над нами небо снова,
"Под - домная" нора... А на небе рассвет.........
Не все - ли то равно? Следов налета злого
Здесь лестница есть темная, Вокруг как - будто нет.....
Заделано окно.... Скорей домой добраться,
Воздушная тревога... Спать до семи часов
Здесь душно, здесь нас много, И на работу вновь......
Здесь слушаем мы пушки ------------
( И ушки на макушке),
Порядочно галдим, А где-то бой идет сейчас.
А если можем, спим. А где-то бой идет - без нас....
Вот слышны бомб разрывы А где- то бой идет - за Нас!
Останемся - ли живы?
Н.Калугина. Москва.
Еще сентябрьское письмо с поздравлением с именинами сестре Ире.
Занятно и характерно для того времени - оформление почтового листка. Такую почтовую бумага почтовое ведомство выпускало с разными патриотическими лозунгами, напечатанными сверху страницы.
Письмо: От Наташи.
Наверху - цитата. Привожу и ее:
"Железная военная и государственная дисциплина - залог победы над фашистскими варварами".
30/IX 41г.
"Дорогая Ирочка, поздравляю тебя с наступающими именинами и желаю главное - здоровья, и второе - бодрости духа, что по твоим словам не чувствуется. Поверь - нам тут приходится очень и очень трудновато, ежечасно мы благословляем судьбу, что вас всех здесь нет, и все - же, надо сказать, что все наши держатся хорошо, крепко и даже с порядочной долей юмора ко всем неприятностям, которые здесь происходят. Сегодня, например, отпраздновав мамочкины именины (Вера- Надежда - Любовь- 30/IX) хорошим обедом с красным вином дома, мы отправились к тете кисе продолжать празднество и на ночевку. Но только доехали до Садовой, как трах - бах - тревога! Запрятавшись в каком- то благоустроенном подвале (у папы для таких случаев всегда - книжка, у меня вышивание) и просидели там, в довольно хорошей компании часа полтора, а затем, "не солоно хлебавши" поехали назад, домой, так как после 10-ти часов ходить нельзя, а до наших было - бы еще далеко. Сейчас снова поставили чайник и я вот - пишу. Завтра все же, поедем на Максимилиановский переулок, т.к. там нас ждут и нам надо забрать назад часть наших вещей, которые в основном хранятся там или у Михаила Трофимовича Иванова (папин друг, жил на Невском). Тетя Киса плоха, ужасно трусит и психует. Говорит, что не выдержит до конца войны. Мы стараемся всячески ее развлекать. (От себя: напрасно мы так жалели эту тетю Кису. Она себя позднее так показала! Войну же она, конечно, пережила.) Письма от своих девочек, она, правда, получила довольно успокоительные. Так что об них она беспокоится меньше. Кстати: свяжитесь с ними письменно. Все-таки, между всеми вами, разлетевшимися из Ленинграда птичками, надо установить связь, тем более что Таня и Галя очень беспокоятся и скучают. Танин адрес: Абезь, Коми АССР... Галин: Ташкент - консерватория.
(От себя: Увы! Связь между двоюродными сестрами скоро оборвалась. Так как т. Киса постаралась позднее настроить их против нас враждебно.) Об этом ниже.
Мы очень огорчены, что вы еще не получили наших писем. В г. Балашов мы послали, по крайней мере, с десяток вместе с открытками. В одном из писем - Андрюшина фотокарточка, когда я снимала его в детском селе. Последнее письмо от вас было от 8/IX, оно шло двадцать дней. По-видимому, и наши где - нибудь плетутся. Хотелось бы знать, что у вас по - немножечко все устроилось благополучно и уютно. Последнее время мы начали беспокоиться, как бы вас не эвакуировали подальше. Это было бы жаль, т.к. судя по письмам Карабулак ваш - довольно симпатичное местечко, да и дорожные передряги видно вредны для тебя. С посылкой же вам кастрюль и утюгов, к сожалению, придется подождать, пока здесь кругом немного порасчистится. Мы твердо уверены, что это будет скоро. Крепко поцелуй Андрюшу и Мару.
Привет. Наташа".
Опасения о дальнейшей эвакуации возникли потому, что из газет мы знали, что фашисты рвутся к Волге.
Расскажу здесь и заодно об одном бомбоубежище, которое нам порекомендовали соседи по подвальчику. Однажды, может быть это было уже в октябре, мы, услышав сигнал "тревоги" и захватив свои аварийные рюкзаки - укрылись в замечательном бомбоубежище, устроенном в подвале под Спаса Преображенским Собором - нашим "соседом". Мы зашли за ограду садика при храме, нашли вход и опустились в обширное подземелье под церковью. Да, это было солидное убежище, мощные своды которого опирались на часто расставленные крепкие пилоны. Но, духота там стояла, прямо-таки невероятная, а народу набилось великое множество. И - темнота. Кое-где, в этой шевелящейся тьме виднелись слабые озарения, там теплились тонюсенькие восковые свечки. Но не тьма и духота были в этом убежище тяжелы нам, а какая-то, до материальности сгустившаяся враждебная атмосфера. Отовсюду, из углов раздавалось злобное шипение, упреки и проклятия. Нищие - прежде толкавшиеся у входа в церковь, святоши, прицерковные бабки - чувствовали себя здесь хозяевами и считали себя, так сказать, под "Божьим покровительством". Они - то шипели по - змеиному: "Вот, пришли! Безбожники, богоотступники, а как-то, как - беда, так прячетесь под божьим храмом! Что - б вас всех раздавило"! Жители ближайших домов, укрывшиеся в этом убежище, робко жались, молчали, в свару со святошами не ввязывались. Но мы трое, после этого вечера, больше уже никогда в то, пусть крепкое, но фантастически адское убежище - носа не совали. Увиденные мною позднее репродукции с некоторых мрачных и фантастических картин Гойи - передают отчасти дух этого "святого" убежища под церковью.
Глава 12. Я устраиваюсь на работу в ГИОП.
...Когда писались последние сентябрьские письма от 23-го и 30-го сентября, я уже была зачислена в должности районного архитектора в Государственную Инспекции по Охране Памятников. Устроится на работу в ГИОП, помог мне мой замечательный папа. И пора перейти к рассказу об этом благородном учреждении, его людях и о моей работе там.
Ленинградская Государственная инспекция по охране памятников находилось в ведении управления культуры Лен. Гор. Исполкома, начальником которого был Борис Иванович Загурский, человек энергичный, увлеченный, музыкант по профессии. До войны, ГИОП возглавлял архитектор Победоносцев Алексей Викторович, а его заместителем и главным архитектором был Николай Николаевич Белихов. В дни войны Победоносцев ушел в армию, а Белихов был назначен начальником ГИОП. Мой отец - Михаил Михайлович Уствольский, так любивший и так хорошо знавший свой город, еще с 20-х годов был активным членом общества " Старый Петербург - Новый Ленинград". Поэтому далеко не случайно - он уже много лет работал по совместительству в качестве консультанта по юридическим вопросам в инспекции. С Николаем Николаевичем он был дружен и Белихов очень ценил советы и помощь папы. Хорошо помню, как совсем уже в преддверии войны они оба прилагали все усилия, пытаясь спасти от сноса Знаменскую Церковь, находившуюся на углу невского проспекта и Знаменской улицы (ул. Восстания). Белихов приходил тогда к нам на Спасскую (ул. Рылеева) очень взволнованный. Они вместе составляли какие-то бумаги, которые Николай Николаевич возил в Москву. Но их попытки помешать решению ленинградских начальников не привели к успеху. И церковь была взорвана. Знаменательно, что отсутствие белого храма на площади у московского вокзала - спутало ориентиры фашистских летчиков, имевших задание бомбить московский вокзал, согласно имевшимся у них картам с обозначением церкви. Вместо вокзала они нацеливались на другие церкви района, в том числе и на большую Преображенскую. Теперь, когда в адвокатуре делать было почти нечего, папа был оформлен в ГИОП - постоянным сотрудником по административной части, получил карточку служащего, т.е. 2-ой категории. И вот - в один прекрасный день "бабьего лета", а именно - 16-го сентября я входила вместе с папой в проходную здания большого драматического театра на Фонтанке д.65, где в подсобном флигеле театра во время войны приютилась инспекция. До войны ГИОП помещалась где-то в Ковенском переулке в Дзержинском районе. Папа, предъявив свой пропуск, сказал обо мне: "Мой старший сын". Да, я была старшей из его дочерей, но ведь я знала со слов мамы, что он, ожидая первого ребенка, заказывал ей именно дочку. Вероятно, моя самостоятельность, спортивные увлечения, в частности альпинизмом и всяческие "инициативы"- создавали у него впечатление, что, скорее всего такими делами занимался бы мальчик, сын. Папа никогда не вмешивался в наши молодые дела. Но, конечно, интересовался ими, старался быть в курсе, иногда и помогал, во всяком случае - сочувствовал. Может быть, даже он и слегка гордился мною? И думал: так - бы вел себя вероятно именно сын.
Итак - сентябрь 41-го года. Папа ввел меня в Инспекцию к Белехову. У них собиралась уезжать (скорее - улетать, т.к. уезжать некуда было)- одна из сотрудниц - Елена Павловна Наумова, которую я знала еще по академии. Ляля Наумова были районным архитектором по Васильевскому Острову, в этом-то амплуа я и должна была ее заменить. Районные архитектора получали карточку 1-ой категории, что было совсем не плохо.
Ляля стала меня знакомить с делами и методами охраны, принятыми в Инспекции. Пришлось мне сознаться себе, что я, уже семь лет как архитектор, к тому же патриотка Ленинграда и всех его красот, а памятников архитектуры своего города, а тем более Васильевского Острова толков не знаю. Наши институтские увлечения всякими "измами" привели к тому, что для моего поколения - архитектура прошлого была, как - бы, вне профессиональных интересов. А тут ГИОП, памятники архитектуры, знание их, заботы и ответственность за их состояние! Что ж, тем интереснее!
ГИОП и Белехов. Инспекция представляла собой сплоченный, дружный и увлеченный своим делом коллектив. До войны - эта маленькая, специфическая организация была как бы особняком и ее деятельность мало была известна архитектурной общественности. Другое дело - война, осада, опасность, которой подвергались, наравне с другими зданиями - также и гордость Ленинграда - памятники его архитектуры. Роль Инспекции многократно возросла, именно здесь возникали конкретные и неотложные вполне профессиональные задачи. Вся повседневная работа Инспекции лежала на районных архитекторах. Это были опытные, давно сработавшиеся кадры, в основном - дамы. В их среду и под благожелательные крылышки я и попала, будучи и самой молодой, конечно, в деле охраны памятников, самой неопытной. Ну, а вопрос КАК охранять памятники в условиях военного времени - это мы постигали вместе в соответствии со складывающимися, часто совершенно неожиданными обстоятельствами. Все эти люди, и начальство, и районные архитекторы, и другие сотрудники, работали так самоотверженно, так преданно, что хочется сказать о некоторых из них поподробнее.
Большой драматический театр, на территории которого располагалась инспекция, находился в Куйбышевском районе города. Районным архитектором здесь был Николай Васильевич Зезин, молодой еще человек, с живыми блестящими глазами, подвижный и энергичный - "абориген" ГИОП. Увы, вскоре он стал одной из первых жертв блокады, об этом ниже.
Ольга Николаевна Шилина - опекала Октябрьский и кировский районы, но последний фактически отпал, так как стал уже оборонительным рубежом и находился в ведении военных.
Ольга Николаевна Шилина - высокая, статная, еще молодая женщина с красивыми пепельными волосами и светлыми глазами, блиставшими умом и иронией, всегда держалась спокойно, уверенно, очень трезво и по-деловому, и начальство и ее многочисленные клиенты всегда с ней очень считались. Такие ответственные объекты, как Адмиралтейство и Исаакиевский собор - находились в ведении Ольги Николаевны.
Другая дама, занимавшаяся Смольнинским районом - Мария Михайловна Налимова - была полной противоположностью Шилиной. Это была маленькая блондинка, подвижная, некрасивая, похожая на обезьянку, на все события бурно реагировавшая. Самым главным из ее объектов был, конечно, Смольный. Правда, независимо от ГИОП, Смольным, его маскировкой и всяческой охраной и обеспечением, занимались и гораздо более высокие инстанции, ведь там находилось ленинградское начальство. Но, и от Марии Михайловны только и слышно было: "Смольный, Смольный, Смольный.... И ее вечно туда вызывали.
Помню еще крупного, довольно пожилого мужчину, отвечавшего за Петроградскую Сторону и Острова. Больше всего, среди других его объектов, его занимали почему-то, как он сам говорил: "Князь - Владимирский собор". Много хлопот ему доставил пожар "Американских гор" и бедствия в Зоологическом саду и в Народном Доме.
Дзержинским районом заведовала - Арсения Артемьевна Барданьянц - Скромная маленькая женщина с горбатым носом и прической "крендельками" на ушах. Ее совсем не было слышно. Была в инспекции еще очень славная молодая женщина, красивая, застенчивая, с кроткими коровьими глазами - Вера Николаевна Кузовникова. Она была "вещевичкой" и опекала всевозможные, находящиеся в самых разных районах города ценные вещи, будь- то мебель, люстры, целые библиотеки и тому подобное, бывшие на учете в ГИОП.
Кому были поручены другие районы, я не помню. За мной же кроме Васильевского острова, закрепили еще и Александро-Невскую Лавру. То и другое находилось совсем в разных концах города, но, видимо, начальство рассчитывало на мои спортивные данные и ходкие быстрые ноги.
Уже после моего поступления в ГИОП, появились там и еще новые сотрудники, бежавшие из занятого фашистами Новгорода - архитектор Сергей Николаевич Давыдов со своей сестрой - искусствоведом. Старым "гиоповским" искусствоведом была серьезная и деликатная Елена Николаевна Глезер.
Николай Николаевич Белехов возглавил этот коллектив, а дополнительно создавал еще разные вспомогательные бригады. Но мало сказать - возглавлял.... Он буквально заражал всех своей энергией, вдохновлял собственной кипучей деятельностью. Это был небольшого роста, крепкий и стройный человек с гладко выбритым и свежим лицом, с блестящими умными проницательными карими глазами и с совершенно гладкой безволосой красивой формы головой. Он был очень подвижен, но в тоже время - спокоен и уверен в себе. Очень мобилен и очень находчив и отзывчив на любой сигнал. Очень внимательный и вдумчивый, он реагировал на все серьезно и очень быстро, несмотря на все его тревоги и заботы, вид у него был почти всегда жизнерадостный и этим он тоже заряжал людей.
Очень часто он отсутствовал, уезжая на объекты или на многочисленные совещания, тогда в кабинете оставался заместитель Белехов, Наболов, который, В противоположность начальнику Инспекции, был довольно флегматичен, любил побеседовать на общие темы, мало вникая в "районные" дела и вопросы.
В инспекции с самого утра раздавались - звонки, звонки, звонки, в кабинете начальства только и слышны были - телефонные разговоры. Или же - шли совещания и консультации, или поступали неожиданные и срочные вызовы на места. Требования явиться одновременно и на тот и на другой объект, да еще в придачу и к высшему начальству, требовавшему немедленно разрешить часто неожиданные задачи.... Да, инспекция с первых же дней войны стала подлинным штабом, в мотором сосредотачивались все проблемы и задачи по защите исторических и художественных объектов города. В первые месяцы - и пригородов. Штабом, который действовал решительно и незамедлительно. И все это поспевали и разрешали Н.Н. Белехов и его помощники. В этот то штаб, с его напряженной, взволнованной и разнообразной деятельностью я и попала и сразу- же оценили: да, здесь ведется самая нужная, самая полезная работа; именно архитекторы здесь нужны.
Задачи ГИОП все расширялись. Трудности - в конце 41-го и в начале 42-го- все увеличивались.
Бедствий и потерь - все прибавлялось.
Возможностей и сил - все убавлялось.
Наступал самый тяжелый и бедственный для Ленинграда и ленинградцев период.
И он был ленинградцами, павшими и жившими - преодолен.
Дела служебные. Согласно порядку, заведенному еще в мирное время, сотрудники ГИОП должны были три раза в неделю с утра явиться в помещения инспекции за получением инструкций, для отчетов и информации. Обычно это длилось до обеда, а потом все расходились по своим объектам. Но когда начались "тревоги", приходилось оставаться на месте. Первое время сотрудники спускались в убежище, но потом все оставались за своими столами, пережидая до "отбоя". Три раза в неделю мы отправлялись прямо в свои районы. Во время "тревог" - оставаться на улице запрещалось. Очень скоро я уже разведала, где и какие убежища находятся на моем пути, где уютнее, а главное - светлее, чтобы можно было в эти "бездельные" часы хотя бы... вышивать. В кармане или в противогазной сумке у меня всегда лежало рукоделье. Самым трудным на моем пути делом - было успеть без препятствий перейти мосты через Неву. Дальше, на острове находились уже мои объекты, и там я уже могла, даже и во время "тревоги", делая короткие перебежки, заниматься своими делами и обследованиями. В каждом задании - памятнике находилось некое ответственное лицо, комендант, отвечавший за объект. По инструкции - самым первоочередным требованием было обеспечить объект бомба или газоубежищем, которое, как правило, устраивалось в подвале здания и находилось в ведении МВПО. На чердаках зданий должны были проводиться противопожарные меры. Которые состояли в установке ящиков с песком и разными причиндалами для тушения (лопаты, крюки, баки с водой и пр.) Окраски всех деревянных конструкций суперфосфатом, считалось, что окраска эта предохраняет от загорания. И организации на крышах дежурств на предмет улавливания и быстрого тушения так называемых "зажигалок". Лестницы и выходы (входы) должны были быть обеспечены синими лампочками на ночное время. Окна - как и окна вообще всех домов Ленинграда - должны были оклеиваться крест на крест полосками бумаги, якобы для предохранения стекол от взрывной волны. Витрины 1-х этажей - укрывались деревянными щитами и засыпались песком.
Знакомясь, часто - впервые, со зданиями - памятниками своего района, проверяла: хорошо ли проведены все требуемые мероприятия, густо ли обмазаны суперфосфатом стропила, знакомилась (а со многими и подружилась) с комендантами зданий. Хорошо я знала и убежища при своих объектах и самыми "любимыми" из них были подвалы Меньшиковского дворца. Там были такие красивые и надежные своды, тепло, светло и я, если была вблизи, всегда при сигнале "тревоги" старалась добежать до "Меньшикова". Как красив был Ленинград в ту осень 41-го года! Как пышно кудрявились его бульвары и сады, наряжаясь в осенние цвета! Как величественны и стройны линии его набережных, а сама - то Нева, с ее поистине "державным течением"! А - золотые купола и шпили, сверкавшие под ясным и холодным бледно голубым небом! И так тревожно было за него мне, когда и в мою непосредственную задачу входило - заботиться о нем, оберегать его красоту.
Другим моим районом была территория Александро-Невской Лавры. Эти объекты были в вовсе мне ранее не знакомы, так как во времена редких прогулок по Неве. Обычно весною - смотреть на Неве ледоход. Лавра, тогда наглухо огороженная, оставалась в стороне. Теперь я "познакомилась" с прекрасным творением архитектора Старова - Троицким Собором, впервые увидела совсем пустую и величавую в своей простоте могилу генералиссимуса А.В. Суворова в Благовещенской церкви. В каменный пол там заделана мраморная плита с лаконичной надписью: "Здесь лежит Суворов". Какое же было понимание величия в простоте у людей 18-го века!
В Лавре я бывала редко. Но как-то, в самом начале моей деятельности в инспекции, пришлось мне провести очень тихий день на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры. Маститому архитектору Евгению Ивановичу Катонину и мне было поручено присутствовать на кладбище и проследить за порядком "захоронения" 2-х монументальных скульптур, которые должны были быть доставлены в этот день на это кладбище. Что за скульптуры? - два бронзовых быка, украшавшие с двух сторон вход в здание бывшего "Скотопрогонного двора", а проще - "Бойня". Здание Боен на Забалканском, позже - Международном, позже - им. Сталина, теперь - Московском проспекте. Построенного по проекту архитектора Шарлемана. Огромных быков, этих мощных копытных, стоящих у входа - работы скульптора Демут-Малиновского, было решено снять с их пьедесталов и "захоронить". Как и многие из скульптур, украшавших Ленинград. Но мы с Евгением Ивановичем так и не дождались в тот день быков с Международного проспекта. Мы мирно просидели на кладбище, ведя беседу, очень далекую от темы войны, слушали шорох листвы и глядели сквозь ветви и листья на высокое, холодное, чистое, но очень странное небо над городом. В небе висели большие, светлые и мертвые "рыбины": аэростаты воздушного ограждения. Их было много-много, неясные очертания их таяли в далекой перспективе; те же, что висели в небе поближе к нам, напоминали свое формой какие-то громадные, бледные колбасы. В народе их так "колбасами" и прозвали. Так и прошел этот тихий осенний день безрезультатно. Не знаю, что задержало доставку скульптуры, но позднее, и я при этом уже не присутствовала, бронзовые быки были все-же зарыты на Тихвинском кладбище, а ныне, они стоят уже в другом месте, у входа в Мясокомбинат, также на Международном (Московском) проспекте, но дальше.
В те дни, когда мы, районные архитекторы бывали в здании на Фонтанке, мы, в основном, занимались отчетностью и знакомились с новыми инструкциями, рекомендациями и приказами на нашем "охранно-архитектурном" фронте. Бывая на своих объектах, мы каждый раз должны были составлять акты о состоянии памятника на данный день, а здесь, в конторе,- мы заносили все эти данные в журнал и приводили в порядок самые акты, в случаях каких - либо неполадок или недоумений - совещались друг с другом или получали разъяснения у начальства. Эти канцелярские занятия были для меня скучны и неинтересны, но я понимала, конечно, что и эта нудная работа - необходима. Каждый районный архитектор имел свой стол в большой темноватой комнате, уставленной вдоль шкафами с папками и книгами. Здесь мы принимали и своих клиентов. Комната была проходная, дальше - располагался кабинет начальства и оттуда с самого утра доносился рокот голосов, телефонные звонки, кто-то входил, выходил; комната гудела, как включенный мотор. Там и действительно находился мотор, который гудел, пульсировал, заряжал энергией. Главным двигателем, сердцем всего аппарата ГИОП, был конечно - же Н.Н. Белехов. В здании театра находилась столовая, которая первое время еще функционировала и в которую мы имели пропуска. Настоящие хозяева театра - труппа БДТ - была эвакуирована. В здании же обосновался коллектив любимого ленинградцами "Акимовского" Театра Комедии- и в столовой можно было встретится с популярными артистами этого театра. С Гошевой, Сухаревской, Тениным, Фрейндлих, Юнгер, Зарубиной. Какое то недолгое время в меню обедов входило блюдо из - рябчиков! Странно, что - же это за рябчики? Оказывается голуби. Кто, каким образом поставлял этих голубей на кухню театральной столовой? Но голуби и другие птицы вскоре вообще исчезли из города. И этих пикантных жарких не стало, а потом и сама столовая перестала функционировать, хотя кое какие "сиропы" и "кисели" там изготовляли и продавали в буфетиках театра без карточек, но об этом ниже.
Камень с Фонтанки. Из книги Н.В. Баранова "Силуэты блокады" стр. 36 и 37: "....с 4-го сентября по 30 ноября фашисты обстреляли город 272 раза. Иногда налеты продолжались помногу часов....."." Фашисты разработали изощренную, изуверскую систему артобстрелов. Они были не только по промышленным и военным объектам города, но и по перекресткам людных улиц, по остановкам транспорта и т.д. "Это была тактика террора, посредством которой фашисты намеревались деморализовать ленинградцев, вызвать в городе панику".
"На стенах домов, расположенных на наиболее опасных при артобстрелах сторонах улиц - появились предупреждающие надписи"....(Но это было организованно позднее, уже после гибели тысячи жертв).
В один из первых дней моей деятельности в ГИОП был произведен артобстрел набережной Фонтанки в районе, где были расположены редакции газет, Большой драматический театр, Чернышева площадь и Чернышев мост через Фонтанку. Обстрел начался как - раз в те минуты, когда люди шли на работу, около 9-ти часов утра.
Помню: как я поехала на свою службу на троллейбусе (городской транспорт тогда еще действовал), маршрут которого пролегал по Загородному проспекту, а затем шла к Фонтанке по Лештукову переулку. Я даже и не расслышала грохота обстрела, но навстречу мне в панике бежали люди, крича: "Не ходите, не ходите! На Фонтанке рвутся снаряды!" Очень скоро наступила тишина. Люди, и, я в том числе, укрывавшиеся в подворотнях переулка, повысовывались оттуда и робко стали пробираться обратно, туда, откуда они бежали.
Очевидно - артобстрел перенесли на другие "квадраты" города. Собрались в общей инспекторской комнате и сотрудники ГИОП, взволнованные, напуганные, делясь своими только - что перенесенными переживаниями. Кое-кого еще не было. Позже других в комнату вошла Ольга Николаевна Шилина, жившая неподалеку на ул. Росси, как всегда - она была медлительно спокойна и иронична. Она молча подошла к еще пустующему столу Николая Васильевича Зезина и торжественно положила на стол довольно большой кусок гранита. "Зезину на память - сказала она - вот осколок от его любимой набережной, ведь он всегда так печется о своих объектах". Камень был от развороченного гранитного парапета набережной.
Но Зезина, такого всегда аккуратного, пунктуального, все не было. Забеспокоились. И не напрасно. Вскоре в инспекцию позвонили из ближайшего отделения милиции: "У нас лежит пострадавший, возможно - ваш сотрудник. Приходите для опознания".... Увы, в милиции находился убитый осколком от набережной - архитектор Зезин. а другой камень, принесенный Ольгой Николаевной, свидетелем, памятником страшного налета - все лежал на его рабочем столе...
Я помню, как хоронили Николая Васильевича, еще по прежним довоенным традициям. Тогда, в сентябре - смерть от артобстрела казалась трагедией, была страшно несправедлива. Это позднее, месяца через полтора - все привыкли ко всяческим смертям; привыкнув, стали равнодушными. Не так было в сентябре. Мы все избегались в поисках цветов, были заказаны погребальные дроги.
В один из сереньких, холодных осенних дней процессия уныло и медленно двинулась к месту успокоения своего товарища. И в тот день снова были артобстрелы и тревоги. И несколько раз на этом длинном пути провожавшие разбегались, укрывались в подворотнях, а дроги оставались одни посреди улицы.... До кладбища, не помню теперь какого, все же добрались. Были речи, свежую могилу усыпали цветами.... Какой контраст всему тому, что было потом.... Вскоре.
Глава 13. О золотых шпилях.
Часто, из-за артобстрелов или бомбежки, приходилось отсиживаться в нашей общей комнате - "районных", в Инспекции. Управившись с делами, начинались разговоры. Ольга Николаевна делилась своими тревогами. В ее Октябрьском районе находились два объекта, два шедевра, составляющие гордость и славу Ленинграда и, однако... ставшие для него и его жителей опасными: Исаакий с его величественным золотым куполом и Адмиралтейство, славившееся своей, воспетой еще Пушкиным, "адмиралтейской иглой". Они сияли, блестели, светились. И своим блеском служили прекрасными ориентирами для фашистов, окопавшихся под Ленинградом, по ним они корректировали прицелы своих дальнобойных пушек. Не только эти два объекта, но и Петропавловский шпиль, и острие над Инженерным замком, и многие другие позолоченные купола церквей служили прекрасными ориентирами врагу. С тех пор как начались систематические артиллерийские обстрелы города, начальству стало ясно, что все это "золота" необходимо срочно замаскировать, окрасить в нейтральные, блеклые, подстать ленинградскому небу тона, или укрыть, окутать чехлами. Ольга Николаевна говорила нам, что с маскировкой Исаакиевского собора проблемы нет, он будет окрашиваться; химики уже подобрали состав красок, для работ на куполе готовятся сетки, люльки, лестницы, нашлись и верхолазы.
Трудную проблему, по словам Шилиной, представляют высокие шпили, а в ее районе - шпиль Адмиралтейства. Как к ним подцепиться? Как навесить на верхушку блоки и петли? О том, что шпиль адмиралтейства нельзя было окрашивать - было уже решено, его надо было укрыть чехлом из мешковины, главный вопрос был в том - чтобы найти людей для выполнения маскировки на такой высоте.
А между тем... начальство из Cмольного и военное командование требуют, торопят, угрожают... Кому, чему угрожают? самим шпилям - гордости и красе Ленинграда. И сама Адмиралтейская игла с ее корабликом, ставшая позднее символом Ленинграда, другие шпили города, если их не удастся замаскировать, были приготовлены к уничтожению, к сносу! Да, да - так стоял вопрос в те дни. Потому так тревожно было в эти дни Инспекции по охране памятников, призванной их охранять, оберегать, потому так беспокоилась районный архитектор Шилина.
Звонки, звонки, звонки. Из штаба. Из исполкома и обкома. От главного архитектора города Баранова. Все требуют от Белехова того или иного решения и незамедлительного исполнения. В упомянутой выше книге - бывший главный архитектор города Н.В. Баранов сам пишет на стр.43 (но конечно несколько завуалировано): " Возникла срочная задача - максимально ослабить восприятие этих ориентиров. Некоторые горячие головы с ходу предложили разобрать башни, купола и шпили"....(не Жданов - ли, не Попков ли в своем замаскированном Смольном?)...". Но это мнение было отвергнуто сразу, как несостоятельное. ... (Ну, так уж, сразу ли?)... ". Не хватало еще нам собственными руками разрушать выдающиеся архитектурные и художественные ценности".... "Поскольку большинство ориентиров были памятниками архитектуры. То организация маскировки была возложена на Инспекцию по охране Памятников".... И Н.Н. Белехов делал в те дни все, что мог, но попытки срывались, а О.Н. Шилина и другие терялись от тревоги, что - же предпринять? Как?
"Ольга Николаевна,- если - альпинистов пригласить?" Я, еще стеснявшаяся проявлять среди многоопытных архитекторов ГИОП инициативу - обратилась с таким вопросом - советом к Шилиной.
"Альпинистов"???? Тут надо сказать, что тогда, в 30-е 40-е годы - понятие об альпинизме было у населения весьма смутное. Единицы могли быть в курсе - что это за спорт, и что он может дать данном случае. А большинство считало, что это, что-то близкое к безумию, опасное и никому не нужное увлечение.
Ольга Николаевна - ответила мне задумчиво: " Пойдите к Белехову. Как он отнесется к такому странному предложению?"
Улучив редчайший момент, когда Николай Николаевич был в своем кабинете один, я несмело вошла к нему: " Николай Николаевич, не пригодятся ли для дела маскировки шпилей - альпинисты?..".
"Что?" - "Николай Николаевич, я нынешней зимой занималась в альпинистской секции, готовилась к восхождениям... В нашем обществе (Спортивное общество "Искусство") - есть известные и опытные альпинисты, инструкторы..".
"Наташенька, что такое ваши альпинисты? впрочем - надо подумать... поговорим позднее".
Конечно, Белехов был удивлен, в недоумении, но ведь он был наш необыкновенно отзывчивый, находчивый Николай Николаевич. На следующий день он призвал меня к себе в кабинет. Оказалось, что он сказал об этом странном, но и любопытном с его точки зрения предложении, начальнику по делам Культуры Загурскому, а тот - был знаком с питомцем консерватории виолончелистом Михаилом Шестаковым и слышал от него о спорте смельчаков, покоряющих вершины гор и кое-что об альпинистской технике и приемах. Мысль - применить альпинистский опыт показалась интересной и даже многообещающей.
Мое второе свидание с Белеховым было коротким: "Я снимаю вас со всех Ваших объектов. Давайте альпинистов".
"Постараюсь". Но ведь легко сказать. "Вы - же представляете себе, Николай Николаевич, - мужчины, тем более спортсмены - все на фронте, в ополчении, воюют".....
" Ищите".
Так началось в ГИОП-е, в конце сентября это важное для Ленинграда мероприятие. И купол Исаакия и шпили адмиралтейства, Инженерного Замка, Петропавловской - были замаскированы и не светились уже в ленинградском небе. Как все это налаживалось, как происходило, я расскажу ниже. А, пока в сентябре предо мной стояла одна задача: " Дать альпинистов".
Наше спортивное общество помещалось в "Доме Искусств им. Станиславского" (бывшем дворце Юсуповых) на Невском, д.8. Вход был со двора, 2-ой этаж. К счастью - канцелярия спортивной секции оказалась открыта (там велись какие- то отчеты) и я с первого же захода застала в обществе его неизменного секретаря - Саара.
Услышав от меня, в чем дело, Саар сразу же схватился за свои списки. У него не только оказались адреса всех членов нашей спорт-секции, но, что еще важнее, свежие сведения (конечно, не полные): кто, где и чем в настоящее время занимается.
"Так...! Альпинисты.... Поищем.... Вот наши инструкторы: Кабанов Володя - воюет. Шестаков Михаил - воюет.... Тот, другой - тоже на фронте. Бобров Михаил был ранен, сейчас в госпитале. Вероятно, уже на поправке. Я проверил сам. В городе сейчас - Алоизий Земба, кто-то из девушек - Фирсова, Пригожева.... Запишите их адреса".
Первой я разыскала на улице Блохина Петроградской стороны - Лялю Фирсову. Это было не так просто. Ляля работала на каких-то погрузках, я оставила ей на квартире записку. Саар быстро разыскал Алоизия Зембу и узнал о Боброве. Ляля Фирсова пригласила Алю Пригожеву, а муж Ляли - Михаил Шестаков случайно сам встретился мне на Невском проспекте. Шестакову иногда удавалось откомандироваться из части в город повидать своих. И мы тут же с ним переговорили. Миша, конечно, загорелся, но не представлял себе, как ему перевестись из той военной части под Пулковым, где он служил, в город. Позднее он рассказывал мне, что, глядя со своих позиций на высотные ориентиры города, он и сам подумывал об использовании альпинисткой техники.
Настал день, когда четверо альпинистов из нашей секции - двое мужчин и две девушки явились в здание театра и спросили меня. Был приемный день, все были на местах и я тут же отвела своих друзей к Белехову. Вскоре все четверо - О.А. Фирсова, А.С Пригожева, А.О. Земба и М.М. Бобров были оформлены в ГИОП, как рабочие по маскировочным работам высшей сложности и получили карточки 1-ой категории. Им предстояла ответственная, сложнейшая, никогда ранее не знаемая работа в холоде, на ветру и в тихое время и во время тревог и налетов. Увы, не все из них выжили. Теперь - о героическом подвиге ленинградских альпинистов из Д.С.О. "Искусство". Здесь необходимо сказать, что вероятно, в городе можно было найти и других, более опытных и более известных и прославленных альпинистов из других спортивных сообществ. Дело случая, что я знала именно этих, из Д.С.О. " Искусство". Написано много книг, статей, есть даже фильмы. Моя роль в своеобразной альпинистской эпопее быстро закончилась, ведь в моем районе "золотых" вершин не было. Я виделась с отважной четверкой, когда они в конце месяца явились в ГИОП для получения продовольственных карточек на следующий месяц. Ляля Фирсова бывала у меня дома.
Расскажу немного об этой "четверке плюс один" (один это М. Шестаков, присоединившийся к работам на шпилях позже.)
Ольга Афанасьевна (Ляля) Фирсова и Михаил Шестаков были супругами. Вероятно, они поженились незадолго до войны. И Ляля была безумно влюблена в своего видного, красивого мужа. Оба они закончили Ленинградскую консерваторию. Он - по классу виолончели, она - как дирижер хорового пения. Оба были уже инструкторами альпинизма, много бывали в горах, а весной 41-го вместе с Володей Кабановым - руководили кружком начинающих, в котором начала изучать приемы альпинизма и я. На этих занятиях, как теоретических, так и практических с вылазками для упражнений в скалолазании в Тосно и в Саблино (дачные места по Московской ж.д.) я с ними и познакомилась.
Ляля Фирсова была среднего роста, очень ладная в движениях, веселая по характеру молодая женщина с выразительным круглым лицом, которое украшали живые и умные серые глаза под темными, прежде сказали - бы соболиными бровями. Щечки ее были смугло - румяными бархатистыми и напоминали спелые персики. Описание это относится к довоенному времени. Все мысли Ляли, с того момента, как она была оформлена в ГИОП на верхолазные работы - были о Мише, о том, что бы поскорее вызволить его из воинской части под Пулково и оформить ему перевод в группу маскировщиков. В течение зимних месяцев она без конца писала заявления, требования, разные бумаги в Штаб Ленинградского военного Округа, добиваясь этого перевода, который был осуществлен, наконец, уже весной 42-го года.
Михаил Шестаков был красив, высок, атлетически сложен, приветлив и улыбчив, но в нем все - же чувствовался порядочный себялюбец и эгоист. В те первые и самые тяжелые месяцы, когда производились первые маскировки, его все не отпускали из части, И он лишь издали, из своих окопов, глядел в сторону города. И ему представлялась как - бы горная цепь с несколькими, возвышающимися над нею пиками, не алмазно - белыми, как на Кавказе, а золотыми. Миша был не только музыкантом, но и изобретателем- конструктором. Так, глядя на эти золотые "вершины", он стал рисовать схемы и комбинации блоков и узлов для различных способов подтягивания и закрепления снастей.
Свои схемы и соображения он передавал Ляли, которая время от времени пробиралась к нему с риском для жизни, по ночам, через изрытые снарядами поля и огороды пригорода. Она предпринимала эти вылазки лишь бы повидаться с ним и получить его подпись под очередной бумагой в штаб фронта о переводе его на новое поприще. Пригодились ли тогда Мишины схемы - не знаю, но позднее, он с успехом применял свои идеи на сложных, скальных работах при строительстве Гидроэлектростанций. Такова была эта пара, казалось бы, такая дружная. Но когда жизнь опять наладилась, они расстались и даже... возненавидели друг друга. Во всяком случае, при моих, довольно редких встречах с Ольгой, она не может говорить со мной о Шестакове без возмущения и отвращения. Но это - уже после, после ...
Аля (Александровна) Пригожева - типичный, до плакатности образ советской девушки 30-х - 40-х годов.
Работала до войны делопроизводителем при спортивном обществе "Искусство". В первые же дни войны она отправилась в военкомат, но в ополчение её не взяли. В ту зиму, при верхолазных работах на Адмиралтействе, Инженерном Замке и Петропавловке - она была верной напарницей, более опытной и предприимчивой Ольги Фирсовой. Я познакомилась с Алей, в каком то весёлом туристическом походе по Васкелово - Кавголовским холмам в 1940 году. А мои друзья Фукин и Назарин знали её по альпинистскому лагерю "Рот - Фронт", причём, как мне кажется, Аля была неравнодушна к Николаю Фукину. Что же, в те годы, как это поётся в песенки Свиридова - "Все мы были влюблены..".. Я запомнила Алю, к которой так подходила её фамилия, - жизнерадостной, высокой, статной молодой девушкой с мальчишески спортивными движениями, оптимистической, без страха и сомнений. Была она по мальчишески коротко острижена, румяна, улыбчива, увлекалась кроссами, походами, плаваньем, лыжами и, конечно же была смелой и выносливой альпинисткой. Кто бы мог подумать, что именно Аля, самая молодая и, казалось, крепкая из пятёрки маскировщиков, первая погибнет от истощения, не перенесёт всех испытаний той первой страшной зимы.... Аля Пригожева не дожила до весны. Она умерла в марте 42-го года.
Алоизий Земба - стал другой жертвой войны и блокады. Алоизий, которого все, кто знал, называли любя - "Люсей". Алоиза я знала меньше других, так как он не участвовал в кружке для начинающих, в котором я познакомилась с другими альпинистами. Хорошо помню его облик. Он был долговязый, тощий, слегка сутулый, как многие высокие люди, блондин с немного, как бы размагниченными движениями и с удивительно кроткой, застенчивой улыбкой, благодаря которой, ему очень подходило его прозвище - "Люся". Он, вероятно, был очень добр. Алоизий работал на студии "Ленфильм" осветителем в цехе по обработки плёнки. Его сослуживец по студии Владимир Кабанов, тот, что руководил нашим кружком, ещё в 1937-м году затянул его в горы. И с тех пор Алоизий стал страстным альпинистом и надёжным товарищем в любых сложных ситуациях. И на работе и в горах товарищи любили Люсю за весёлый нрав, скромность и бесстрашие. Он участвовал в войне с Финляндией, получил ранение в ногу. Но больная нога не помешала ему вступить в бригаду верхолазов - маскировщиков, однако очень мучила его. Вдвоём с Бобровым они выполняли самые ответственные и сложные работы по маскировке. О чём я расскажу позднее.
Михаилу (Михайловичу) Боброву не исполнилось ещё 18-ти лет, когда началась война. И его, как и Пригожеву, первоначально отказались записать в народное ополчение, когда он вместе с товарищами по оптикомеханическому заводу, где он работал слесарем, явился в конце июня в военкомат. Однако, когда там узнали, что этот крепкий парень - опытный спортсмен, лыжник и альпинист - его приняли в специальный отряд для подготовки разведчиков. Привожу строки из статьи "Покорители Золотых вершин": "Трижды засылали Боброва в тыл врага, и всякий раз возвращался он в родной город целым и невредимым. Правда, последний раз получил лёгкую контузию", из-за которой и попал в госпиталь. Миша сам рассказывал мне, как Николай Николаевич Белихов, которого он очень уважал, в те дни особенно интересовался рассказами о его деятельности, как разведчика и восклицал, обращаясь к окружающим: "Нет! Вы только подумайте! Совсем ещё мальчик, а уже не только побывал в тылу врага, но и "языка" сумел раздобыть!" и постоянно просил рассказывать, как Миша всё это проделывал. Из госпиталя Мишу извлёк секретарь нашего спортивного общества товарищ Саар. Поскольку Михаил хорошо знал Зембу, ещё по горным тропам. И оба они не раз ходили "в одной связке" - они были уверены друг в друге и при этих необычайных "восхождениях", которые им пришлось осваивать на золотых вершинах Ленинграда - им работалось вдвоём дружно и слаженно.
 |
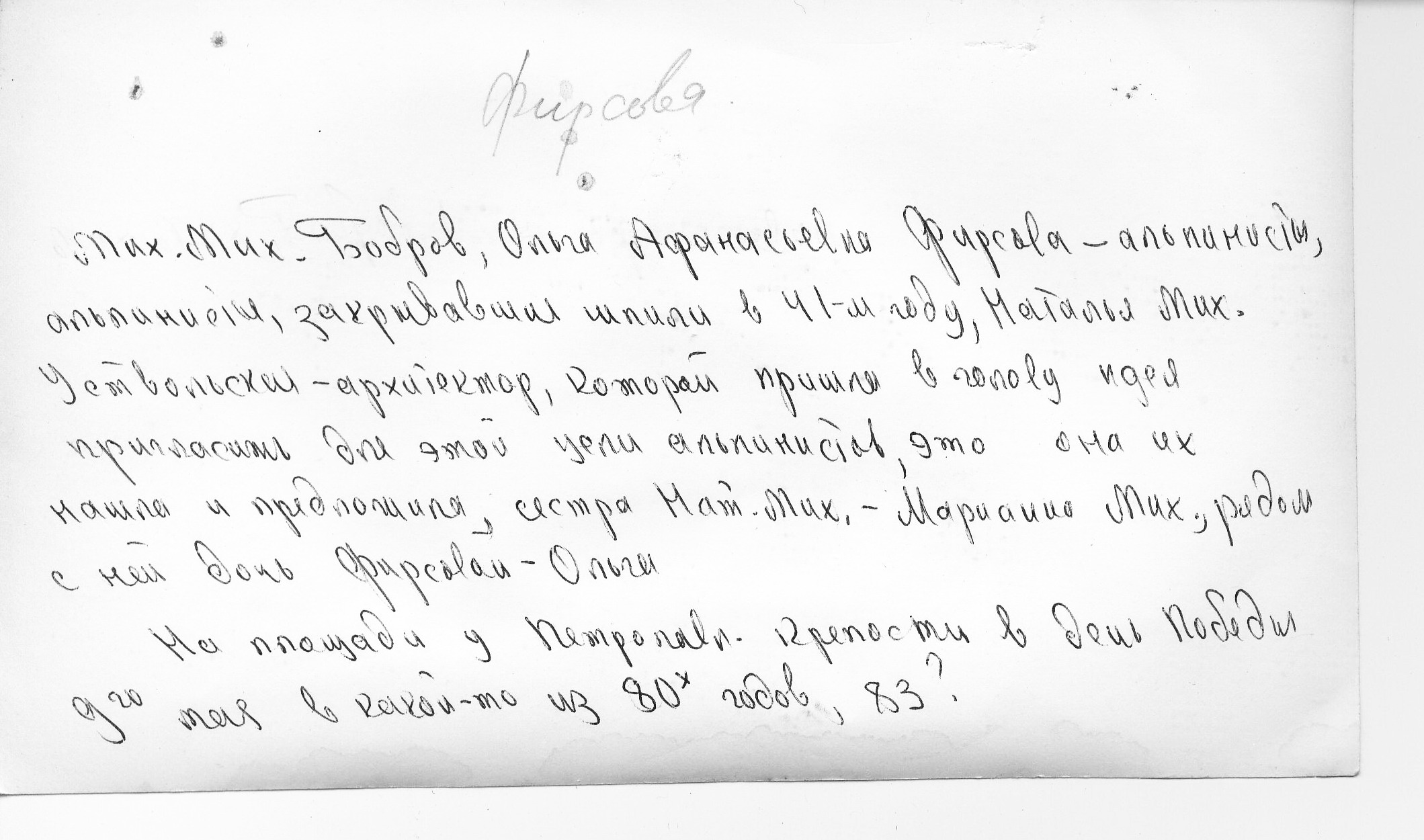 |
Вот несколько строк из статьи в альманахе "Белые Ночи" - "Уже, через несколько дней, оставшиеся в городе альпинисты из ДСО "Искусство" собрались в кабинете Н.Н. Белехова. Их было четверо молодых людей, готовых на подвиг: пианистка Ольга Фирсова, делопроизводитель ДСО "Искусства" Александра Пригожева, недавний рабочий оптико-механического завода "Прогресс", младший лейтенант Михаил Бобров, осветитель со студии "Ленфильм" Алоизий Земба. Тут же находились представители штаба Ленинградского фронта и МПВО, начальник управления по делам искусств Борис Иванович Загурский. Военный с ромбами в петлицах, ознакомив собравшихся с приказом командования фронта о необходимости укрыть от врага золотые вершины города, спросил альпинистов, смогут ли они справиться с этим заданием. Каждый из них не раз поднимался на горные вершины. Но то, что им предложили, было неизмеримо опаснее и сложнее. Тонкие, гладкие, колеблющиеся на ветру шпили были гораздо труднее для подъёма, чем горы. Технику альпинизма нужно было приспосабливать к совершенно необычным условиям. Причём каждый объект имеет свою неповторимую форму и конструкцию, требует особого подхода. А опыта подобной работы ни у кого нет. Альпинистов просили подумать".
В альманахе "Белые ночи" за 1973 год была напечатана статья: "Покорители золотых вершин" Владимира Красноярова (стр.434 - 464). Автор её Владимир Михельсон (Краснояров)- редактор газеты "Строительный Рабочий" и для данного очерка и для серии статей в своей газете за 1967 - 1968годы, познакомился с Бобровым, Фирсовой, Шестаковым и лично со мной. И постарался получить от них самих и от людей помнивших эти события, друзей погибших Зембы и Пригожевой - исчерпывающие сведения. Здесь и дальше, я использую данные из его статей, что бы полнее охарактеризовать своих товарищей и их исключительную деятельность в годы войны.
Был в активе ГИОП ещё один опытный и смелый верхолаз, строитель и обмерщик - архитектор Юрий Павлович Спегальский. Главным делом жизни Ю.П. Спегальского - было дело реставрации архитектурных памятников города Пскова. Тем более что и сам он был псковитянин. Но в дни войны Спегальский отдаёт все свои силы, умение и знания блокадному Ленинграду. И, хоть сам он никогда не занимался альпинизмом, он тоже включился в маскировочные работы на высотных точках города. Таких, как купол церкви Иоанна Предтечи на Лиговки, Адмиралтейство, купол церкви святой Екатерины на Васильевском Острове и других. Смотри книгу В.Булкина и О.Овсянникова: "Учёный, Зодчий, Каменщик" (Лениздат 1983 год, стр. 11-12). Я знала Юрия Спегальского ещё по институту. Он был очень самобытный, интересный, увлечённый человек, добрый и отзывчивый. В институте он ходил в русских смазных сапогах, косоворотке, совсем ещё молодой, красивый и румяный, он носил небольшую русую бородку, что тогда отнюдь не было в моде, подстригался под скобку, так что выглядел этаким добрым русским молодцем - псковичом. И вся его деятельность, и все его мечты были посвящены Пскову. В годы блокады, когда его родной Псков был оккупирован фашистами, он успевал ещё заполнять свой альбом рисунками посвящённые архитектуре древнего Пскова. К маскировочным работам на шпилях и куполах Ленинграда - привлекла его не я. Он состоял в штате ГИОП ещё до моего поступления в эту организацию.
Глава 14. На моих объектах.
После отъезда моей предшественницы - Елены Павловны Наумовой, я принялась изучать свои объекты и почти ежедневно вышагивала, а в начале, пока ходили трамваи, часть маршрута и ездила, через мосты, по набережным. Дальше путь проходил по Большому, Среднему и Малому проспектам и по уютным Волховским переулкам. Самым отдалённым из "моих" памятников на Васильевском Острове - был величественный Горный Институт. Только замечательный ансамбль - Стрелки Васильевского Острова вместе с Томоновской Биржей и ростральными колоннами, не подлежал моему надзору, там хозяевами были зенитчики.
Как красив был Ленинград в ту осень 41-го года. Как пышно кудрявились его бульвары и сады, красуясь и наряжаясь в осенние цвета! Как стройны и величественны линии набережных. А сама - то Нева с её поистине "державным течением"! А золотые купола и шпили, пока ещё светящиеся под ясным, холодно - голубыми небесами! И тем тревожнее было за него, за наш город. И особенно дорог становился город, когда ты знала, что в твои непосредственные задачи входило - заботиться о нём, оберегать его красоту. Ведь так беззащитно было всё это. Беззащитно перед ежедневными жестокими налётами, обстрелами, бомбами, зажигалками... А ещё постоянная тревога сжимало сердце, когда я, бывая на Васильевском, так далеко от родного дома, вглядывалась на восток, в сторону Литейного. Силуэт, так называемого "Большого Дома", главного здания ГПУ (НКВД, МВД-е, КГБ) на Литейном проспекте, виднелся почти отовсюду. Видела, или мне казалось, что там сейчас происходит обстрел, поднимаются какие-то дымы, пожары. Ведь там мои близкие, папа, мамочка. Целы ли они? Цел ли сам наш дом? Конец сентября и весь октябрь я посветило знакомству с памятниками Васильевского Острова. Главным образом с их чердаками. Глядя с противоположного берега Невы на Университетскую набережную, на весь этот парад прекраснейших сооружений, а какие имена: Маттарнови, Лукини, Кваренги, Трезини, Деламотт, Воронихин - сердцу было больно и страшно за них. Ведь все они выстроились, здание за зданием, именно на - "стороне наиболее опасной при артобстреле". И глядели на юг, туда, где был враг. Недаром профессор архитектуры Александр Сергеевич Никольский в своём замечательном блокадном дневнике пишет: "Ходить по Ленинграду не так-то просто. Как идти из Эрмитажа в Академию? По левому берегу мимо Адмиралтейства - но, только до моста. Площадь труда и мост "Лейтенанта Шмидта зверски обстреливались. Идти по Университетской набережной - пусто, голо, спрятаться некуда, место от Стрелки - открытое. А там немецкие дальнобойные..".. А.С. Никольский - "Ленинградский альбом", Искусство 1984г. Заодно приведу и ещё строчки из того же дневника. Никольский, по-видимому, предпочитал всё же путь по Адмиралтейской набережной. "Набережная, у Адмиралтейства в октябре была "населена" несколькими судами, из которых ни одного потом не осталось - все ушли" ... "Идёшь, и вдруг на обычном Ленинградском пейзаже вырастает немасштабное чудище - силуэт корабля"... "Синоды, сенаты, сам Исаакий теряли масштаб". К набережной Васильевского Острова тоже были пришвартованы корабли и мне также, как и Александру Сергеевичу было дико и странно присутствие этих громад почти рядом с классическими творениями.
Итак, посещая объекты, я проходила с кем-нибудь из членов МПВО через опустевшие залы музеев, коридоры с замолкнувшими аудиториями, сперва, по красивым парадным лестницам, потом - по узеньким и тёмным - на чердаки.
Как-то особенно - мне запомнился путь по анфиладам музея этнографии народов всего мира - "Кунсткамеры".
Современному читателю надо представить себе, что одно из старейших зданий города - Кунсткамера: музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (архитектор Маттарнови и др. 1718-1734годы) имело несколько другой, чем ныне, облик. Над его центральной башней - уже два века не возвышалась верхняя башенка с куполом и сферой - погибшая в грандиозном пожаре в 1747 году. Скажу здесь сразу же, что после войны, в первые же годы восстановления, учёными и архитекторами Ленинграда решено было не только реставрировать по сохранившимся чертежам его настоящий облик с полным завершением центральной башни, что и было выполнено 1947-1948 годах, благодаря энергии Н.Н. Белехова и руководству строительством архитектора Р.И. Какплан-Ингеля. Но и без вышки - Кунсткамера до войны с её своеобразным силуэтом была украшением Университетской набережной. Она была одним из первых зданий, которое я "проинспектировала" и впечатление от этого посещения было особенно ярким, несмотря на то, что самые ценные экспонаты музея отсутствовали - были надежно убраны.
... "Есть музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.
Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалёка привёз.
Чуять запах их странный, родной и зловещий
Запах ладана, шерсти звериной и роз..".
Н. Гумилёв. "Шатёр".
Странно и захватывающе интересно было проходить мимо не совсем опустевшей экспозиции, Предметов культуры народов, населявших и населяющих нашу планету. Тут и там, за стеклами витрин виднелись разнообразные экзотические изделия, головные уборы, оружие, пики, луки, томагавки. Всё это напоминало любимые мною с детства книги по географии или с описаниями путешествий и приключений... Мне так хотелось остановиться перед этими витринами, разглядеть своеобразные дикие узоры, изделия из перьев неведомых птиц, манекены в подлинных уборов самых разных экзотических племён. Но неутомимый комендант, не останавливаясь, вёл меня наверх, на чердаки, рассказывая, правда, по пути, что и где было здесь в мирное время. Особенно интересно было мне задержаться в первом этаже, где размещались экспозиции стран Африки. Ведь мой дядя - Пётр Константинович Дылёв, с которым наша семья время от времени переписывались, тогда уже 15-ь лет работал врачом среди народов Конго, посылал, иногда, в своих письмах - необыкновенно красивых бабочек, описывал некоторые свои впечатления об обычаях тамошних племён. Уже после Победы, дядя Петя написал нам, что он во время войны участвовал в английском экспедиционном корпусе, сражавшемся в Африке против гитлеровского генерала Роммеля. Но в 41-м году я об этом, конечно, ничего не знала. На основании писем моего дяди П.К.Дылёва в 70-х годах я сделала доклад в Географическом Обществе - "Русский врач в Африке". А в Кунсткамере познакомилась экспонатами, некоторые из которых были присланы музею, как самим Петром Константиновичем, так и его сотрудниками и друзьями. Несколько позже, на основании писем и воспоминаний мной была подготовлена об этом статья.
Одной из первых и своеобразных работ на набережной Васильевского Острова - было для меня, полученное от Белехова, задание по укрытию знаменитой Ломоносовской мозаики - "Полтавская баталия", расположенной на площадке второго этажа парадной лестницы здания Академии Наук (архитектор Кваренги). Белихов уже обдумал и подготовил, каким образом должно было производиться укрытие. Мне предстояло наблюдать, руководить ходом работ и фиксировать в дневнике всё это в дневнике. Эта огромная мозаичная картина имела довольно бурную "биографию". Она была затеряна, случайно найдена. И не без участия замечательного художника и археолога Н.К. Рериха, восстановлена в мозаичной мастерской при Академии Художеств и водружена на стену при входе в замечательный Конференц-зал в 1925 году. Теперь она подвергалась опасности в случае попадания артиллеристского снаряда в здание Академии Наук. Я впервые увидела этот шедевр Ломоносова, когда явилась в это здание осенью 41-го года, руководить работами по её укрытию. Задание было: предохранить эту вмонтированную в стену парадной лестницы громадную картину от повреждений бомбами или снарядами. Все необходимые материалы были уже доставлены. Обеспечены мы были и рабочими. Сама мозаика должна была обрабатываться специальным составом, рекомендованным химиками и специалистами Эрмитажа, а затем оклеиваться холстом на специальном клее. Всё это должно быть заделано защитным деревянным щитом. Когда эта работа была закончена, каменщики начали возводить на площадке лестнице перед картиной кирпичную стену на некотором расстоянии от деревянного щита, с тем, что бы пространство между досчатой перегородкой и кирпичами можно было постепенно засыпать сухим песком. Ряды кирпича росли, и щель всё выше заполнялась. Возможно, я упускаю сейчас какие-то, уже забытые мной, технические подробности. Задача эта была для всех нас, участников работ - интересная, проводилась очень тщательно и бережно и весь ход работ я записывала в свою рабочую тетрадку. Это была обычная "общая" тетрадь, переплетённая мною в пёструю матерчатую обложку. Когда я летом 42-го года покидала Ленинград, я передала эту тетрадку своей преемнице по ГИОП - архитектору Елизавете Николаевне Рахмановой. Но, вернувшись и снова оформившись в ГИОП, я эту тетрадку, к большому моему сожалению не нашла. Это большая потеря, ведь в тетрадке были подробно записаны все работы и происшествия на моих объектах в течение 11-ти месяцев 41-го и 42-го годов. Всё же, я надеюсь, что тетрадь эта, как и другие документы, когда-нибудь, обнаружится в архивах ГИОП. Об истории картины Ломоносова и её укрытии была статья архитектора Е.Н. Рахмановой в журнале "Архитектура Ленинграда". К счастью, за все 900 дней блокады, здание Академии Наук серьёзным повреждениям не подверглось. Теперь, как предвоенные годы - "Полтавская Баталия" встречает всех поднимающихся в конференц-зал Академии Наук, напоминая об исторических Победах Русского Народа.
Во дворце Меньшикова, уже в послевоенные годы, было сделано много интереснейших открытий. Обнаружена роспись плафона, отрыты помещения цокольного этажа до настоящих их размеров. Но всё это, начатое добровольцами, энтузиастами "общества охраны памятников", впоследствии ВООПИК и тщательно обследованное большим знатоком архитектуры Петровского времени - архитектором Александром Эрнестовичем Гессеном, происходило уже в конце 40-х, 50-х годах. В те же месяцы, что я опекала этот объект - интересны во дворце были его парадная лестница и облицованные голландской плиткой комнаты, так называемой, "Варваринской половины" на втором этаже. Как я писала уже раньше, бомбоубежище в подвалах дворца Меньшикова были тогда моим излюбленным приютом на время тревоги.
Академия художеств с её изумительным вестибюлем, лестницей, залами, выходящими окнами на Неву, с её холодными длинными коридорами и, так называемым, "циркулем" - всегда была для меня родной. Но, так как архитектурный факультет был передан в ЛИИКС, то дипломный проект я защищала уже не в её стенах, а в неуютных новых помещениях ЛИИКСА (впоследствии - ЛИСИ). Как пронизывающе холодны и мрачны были знакомые коридоры в военные годы! Помню, как я явилась в Академию по сигналу, что в здании большие разрушения от фугасной бомбы и как я, вместе с тогдашним директором Академии архитектором Виктором Фёдоровичем Твелькмейром составляла акт об этих разрушениях. Кажется, это было в феврале. А весной, в круглом дворике здания, по инициативе Виктора Фёдоровича и других энтузиастов, проживающих всю зиму в убежище-общежитии Академии - были устроены трогательные огородики и меня даже угостили как-то выращенными там листочками салата. На линиях внутренней части Васильевского Острова - я вела наблюдение и за прелестным Фельтеновским храмом, и за Андреевским собором, и за церковью "Трёх святителей", а так же посещала красивые особняки на маленьких Волховских переулках - дома Стейнбек-Фермора, Яковлевых, графа Сюзора. В этих особняках были анфилады красивых комнат с расписанными потолками и очень изящными, красиво нарисованными белыми кафельными печами и каминами. И конечно, на всех этих объектах с их оборудованием - чердаки, чердаки, главное - чердаки...
Глава 15. М снова письма... теперь - Октябрьские и Ноябрьские.
Письмо: Две открытки, одна - продолжение другой от мамы.
9.10.41г.
"Дорогие мои девочки, сегодня все получили письма, и мы получили пачку - всего 6 штук. Так-что, пишите почаще. Всё-таки письма доходят. Мы вам посылали письма и телеграммы. Кажется 12.09, папа перевёл вам "молнией" 300 рублей. Сегодня папа ушёл из дому с тем, чтобы опять послать "молнию", так - как мы тревожились не получая от вас ничего после 28. 09. Беспокоимся и потому, что боимся - не эвакуировали - ли вас дальше, ведь теперь холодно и это труднее; да нам неизвестно и как ваши денежные дела. Мы все здоровы, живём дружно, привыкли к бомбёжкам и к артиллерии. Дожидаемся, когда наши отгонят немцев. Сейчас тревога, и я пишу вам... Наташа работает, папа, конечно, тоже, я занимаюсь хозяйством, которое теперь, не знаю - легче или труднее, потому-что без карточек ничего не достать и не стоит ездить и добывать. Но, всё-таки время на хождение уходит. Питаемся, конечно, хуже, чем раньше, но, всё-таки, пока, ничего... Наташа имеет 1-ую категорию и завтракает в столовой на работе, а обедает дома. Иногда мы ездим к дяде Ване с ночёвкой, что бы не застрять по дороге. Мы надеемся, что нас не отрежут от вас, что придётся, конечно, нам потерпеть всякие неприятности, но немцев отгонят, а тогда и в Ленинграде будет подвоз продуктов. И вырваться к вам будет можно... Тревога кончилась. Крепко целую моих девочек и моего мальчика.
Держитесь крепко. Мама".
Письмо: В Базарный Карабулак. от Папы. (Написано в день его рождения)
10.10.41г.
"Милая, дорогая Ирочка!
Мы несколько дней тому назад прочли в "Ленинградской Правде, что в город доставлен большой транспорт писем: 80 тысяч штук. Мы всё ждали, что и на нашу долю найдутся там весточки. И не ошиблись. Вчера получили целую пачку писем твоих писем от разных чисел, начиная с 30.08 до 22.09 включительно. Раньше к нам приходили письма от разных чисел, так-что, в общем, хотя и в разнобой, но все письма доходят. Писали много и мы вам. Сейчас прочёл, что вы, наконец, получили наши первые Балашовские письма. Ничего ты не говоришь только об Андрюшиной карточке, дошла ли она и как понравилась? Посылали мы и телеграммы. Наконец, были посланы два перевода телеграфом: на 300 рублей 12.09 и на 200 рублей 9.10, то есть вчера. Эти деньги переведены частью за Марочку, которая писала нам, что она у тебя в долгу, частью - так, вообще в помощь. Мы зарабатываем здесь немного, но тратим и того меньше. Дальше пайка, сейчас некуда тратится. Так-что с деньгами у нас благополучно, и мы, даже, имеем некоторый запас на тот случай, если вдруг откроется возможность навестить вас, и не было задержки по этой линии. Все здоровы. Мама даже ухитряется не ...(дальше в письме неразборчиво), что является общим признаком для всех. Но Наташа изрядно сдала, похудела. Однако бодрости мы все не теряем, хотя впереди ещё большие испытания. Прежде всего, надо кормить фронт, а нам не грех ещё потерпеть и подтянуть животы. Продовольственный вопрос, конечно, очень серьёзен. Пока, что, нам, пережившим 19-ый год и начало 30-х - не приходится особенно пугаться. До сих пор, например, детский паёк, более, чем приличен. Может быть, только молока не хватает, остальное даётся по хорошей норме. Так-что и некоторые родители при детях, как например, Шульгины (соседи по квартире) и Маня (дворничиха) - неплохо питаются. Работают учережденческие и общественные столовые. Кормят там довольно разнообразно. Правда, прикрепиться к ним и попасть туда - не просто. Продовольственный вопрос, естественно, составляет одну из главных тем всеобщих и повседневных разговоров. Люди настолько этим увлекаются, что у нас, например, в отделе - было серьёзное внушение работникам не вести в служебное время разговоров о том, куда вчера упала бомба и какой суп дают сегодня в столовой. Бомбы, кстати сказать, падают везде, но за последнее время особенным вниманием врага пользуются южные районы города, от Загородного, и, в особенности, от Обводного канала на юг. Те же районы находились и под артобстрелом. Большинство жителей оттуда переселились на Васильевский Остров и на Петроградскую Сторону, так как с севера финнов дальше старой границы не пускают. Наши переживания описывать не стоит. Всяко бывает. Но, в общем, мы приспособились, зря не пугаемся, зря не бравируем.
Бывает, что не досыпаем всю ночь, бывает, что отсыпаемся за две ночи. Во многом, бомбёжки вошли, можно сказать, в наш быт. Днём, иногда, бывают беспрерывные тревоги, часто до 10 - 12-ти часов. Это путает деловые и хозяйственные планы, но морально переносится легко. Днём мы явно чувствуем крепкую защиту нашей авиации. Вечером и ночью это не так заметно, да и технически труднее. Поэтому тяжелы, главным образом, ночи. Живём интересами фронта. Помогаем, чем можем. Я, в частности, имея опыт, понимаю обстановку, и имея серьёзную информацию, в определённых пределах, конечно, ставлю себе задачей, всюду, где только могу, рассеивать панику, поднимать дух и разъяснять всё то положительное, что можно и надо усиливать в каждый данный момент. Следует к этому добавить, что Вообщем Ленинградцы, за исключением отравленных неверием и психически надломленных людей, их не так уж много - держатся бодро и крепко. В частности наша семья и, несмотря на горечь разлуки, мы, всё-таки, счастливы, что вас с Андрюшей здесь нет. Бедные матери и бедные дети, здесь застрявшие. Бесспорно, можно считать установленным, есть много живых непосредственных свидетелей, что мы воюем не с армией, а со зверями в образе человеческом. Никакой пощады они никому не дают. Не дадим её и мы им. Накопилось достаточно гнева и мести. Но, само собой понятно, что в такой смертельной схватке - детям не место. Боимся мы одного, что бы вам не пришлось ехать куда-нибудь дальше. Сейчас, по всему видно, что вы устроились. И плохо и досадно было бы всё это ломать. Крепко тебя целую, поцелуй за меня моих дорогих. Чувствую себя ничего, и обо мне не беспокойтесь.
Папа".
Письмо: От Наташи.
Священный долг перед любимой Родиной зовёт
Нас к новым победам и подвигам.
Вперёд на врага, богатыри Советской Страны!
13.10.41г.
"Дорогие Марочка - как тебе нравится этот эпиграф? Это у нас продаются такие "паперти". Вчера и позавчера мы получили 13-ть ваших писем и открыток, начиная с 7-го и кончая 24-м сентября, а так же телеграмму к тёте Кисе от 22-го. У нас это всегда так с письмами: то пусто, густо. Теперь, мы, по крайней мере, знаем во всех подробностях, как вы там устроились, как ты работаешь и прочее. Очень огорчаемся Ирочкиному нездоровью. Радуемся, получая такие забавные известия об Андрюшике и, вообще счастливы, что вас здесь нет. Только вот, в связи с последними известиями по радио, опять начинаем беспокоиться, как бы вам снова не пришлось путешествовать. Это хорошо, что вы знаете, благодаря радио о Ленинградских делах. Думаю даже, что вы знаете об этом больше, чем мы сами. Во всяком случае, не беспокойтесь. Не так страшен чёрт, как его малюют. К "зажигалкам" мы здесь вообще привыкли. Ляля Гроздова (соседка по квартире и приятельница Марьяши) - главный пожарник нашего дома, теперь совсем герой. Так как за быстрое и умелое тушение - им вынесли благодарность. Что же касается "фугасок", то от них люди вполне спасаются в убежищах. Правда, такового, в нашем дурацком доме до сих пор нет, хотя и можно было кое-что устроить. Но мы - уходим, спускаемся в квартиру дворничихи Мани Хабибуллиной, и там отсиживаемся регулярно. Там раньше был каретный сарай и перекрытия там несгораемые, а, кроме того - светло и тепло. Папа там читает, а я - вышиваю и столько навышивала, как никогда в жизни. Как на зло, во всём СССР, говорят, дожди, а у нас стоит, а у нас стоит всё время изумительная погода. За весь сентябрь было, наверное, только два дождливых дня. Кругом - такая красота, настоящая золотая осень. Как жаль, что нельзя уехать в какой-нибудь пригородный парк... Но - холодно. По ночам выпадает иней, наши уже ходят в зимнем. Мы здесь мечтаем о дождях и туманах, надеемся, что тогда можно было бы спать спокойнее, сейчас же жизни нет. Посуди сама: с утра - на работу, в шесть - домой, только пообедаешь, уже гудят, изволь спускаться к Мане, а потом не раздеваясь в кровать. А затем, в зависимости от обстоятельств, вскакиваем по несколько раз за ночь. Самое худшее, что ни раздеться, ни помыться, как следует, ни пошить, ни постирать, ни куда-нибудь сходить. Впрочем, мы ходим по гостям, а также и к нам ходят. В гости теперь ходят с ночёвкой, со своими манатками, с хлебом и сахаром. Обычно, по воскресеньям мы бываем у т.Кисы. Частенько к нам заходит Леночка Сабурова (жена моего друга Коли Сабурова), которая очень скучает у себя дома и беспокоится о Коле, о котором ни слуху, ни духу. Фукин и Назарин были ранены. Назарка уже выписался, тогда я не успела навестить его в госпитале. Сейчас он в батальоне для выздоравливающих. Коля Фукин - ещё лежит, так как рентгеном у него обнаружили трещину в тазу, так-что ему придётся ещё долго проваляться. Оба рвутся снова в бой. Кука (Фукин) страшно скучает без своей роты, а я, когда ухитряюсь его навестить, таскаю ему всякие книжки".
(На новом листке):
Не позволим фашистским варварам ходить по Советской Земле! Сокрушительным ударом уничтожим фашистских гадов!
"...Остальные наши друзья находятся здесь. Сергей и Лебедь - работают. Катюша Переселенцева (любовь Коли Лебедева) устроилась на фабрику, плетёт сети. Серёжина Таня (Рощина) на днях ожидает младенца. Вот бедная!
(Об истории с Сергеем Катониным и Таней Рощиной - написано в книге Н.В. Баранова "Силуэты блокады". Написано очень однобоко и некрасиво. И автор получил много писем с протестами. Я, тогда, в 41-м очень расстроена была всей этой историей, и, ниже, остановлюсь на этом подробнее.)
Надя Платонова (бывшая Ефимович) в Саратове, писать ей до востребования. Кстати, и Терентьева, наша портниха, тоже в Саратове. Если вам нужна посуда и кое-что из хозяйственных вещей - спишитесь с ними, может быть там легче достать такие вещи. Им же, возможно, надо будет привезти из Карабулака что-нибудь съестное. На днях у нас побывала твоя Лялечка (Антонович). Она очень хорошенькая и нарядная. Поступила "домработницей" к своей злейшей врагине, бывшей жене Бориса (художник Татаринов). Борис же - занимается их хозяйством и изобретает разные несусветные блюда из аптекарских товаров. Например, оладья из крахмала и пр. Неслуховские все живут мирно, только Таня ужасно трусит. Не вылезает из убежища, где у неё украли 100 рублей, и еле-еле рискует подыматься домой - пообедать. (Семья Неслуховских жила на Петроградской Стороне, на Зверинской улице в доме №2. Где я сейчас пишу эти записки, так как с конца 84-гогода, адрес этот так же и мой. Это - старинные друзья моего отца. И сведения о них в 41-м году мы имели от него. Глава семьи - генерал Неслуховский Константин Францевич. У него три дочери - Мария, Татьяна и Ирина. Мария Константиновна - жена поэта Николая Семёновича Тихонова).
Николай Семёнович - делает какие-то большие дела и пребывает в оптимистическом настроении. Таня Гроздова (соседка по квартире, сестра Ляли, см. выше) ходит ещё более расфуфыренная, чем когда бы то ни было и говорит, что работает сестрой в госпитале. В чём, у нас в квартире сильно сомневаются. Стефановские (тоже наши соседи, мать и сестра Ирочкиного мужа) перебрались к своим, на Петроградскую Сторону. Но о них вы, наверное, знаете лучше нас, из их писем. Вообще же продолжаем жить очень дружно и очень уютно. Правда, не хватает хлеба и картошки. И пища вообще очень однообразная, о молоке забыли, что такое есть. Всё же, пока, мы довольны жизнью. Худо Петьке (коту). Он, бродяга, ничего, кроме мяса не желает, и по этому голодает. Сегодня у нас праздник - папино рождение - 61-н год. Не знаю, что мамуля изобретёт на обед, но знаю, что будет какао (без молока) и пряники! Необыкновенная роскошь! В нашей милой квартире, конечно, уже холодно. По утрам градусов 7-мь. Мечтаем завести "буржуйку", но где её взять? Может быть станет теплее, когда заколотим окна. Теперь в городе окна повсюду заколачивают, что бы не разбились, но мы пока жалеем свои цветы, которые необыкновенно разрослись и очень красивы. Спишитесь с Таней и Галей (двоюрные сёстры), их адреса я вам уже посылала. Танечка, было, уже совсем собралась в Ленинград (с практики на севере). Рассчиталась на работе и доехала до г. Кирова. Дальше проехать оказалось невозможно. И они с Юрой снова уехали в Усть-Учу. Галя пишет из Ташкента восторженные письма. Там, видимо, хорошо. Единственным тёмным пятном, как она пишет, является то, что там совсем нет нотной бумаги! Получили ли вы моё письмо о Зоосаде? Там было много важного для вас. Пришлите нам Андрюшину фотографию, снимите его там.
Наташа".
Письмо: Открытка от мамы.
16.10.41г.
"Дорогие Марочка и Ира, за последнюю неделю получили много ваших писем. Спасибо за милые, душевные письма. Мы живём пока ничего. Сейчас поднялись к себе после очередной тревоги. На небе видно зарево пожаров. Но, последнее время, у нас в Ленинграде стало потише. Кажется, отогнали немцев подальше от города. У нас поворот к зиме. Вчера и сегодня шёл снежок, а утром был мороз. Небо было совсем зимнее, и солнце светило по-зимнему, через облака. Мы ещё не топили печей, окна не замазаны и в комнатах у нас 7-мь градусов. Мечтаем достать буржуйку. Питаемся мы, пока сносно. За август и первую половину сентября, пока было много мяса (резали скот) и на рынке были и зелень и молоко, я берегла крупу. Теперь нет ни картофеля, ни капусты, ни молока, а мясо только по карточкам, но пока у меня есть прошлые запасы, то есть, купленные по карточкам, но не израсходованные. И мы, пока не голодаем. Позаботьтесь о печках и дровах. Зима у вас, наверное, будет холодная.
Крепко - крепко целую. Мама".
Письмо: От Мамы.
Честно и самоотверженно работай на своём посту.
Этим ты поможешь Красной Армии.
20.10.41г.
"Дорогие мои девочки, сегодня нашему малышу исполнилось два с половиной года. Я по этому случаю купила маленький тортик, вместо хлеба, и сварила какао, без молока, но с гоголь-моголем. Как он поживает? Наверное, мы не скоро его увидим. Последние две ночи мы спали спокойно. Налётов не было. Сегодня в пять часов был налёт, а после отбоя, когда папа и Наташа вернулись с работы, мы торопились обедать и выпить какао, боясь, что нам помешают. Но, вот сейчас 11-ть часов вечера, а тревоги не было. Не знаю, что будет ночью? Ленинград осаждён. С продуктами трудновато и не очень хватает, но, всё же папа и Наташа моими обедами довольны. Всегда торопятся домой к обеду. На службе они тоже берут суп или какое-нибудь блюдо без талонов. Обедать же там не хотят, говорят, что дома - лучше. Наташа имеет рабочую карточку, 600-т рублей и пропуск в столовую. С 15-го у нас зима. Выпал снежок, который днём тает, ночью - маленький мороз, небо - серое, что для нас хорошо. Окна у нас так и не законопачены и в комнатах 7 и было, даже, 6-ть градусов. Вчера в первый раз топили печь в угловой комнате, и стало 9-ть градусов. Завтра утром должен придти мастер, который делает "буржуйки", так - что скоро, мы надеемся обзавестись ими, и тогда легче будет отапливаться и готовить, так как керосина для примусов сейчас дают очень мало. В субботу, мы, как обычно, едем к т.Кисе с ночёвкой. Это делается всё труднее, так-как рано темнеет. Переезжать туда совсем, мне не очень хочется, много надо перетаскивать. Я привыкла к своему району и магазинам. А в смысле безопасности - неизвестно, где лучше? (Мы не угадали, но кто же знал.) У нас самый тревожный день был 8.09. - первая бомбёжка. А на прошлой неделе - 13.10. - на их улице упала бомба. (На этом месте две строчки вырезаны) Пока мы живём у себя, а дальше видно будет. Очень тревожны последние известия по радио. Сейчас решительные бои под Москвой. Что Гитлера разобьют и уничтожат наши, в этом не сомневаюсь, но временные успехи у них могут быть и всяких бед он натворить ещё может. Очень боюсь, как бы между нами не прервалось сообщение. Боюсь ещё и за вас. Не пришлось бы вам ещё раз эвакуироваться, теперь зима, это много тяжелее. Да и Ирочкино здоровье меня беспокоит. (Ещё вырезка.)... хотелось бы быть вместе с вами, помочь Ирочке, позаботится, что бы она была здорова, поглядеть на Марочку и порадоваться на моего любимого мальчика. Здоров ли он? Берегите его, помогайте друг другу.
Сегодня заходила Александра Ивановна (Сестра Андрея Ивановича.) У них всё благополучно.
Целую. Мама.
Приписка Ирочке, тоже от 20.10.41г.
"Дорогая Ирочка, сегодня два с половиной года нашему дорогому мальчику. Желаю ему здоровья и благополучия. Меня очень беспокоит твоё здоровье. Я и во сне несколько раз видела, что ты болела. После той дизентерии, (в детстве у Иры была дизентерия и тогда её едва спасли) тебе надо хорошее питание и постоянное соблюдение диеты по первой группе крови. Какая диета, ты приблизительно знаешь, но лучше посоветуйся с врачом. Хотя тебе трудно с хозяйством, но всё-таки, если возможно, устрой себе отдельный стол. Я думаю, вы, как-нибудь наладили у себя с печами? Это необходимо, т.к. зима у вас будет холодная. Стряпать можно и в печке и можно устроить плиту на кухне. И, наконец - времянки или буржуйки, как хотим сделать здесь мы. Посуду из Ленинграда ждать не приходится. Но если, её нельзя достать в Базарном Карабулаке, то надо попробовать в Саратове. Наташа послала вам тамошний адрес Саши Крамаревой, попробуйте её достать... Неужели у вас на рынке нет белой муки? Если хлеб тяжёлый, делай хлебные сухари. Купи ячменя и пшеницы, делай себе кофе, вари бульон, кашу, старайся восстановить свои силы. Мне бы хотелось помочь тебе, но я далеко. Закажи себе валенки и берегись простуды сама и береги Андрюшу. Какой - то он сейчас? Мы все здоровы и чувствуем себя хорошо. А вот т.Киса совсем больной человек, не спит, всё время плачет и всё время выдумывает всякие страсти о своих девочках, а те живут не плохо. Галя пишет из Ташкента, что там тепло, что она спит в саду, очень много и очень дешевых фруктов.
Крепко целую тебя и Андрюшеньку. Мама".
Ещё раз по поводу писем. Повторяю, хотя все наши письма очень искренни и непосредственны, всё же они очень не полны. О многом писать было просто нельзя, ведь вся корреспонденция проходила через военную цензуру, на всех конвертах штамп - "Проверено военной цензурой", а строчки, в чём-то неподходящие - вымарывались или же вырезались из страницы. Да и вообще, письма просто могли, по какой-то причине, не дойти. Думаю, что мои письма, сознательно бывали нарочито оптимистическими. О маленьких семейных празднествах и "яствах" поподробнее и побольше, а о неприятных моментах вскользь или с некоторой иронией. И всё-таки, я и теперь уверена, что мы держались очень хорошо, понимая серьёзность положения и наш долг на данный период времени. Мы искренне верили в скорую, увы, на деле, совсем не такую скорую Победу. Верили в то, что врага вот-вот от Ленинграда отгонят. Надеялись, что все испытания выдержим и старались друг друга всячески поддержать, а наших эвакуированных близких своими письмами не тревожить.
А они там, в Карабулаке, получая от нас письма, удивлялись и, слегка, нашими письмами гордились. Позднее, они рассказывали, что, почти все бывшие Ленинградцы, получая письма от своих оставшихся в городе родственников, плакали, так как вычитывали из них разные жалобы и на недоедание, и на холода, и на обстрелы и бомбёжки, и прочие ужасы и страхи. Одни мы, судя по письмам, были "молодцами". Увы, не надолго. Что же касается настроения самих "блокадных жителей", то папа, в своих письмах прав: большинство держалось стойко, сознавая свой долг, исполняя всё, что было в их силах и даже, многие даже более. Но были среди горожан и паникёры. Мне как-то встретилась на улице одна наша знакомая, зубной врач, у которой все мы лечились. Она меня поразила своим горячим возмущением тем, что-де Ленинград не объявляют "открытым городом", как это случилось с Парижем. "Они - негодовала она, имея в виду наши "верхи" - сами-то спасутся, а нас всех просто хотят извести"... Были и недобросовестные люди, впрочем, их полно и сейчас, пользующихся своим служебным положением, возможностью что-то "урвать" лично для себя. Продавцы продовольственных магазинов - были, по тем временам, вполне сыты и многие из них спекулировали какими-то лишними продуктами или талонами на их получение на "чёрном рынке", а вернее по всяким тёмным углам и закоулкам. По баснословным ценам или за разные ценности можно было приобрести и хлеб, и муку, и многое другое. Наживались управхозы. В их ведение были карточки иждивенцев. Они спекулировали и карточками умерших, и квартирами, и вещами, оставшимися без хозяев. Были прямые изменники и "лазутчики", как называет их в своих воспоминаниях П.Некрашевич (см. выше). По ночам они выпускали ракеты и тем наводили вражеских лётчиков на стратегически важные объекты. Позднее, пошли слухи и о ещё более страшных вещах - каннибализм! И слухи эти оправдались. Но, об этом - дальше.
Вообще - МАСКИ всё более и более срывались, и обнаруживался подлинный лик каждого человека. Себялюбец, эгоист, трус, паникёр, спекулянт и ворюга, старавшийся ухватить, отнять у слабого, что либо для себя. Были и просто слабые, просто отчаявшиеся и всё более и более опускавшиеся... Подлинная сущность человека обнаруживалась всё яснее и чем дальше, тем больше. Повторяю - маски сбрасывались. Но большинство - были настоящими, достойными и стойкими людьми. Впрочем, разделявшимися на "оптимистов" и "пессимистов". В нашей маленькой семье - преобладали стойкость и "сознательный оптимизм". И это очень помогало всем нам, и, может быть, помогло бы продержаться до лучших времён. Но судьба города - была и нашей судьбой и беды, обрушивающиеся на Ленинград, на его жителей, увы, не миновали и нас. Впереди были самые тяжёлые месяцы блокады - ноябрь, декабрь, январь, февраль... Пока же, октябрь, начало ноября - мы, все трое смотрели на будущее бодро и эта бодрость отражалась и в наших письмах в Базарный Карабулак.
До войны мама преподавала математику в школе для взрослых при Кировском заводе Нарвского, а позже Кировского района. В октябре, получив открытку из этой школы, она думала, что ей предложат вернуться к преподавательской деятельности. Но оказалось, что большинство её взрослых учеников были на фронте, и учеников для занятий не набралось. Маме предложили, какие-то дела по канцелярии. Ей не хотелось расставаться с любимой школой, и она стала через день проходить пешком весь длинный путь от Литейного до Нарвских Ворот и обратно. Но темнело очень рано, улицы были пустынны, и мы, с папой очень беспокоились за неё, ожидая её возвращения из школы. Походы эти кончились плохо. Где-то в районе Обводного на неё напали, толкнули, так, что она упала, вырвали портфельчик с учебниками, тетрадями и отчётами, кое с кем, она всё же занималась, отобрали карточки. К счастью, основные продукты были по карточкам уже получены. Мама была очень напугана и расстроена пропажей документов. В школе у неё из-за этого были неприятности. И она согласилась с доводами папы, и согласилась оставить эту работу и не ходить больше в такую даль. Её попытка работать - была лишь небольшим эпизодом. Всю свою энергию и силы, она снова отдала заботам о папе и обо мне.
Глава 16. О Сергее и Тане и об их любви с романтическим началом и печальным концом.
В моём письме от 13 октября 41г. Есть фраза: "Серёжина Таня на днях ожидает младенца. Вот бедная!". Речь идёт о Танечке Рощиной (Явейн), в последствии - Татьяне Константиновне Жарковой, с которой я и теперь изредка переписываюсь, и о Сергее Евгеньевиче Катонине, в мирные, довоенные дни нашем большом друге и главаре "семьи Фусеков". Разыгравшейся между этими двумя людьми драме - посвящено несколько строк в книге Баранова "Силуэты Блокады", причём рассказ этот весьма не точен, не объективен и носит характер - сплетни. Не скажу, что знаю обо всей этой истории досконально. Я помню общее наше возмущение неблаговидным поведением Сергея Катонина в конце октября 41-го года. Рассказ о том же Леночки Сабуровой. А после войны - скупой рассказ о тех днях вдовы Сергея, Марины Босняцкой и некоторых их знакомых. Таня Рощина - никогда в последствии об этом не вспоминала. Слишком это было тяжело.
Поведаю на этих страницах то, что помню и знаю, причём, начать придётся издалека.
Надо сказать, что Серёжа Катонин, с первых дней войны отделился от нашей дружной компании и показал себя эгоистом, заботившимся только о себе. Он работал где то шофёром и Союз Архитекторов не показывался. Я, лично зная Сергея ещё по институту, довольно часто бывала у него дома, на улице Литераторов, недалеко от реки Карповки, где он жил вдвоём с матерью, Верой Александровной. Но совсем не представляла его запутанных семейных дел. Правда, я знала, что у него есть где-то жена, с которой он давно, якобы не живёт, и что у них есть дети. И, что он, работает не в каком - либо архитектурном учреждении, а по договорам, что бы с него не взыскивали алименты. Как выяснилось, члены нашей компании - мужчины, т.е. Фукин, Назарин и Сабуров знали о сложных Сергеевых обстоятельствах, но из-за дурацкой "мужской солидарности", скрывали неблаговидные стороны его жизни, от меня и Нади Ефимович.
Сергей Катонин и Марина Босняцкая учились вместе ещё в школе и тогда же влюбились друг в друга. Чуть ли не в последнем классе школы, или сразу после её окончания, они поженились. И у них, в 41-м году было уже трое мальчиков. Но. Марина всегда жила отдельно, вместе со своей матерью, которая помогала ей растить детей. Они жили недалеко от Матониных на набережной реки Карповки.
А начиная с зимы 40-го - 41-го года, мы с Надей стали свидетельницами пылкого романа между Сергеем и прелестной Танечкой Рощиной. Ах, эта зима! Наша лыжная база - "домик тети Кати", стоявший на горе, на самом лыжном месте в деревне Токсово! Наши субботнее - воскресные вылазки в это дивное снежное царство. Встреча Нового - 41-го года, весёлые блины... А эти склоны, то крутые, то пологие, чудные прогулки на лыжах среди шхер и островов Хеппо-Ярви, дружные весёлые вечера у самовара. И, пусть не совсем удобные, но тёплые ночёвки на полу, на сене, с долгими ночными разговорами, шутками и дружескими перебранками! Всё это было, было...
В этой - то обстановке и разыгралась любовь. Наш неугомонный, непостоянный и влюбчивый Серёжа вдруг превратился в рыцаря, Пажа, раба прелестной Танечки. Многие из нас знали Таню Рощину ещё по институту. Она училась на курс младше меня, а жила тоже неподалеку от нашей Спасской улицы. Их было две сестры Рощины, полурусские, полугрузиночки, обе совершенно очаровательные. Так-что бывало, глаз от них не оторвать... Учась ещё на третьем курсе, Таня покорила сердце одного нашего преподавателя и консультанта по архитектурному проектированию - Игоря Георгиевича Явейна. Вышла за него замуж и родила дочку - Нону. Явейн оказался мужем весьма взыскательным и ревнивым и молоденькую свою жену держал в строгости. Если уж они где-то бывали изредка, то только вдвоём. Например, я помню маскарад в залах Академии Художеств... Но оставим это. Итак - Таня Рощина - Явейн жила в доме мужа, где царили домостроевские порядки, работала у Баранова в АПУ, воспитывала дочку. Возможно - ей было скучновато. И вот, зимой 40/41-го года - она дала себя вытянуть на лыжи, на базу Союза Архитекторов в Токсове. Возможно, как раз Сергей Катонин её и выманил. Так к нашей весёлой туристически-архитектурной семье "Фусеков" присоединилась и Танечка. А её инструктором и покровителем, конечно, был Сергей. Как он преображался в её присутствии! Какое умиленное выражение приобретала его смуглая, горбоносая, с вечно проступающей чёрной щетиной, физиономия! Он стоял перед Таней на коленях, целовал её ручки и, даже, ножки, поправляя её лыжные ботинки и снаряжение, он называл её своей - "грузинской княжной" и под конец признался нашему признанному "Фусековскому" поэту - Наде, что он пишет стихи, и просил её несколько подправлять его в стихотворчестве. Не иначе, как на коленях стихи эти преподносились Тане. Приближалась весна, лыжные прогулки окончились, но роман разгорался. Он завершился тем, что Таня, увлечённая и счастливая, оставила мужа и пятилетнюю дочку и вышла замуж за Сергея. В те годы, среди передовой молодёжи, оформление брака в Загсе не считалось обязательным, не было даже принято, всё остановилось на взаимном доверии. Они сняли где-то комнату и ворковали там всю весну, ворковали пока... не грянула война. Также ли они ворковали в первые месяцы войны, я не знаю, но вот - подошёл декретный период, потом - Таня легла в больницу. Частная комнатка-гнёздышко, конечно, самоликвидировалась. А когда Таня с маленьким, недоношенным ребёнком (дочкой) - вышла из роддома и явилась на квартиру Сергея - её туда не пустили. Кто не пустил? Мать Сергея - Вера Александровна? Или его жена и мать его троих детей - Марина? В те месяцы, Сергей, предоставив в своей квартире комнату Коле Лебедеву, а затем и его матери, сам чаще жил у Марины. Одним словом, Тане с ребёнком был указан от ворот поворот. С трогательным, но не ко времени разыгравшимся романом, было покончено. Как я узнала впоследствии, Таня, на какое-то время поселилась у своего отца - Константина Ивановича Рощина, а, затем, перебралась, по приглашению Леночки Сабуровой к ней.
Я ещё вернусь в этих записках к судьбе Сергея и Тани, здесь же скажу, что тогда, услышав о поведении Сергея - я была, как и многие, глубоко возмущена и писала своим друзьям, тогда раненым, что Сергей проявил себя отъявленным эгоистом, и, что Сергея надо вычеркнуть из нашей семьи "Фусек". Но мужчины, Николай Фукин и Николай Назарин - отнеслись к этой истории гораздо снисходительнее, и были, вероятно, правы. Они знали о Марине, о том, что у неё с Сергеем трое детей, и что Таня Рощина не могла не знать об этом. Сама же Таня отказалась от собственной дочки, не говоря уж о муже. И вообще, они оба с Сергеем были уже не маленькие, знали, что делали. Не во время разыгрался этот роман, не во время Серёжа ударился в поэзию, переманил к себе свою "грузинскую княжну", не во время они оба попытались построить своё мимолётное, для обоих - эгоистичное счастье в канун грядущей военной грозы. Но об этом они, как и все мы, тогда не знали.
Глава 17. Последние недели в "Нашем доме" на Спасской.
Из книги Баранова (стр.47): "17-го октября выпал первый снег запорошил Ленинград плотным белым ковром. Правда, через два дня он растаял, но небо продолжает хмурится, и температура опустилась ниже нуля. Окончательно осыпались листья, обнаружив чёрные ветки и стволы деревьев... Это заставило нас менять осеннею маскировку на зимнюю"... Да, погода и теперь не щадили Ленинградцев. Наступал период новых трудностей - ранняя зима. Мы, у себя на Спасской, наконец-то заделали, и занавесили тёмными и плотными бумажными шторами, окна. А в угловой комнате, как самой холодной, была поставлена буржуйка, но потом её переставили к папе. Становилось очень плохо с электрическим освещением, что было особенно тяжело в самый тёмный период осени. Свет давали с перебоями, лампочки едва светились. В конце октября заболел папа. Вот мамино письмо:
Письмо: От мамы.
Честно и самоотверженно работай на своём посту.
Этим ты поможешь Красной Армии.
2.11.41г.
"Дорогая Марочка, очень долго идут письма и телеграммы - тоже. Три недели мы не имели от вас никаких вестей и стали беспокоиться. Вчера и сегодня получили твоё письмо и открытку от 30.09. и две телеграммы, одна молния с поздравлением мне. Думаю, что может быть сегодня или в ближайшие дни, мы получим ещё письма. Так бывало, что сразу приходит много писем. Этот месяц мы прожили спокойно, в смысле налётов. Как-то прошло целых 10-ть дней без бомбёжек. Чаще бьют по городу из дальнобойных орудий. В наших краях, в этом отношении, всё благополучно, но у т.Кисы очень часто бывают поблизости разрушения от артиллеристского обстрела. Мы у них небыли две недели. Не знаю как себя чувствует т.Киса, очень она бедная тяжело переживает все наши несчастья. Мы у них не были в прошлое воскресенье из-за папиной болезни. Ст.113. Папа в столовой съел что-то нехорошее и заболел дизентерией. Я, конечно, очень испугалась, но, слава Богу, обошлось, всё благополучно и теперь папа поправляется. Кормлю его пока сладким чаем, чёрным кофе и белыми сухариками, которые я сушила на дорогу в августе, и печеньем. Теперь у нас белого хлеба нет. А со вчерашнего дня - рисом и черничным киселём. Он себя чувствует много лучше, но в постели мы его продержим ещё несколько дней. Мы с Наташей здоровы. С продуктами у нас трудно, т.к. подвозить их в Ленинград очень сложно. Но, всё-таки мы живём не жалуясь, ожиданием - когда освободят дорогу и станет лучше. Много тяжелее тем, у кого есть дети. Я очень рада, что наш Андрюшенька далеко от бомбёжки и сыт, и здоров. Твоё письмо от 3.09. меня очень порадовало. Порадовало твоё сообщение, что поправилась, и что Андрюшенька прекрасно себя чувствует, что и ты хорошо себя чувствуешь и довольна работой, что все вы живёте дружно, и, наконец, что у вас в квартире ставят плиту, значит, будет тепло. Жаль только, что ты не пишешь ни слова о Ирином здоровье. Помни, моя милая дочурка, что в такое тяжёлое время надо друг о друге заботиться и внимательно друг к другу относиться. Поэтому я тебя прошу, будь тоже внимательна к Ире, и ты, и Андрей Иванович должны ей помогать, если она плохо себя чувствует. Ты знаешь, Ира и здесь часто мало ела, сидела без масла и молока и никому ничего не говорила. Ты её спрашивай, как и что она кушала и заставляй её питаться, как следует. Надо непременно, что бы она поправилась. По всему видно, что в Карабулаке вы хорошо устроились и неплохо живёте. За последнее время мы стали о вас беспокоится, вот по какому поводу: Сестра Ирины Ивановны Шульгиной сообщила, что её знакомые были эвакуированы из Саратова. Вот это нас очень встревожило. 22.10. мы послали телеграмму - молнию. Хотели послать вам денег на всякий случай, но смутились - куда посылать? Ты спрашиваешь о Екатерине Митрофановне. Она и Елена Ивановна (мать и сестра Андрея Ивановича Стефановского) живут сейчас в квартире Александры Митрофановны, которая больна и находится сейчас в больнице. А Александра Ивановна, практически, живёт у себя на заводе. Раз в две недели, кто-нибудь заходит домой. Они все здоровы и чувствуют себя спокойно в той квартире.
Письмо: От Мамы.
Болтун - находка для шпиона, болтливость преступление перед Родиной. Нигде, никогда, ни кому не разглашай военных и государственных секретов!
3.11.41г.
Это письмо я посылаю с оказией. На днях, во время своих поисков продуктов, я встретила Дмитрия Ивановича (Чижикова) у ворот его дома. (Чижиков Дмитрий Иванович - крупный специалист, был главным металлургом Путиловского завода, когда там Ирочка работала лаборанткой, и её бывший горячий поклонник.) Он мне сказал, что на днях улетает в Челябинск. Мы от вас три недели не имели вестей, не знали, где вы находитесь, не знали, есть ли у вас деньги и я обрадовалась случаю послать вам через него весточку и деньги. Дмитрий Иванович такой же славный, как и прежде, ты знаешь, что я всегда питала к нему большую симпатию. И я его попросила, а он согласился. Папа был очень доволен, и, даже, хотел сам к нему съездить, свезти деньги и договориться, но заболел и послал к нему Наташу с письмом. Так вот, Марочка, папа просит Дмитрия Ивановича телеграммой узнать, где вы находитесь и сообщить свой адрес. Тебя мы просим ответить ему. В случае если тебе и Ире понадобятся деньги, то ты обратись к нему. У него свободные деньги есть. А мы здесь, передадим деньги по его поручению, как у нас с ним договорено. Прошу тебя Марочка - напиши ему, обратись к нему, если это будет нужно. Он очень славный. Он женился, жена его - студентка медицинского вуза. Я ему пожелала счастья. Ну, пора кончать. Напишу ещё после.
Крепко целую. Мама.
Вскоре, примерно о том же, написала и я. Но, прежде небольшое пояснение: Марьяша поступила работать на тот же завод, с которым эвакуировалась. Работала в отделе сбыта и нашла там хороший коллектив и славных товарищей, тоже Ленинградцев. На работе, вскоре, её стали очень ценить. В дальнейшем, в конце 44 -го года, её пришлось с частью завода перекочевать в г. Саранск. А уже после войны, благодаря умным и хорошим людям получить перевод в свой родной и любимый Ленинград, на тот самый завод, с которого она уезжала.
Письмо: (Предпраздничное). От Наташи.
6.11 41г.
"Дорогая Марулечка, здравствуй. Поздравляю тебя с твоим, недавно прошедшим днём рождения, и желаю успехов, расцвета, и всяких хороших вещей, а, самое лучшее, что бы нам увидеться поскорее. Не подумай, что мы только-что об этом дне вспомнили. 4-го, мамочка неожиданно приготовила нам совершенно роскошный обед из куры и какао с гоголь-моголем. Тут мы все, конечно, и вспомнили о твоём празднике. По какому то безошибочному чутью попадать всегда как раз на чьи-нибудь именины, к нам пришла наша верная гостья - Леночка Сабурова, как и все теперь - с ночёвкой. Вообще мы отпраздновали этот день очень хорошо и много вспоминали всех вас, радуясь, что вас здесь нет. Марулик, мы вам не писали довольно давно, примерно с 20-х чисел октября, так как, по дошедшим до нас слухам мы решили, что, весьма возможно, что вас могли эвакуировать или собираются эвакуировать из, вашего симпатичного, Карабулака. Поэтому, 22.10. папа дал вам молнию: "Молнируйте, остаётесь или уезжаете". Мы стали ждать ответа, уверенные, что он скоро последует, и поэтому не писали. Однако ответа и по сей день, нет. А в начале ноября получили от вас "Молнию", высланную, вероятно 30-го сентября, с поздравлением маме с её именинами! А так же несколько писем того же времени! Ну, если и наша "Молния" пойдет столь же "Быстро", мы не скоро получим ответ. Из ваших писем мы узнали, что вы совсем хорошо устроились и, даже, печку начали ставить, значит, у вас, наконец, стало тепло. И очень порадовались за вас. Как бы хорошо было, если бы вам не пришлось ехать дальше, раз у вас наладилось с хозяйством и работой. Четвёртого мама написала вам первое, после перерыва письмо, что бы отправить его с оказией. А оказия такая - в поисках съестного на Выборгской стороне, мама встретила дежурившего у ворот Дмитрия Ивановича. Он рассказал, что он в Ленинграде застрял и без работы, и что его срочно требуют в Челябинск, куда он на днях и вылетает. Они условились с мамой, что он непременно вас разыщет, будете ли вы в Карабулаке, или нет, и передаст вам наше письмо и деньги. Третьего я была у него, познакомилась с его женой и передала письмо на Марочкино имя и деньги 300 рублей. Он должен выехать 4-го или 6-го на Тихвин, а оттуда добираться по назначению. Интересно, где он вас найдёт и когда до вас доищется. Обо всём этом, он обещал дать знать нам сюда в Ленинград. Мы всё время жили хорошо, так-как последнее время, занявшись Москвой, немцы оставили Ленинград, более-менее в покое. И, даже, дней 10-12-ть не бомбили совсем, так-что мы снова стали на ночь раздеваться и, вообще, стали жить совершенно спокойно и нормально. Но, напугал нас наш папочка - заболел кровавым поносом. Вот, Ирушка, совсем вроде тебя. Хорошо, что сразу же нашёлся хороший врач, приятель Николая Александровича Яковлева - доктор Блинов. Он у нас и раньше бывал. И быстро, при помощи "бактериофага" и компрессов поставил папочку на ноги. Сейчас он ещё на диете, но, как всякий выздоравливающий, отличается волчьим аппетитом и при теперешних трудных обстоятельствах, мама просто не знает, его накормить. Сейчас для нас наступает страшные дни - праздники. Нас снова стали бомбить и к тому же обстреливать из артиллерии. На сегодняшнюю ночь и на завтра мы ждём особого "представления". Если всё благополучно кончится - мы вам немедленно телеграфируем. Я сейчас пишу со службы, а после работы пойду к т.Кисе, как мы уговорились с нашими, которые подойдут туда из дома. Тёти Кисин район хуже нашего, из-за артиллерии, но зато у них есть убежище, к тому же довольно тёплое, что очень важно, если придётся посидеть в нём целые сутки... Вообщем - праздники! У нас здесь установилась самая настоящая зима. Мороз градусов до 12-ти и снег, погода ясная, только бы на лыжи! Надо было нам с вами ехать со всеми лыжами и велосипедами, тогда бы мы покатались. Наши друзья живут благополучно, "маленькие Уствольские" - тоже, хотя тётя Киса очень паникует. Писали-ли вам, что Танечка вышла замуж? Напишите ей поздравление. Коля Назарин - поправился. Фукин - поправляется. Сабуров - пропал, и Лена очень беспокоится. Остальные в городе.
Целую. Наташа.
Глава 18. "Октябрьские праздники"
Это было последнее письмо о нашем "благополучном" существовании на Спасской улице. Было собственно, и ещё одно письмо с описанием, как прошёл для нас праздник 7-го ноября, но в конце этого письма - краткое, написанное карандашом сообщение о катастрофе. Поэтому, я приведу это письмо дальше. Хотя вечер 5-го ноября был отмечен тревогами и отсидкой в убежище, сам Октябрьский праздник, 24-ая годовщина, вопреки ожиданиям и страхам прошёл в Ленинграде совершенно спокойно. Видимо наша авиация так мобилизовалась, что ни одна фашистская дрянь не смогла пробиться к городу. А настроение в этот день поднялось у всех Ленинградцев и настроилось на самый торжественный лад, сердца переполнились гордостью за нашу страну, за осаждённую Москву, за Сталина. Ведь радио с утра, на весь мир возвестило, что на Красной площади в Москве происходит традиционный праздничный ноябрьский парад. И сам Сталин - на Мавзолее! Да, это было торжество, оно несло всем уверенность в неизбежной нашей победе, несло ликование и гордость.
Передо мной - ещё одна старая тетрадка с отрывочными записями. Условно, я называю её "блокадной", но в ней, к сожалению, очень мало написано. Это была попытка, в какой-то мере восстановить погибший дневник. Она велась мной уже в 1945-м году, по возвращении моём в Ленинград из эвакуации, но всё-таки "по горячему следу", когда всё пережитое в 41-м, 42-м годах было в памяти ещё так живо. Вот одно из воспоминаний из этой самодельной "блокадной" тетрадки:
"Октябрьские праздники" (заметка неоконченная).
Приближается праздник 7-го Ноября. Как было условленно между нашими дружными семьями, вернее остатками семей "Больших" и "Маленьких" Уствольских - все праздники, семейные и общие, мы празднуем вместе. Причём - или они к нам, или мы к ним должны были являться с ночёвкой. Преимущественно, как более подвижные, ездили, а для того времени, правильнее сказать, ходили - мы к ним. Итак, нагрузившись своими "аварийными " рюкзаками и взяв "авоськи" с нашей долей продуктов на ужин и навесь следующий день, мы все отправляемся в путь. И я, отправлюсь прямо с работы на Максимилиановский переулок к "маленьким" Уствольским. Удастся ли проскользнуть этот отрезок пути без "тревоги". Увы, конечно нет. Заныла, загудела противная, но и спасительная сирена. Мама с папой вылезли из трамвая где-то на инженерной улице. Папа ведет в хорошо известное ему и одно из наиболее комфортабельных убежищ под Этнографическим Музеем. Боже, что за картина! Разрушен весь флигель со стороны двора. Но само убежище - уцелело. Это лучшая рекомендация. Действительно, в убежище чудесно! Просторные помещения, достаточно света, на полу дорожки. Папа сразу же вступает в беседу с другими посетителями, этого временного приюта, стараясь подбодрить, утешить этих людей. Наконец к часам 8-и или 9-и вечера всем нам удаётся добраться до наших. Но тут - новая тревога. И дядя Ваня гостеприимно приглашает нас всех познакомиться с подвалами их дома. Там, увы, темно и тесно, нагорожены какие то столбы, трубы протекают и поэтому сыро. Немец не хочет, что бы мы праздновали наши Советские праздники и бомбит. Что - то он ещё преподнесёт нам завтра, 7-го? Однако, поздно вечером, мы все собираемся за общим столом, в большой уютной, оклеенной благородными серыми обоями общей комнате. В этой комнате мы трое и ночуем. И так, чай, конфеты, печенье, вино! Беседу же, конечно, направляет папа. И как она содержательна, как интересна, и какие обнадёживающие можно сделать из неё выводы и для страны в целом, и для всех нас - присутствующих, и... для - далёких.
Радио передавало, как всегда в такие дни, заседание правительства. Был общий, весьма серьёзный, и в целом обнадёживающий обзор текущего положения. Поздравление с 24-ой годовщиной - советскому народу, всем, кто на фронтах, в осаждённых городах, в тылу врага и на трудовой вахте - всем, всем, всем. Уже после войны я узнала, что это торжественное заседание 41-го года в честь Октября, проходило хоть и в центре Москвы, но глубоко под землёй, на станции метро - "Маяковская". Да, так было. И ночь эта прошла спокойно. А на утро мы все услышали по радио звуки торжественного марша - ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ...!
На этом записки в "блокадной" тетрадке оборваны. Описание нашего праздничного времяпрепровождения у тёти Кисы и Дяди Вани, приведено в моём письме от 14-го ноября 41-го года, которое я приведу ниже. Мне же вспоминается, кроме того, как я лично провела тот, совершенно тихий и спокойный, вопреки ожиданиям, день, день 7-го ноября 41-го года. Как ходила навещать своего раненного друга Колю Фукина в госпиталь, располагавшийся в первом этаже института имени Герцена на Мойке, в бывшем дворце Воронцовых.
Помню, был мягкий зимний денёк, плиты тротуара набережной были промёрзлые и скользкие, снега же лежало совсем мало, только деревья вдоль набережной Мойки были седыми от инея. Палаты для раненых были огромными, огромной же высоты, так - что своды помещений терялись в сумерках. Окна были наглухо заделаны и повсюду тесно стояли койки и койки с ранеными. На них лежали или седели, в основном молодые, даже совсем молоденькие мужчины, раненые бойцы Ленинградского фронта, укутанные, во что попало, т.к. в помещениях было холодно. Каждую входящую новую фигуру со всех сторон охватывают любопытные взоры. В палате, в которую вошла я, в основном выздоравливающие, в ней тоже и темновато и холодно. С трудом нахожу среди коек - койку Николая. Он лежит у стены, это удобно. Вновь я вижу Колину ласковую улыбку. Ещё на подходе к нему меня встретили его сияющие, радостные глаза, как бы указывающие запутанный среди коек путь. И здесь, в этой палате все взбудоражены сообщениями о параде в Москве. Все взволнованы, а Коля досадует, что врачи ещё не отпускает его на фронт, бить и гнать ненавистного врага. Я принесла Коле конфеты, книги и довольно долго просидела у него. Он рассказал мне, что недавно его навестили девушки - альпинистки из той группы, с которой он и Коля Назарин в 40-м году совершил учебное восхождение на одну из вершин Кавказа. Вручённый ему тогда значок "Альпинист СССР" был для него и для его друга, самый дорогой реликвией, которой он всегда гордился и с которой никогда не расставался. Тут же он мне его с гордостью и продемонстрировал. Одной из девушек была та самая Аля Пригожева, которая вошла в маскировочную группу по укрытию шпиля Адмиралтейства, и Аля уже рассказала ему об этом и - мучительно трудном, но и почётном задании. Коля уже знал, что я имела к этому делу непосредственное отношение, и забросал меня вопросами. Его соседи тоже слушали мой рассказ с большим вниманием. Больше, до самого окончания войны, я с Николаем Фукиным не виделись. Он выписался из госпиталя и вернулся в свою часть. Переписка с ним за годы войны у меня сохранилась. Да, седьмое ноября была и радостным и свободным от бомбёжек днём. Но дальше - началось ....
Впрочем, приведу теперь моё письмо от 14.11.41г.
Письмо: От Наташи в Базарный Карабулак.
14.11.41г.
"Милая, дорогая Ирушка, вот уже месяц, как мы не имеем от вас никаких известий и ты понимаешь, конечно, как мы беспокоимся о всех вас. Всёли вы в своём симпатичном Карабулаке или снова вас судьба закинула в какие-нибудь ещё более дальние места? Как твоё хрупкое здоровьишко, как растёт наш любимый малыш, как успехи Марочки, с вами ли Андрей - большой и пр. и пр.? Последнее письмо я послала вам накануне праздника, кажется 6-го, с обещанием прислать телеграмму. Но телеграммы мы не послали, т.к. всё равно они идут одинаково с письмами. И вот, пишу сейчас. Все мы живы и здоровы, "почти сыты" и вообще живём дружно. Праздники, вопреки всяким мрачным ожиданиям, мы провели очень хорошо. Собственно это был только один день 7-го. Накануне, с вечера, мы забрались к т.Кисе и немножко натерпелись страху, так как налёт был как раз на их район и бомбы трахнули совсем рядом, через один дом. Но зато седьмого - наши славные лётчики так хорошо охраняли наш город, что и день, и вечер, и ночь были совсем спокойны. Погода, к тому же, была хорошая, так что мы гуляли и чувствовали себя так странно, ведь первый раз за все последние годы в городе не было демонстрации. Зато мы с радостью и гордостью слушали по радио про Октябрьский парад в Москве. Вечером мы собрались у Павлуши, младшего брата т.Кисы, пили какао с гоголь-моголем, вместо молока и вообще были всякие вкусные вещи. Потом Павлуша организовал прекрасный концерт с пластинками - Вяльцевой, Смирнова, Марфетти и прочей цыганщиной, что очень пришлось нам по вкусу. А затем - папа сделал нам прекрасный и обстоятельный доклад с такими оптимистическими выводами, что даже приунывшая т.Киса воспрянула духом. Вообщем, как видишь, Октябрьский вечер состоялся у нас по полной программе: и угощение, и доклад, и концерт, не хватало только танцев, но уж танцевать-то мы будем после нашей Победы, когда вернутся из армии все наши друзья - герои. К сожалению, после праздников, немцы такой нам задали "бенефис"! Особенно ужасный и разрушительный налёт был позавчера. С вечера и в течение ночи нам пришлось спускаться вниз - пять раз! Напротив нас, у парадной дома №13 упала бомба и не разорвалась. Весь наш дом хотели эвакуировать... Тревога...! Тревога...! - далее, поспешно, карандашом написанные строчки: 15-е ноября.- Наш дом бомбили, все стёкла вылетели, Вообщем полный разгром. Сейчас переезжаем к Николаю Александровичу Яковлеву на Пушкинскую улицу д.9, кв15.
Всем - горячий привет, маленькому Андрюшеньке в особенности. Все чувствуют себя хорошо. Пишите по старому адресу, будем приходить. Тороплюсь, т.к. ждут санки.
Наташа.
Окончился "благополучный" период нашей жизни на Спасской... Но, "жив ещё был курилка"... Наш добротный старый дом уцелел. Но совсем недалеко от нас, на углу Пантелеймоновской и Моховой - обрушившаяся часть дома представляла собой жуткое зрелище. И там, вероятно, погибло много людей. Архитектор И.Г. Явеин сделал зарисовку этого разрушения. Этот рисунок вошёл в книгу "Подвиг века", а поэт Вадим Шефнер - посвятил, вероятно, этому дому - свои стихи:
"ЗЕРКАЛО"
Как - бы ударом страшного тарана,
Здесь половина дома снесена.
И в облаках морозного тумана
Обугленная высится стена.
Ещё обои порванные помнят
О прежней жизни, мирной и простой,
Но двери всех обрушившихся комнат,
Раскрытые, висят над пустотой.
И пусть я всё забуду остальное -
Мне не забыть, как на ветру дрожа
Висит над бездною зеркало стенное
На высоте шестого этажа,
Оно, каким то чудом не разбилось,
Убиты люди, стены сметены -
Оно висит - судьбы слепая милость -
Над пропастью печали и войны,
Теперь в него и день, и ночь глядится
Лицо, ожесточённое войны.
В нём - орудийных выстрелов зарницы
И зарева тревожные видны...
(Из маленькой книжечки В.Шефнера - "Защита" изданная в Ленинграде 1943г.)
Я хорошо помню раскрытые этажи этого дома, зеркала, картины и фотографии на стенах, но всех прохожих, в те дни, после катастрофы, постигшей дом и его обитателей - поражала своей продолжавшейся над бездной разрушения жизненностью - живая чёрной тарелочки радио - бодро возвещавшей: "Отбой воздушной тревоги"...
Отбой! Отбой...! Да, хорошо помню те несколько ясных, морозных, лунных ночей, которые предшествовали разгрому нашего дома. 13-го, 14-го, 15-го - светила полная луна, чётко и ясно прочерчивая графику улиц нашего района, до декоративности ярко освещая белые стены Спасского Собора на нашей площади. И именно на эти улицы и площадь нацеливались в те ночи фашистские лётчики, ориентируясь на собор. Как обычно, в часы тревоги мы отсиживались в гостеприимной дворницкой. Но всем там собравшимся было не до разговоров, не до чтения или вышивания. Монотонно отбивал свои такты метроном, подтверждая, что минуты идут и мы пока живы. Но жизнь казалось, всё сосредоточилась лишь в одном органе чувств - в слухе. А уши чутко улавливали не тиканье чёрной тарелочки радио, а страшные звуки налёта, доносившиеся снаружи. Было ясно слышно до противности неумолимое жужжание самолётов, кружившихся над нашим районом, где-то очень высоко. Это гудели моторы вражеских самолётов и летали они над нами. Гулко, будто лопаясь в воздухе, были слышны разрывы взбесившихся зениток, наших защитниц. Но далёкое и высокое жужжание продолжалось, в уши вонзился всё, нарастая жуткий звук, вернее вой приближающейся бомбы. Вой становился всё явственнее и вдруг, ещё более страшный звук обвала, совпадающий с сильной встряской почвы под нашими ногами. Где-то вблизи обрушился дом, погребая под своими рушащимися стенами живых своих обитателей. А потом выла всё приближаясь ещё одна бомба и ещё...
После отбоя тревоги мы вышли из подворотни на нашу улицу, но вблизи никаких разрушений не заметили. Но, Боже мой, какая красивая была ночь. Какая ясная, круглая, но безжалостно - равнодушная ко всему луна, которая своим фосфорическим холодным светом затмевала и звёзды, и мечущиеся по всему небу лучи прожекторов. Прекрасный белый храм на нашей площади был залит лунным светом, совсем как в мамочкиной любимой "Полтаве": ... "Луна, спокойно с высоты над белой церковью сияет..".. Да, она то сияла спокойно, но на земле то - как неспокойно, как жутко...
Поднимаемся к себе на 5-ый этаж по парадной лестнице, она куда более полога и удобна, чем "чёрная", по которой мы всегда спускались непосредственно во двор. "Удастся ли сегодня поспать?" И вот, наступила ночь на 15-е. И опять мы в дворницкой и опять где-то сверху жужжат самолёты, слышны лопающиеся разрывы зенитных снарядов и снова противный вой всё нарастает, всё ближе и явственней... Грохот! Встряска! Все взоры обращены к потолку - не валится ли он на нас? А в уши вонзается ещё новый, внезапный и страшный звук: Какой то дребезжащий, гулкий звон. Как оказалось, во всём доме, разом, в один миг, вылетели из рам все стёкла и разом трахнулись на мостовую. Но дом-то, наш верный дом, наша крепость, наш корабль - уцелел! Фугасная бомба ударила в тротуар под самым цоколем дома, стена, как выяснилось позже, дала трещину. Но дом был выстроен настолько добротно, перекрытия были настолько надёжны, что, даже тяжёлые люстры остались висеть по всем этажам на своих местах. Теперешние сборные дома, конечно, развалились бы от одной лишь взрывной волны, как карточный домики.
И вот, входим мы в ту ночь, в ночь на 15-е ноября в свои комнаты. Первое странное впечатление: во все наши большущие окна - глядится холодная ясная ночь со сверкающими, будто вмёрзшими в плотный чёрный фон, звёздами и мятущимися и перекрещивающимися полосами прожекторов. Эта ночь властно вошла в наше обиталище, до сих пор такое надёжное и уютное. Эта ночь, как бы выгоняла нас из наших комнат. Пол блестел алмазами, это - груды осколков. А на фоне ничем не прикрытых проёмов, чёрные бумажные занавески, конечно, сорваны и обвисли клочьями, ещё более чёрными силуэтами выделяются экзотические силуэты мамочкиных любимых растений. Защитить их от ночного крепкого мороза, укрыть их - нечем... К утру некоторые из них замёрзли и почернели.
Глава 19. Первый переезд.
Прощай надолго "Любимый дом, замёрзший сад"... Пришлось нам срочно переселяться из своего привычного Дзержинского района к папиному знакомому юриста Яковлеву, адрес которого указан в приведённом выше письме. В том же письме я сообщила нашим: "все чувствуют себя хорошо". Но это было не совсем так, встряска более всего сказалась на папе, хотя он, вида и не подавал.
Письмо: От мамы.
Честно и самоотверженно работай на своём посту.
Этим ты поможешь Красной Армии.
19.11.41г.
"Дорогие мои девочки, это письмо я посылаю через Дмитрия Ивановича, который должен был уехать ещё в первых числах ноября, но улетает только на днях. Мы с ним встречались несколько раз, и он сможет вам написать кое-что из нашей жизни. От вас мы получили последние письма от 30.11. 04.11. и телеграммы, которые пришли позднее писем 1-го и 2-го ноября. С тех пор - ничего о вас не знаем. По слухам... (несколько строк вырезано военной цензурой)... мы так ждём, так хочется узнать, где вы и как живёте. Всё ли у вас благополучно? У нас в Ленинграде жизнь сейчас тревожная и очень нелёгкая. У нас - фронт. Мы отрезаны, и к нам трудно доставлять продовольствие. Поэтому у нас сокращены пайки. И, что бы купить продукты по карточкам, надо много искать и стоять в очередях. Это моя забота и это требует много усилий. Некоторые наши знакомые, например Гроздовы, говорят, что они - голодают. Про нас этого сказать нельзя. Я лично, меньше всего чувствую недостаток еды, больше всех - Наташа. Это понятно. На днях на нашей улице упали бомбы, в результате чего у нас во всём доме не осталось ни одного стекла со стороны улицы. Мы перебрались к Яковлевым, а у себя должны заколотить окна фанерой и досками. Это теперь обычное событие в Ленинграде. Дмитрий Иванович мне говорил, что у него три раза вылетали и стёкла, и доски. У Николая Александровича Яковлева квартира тёплая, благоустроенная, в третьем этаже. В доме есть бомбоубежище. Ещё до нашей аварии он приглашал папу переехать к ним и, как мне не хотелось уезжать из своей квартиры, я решила сделать это из-за папы, ведь у нас холодно, дров нет, при тревогах несколько раз за ночь приходилось спускаться, а затем и подниматься на 5-й этаж. Всё это очень тяжело для папы. Он простудился и подъём его очень утомлял. К т.Кисе мы не перебрались потому, что их район усиленно обстреливается артиллерией, но туда мы ездим по субботам и воскресеньям с ночёвкой. Здесь у нас - хорошая комната в 25-ть метров. Мы таскаем понемногу свои дровишки, которые Ирочка покупала. Их, наверное, осталось с половину кубометра. Немного, но протапливаем и у нас 12 -13 градусов. Понемногу так же перетаскиваем свои мелкие вещи. Цветы мои, наверное, все погибнут. В квартире осталась с целыми стёклами только комната Стефановских с окнами во двор. Сейчас там живут Гроздовы, пока не заделают своих окон. Тётю Кису я видела вчера. У них всё благополучно, но сама она в очень плохом настроение. Она всё плачет, боится и обстрела, и бомб, и голода. Мы всегда её подбадриваем. Она получает письма и телеграммы от Тани и реже от Гали. Танечка вышла замуж за Юру Викторова. Напишите непременно и Тане и Гале. Александра Ивановна Стефановская была у нас вчера...
Продолжение на следующем листе:
Не верь провокационным слухам, разоблачай шептунов и болтунов.
Дорогие мои девочки, я очень рада, что вы уехали, особенно из-за Андрюши. Из-за ребят все матери здесь очень мучаются. Время сейчас тяжёлое, такое, какого, может быть, никогда не было. Но не надо терять бодрости и надежды на лучшие будущее. Мы все в бодром настроении и стараемся в других поддерживать бодрость. Папа недавно говорил у т. Кисы, что если бы он был на 10 лет моложе, он пошёл бы в партизаны и меня бы взял с собой, а сейчас он этого не может. Но он везде, у всех знакомых и на работе, объясняет современное положение, рассеивает панические слухи и говорит, что это его работа на оборону. Мне тоже в очередях, в бомбоубежищах приходится слушать о всяких горестях и страхах от разных женщин, и я всегда стараюсь их подбодрить. Всё может с нами случиться, нельзя закрывать глаза, но я всё-таки живу надеждой, что мы переживём эти страшные события и все увидимся. Что мы победим Гитлера, я в этом не сомневаюсь. В Ленинграде самая большая забота - отстоять Ленинград, потому что приход немцев был бы самым большим несчастьем для всех. Сейчас поздно. Вечером - четыре часа была тревога. Мы спускались в бомбоубежище. Я пишу бестолково, потому что устала и я не знаю, когда едет Дмитрий Иванович, завтра или нет. Но надо завтра передать ему это письмо.
" Дорогие девочки, мне хочется думать, что у вас всё благополучно, что вы здоровы, что вам хорошо, хотя и трудно. Прошу вас обеих держитесь крепко, не впадайте в уныние, живите дружно, помогайте друг другу и берегите нашего маленького дорогого мальчика. Не теряйтесь в трудных обстоятельствах, соберите силы и держитесь! Я надеюсь, что мы все увидимся и ещё поживём все вместе. Если же с нами что и случиться, помните нас, но сами не падайте духом и стройте свою жизнь хорошо и счастливо. Берегите Андрюшу и сделайте его хорошим, серьёзным, стойким и добрым мальчиком. Папа очень устал от всех передряг и неважно себя чувствует..".
(Мама - Ире): "Дорогая Ирочка, береги своё здоровье, заботься о себе. Тебе надо быть здоровой и крепкой, что бы пережить нынешние, тяжёлые времена. У тебя много забот и работы, что же делать, это теперь у всех, но надо быть здоровой. Ты живёшь своей семьёй с мужем и ребёнком. Живите дружно. Заботьтесь и помогайте друг другу. Придётся вам учиться жить в новых условиях. Хочется думать, что у вас всё хорошо, но... тревожно. Мне бы так хотелось увидеть вас, посмотреть на Андрюшу. Он, наверное, очень вырос, изменился. Берегите его, но не слишком его балуй и не распускай. Мне бы хотелось, что бы он вырос хорошим мальчиком. В нём заложено много хорошего, но всё-таки, что бы он стал серьёзным и мужественным человеком с чувством долга и ответственности. Ирочка дорогая, собери силы, будь сама здорова и счастлива и вырасти Андрюшу.
Мама".
Оказия в виде Дмитрия Ивановича Чижикова всё задерживалась, он всё не вылетал из блокированного Ленинграда и вот я, и папа пишем нашим - 23-го ноября:
Письмо: От папы (напечатано на машинке)
23.11.41г. Ленинград.
"Дорогие Ирочка, Марочка, маленький Андрюшенька, Андрей - старший, привет вам всем от всей души. Отыскался случай наверняка доставить вам весточку от нас. Куда девались все наши предшествующие письма, телеграммы простые и "молнии", переводы и проч., мы точно не знаем. Беспокоились всё время, не переехали ли вы дальше, и не прервалась ли связь. От родителей Лёры (Валерии Николаевны Эристовой - Ждановых) на днях узнали, что 10-го октября вы были на месте и начали дело, для которого приехали. Будем полагать, что и дальше будет так. Значит Марочка на работе, с Андреем Ив. И беспокоиться нечего. Всё у вас должно быть более-менее в порядке. Хотелось бы верить, что и твоё Ирочка здоровье, поправилось. Д.И. Чижиков, который перед своим отъездом не раз бывал у нас, и обязался, во что бы то, не стало, найти вас, и точно нас проинформировать. Мы ему дали ряд поручений на началах взаимности. Он на меня оставил кое-какие дела. Деньги ему также даны и установлена возможность дальнейших расчётов. Поэтому я очень прошу Марочку держать с Дм. Ив. связь и обращаться к нему без всякого стеснения. Он будет занимать очень крупный место и в средствах не нуждается, отказался брать деньги, т.к. у него всегда есть все возможности добиться связи с Ленинградом. Его адрес: г. Челябинск, з-д "Удар", главному металлургу Д.И.Ч. Получить от вас точные сведения нам нужно и из эгоистических соображений. О том, как мы жили и живём, вероятно, подробно написали мама и Наташа, но я их письма не читал. Можно сказать, много всего было и ещё будет. Когда-нибудь, если приведётся, будет что рассказать. Несмотря на все тяготы и трудности, опасности и тревоги, мы бодрости духа не теряем. Меня, в этом отношении вы хорошо знаете. Но физически, должен сознаться, я очень сдал. Не от голодовки, на которую очень рассчитывает наш враг, (мы тоже недоедаем, но не голодаем ещё в буквальном смысле). Сломили меня, с начала болезнь (дизентерия, осложнённая гриппом) и, немедленно вслед случившаяся передряга с разгромом нашей квартиры. Ликвидация этого разгрома, всё ещё длящаяся, потребовали такого напряжения сил, которых я дать не мог и, видимо, в чём-то надломился, соскочил на ступеньку вниз. В шестьдесят один год, который мне недавно исполнился, это не удивительно. Чувствую потребность в какой-то передышке. Поэтому, если действительно представиться возможность выехать отсюда к вам, мы, вероятно, это сделаем. Но нам конечно надо знать, где вы и что с вами. Представится ли такая возможность? Как вы знаете, Ленинград блокирован, уже почти три месяца. Попытка врага взять нас с ходу - отбиты. Вопрос о нашем сопротивлении решается не доблестью нашей защиты, а запасами продовольствия. Кормить такую ораву народа, которая здесь застряла и скопилась из других районов, даже при жёстком пайке очень трудно без серьёзного притока продовольствия извне. Блокада немцами к тому и направлена, что бы взять нас на измор. Так вот, сейчас делаются героические усилия прорвать кольцо. При упорнейшем сопротивлении немцев, опирающихся на систему возведённых ими укреплений, наши части шаг за шагом долбят позиции врага в направлении на восток. С другой стороны тоже делают части помогающие нам извне. Если эта операция закончиться успешно, на что мы должны надеяться и надеемся, то возможность, о которой я говорил, представиться.* Ещё недавно, обсуждая эту возможность, я колебался в своём решении, казалось, что, пережив самую тяжёлую часть участи Ленинграда, после прорыва блокады нет смысла уезжать. Сейчас в силу причин объяснённых выше, я склоняюсь к решению - уезжать, имейте только в виду, что я буду некоторое время, и, может быть, долгое время, бесполезным бременем для всех, как мало трудоспособный. Пишу это письмо на нашей новой квартире у Яковлевых. Живём мы здесь уютно и в тепле. Только что, вернулись, от наших, с Максимилиановского. Где были в гостях по случаю дня рождения дяди Вани. Там и переночевали. И туда и обратно добирались под жестоким артобстрелом. Над головой всё время свистели снаряды и где-то близко, с необычайным треском, на это немцы мастера, хотя калибр их снарядов и не велик сегодня, рвались. Обстреливали все районы города, так что , в этом отношении, как и при налётах авиации , нет разницы где жить. Тётя Киса мечтает об отъезде к дочерям, дядя Ваня, частично из-за своей глухоты, спокоен и только худеет. Вокруг них много разрушений и т. Киса изнервничалась до высокого предела. О наших соседях, вероятно, вам написано. Вот и всё, что я хотел вам рассказать. Благословляю и целую вас всех крепко, крепко. Верю, что мы увидимся, но если этого не случиться, не горюйте, я своё прожил и завещаю вам жить дружно, честно, беречь и утешать маму, вырастить маленького. Верю, что вы увидите в своей жизни ещё много хорошего и интересного.
Ещё раз, целую. Папа".
Это последнее из сохранившихся папиных писем. Уже здесь он благословляет своих далёких дочерей и внука, возможно, не надеясь на личное свидание с ними, чувствуя, что силы его слабеют. Ему осталось прожить ещё два месяца и одну неделю, так как следующего "разгрома" он уже не перенёс, но здесь, в этом письме он ещё надеется на организацию дороги через Ладогу, движение по которой открылось 22-го ноября, и на операцию прорыва блокады. Увы, до прорыва блокады, частично только с востока, надо было ждать ещё полтора года. Нас с мамой в Ленинграде, к тому времени, уже не было. Я уверена, что папочка и позднее писал нашим, писал, вероятно, к Новому году, возможно и ещё. Он был мужественным человеком, держался стойко, и до конца подавал пример другим, (ведь он прошёл уже две войны, будучи непосредственно на фронте, 1-ю Мировую и Гражданскую). Но, к сожалению, поздних его писем нет. Мы исполнили папин завет и Мамочку мы сберегли, она прожила ещё около 36-ти лет деятельной и интересной для неё жизнью, окружённая вниманием и любовью и своих близких, и всех её хорошо знавших. Воспитала внука, который очень её любил и всегда помнит.
*(Из книги Д.В.Павлова "Ленинград в блокаде", стр.191 "... Ставка распорядилась сосредоточить группу войск под командованием генерала К.А. Мерецкова в зоне Северной ж.д. и поставила перед ней задачу разгромить войска противника, вклинившегося в нашу оборону и освободить Тихвин. Мерецков осторожно и постепенно сдавливал флаги фашистских войск, а к концу ноября его части выдвинулись на коммуникации неприятеля. ... В ночь на 9-е декабря Мерецков всей мощью вверенных ему войск обрушился на главные силы Шмидта и штурмом овладел Тихвином. ... Без преувеличения можно сказать, что поражение немецко-фашистских войск под Тихвином и возвращение Северной ж.д. до станции Мга спасло от голодной смерти тысячи людей и повысило обороноспособность Ленинграда. ...Освобождение Тихвина по праву считается историческим событием, сыгравшим важную роль в защите Ленинграда". Но все эти успехи ещё не давали нашей семье возможности выехать из Ленинграда без риска и напряжения. Но и в дальнейшем, риск и напряжение сохранились.
Письмо: От Наташи.
23.11.41г.
"Дорогие, миленькие мои сестрёнки Ирочка и Марочка, это письмо идёт к вам с оказией через Дм. Ив, и надеюсь, будет у вас быстрее. Сегодня воскресенье, утро и мы, как обычно, и т.Кисы. Вчера вечером отпраздновали дяди Ванино рождение, вспоминали, как весело было в этот день в прошлом году, когда я только что вернулась из Львова. Тогда я с группой архитекторов проехала по маршруту: Запорожье, Киев, Львов, на Карпаты и Буковину, по местам недавно лишь присоединённым к СССР. Тогда кругом шумела молодёжь, и, кажется, ты - дикарка Иришка, выбралась сюда с Андреем большим. Сегодня здесь опять артобстрел, снаряды так и свистят, пролетая, куда то дальше, и на улицу выходить нельзя. Это ужасно нарушает наши планы, т.к. у нас последнее время, в связи с переселением, очень много дела. 13-го, 14-го и 15-го у нас было жутко, вся наша улица разорена, стала неузнаваемой. Все фасады побиты осколками, окна зияют чёрными дырами, под ногами полно стекла, в комнатах гуляет ветер. Николай Александрович Яковлев приглашал нас перебраться к нему уже раньше, во время папиной болезни, нужен был толчок, т.к., как всегда, трудно было со всем своим хозяйством тронуться с места, особенно маме, от которой всё это и зависело. Вот толчок и произошёл, да ещё какой! Вся прошлая неделя у нас была сумасшедшая. Саночки только и делали, что катались взад и вперёд по Надежденской (ул. Маяковского). Однако, дела сделано очень мало, и, даже стёкла с пола ещё не убраны. К счастью, я нашла дядьку, который уже заделал нам первые рамы фанерой. Боюсь, что цветы наши погибнут, т.к. они мёрзли две ночи. Теперь мы перетащили их в комнату Стефановских, в которой стёкла уцелели. Бедный наш кот Петька - погибает. Ходит по холодной квартире и орёт. К тому-же плохо ест кашу, которую мы ему ежедневно приносим, а больше и нам самим есть нечего. Видно, придётся его усыпить, пока Шульгины его не прирезали. В квартире на Пушкинской уютно и тепло. И Яковлевы очень милые люди. Кроме того, сам дом очень добротный. Квартира на 3-м этаже. И на той же лестнице хорошее бомбоубежище, а во дворе есть и газоубежище. Каждый вечер, в положенный срок мы там отсиживаемся. Я с Ирушкой, дочкой Яковлевых, с увлечением вышиваем. Вообще, за всё это время, я столько навышивала, как никогда в жизни. Я, по-прежнему много работаю. С каждой новой бомбёжкой немцы нам всё подбавляют дела. Получаю карточку 1-ой категории, это всех нас очень выручает. Мамулька страшно устаёт в очередях, похудела, но полна энергии. Папочка тоже страшно устал, и я, прямо не знаю, что с ним делать, ведь он такой - неугомонный и непослушный. Всё что-то сооружает и много возится на нашей старой квартире. Вечно таскает тяжести и прочее, а я, не могу ему помочь, т.к. с работы уйти нельзя, а тревоги начинаются уже с 6-ти часов вечера. Сегодня постараемся перевезти побольше. А на той неделе, когда понемногу наладим тихую жизнь, папа отдохнёт. Очень хорошо, что дома у нас тепло. Несмотря на то, что Ленинград наш давно уже фронт и страдает, как от недоедания, от обстрелов и бомбёжек, так и от холода, настроение у нас всех бодрое. Наши войска медленно пробиваются вперёд. И мы надеемся, что скоро нас освободят. И, вообще мы считаем, что в 42-ом году начнётся обратная волна, и уже мы будем наступать, а не обороняться. Самое главное сейчас, подтянуть ремешки, не унывать и держаться, держаться. Дорогие девочки - лучшие времена не за горами, и все мы увидимся. Крепко, крепко целую вас и любимого малыша. Пусть не забывает.
Наташа".
Вставка: "Саночки катились взад и вперёд" записано в марте 1945 года.
"Да, вспоминаю,... Был серенький, короткий день ноября, вероятно, воскресенье, т.к. я среди бела дня одиноко плелась с гружёными саночками от нашего дома на Спасской - на Пушкинскую. Было не очень холодно, но ветрено и снега намело с проезжей части к паребрикам тротуаров. По этим сухим, и не глубоким снежным наносам, я и тащила свои санки. Сперва, по пустынной Надежденской. Затем по Невскому и, далее по правой стороне Пушкинской к дому №9, временному нашему обиталищу. Только бы успеть добраться к дому до тревоги, думалось мне. Но было тихо, хотя вдали что-то ухало, это был, ставший привычным, военный гул, лающие выхлопы зениток, жужжание за низко спустившимся свинцово серым пологом неба. Мысли мои были тоже и высоко и далеко. Казалось, будто бы я, откуда-то сверху оглядываю панораму и города, и вражеского кольца вокруг. И, даже того, что делается сейчас на "Большой земле", под Москвой, где шли бои на её подступах. Но где, мы знали и верили, жил, и, казалось, никогда не покидал своего поста Сталин; в далёких Саратовских степях, где нашли себе приют наши; и везде была зима, везде снег, холода, и повсюду на нашей земле - ВОЙНА!
И вдруг, среди этих общих, туманных раздумий, пронзила поразительно ясная мысль, даже физическое ощущение. Что все мы, в Ленинграде, и я, вот в эту самую минуту, со своими саночками и заботами, отдаём ли мы себе в этом отчёт или нет, НАХОДИМСЯ НА САМОМ ОСТРИЕ ИСТОРИИ, что ИСТОРИЯ, в своём высшем напряжении дышит сейчас вокруг нас. И мы все, каждый, самый незначительный человек, её участники, вершители её велений и её дальнейших судеб. Здесь, в Ленинграде определён наш исторический долг: не поддаваться, выжить, во что бы то, не стало, выжить, и выполнить своё, пусть маленькое дело. Выжить, и помочь выжить другим. Это ощущение высоты острия, на которое мы теперь вознесены и огромной ответственности за то, что бы вопреки всем вражеским усилиям нас подавить, мы не поддавались бы, и жизнь победила бы и уже побеждала, сейчас, здесь в Ленинграде. Эта поразившая меня догадка, эта мысль, ясная, трезвая и холодная, уже не покидала меня и в последующие месяцы и запомнилась мне на всю последующую жизнь, как и этот мой путь по холодным, тёмным, безлюдным улицам. Некоторые авторы называют "звёздным часом" редкие в жизни человека, как бы озарения, когда понимание вещей поднимает его над уровнем обычной жизни. В моей жизни таких моментов было три, или четыре. В тот ноябрьский день - во второй раз.
Глава 20. Продовольственный вопрос.
Мамочка и папа в своих письмах утешают наших - "далёких - близких": "мы не голодаем, мы недоедаем", но это не совсем так. Вероятно, существенной добавкой к всё снижающемуся пайку, были надежды, даже уверенность, что вот, вот всё начнёт изменяться к лучшему. А между тем, нормы на продукты всё снижались. И в течение ноября это снижение происходило три раза, не говоря уж о том, что и по пайку многое не додавалось, или заменялось качественно неполноценными продуктами, а состав хлеба становился и вовсе не соответствующим понятию - ХЛЕБ. Но организм, вероятно, постепенно привыкал к этим недодачам и постепенным снижениям норм. И я действительно не припоминаю, что бы я, когда-либо испытывала чувство голода или была бы поглощена мыслями и заботами о еде. Мамочка же наша была удивительно в этом отношении спокойна и самоотверженна, и, урывая от себя, она ещё старалась что-то добавлять порциям папы.
Вот данные по выдаче хлеба по карточкам на одного человека: по рабочей карточке, начиная с июля, когда нормой было 800 гр. на человека. Но вес хлеба на одни сутки снижался: 2-го сентября - 600 гр.; 12-го сентября - 500 гр.; 1-го октября - 400 гр.; 13-го ноября - 300 гр.; 20-го ноября - 250 гр. Для служащих и иждивенцев, соответственно: 2/1Х -400 и 300; 12/1Х - 300 и 250; 1/Х по 200 гр.; 12/Х1 - 150гр. И с 20/Х1 по 150гр. Последние ноябрьские нормы продержались до января 42-го года, хотя официально, о некотором повышении норм выдачи было провозглашено во всех газетах и по радио 25-го декабря 41-го года. Заодно, приведу краткие сведения и о составе хлеба, заимствованные из обстоятельной книги Л.В.Павлова:
- пищевой целлюлозы - 10%;
- хлопковый жмых - 10%;
- обойная пыль - 2%;
- мучные смётки - 2%;
- кукурузная мука - 3%;
- ржаная мука - 73%;
использовались так же конопляные и кокосовые жмыхи, ржаные, ячменные и льняные отруби, рисовая лузга. В самые критические времена эти суррогаты хлеба дали возможность более 25-ти дней снабжать ими население и армию. Таким образом, на нашу маленькую семью уже к 23-му ноября (см. последнее письмо папы) приходилось хлеба 500гр. На одни сутки, то есть, примерно, по 160 - 170гр. на каждого.
Покупка хлеба, это было самое важное продовольственное мероприятие дня. Он покупался с выбором и особым подходом к делу. Я, иногда, обходила три или четыре магазина (булочных в городе было много) прежде чем остановить свой выбор на каком-то из них. Надо было - что бы хлеб был НЕ сырой, Не горячий, НЕ слишком подгорелый, НЕ светлый, НЕ рассыпчатый, НЕ бумажно-белый, но вкусный, то есть с кислинкой, и обязательно просили горбушку, т.к. тогда кусок получался несколько больше. Знали мы с мамой и продавщиц, и никогда не брали хлеба у таких, которые, как нам казалось, обвешивают. Любили таких, которые давали выбрать ту или иную горбушку. Дома, полученный кусок делился на три неравные части, из которых большая предназначалась на обед, а самая маленькая на ужин. Каждая порция так же очень ровненько делилась на три части, по числу членов нашей семьи. Куски, оставленные после дележа "на потом", прятались как можно дальше или выше, что бы они, не соблазнили, ненароком, что бы их труднее было достать и успеть одуматься. Прятали от самих себя. Часто этот хлеб поджаривали в виде небольших сухариков. Особенно мы любили эти горячие, ровно поджаренные ломтики к утреннему кофе. В гости, например, к "маленьким Уствольским", конечно брали свои порции с собой. Но хлеба, увы, не хватало. Выдумывали всякие фантастические лепёшки и сухари из случайных довоенных запасов. Я всегда просила маму печь мне побольше лепёшек из кофейной гущи, потребляла их я одна, наши их не признавали. Делали лепёшки ещё из сушёных и мелко перемолотых картофельных очисток, правда, достать их было очень трудно, причём некоторые перемешивали их с миндальными отрубями, которые добывались в аптеках. С этой примесью лепёшки сильно отдавали мылом (или то была какая-то другая парфюмерия) и меня от них мутило. Изредка, когда удавалось достать, делали лепёшки из дуранды. Это уж было совсем роскошью. Почти, то же что и хлеб. В редкие праздничные дни, или, когда у нас бывал гость или гостья, которого хотелось побаловать, мамочка пекла блинчики из настоящей, белой муки, её у нас осталось килограмма два, на яичном порошке, тоненькие, как паутинка. Это было, почти невозможное великолепие. Мамочка, наша кормилица и изобретательница, ухитрялась экономить от своих порций, что бы добавлять, что-либо к папиному рациону. Ведь за него за самого любимого и дорогого ей человека, она беспокоилась больше всего. А как же она сама? Она держалась удивительно стойко, её поддерживали любовь и надежда на скорое улучшение положения.
Вот заходишь с мороза в булочную, полки которой уставлены такими соблазнительными, такими желанными буханочками. А запах свежеиспечённого хлеба! Он манит ещё на подходе к магазину. В самом магазине очередь. Исхудавшие лица обращены к заполненным полкам. Исхудавшие тёмные пальцы крепко держат хлебные карточки, это талоны на жизнь. В стороне несколько жалких фигур, их глаза жадно впиваются в отвешиваемые тебе маленькие довески. Напрасно протянуты в мольбе руки. Их просьбы - "подайте кусочек", не находят отклика, ни даже встречного взгляда. Обращение "не продадите ли хлебца" иногда бывает услышано. Из-под полы, тихонько, по-воровски, достаются деньги. Полученные кусочки поспешно прячутся. Продавщица делает вид, что ничего не видит. Особенно ужасен вид детей, тоже просящих хлебца, корочки, довеска. Но им тоже никто ничего не подаёт, лишь прячут свой взгляд от запавших молящих детских глаз.
Как-то один мальчуган, изловчившись, набросился в булочной на ещё не взвешенный кусочек, неосторожно положенный продавщицей слишком близко к краю прилавка. Мальчик сразу, по-щенячьи принялся кусать, кусать этот довесок. А публика, стоявшая в очереди, окружила мальчика, нарочно мешая работникам магазина подскочить и отнять хлеб у маленького похитителя. Все были довольны, что ребёнок поел.
Однажды, придя из магазина, мама тоже рассказала о случае происшедшим там с одним мальчуганом. Каким-то образом, забравшись с вечера в один из тёмных углов, мальчишка лет 12-ти, остался в булочной на целую ночь. Всю ночь в магазине, наполненном хлебом! Надо думать, как он наелся. Наутро, открывая магазин, под прилавком обнаружили мирно спавшего там мальчика. Какая была у него довольная улыбка во сне. Он был сыт! Надо было видеть, говорила мама, как довольна была публика, собравшаяся там при открытии магазина, за этого мальчишку - воришку. Все хвалили его, одобряли, смеялись. Когда его, всё-таки повели в милицию, все его подбадривали. Мама пришла очень довольная, она была рада, что этот чужой мальчуган - наелся.
Наступил конец ноября, за ним начинался последний месяц рокового 41-го года - декабрь. Не одни фашисты, поставившие себе целью уничтожить ленинградцев измором, но и природа, казалось, обрушилась со всей своей свирепостью на осаждённый город. Наступило самое тёмное время уходящего года. Редко, когда в предыдущие годы, в этот период бывали такие стойкие морозы. Теперь же наступили небывалые морозы, И холод вступил в союз с голодом. Топить было нечем, в ход шли мебель, книги, бумага. Электричества подавали крайне скупо, преимущественно, на самые ответственные объекты. Замёрзла вода в трубах. Окончательно замёрз на всю зиму, транспорт. Ни света, ни тепла, ни воды, ни еды... Оставались - работа и растущее чувство сопротивления, сопротивление каким бы то ни было бедам. Но не у всех эта стойкость достигалась честным путём. Жизнь заставляла приспосабливаться, ловчить, приводила к злоупотреблениям и, даже, к преступности. Были и такие, которые просто пали духом, всё больше теряли всё человеческое и опускались всё ниже и ниже в тупом отчаянии, такие гибли, прежде всего. Да, смерть уже собирала свою обильную жатву среди населения города.
К нам на работу в ГИОП, в союз архитекторов всё чаще и чаще поступали сведения, что такой-то, и такая-то, из наших коллег и сотрудников - скончались. И теперь, это уже не производило такого страшного впечатления, как тогда, когда погиб архитектор Н.Д.Зезин. Чувства притупились. Помню, что в ГИОП принесли известие, что от голода умер известный в Ленинграде архитектор Кричевский. Это был большой плотный мужчина, горячий и темпераментный. Жил он, как будто одиноко. Все знали, что Давид Львович любил "вкусно" пожить, был собирателем и приобретателем красивых вещей, мебели, книг. И вот он умер среди своих сокровищ от голода. О гибели Кричевского много позже написал в своей книге "Силуэты блокады" Н.В. Баранов. После смерти Кричевского вести о смертях стали всё чаще. Но, вскоре, стали поступать и другие, обнадёживающие вести о решении создавать в Ленинграде при некоторых предприятиях, при гостинице "Астория" и в других местах, неких стационаров, куда можно было бы помещать для некоторой подправки в конец ослабевших людей. Через два месяца и я попала в такой стационар. Ниже, я об этом напишу. Стационары действительно многим помогли, поддерживали силы, хотя бы до тех пор, когда появилась возможность эвакуировать слабых и больных по ледовой дороге через Ладожское озеро. Но Ладогу долго штормило, ледовая трасса никак не устанавливалась. И посылаемые с "большой земли" для Ленинграда грузы, в первую очередь, продовольствие скапливались, ожидая отправки на другом берегу. В то время, как, в самом Ленинграде, дело с регулярном снабжением населения висело, буквально, на волоске. Однако, мало кто знал о подлинном, действительно трагическом положении с обеспечением продуктами. Жили ото дня ко дню, преодолевая каждый день свои трудности и одерживая свои крохотные "победы".
В квартире Яковлевых, на Пушкинской девять, вновь затеплился мамочкин, пусть тусклый, но приветливый огонёк. Комната, отведённая нам, была большая и темноватая, но тёплая. Окна, пересечённые полосками наклеенных на стекла лент, завешены плотными и тяжёлыми шторами. В центре комнаты буржуйка. Около которой, слегка её, подтапливая, собирались, вернувшиеся с мороза "работнички". Уютный, но очень слабенький огонёк, давала самодельная коптилка. Пахнет съедобным. Обед. Из чего приготовлен был этот обед, хоть убей, не помню. Вообще, в моей памяти совершенно не осталось воспоминаний о том, что же мы тогда ели, из чего состоял "обед". Мама и папа в своих письмах сообщали, нашим, в Карабулак, что "Наташа сдала". Вероятно, они видели, что я сильно похудела, но я, отнюдь, не сдавалась. Энергии у меня хватило ещё надолго. И в мои интересы входил, даже, вопрос о "туалетах". Во всяком случае, собираясь, что-то себе сшить, я приволокла со старой квартиры даже свою любимую швейную машинку. Возвращаясь к теме - "еда", приведу ещё некоторые рецепты из записок П.П.Некрашевича и книги Павлова:
- блинчики из детской присыпки, купленной в аптеке;
- студень из столярного клея, куда добавляли соль, перец, лавровый лист;
- лепёшки из жмыхов с добавлением сухих картофельных очисток, добываемых через столовые.
Мама, наша добытчица, рассказывала нам, что по закоулкам, близ Кузнечного рынка, что теперь очень близко от нас, и где она отоваривалась по карточкам в магазинах, с утра до вечера функционировала какая-то торговля, скрытная, прячущаяся в подворотнях. Люди там постоянно толкались, среди них много было и военных. Ходовым товаром были: табак, спички и вино. Какие-то женщины торговали весьма подозрительными "яствами", студнем или холодцом. Из чего это приготовлялось, страшно подумать, но, тем не менее, "товар" находил своих покупателей. О том, что могло послужить сырьём, будет сказано ниже. Хлебом торговали очень скрытно, Ещё осторожнее торговали продовольственными карточками или отдельными отрезанными талонами на крупу или на мясное. В магазинах мясо иногда, чем-либо заменяли, чаще всего, заменой служил яичный порошок. Товар, который проще всего было доставить в город на самолётах. Продавали и крошечные кулёчки этого самого яичного порошка. Редко, редко выносили на продажу какое-то протухшее мясо, скорее всего, конину. Можно было считать удачей, если на этой толкучке, удавалось купить какие-нибудь жмыхи или картофельные очистки. Утром, идя на работу и проходя мимо "Кузнечных" переулков, я наблюдала эту вечно двигающуюся, придерживающую что-то у себя за пазухой, насторожённую, не появиться ли милиция, толпу. У нас на работе, в кулуарах театра, то там, то сям, открывались небольшие буфетики или ларьки, в которых свободно, не по карточкам, продавались кисели или желе, а то, стаканами, сосновый экстракт. Говорили, что и в Доме Архитекторов тоже организовывали подобные ларьки, а иногда можно было поесть, даже, горячего супа. Кроме того, на адрес Союза, иногда, приходили продуктовые посылки с "большой земли", и содержимое посылок как-то распределялось. Но мне Дом Архитекторов был "не по пути", и я туда за супами и дарами не ходила. Хотя многие, в поисках дополнительного пропитания перекочёвывали за день от Дома Архитекторов к нам в театр или наоборот. Хорошо помню архитектора Василия Васильевича Ушакова, и ныне здравствующего (в 1986 году), его широко открытые, светлые, почти белые, какие-то блуждающие и бессмысленные глаза, когда он, шатающейся походкой брёл по кулуарам театра, спрашивая всех: "Где тут продают кисель?". Иногда я провожала его к такому ларьку. Помню так же свою бывшую соученицу по Академии, Олю Гремяченскую, страшно исхудавшую и одичавшую, которая вползла к нам на третий этаж на четвереньках, в надежде получить порцию желе или киселя. И всё это понятно, ведь большинство из несчастных наших коллег, работая в АПУ, получали карточку служащих, а как на этот поёк можно было прожить? А как прожить по иждивенческой карточке, имея ещё и детей?
Галина Андреевна Оль, так же моя соученица и подруга, рассказывала мне, что она продержалась до февраля, благодаря мешочку сушёных белых грибов, собранных ими летом на даче её отца, Андрея Андреевича Оля, очень интересной по архитектуре, в Токсове. Её и Таню Рощину эвакуировали в феврале 42-го года, через Ладогу. Суп с двумя ломтиками гриба в день, спасал и её, и её мужа Павлушу, которому она каждый день относила бутылочку с супом в туберкулёзную больницу, где он лежал. Но однажды, рассказывала мне Галя, из-за тревоги, она не успела дойти до больницы, и отсиживалась в попутном бомбоубежище.
Полуголодная, понемножку, глоток за глотком, сама съела всё содержимое, приготовленной для Павлуши, бутылочки. Когда Галя добралась до больницы, и, плача повинилась, что она сама "умяла" его порцию супа, бедняга Павел, её же и утешал. Однако, по словам Гали, в больнице, по тем временам, кормили не так уж плохо, например, там ежедневно выдавали больным по стакану молока, а ведь молоко было для блокадников просто чудом! Галя рассказала мне и ещё об одном "случае", так же связанным о её посещениями мужа в больнице. Однажды, на работе, когда она поделилась со своими сослуживцами, что идёт навестить Павлушу, одна из сотрудниц, Анти Лейман, неожиданно дала ей для больного небольшой пакетик, часть своего завтрака. Что же оказалось в этом завтраке? Один, хорошо смазанный сливочным маслом бутерброд с ветчиной, а другой с красной икрой! Откуда такое неслыханное богатство? Но Гале всё это было ясно, свёкор Анти работал охранником в Смольном, а там, таким служащим, как он, перепадали, так сказать, объедки с "барского стола". Естественно, что ион, и вся его семья, в том числе и невестка, Галина сослуживица, питались в те трудные месяцы, совсем не плохо, если она могла уделить малую толику своих бутербродов для больного туберкулёзом мужа Гали. А отсюда вывод, начальство в Смольном, в самый разгар голода в городе, имело всё, разве, что птичьего молока у них не было. А, судя по запискам П.П. Некрашевича, кутежи с приглашением не слишком отощавших дам, они позволяли себе изрядные и не редко. Об этом ему рассказывала одна управхозиха, сама участвовавшая в таких банкетах, в каком-то неведомом особнячке. Но довольно о вопросах питания. Будем следовать инструкции из одной из наших песен: "о еде не говори"... Лучше вспомним о работе и о том, "что не хлебом единым..".
Глава 21. На работах и о том, что "музы не молчали" (ноябрь, декабрь).
Выше, я уже рассказывала о характере работы в ГИОП, и об её сотрудниках, к которым принадлежала и я. Мы занимались архитектуры и скульптуры города. Общими архитектурно-планировочными и маскировкой, занималось головное учреждение города - АПУ (Архитектурно-планировочное управление), возглавлявшееся главным архитектором Ленинграда Николаем Варфаломеевичем Барановым. АПУ размещалось в одном из зданий знаменитой улицы "Зодчего Росси". Для работы там были приспособлены, какие-то сравнительно "безопасные", помещения, так же отапливаемые "буржуйками", а многие, в том числе и главный архитектор и его заместитель поселились там же и жили, так сказать, "на казарменном положении". Об этих архитектурно-блокадных деяниях быте рассказано Барановым в его книге - "Силуэты блокады". Чем же занимались в те месяцы архитекторы из АПУ? В основном работали над проектами по маскировке многочисленных объектов. Как, например - вокзалов, водопроводной станции, нефтебазы, действующих заводов, электростанций, мостов. А так же характерных для вражеской авиации, ориентиров, каковым было, например, огромное поле бывшего ипподрома и т.п. Целая армия архитекторов была направлена во все районы города для организации, а затем для проверки выполнения хода работ по устройству бомбоубежищ. Большинство таких убежищ располагалось в подходящих для этого дела, подвалах жилах домов. Это, с позволения сказать, архитектурная работа была и тяжёлой, и неприятной. Ведь надо было много ходить, лазать в полной темноте и ледяном холоде, часто, к тому же, по полузатопленным подвальным лабиринтам. Занималась такими обследованиями и Галя Оль, и Анти Лейман, и Коля Лебедев. Галя рассказывала мне о таких походах, и о встречающихся, иногда, разных ляпсусов, допущенных строителями. Например, в одном из таких убежищ, на Невском, она проверяла, плотно ли заделаны кирпичами оконные проёмы помещений. Какое -о чутьё натолкнуло её пододвинуть большой портрет Сталина, висевшего на одной из стен. Оказалось, что за портретом зияет совершенно открытый оконный проём! Хорошо же было бы это убежище. В другой раз Галя чуть не погибла при таком обследовании. Она явилась в бывший дом Чичерина, позднее Елисеевых на Невском №15. В котором, в наше время, помещался "Дом Искусств", к коменданту здания, что бы взять у него ключи от подвала. Отощавший и совсем ослабший человек едва поднялся со своей койки, что бы найти требуемые ключи. "Гражданочка, лучше Вы не ходите туда, на полах там сплошной лёд. Что Вы там увидите?" Но, всё - же надо, надо было обследовать этот объект, и Галя попросила у коменданта его единственный "светоч", маленькую, едва мерцающую коптилку. Галя, скользя, так как действительно, вода ещё с осени затопившая подвалы, замёрзла и образовала ровные и гладкие зеркальные полы. Робкий огонёк едва мерцал в черноте помещения, слабо отражаясь в этих зеркалах. Вдруг Галя поскользнулась, коптилка выпала из её замерзших рук и покатилась, покатилась. Конечно, огонёк потух. Сразу на неё навалилась глухая и плотная тьма. Конечно, у Гали были припасены спички, однако, руки её тряслись, и коробок со спичками тоже выпал из её рук. В кромешной тьме, она стала ползать по льду, шаря руками в поисках коптилки и коробка, но попадались ей только рассыпавшиеся спички. Отчаявшись, Галя стала в этой тьме искать выхода, напряжённо вспоминая, откуда она сюда вошла. Она ползала по скользкому полу, натыкаясь на одни лишь обледенелые стены. Совершенно потеряв ориентацию, переползая иногда через какой-нибудь нащупанный ею проём в новую такую же непроглядную тьму. Сердце её похолодело, она поняла, что погибла, что ей отсюда не выбраться и что никто её здесь не найдёт.
"Боже мой, что же будет с её мальчиками в далёкой Сибири, продержится ли ещё их отец, Павел в больнице? Ведь она одна для них и поддержка, и надежда..". Ей казалось, что прошли уже часы, как она ползает здесь в тишине этих замороженных катакомбах. И вдруг до неё донёсся слабый человеческий голос, зов, "Где Вы гражданочка-А-А?". "Боже! Спасенье! Какое счастье!" Этот полуживой старичок, комендант, обеспокоенный её долгим отсутствием гражданочки, нашёл в себе силы приплестись к входу в убежище и стал звать, а Галя поползла на звук спасительного голоса.
Коля Лебедев, наш славный добрый друг - Фусек, обходил такие же подвалы. И хождения эти вскоре стали и раньше худенькому, а теперь совсем отощавшему Лебедёнку, не под силу. Приведу здесь рассказ о нашем друге его начальника Н.В.Баранова (стр.65, "Силуэты Блокады"). "... Коля выбился из сил и сел передохнуть; архитектора Колю Лебедева вовремя заметили, подняли из сугроба, привели на улицу Зодчего Росси, оттёрли руки и ноги, отпоили горячей водой. Он потом рассказывал, что только присел отдохнуть, оказался в плену прекрасных грёз, ему казалось, что он сидит за столом, уставленным тарелками с яствами и смакует дымящийся бифштекс "с кровью". Здесь надо предупредить, что Колины "грёзы" на совести автора, который, увы, немало просто насочинял в своей книге.
Многие архитекторы, в годы войны, изменили своей профессии, работая на оборону, кто на производстве, кто в госпиталях. Моя подруга, Виктория Малишевская (Торочка), выпускала гранаты на заводе "Арсенал" и там же, при заводе жила на казарменном положении, лишь изредка наведываясь к себе домой.
Короткие заметки о деятельности архитекторов во время войны, можно найти в книге "Подвиг века", составитель отдела об архитекторах - Э.Г.Левина.
Работа районных архитекторов ГИОП была, в основном, подвижная, ходить и ходить, не считая, конечно, невольных "отсидок" в убежищах во время неизбежных тревог. В связи с попаданием снарядов, бомб, зажигалок в здания, дела усложнялись, надо составлять акты, подсчитывать объём нанесённого ущерба, организовывать временные мероприятия по заделке разрушения, укрытия пострадавшего участка здания и т.д. Делом начальства было затребовать рабочих, обеспечить доставку необходимых для ремонта материалов. Позднее, ужу в январе у районных появилась ещё одна забота, бригады обмерщиков, о чём я напишу ниже.
Однажды в ГИОП пришёл тревожный сигнал. Бомба попала в минералогический музей Горного Института. Большие разрушения. Бог ты мой! Пострадало величественное творение Воронихина, великолепный зал музея! Я помнила это т зал с его прекрасными коллекциями, ещё со школьной скамьи, когда в нашей школе организовали поход в музей Горного Института. И я впервые увидела величавый зал с великолепным плафоном работы Скотти, и с его бесчисленными сокровищами подземных царств. И вот - сигнал о разрушениях. К счастью, на моём пути к горному, ничто меня не задерживало. Путь, как всегда, шёл по заснеженному Невскому, через Дворцовый мост, а затем, вдоль высоких сугробов на набережных, мимо пришвартовавшихся к гранитным парапетам, огромных, серых громад боевых кораблей, вмёрзших в ледяной панцирь Невы и прикрытых сверху маскировочными сетями. Там стояли: ледокол Ермак, ближе к 18-ой линии - Киров, а на другой стороне у Нового Адмиралтейства - Максим Горький. Был крепкий мороз, градусов около 30-ти. И в неподвижном воздухе искрилась, блестевшая на солнце, изморозь. И наконец, дорический портик Горного. А дальше, дальше я помню ярко только своё первое впечатление, своё волнение и чисто эстетическое наслаждение от открывшейся великолепной картины античного храма открытого небу и освещённого солнцем! Под синим, синим небом, стояли открытые естественному свету и солнцу, как бы освобождённые для этого света золотые колонны. Я не была, конечно, в Греции, но здесь передо мной было именно живая Греция и даже... в руинах, какою её видят в наши дни туристы на Акрополе. Я была внутри античного храма, среди стройной колоннады, но колоннада была изранена осколками, верхняя балюстрада с вазами, частично обрушена, пол завален обрушившимися конструкциями и упавшими балясинами, а так как бомба разнесла крышу, то над залом - зияло небо, а сверху свисало изорванное полотнище плафона, виднелись остатки стропил, какие-то балки. Образы Помпеи с картины Брюллова невольно всплывали в памяти. Хотя, коллекция музея, конечно, были своевременно вывезены, но кое-что в зале осталось, и на огромном камне, экспонате экспозиции была огромная выбоина. Как-то, в наши дни, по случаю двухсотлетия Горного Института, я была на выставке в музее и увидела этот камень с его раной, который только один теперь является реальным свидетелем тогдашнего, огромного разрушения, во вновь отреставрированном, великолепном минералогическом зале.
Пребывание, зачастую, вынужденное, из-за тревоги, в нашей темноватой конторе на Фонтанке, меня томило. Там не умолкали всяческие разговоры о бедах, о потерях, о еде, а частенько, всякие фантастические прогнозы. Ольга Николаевна, как всегда, спокойно - ироническая, предсказывала, что не далее, как через месяц, а то и скорее, все мы здесь перемрём. "Что Вы будете делать", говорила она мне - "булыжники кусать? Ведь скоро только это нам и достанется" "Вот ещё" отвечала я, "я буду ждать, буду ждать, когда установиться лёд на Ладоге, и я уйду отсюда на лыжах, ведь я спортсменка, сил у меня хватит, в Саратовской области у меня сёстры". На самом деле я лукавила, т.к. на самом деле свои любимые "Телемарки" я ещё осенью сдала в фонд обороны. "Что же Вы покинете маму и папу?", коварно дразнила Шилина. Да, она была права. Ни я, своих, ни они меня не собирались бросать. Нашему папе предлагали место на самолёте, но только ему одному, но он на это не дал своего согласия. Чтобы не заводить такие бессмысленные споры, я зарывалась в книжные полки библиотеки ГИОП. Среди них, я нашла, недавно вышедшую монографию "Париж", написанную московским архитектором Аркиным. Увлекательно и профессионально описавшую этот город. И я занялась Парижем, изучением замечательных ансамблей столицы Франции, его архитектуры, общим планом. В 1952 году, отдыхая в "Суханова", я лично познакомилась с милейшим автором "Парижа", и, даже, была некоторое время с ним в переписке, но не по поводу французской архитектуры, а о Растрелли. В нашей же комнате жужжали разговоры, входили и выходили люди, монотонно стучал метроном, а я "бродила по улицам Парижа, стояла на площади Конкорд и заглядывала в закоулки острова Ситэ". С тех пор, я хорошо знаю панировку и достопримечательности Парижа, и верно не заблудилась бы, попади туда.
Иногда нас, сотрудников ГИОП, почти силком загоняли в бомбоубежище театра, расположенное под его зрительным залом. Это убежище было кольцеобразным, с крепкими, надёжными сводами. В нём, на казарменном положении, дневали и ночевали артисты одного из самых любимых Ленинградских театров, "театра Комедии", который на время войны перебазировался в здание "Большого Драматического" на Фонтанке. Руководил "Комедией" - совершенно замечательный человек, талантливый режиссер и художник, умный, смелый и ко всему не равнодушный, за что он не раз был серьёзно наказуем, и, даже, высылаем из Ленинграда, - Николай Павлович Акимов. (См. книги и статьи самого Н.П.Акимова и литературу о нём). Не знаю, была ли у Акимова своя "клетушка" в этом убежище, но почти все известные и любимые нами артисты театра имели там свои, так сказать персональные "стойла", в которых они, более или менее уютно устроились. Эти маленькие открытые "купе" лепились по периметру капитальных стен, кольцеобразного в плане помещения, занимая примерно половину кольца. На другой половине располагалось общее убежище для зрителей, для нас и, вообще, для людей. Ближе к центру тянулся тоже кольцевой общий проход. Кое-кто любил, спустившись в убежище, поглазеть на своих сценических любимцев, по-домашнему, отдыхающих, каждый в своей клетушке. На Юнгер, Гошеву, Тенина. Я же предпочитала улизнуть из этого подвала в зрительный зал, который и во время репетиций, не говоря уж о спектакле, был всегда набит зрителями. Помню, шли репетиции новой постановки театра, "Питомцы славы". На сцене театра разыгрывались бойкие, бьющие молодым удальством, сценки из времён 1-ой Отечественной войны 12-гогода. Сияли белизной лосины, сверкали нашивки ментиков, кивали высокие, украшенные султанами кивера, раздавались удалые песенки. В зале же преобладали военные в серых шинелях, с перебинтованными головами и руками, некоторые на костылях. Но лица у зрителей сияли, их всецело захватывало происходящее на сцене. К сожалению, целиком "Питомцев Славы" мне так и не довелось повидать. И мне вспоминаются только некоторые моменты пьесы и серая масса блокадно - солдатской публики, заполнявшей все места в зрительном зале, да загоравшиеся глаза на исхудавших лицах.
Николай Варфоломеевич Баранов, лично знакомый с Акимовым, вспоминает в своей книге о премьере "Питомцев Славы", на которую его пригласил сам Николай Павлович Акимов. "... Очень удачным оказалось, что труппа театра Комедии выступает в Горьковском театре. Здесь зал гораздо больше, А желающих попасть на спектакль невероятно много. Отопления не было, и публика сидела в шинелях, пальто, ватниках, согревались тем, что постоянно притоптывала, от чего в зале стоял лёгкий гул, растирала руки и лица. Но холод никого не отвлекал от сцены, где шла пьеса о героизме русских солдат и офицеров в Отечественной войне 1812-го года. Сюжет, близость тематики к тому, что происходило за стенами театра, так захватывали всех, что, когда немцы начали обстреливать центр, зрители отказались покинуть зал, и спектакль шёл до конца. Мы зашли за кулисы поздравить Акимова. Он сказал, что счастлив тем, что театр помогает ленинградцам и бойцам жить и сражаться". (Баранов, "Силуэты блокады, стр.51")
Жить и сражаться помогали ленинградцам ещё и театр "Музыкальной комедии" б. "ТЮЗ" и симфонический оркестр Радиокомитета, руководимый Карлом Ильичом Элиасбергером. В середине декабря все мы, мама, папа и я стали слушателями незабываемого концерта в Большом Зале Филармонии, (Из дневника):
14-е декабря 1941-го года, Лен. Гос. Филармония. Концерт симфонического оркестра под управлением К.Элиасбергера, с участием пианиста А.Каменского.
В программе: П.И. Чайковский:
- Симфония №6;
- 1-ый концерт для фортепьяно с оркестром;
- Франческа да - Римини.
Мы собираемся на концерт. Папа, мама и я. Маленькие Уствольские тоже хотели придти в филармонию. И так, мы идём на концерт! Хочется, для такого случая, одеться получше. Надеваю своё чёрное бархатное платье. Сверху, розово - апельсинового цвета вязаную кофточку. Подкрашиваюсь, пудрюсь, оглядываю в зеркале свою, ставшую необыкновенно изящную, фигуру и стройные ноги. Пришёл Альберт Синявер, но нам не до него. Торопимся. Ведь трамваи давно уже не ходят. Бодрым шагом направляемся с Пушкинской, в сторону Невского, а конце, которого уже не светиться адмиралтейская игла. Трескучий мороз. От снега светло. Где-то ухает. И вот, вестибюль филармонии, торжественный строй колонн и белая лестница, уводящая вверх, и этот чудесный беломраморный зал с его люстрами и красным бархатом кресел. Блистающий, великолепный. Привычная память наполняет его нарядной, весёлой, волнующейся толпой. Вот проходит солидная пара, элегантные туалеты женщин, весёлая и шумная группа молодёжи... Но сегодня! Присматриваюсь к людям. Такие, как раньше, сплошной толпой заполнившие зал? Присмотрелась, нет, не к людям, к теням людей! К тем, кто пришёл, порой приполз сюда, послушать 6-ю симфонию, оглянуться на свою собственную жизнь и, может быть, уже завтра не встать.
Моё бархатное платье не пригодилось, никто не раздевается, сидят в шубах, ватниках, в валенках. И всё же сидеть холодно. И от дыхания, и от разговоров, поднимается пар. Нет, не надо присматриваться. Становиться страшно. Худые и почерневшие лица, провалившиеся с тёмными подтёками глаза, заострившиеся носы, острые скулы, бескровные губы, не бритые щёки. Печать голода на них, на всех этих людях, и на нас самих, вероятно тоже. Но, несмотря на голод, на полное отсутствие сил, люди пришли, пришли, они хотят слышать музыку, музыку П.И. Чайковского. Они хотят забыться, погрузиться в волшебный мир звуков, а ... завтра...? И здесь, среди публики, много военных, ведь фронт рядом. Военные в шапках ушанках, вязаных шлемах, с поднятыми воротниками шинелей и полушубков. Увы, они, наши защитники, тоже худы. Тоже бледны. Много мужчин. Может они молодые? Но голод сравнял и старых и молодых, все на одно лицо. Особенно страшно выглядят те, кто повязался поверх шапки ещё и бабьи платками. Эти, пожалуй, точно не выживут. А женщины? Где их красота, миловидность, блеск? И они тоже в платках, и тоже, так же бесконечно стары. Это тени людей, среди блестящих, торжественных колонн, под сверкающими люстрами... Вот об этом тоже надо бы написать симфонию.
Но, вот входят музыканты и пристраиваются за своими пюпитрами. Они тоже в ватниках, с намотанными вокруг шеи шарфами, в валенках. Да, и они, такие же, как мы! Один лишь дирижёр - ослепителен, он, как и полагается, как всегда, во фраке, в манишке. Взмах его палочки и полилась музыка. Шестая симфония в осаждённом Ленинграде. В зале тихо, тихо Никто не осмеливается кашлянуть. Только жалобы скрипок, только музыка. В зале тихо, но если прислушаться, снаружи, в городе звучит своя музыка. Это аккомпанемент сегодняшнему концерту - артиллерия. Во время чудеснейшего анданте эти звуки приближаются, не хочешь, а всё равно слышишь ставший, увы, таким привычным, уху - свист снарядов и глухой треск. Но мозг отмечает эти звуки как-то машинально, в сущности, они не мешают. Глаза людей блестят, на щеках слёзы. Что за музыка! Ведь здесь вся жизнь! И вот, последние аккорды - умирание. Как это понятно сейчас! Последние вздохи оркестра. Тишина.
Александр Каменский поразил всех своим нормальным, человеческим, не голодным видом. Он тоже во фраке. А как он играет! Незабываемо! Неповторимо. Чувствуется, он хорошо знает, кому он играет и зачем. Он понимает, почему этим людям так нужна его музыка и именно сегодня, сейчас, а не завтра, не потом... Ведь, может быть, для многих этого завтра, этого потом уже не будет.
Неужели у него не мёрзнут руки? Вот выдержка. Молодец! Буря рукоплесканий выражает дирижёру и пианисту ту бесконечную благодарность за то, что они, не ограничившись только программой, играют на бис, ещё и ещё.
Папа поднимается. Он устал, замёрз и хочет поскорее добраться домой к нашей маленькой, уютной печурке. В сущности, он уже прослушал, то, что хотел. Я и мама остаёмся прослушать "Франческу", эту фантазию, где сплетается тема любви с темой адского возмездия. Мы здесь, в Ленинграде, тоже мечтаем о возмездии, не фантастическом, а наяву. Когда же это будет? Но замирают последние звуки, гаснут люстры, слушатели расходятся. Мы сходим по мраморным ступеням мимо снежно холодных колонн. Придётся ли нам ещё раз подняться сюда? И мы выходим в город, в темень, в мороз и гулкая музыка зениток обступает нас со всех сторон.
Глава 22. "Альпиниада" в Ленинграде.
Пора рассказать о том, как проводилась силами четвёрки альпинистов работа по маскировке "Золотых вершин Ленинграда" в ту жестокую блокадную осень, зиму 1941, 1942 года. На совете у Бориса Ивановича Загурского было установлена очерёдность этих работ. В первую очередь - Адмиралтейство, к маскировке которого приступили в конце сентября, в октябре подступились к шпилю Инженерного Замка, и, только, в первых числах декабря началась окраска самого высокого "пика" - шпиля Петропавловского Собора.
Позднее приступили к маскировке уже не таких высотных объектов - куполов того же Петропавловского Собора и некоторых церквей. Для того, что бы полнее рассказать об этих уникальных, происходивших в невероятно трудных условиях работах, я воспользуюсь не только собственными воспоминаниями о поднебесной эпопее, о которой мне рассказывали сами участники "альпиниады", но так же и рядом статей, выходивших в разное время в нашей печати.
Первым, кто очень обстоятельно и серьёзно осветил в своей газете "Строительный рабочий" подвиг ленинградских альпинистов, был В. Михельсон, журналист и редактор этой газеты. Он познакомился с оставшимися в живых, к середине 60-х годов, покорителями "золотых вершин", вёл с ними долгие беседы, разыскал и вступил в переписку с лётчиком - воздухоплавателем В.Г. Судаковым (см. ниже), проинтервьюировал Зою Васильевну Сумбатову, очень помог О.А. Фирсовой улучшить её квартирные условия. Приглашал не раз к себе в редакцию и меня. В результате его поиска в газете в газете "Строительный рабочий" за 1967, 1968 годы появилась серия статей, посвящённых О.А.Фирсовой, М.М.Боброву, М.И. Шестакову, А. Пригожевой, А.И.Земба, Т.Э.Визель, А.Н.Сафонову, за подписью М.Владимиров, (псевдоним В.Михельсона). Затем, в 1973 году, в альманахе "Белые ночи" был помещён большой обобщающий очерк: "Покорители золотых вершин", того же автора, подписавшегося, как Владимир Краснояров (стр.434-435). В.И. Михельсон говорил мне, что на основании своих исследований, он в дальнейшем собирается приступить к работе над большой повестью или, даже, романом, об отважных маскировщиках. Но повесть эта, пока в печати не появилась. А тем временем, другие журналисты подхватили эту тему, и в ряде газет, то и дело стали появляться то короткие, то длинные статьи. Например, в "Известиях", "Комсомольской правде" и других. Часть из которых, мои знакомые пересылали мне. Наконец, в текущем 1985 году, журнал "Нева" поместил очерк писателя Л.Замятина, повторив название: "Покорители золотых вершин" (журнал Нева, стр.190-194). Все эти авторы брали интервью у Фирсовой или Боброва. Из всего указанного мной материала, я считаю наиболее ценными, исчерпывающими и добросовестными статьи Михельсона, которые и лягут в основу данной главы. Не могу не выразить ему благодарность за столь тщательно проведённое исследование.
Итак, коней сентября 1941-го года. Место действия - Адмиралтейство. Первая проба для проверки сноровки, изобретательности и выдержки верхолазов.
В виду того, что в России, до середины Х1Х века способ золочения куполов и шпилей заключался в том, что на поверхность позолота, состоявшая из тончайших лепестков золота, накладывалась слой за слоем на специальный клей, наносить краску на такую поверхность было невозможно, т.к. это разрушило бы позолоту. Поэтому было решено, что и на "Адмиралтейскую иглу", и на шпиль "Инженерного замка" должен быть натянут специальный чехол. И действительно, под руководством Ольги Николаевны Шилиной и главного архитектора Адмиралтейства, Владимира Ивановича Пилявского, на швальне Адмиралтейства, за одну ночь, был сшит из мешковины огромный чехол весом в пол тонны. Но как поднять этот чехол на 72-х метровую высоту, как укрепить блок на самой верхней точке шпиля?
Из статьи В.Красноярова (Михельсона):
"Шпиль Адмиралтейства был исключительно сложен для подъёма. Внутри шпиля сплошная деревянная конструкция, человеку там не протиснуться. Скоб на поверхности восьмигранника тоже нет. К тому же в своей верхней части шпиль тонок. Венчает его, так называемое, яблоко, корона и вращающийся на ветру кораблик, сделанный из листовой меди и имеющий тонкий, непрочный каркас". На галерейку под основанием шпиля поднялись О.Н. Шилина, Н.Н.Белихов, В.И. Пилявский и четвёрка альпинистов. Обсуждали, примерялись. Случайно, при взгляде вниз, где в Александровском садике были пришвартованы огромные аэростаты воздушного заграждения, Оле Фирсовой пришла счастливая мысль: использовать для закрепления блока наверху аэростат. Начальник ГИОП - Белихов обратился за содействием в штаб МПВО и, вскоре, в помощь верхолазам в ГИОП был откомандирован лётчик - воздухоплаватель, старший лейтенант В.Г.Судаков.
В.И.Михельсону, в его поисках материалов для статей о альпинистах, удалось в 1968 году получить сведения о подполковнике В.Г.Судакове, проживающим теперь на пенсии в Московской области. Вот ещё выдержка из его очерка:
"Я срочно отправил по этому адресу письмо, в котором рассказал о том, собираю материал по маскировке золотых шпилей Ленинграда, и просил откликнуться - не он ли, тот самый воздухоплаватель, который достиг вершины Адмиралтейской иглы? ... Вскоре от Владимира Григорьевича Судакова было получено письмо: "Осень сорок первого я получил задание командующего артиллерией фронта - укрепить блок на вершине Адмиралтейства. Долго думал, как это сделать. Обычный аэростат был велик и неудобен для этой цели. На "Красном треугольнике" я нашёл шар - прыгунок, диаметром 5 метров и решил на нём достигнуть вершины шпиля. Пятнадцать дней не мог справиться со своей задачей. Было очень ветрено. Ветер то относил шар, то тащил его прямо на шпиль; один такой удар мог стать последним и для шара, и для меня. В один из дней конца сентября, я начал свою работу, как обычно в 5 часов утра. С земли аэростат - прыгунок подавали на стропах пятеро бойцов. И на балконе у основания шпиля со мной находилось ещё пять солдат. Мы приняли прыгунок, я расположился на досчатом сиденье и поднялся в воздух. ... Несмотря на то, что погода была штилевая, аэростат на высоте отнесло в сторону. Я крикнул, что бы меня подтянули до балкона. Верёвкой оцепил вкруговую шпиль и стал подниматься на аэростате. Когда поравнялся с коронкой шпиля, подтянул прыгунок вплотную к кораблику, привязал себя и сиденье за стропы. Затем, укрепил блок под яблоком, перекинул через него канат и тут же дал команду натянуть концы. По канату стал спускаться вниз; таким образом, убедился, что блок висит прочно. Теперь можно было приступать к маскировке. Меня сменили альпинисты".
Да, теперь наступил момент для альпинистов проверить свои знания и сноровку по технике восхождения, на золочёном "пике" Адмиралтейства. Первыми поднялись альпинисты мужчины. Им, ещё не имевшим, конечно, никакого опыта по такого рода работам, досталась самая трудная и ответственная задача. Из очерка Красноярова - Михельсона:
"... сперва, на шпиль поднялся Михаил Бобров. Он укрепил второй блок для подъёма чехла. За ним пошёл А. Земба". С помощью второго блока они подняли наверх чехлы для яблока и для короны. Как на скальном маршруте высшей категории, альпинисты поочерёдно брали высоту (находиться наверху мог лишь один человек). И так, Бобров и Земба занялись фигурами, а одевать их было особенно сложно, так как, блок подъёма висел в нижней части короны, и работать надо было над ним, держась на ничтожной опоре. Покончив с верхушкой, они завели на место конец основного чехла, закрепили, и принялись оборачивать шпиль, как запахивают полы. Настал черёд для следующего этапа этой сложной работы. После того, как гигантский маскировочный "халат" был поднят и закреплён, надо было, надо было , постепенно расправляя мешковину, зашивать чехол. Эту операцию поручили Ольге Фирсовой и Але Пригожевой. На пронизывающем ветру, когда вокруг свистели осколки снарядов, женщины сшивали, озябшими руками, мешковину, сменяя друг друга каждые 3 - 4 часа. Сидеть приходилось в неудобной позе на тоненькой доске, которую они прозвали "душегубкой", подвешенной на петлях к блоку, как качели. Не обошлось без некоторых неприятностей. Например: - вскоре, после того, как чехол был зашит, вдруг, хлынул сильнейший ливень. Намокнув, а затем, высохнув на солнце, мешковина села, натянулась и, местами, полопалась. Ветер трепал обрывки. И снова поднялись верхолазки на шпиль. Починив чехол, они прочно зашпаготовали его, то есть, обвили его, виток за витком крепкой, толстой бичевой. До конца войны ещё много раз приходилось подниматься на шпиль что бы чинить чехол, который рвали осколки бомб и снарядов.
Ольга рассказывала, как она работала на холодном октябрьском ветру, сидя на неуютной дощечке. Она размещалась на подветренной стороне "иглы", что бы использовать для своей выгоды ветер, который нещадно дул ей в спину, плотно прижимая, и её, и мешковину к шпилю. Одета она была в тёплый свитер, поверх него в альпинистскую штормовку. На голове два берета. Один на левое, другой на правое ухо. На ногах ботинки сорок шестого размера, так как поверх двух пар шерстяных носков, ноги были ещё обмотаны шерстяными портянками и газетами. А, вот рукам было холодно, так как чтобы работать иглой, пальцы на перчатках были срезаны. Под "душегубкой" у Ольги висела ещё пара рукавиц и сумка от противогаза с портняжными принадлежностями - мотком парусных ниток, изогнутыми иглами, большими ножницами и острейшим кухонным ножом в самодельном чехле. С этой высоты ей слышны были и сигналы воздушной тревоги, и отбоя, видны были пожары и взрывы. Однажды, когда Оля работала на шпиле, совсем близко от неё снизился мессершмитт и дал длинную очередь из пулемёта, пули прошили позолоту, Немец пролетел близко, под прозрачным колпаком кабины, Ольга различила лицо лётчика в шлеме и очках. Аля Пригожева, сменяя Ольгу, работала на шпиле с таким же снаряжением, переживала те же трудности. Увы, Але не довелось дожить до освобождения родного города от вражеской осады. Фотографы и кинематографы ещё не делали своих эффектных снимков на шпиле, не пришлось ей участвовать и в демаскировке золотых вершин города. Как и многие другие, её подвиг, остался почти незамеченным. К ноябрю 41-го и ГИОП, и МПВО, и альпинисты, имевшие теперь немалый опыт "восхождения", готовились ко второму высотному штурму - на шпиль Инженерного замка. Снова Алоизий Земба и Михаил Бобров, первыми овладели этой 58-ми метровой, но очень сложной высотой. Краснояров - Михельсон пишет:
"На этот раз обошлось без аэростата. Шпиль Инженерного замка значительно ниже Адмиралтейского. И здесь нужно было установить блок для подъёма чехла и для верхолазов. Одна пожарная лестница была приставлена под углом с земли до крыши замка к основанию шпиля, другая, упираясь в верхнюю часть первой лестницы, дотянулась до креста, венчающего шпиль". Укрепив наверху двойной блок, Бобров и Земба подтянули наверх брезентовый чехол, зашивать который, снова пришлось двум отважным "рукодельницам" - Оле и Але. Выздоравливающие бойцы из госпиталя, расположенного в замке, каждое утро помогали верхолазам подняться с крыши на шпиль, а к вечеру "снимали их оттуда, подтягивая верёвки. ... Однажды, как обычно, верхолазки поднялись наверх в семь утра. Во второй половине дня, когда они уже готовились спускаться вниз, бойцов, закреплявших концы страховочных верёвок, куда - то вызвали. Оля и Аля самостоятельно не могли спуститься, так как верёвки были наглухо закреплены внизу. Они пробовали кричать, привлечь внимание, но внизу, видимо, решили, что верхолазок уже сняли с высоты. И, вдруг, воздушный налёт. Загрохотали взрывы. Несколько зажигалок упали на крышу Замка, вспыхнули пожары. В суете, никто не вспомнил, что наверху прижались к шпилю две отважные женщины, закоченевшие от холода. Спохватились, лишь поздно ночью, когда потушили пожар. Аля Пригожева сильно простудилась в ту ночь. Но лечиться от простуды? В ту зиму! Она продолжала работать, но, вероятно, именно эта простуда привела позднее к её гибели.
Управление по делам искусств имело в своём распоряжении ежедневно до 200 талонов на завтраки и обеды в столовых. Всем оставшимся в городе работникам искусств, конечно, этого не хватало. Но, понимая, сколько физических сил тратят ежедневно маскировщики, им выдавали талоны и на завтрак и на обед. Н.Н.Белихов очень беспокоился за альпинистов, и, при первой возможности, подкидывал им плитки спасительной для многих глюкозы. Но всё это, конечно, никак не компенсировало затрату сил, потраченных верхолазами на своей, сверх трудную работу. Ольгу Фирсову и Алоизия Зембу мучила цинга, сдавали и Пригожева и Бобров. Ольга рассказывала мне, что на руках у неё не проходили болезненные нарывы. Но, не смотря ни на что, маскировочные работы продолжались. Алоизий и Михаил готовились к наиболее трудному и ответственному заданию - к маскировке шпиля Петропавловского Собора, который решено было, как и купол Исаакия - окрашивать, так как купол и шпиль были позолочены способом гальванопластики и краску, впоследствии, можно будет смыть каустической содой. Ещё до самого "штурма", оба альпиниста вместе с инженером Леонидом Алексеевичем Жуковским, ещё и ещё раз прикидывали, как укрепить блоки на вершине шпиля. Разработали целую систему блоков. И, наконец, первого декабря 41-го года, Алоизий Земба и Миша Бобров приступили к штурму восьмигранного золотого шпиля, увенчанного на вершине пика фигурой ангела с крестом, вращающегося, как флюгер, на шаре. Немного истории. Первоначально фигура ангела была закреплена неподвижно. Из - за чего, в сентябре 1777г. его сломала буря. В дальнейшем фигуру установили на шпиле таким образом, чтобы она не оказывала сопротивление напору ветра, а свободно вращалась, подобно флюгеру.
Вот, как происходила эта, сверх трудная, работа. (Из статьи Красноярова - Михельсона):
"Подъём на шпиль происходил так: В начале, по внутренней винтовой лестнице добрались до слухового окна, расположенного на высоте 103 метра. Сам шпиль имеет высоту 122 метра от земли. В те годы, это была самая высокая точка Ленинграда. Затем Бобров, по внутренним металлическим конструкциям поднялся выше, до основания шара. Здесь он дрелью проделал отверстие, пропустил страховочный трос с петлёй, наружу. От того же слухового окна Алоизий Земба, по наружным скобам на шпиле поднялся к шару. Однако, мороз и ураганный ветер, вынудили его, на этот раз, вернуться вниз. На другой день ветер несколько стих и Алоизию удалось миновать опасную зону. Опасную! Невозможно себе представить, как на этой высоте, в декабрьский мороз, на раскачивающемся от ветра острие шпиля Алоизий, а затем Миша, преодолевали "выход" на полутораметровый в диаметре шар! В альпинисткой технике такой момент называется "нависание" или "отрицательный угол". При нижней страховке, отклоняясь от вертикального положения спиной, надо было на руках подтянуться на шар, к основанию креста. ОТ слухового окошка в шпиле до вершины креста - двенадцать метров. Семьдесят лет тому назад, в октябре 1830 года, подобный подвиг, но в одиночку, и, конечно, не имея представления об альпинистских приёмах, совершил крестьянин - кровельщик Пётр Телушкин, взявшийся без лесов отремонтировать крепление флюгера. Последующие подъёмы и спуски он осуществлял, по укреплённой им вдоль шпиля, верёвочной лестнице.
Алоизий и Миша укрепили наверху стальные тросы и установили блоки, два для самих себя и два для подъёма вёдер с краской. В этот момент начался артиллерийский обстрел, надо было торопиться. Увы, первоначальные крепления оказалось неудачными. Фигуру ангела заклинивало тросами, и она переставала вращаться. Это грозило бедой. Вот как об этом рассказано в очерке Михельсона:
"... Однако, в первый день к работе приступить не удалось. Той ночью смотрителя собора разбудил страшный гул. Гудел шпиль. Глянули наверх и догадались, в чём дело. Ночью, в тридцатиградусный мороз, смотритель долго добирался до Малой Пушкарской. Он поднял с постели смертельно уставших верхолазов. В те дни Алоизий часто оставался ночевать у Михаила, жившего ближе к Петропавловке. Втроём они пошли в кромешной тьме к крепости и ещё издали услышали зловещий лязг и гул. Когда, на несколько секунд из-за туч, выглянула луна - они увидели: что фигура ангела кренится под порывами ветра. Несколько часов прошло, пока Михаил и Алоизий устранили аварию. Стало ясно, что место установки выбрано неудачно. Чуть рассвело, начали рубить тросы, обвившие ангела, перемещать блоки ниже, прямо на верхнее полукружье шара, так, что бы, они не мешали вращению фигуры. Потянулись дни, а позднее и ночи, и недели невероятно тяжёлой, утомительной работы. Алоизий и Миша, подвесившись на сто метровой высоте, на парашютных стропах, сидя на узенькой, неудобной дощечке, замёрзшими руками, наносили на золотую поверхность шпиля, корабельную краску серого цвета. И постепенно скрывался от глаз фашистских артиллеристов и лётчиков яркий и чёткий ориентир - золотая игла колокольни Петропавловского собора. Вёдра с краской подавали им снизу бойцы МПВО. На морозе краска быстро застывала, не хотела ложиться на металл. Да и сам металл на морозе покрывался слоем изморози. Одно и то же место, а особенно на солнечной стороне, где эта изморозь сходила под лучами солнца, приходилось перекрашивать несколько раз. Вражеские самолёты кружили над Петропавловкой. Далеко в низу, на Трубецком бастионе крепости, на площади Революции, на Стрелке Васильевского острова стояли зенитные батареи, отражавшие воздушные налёты фашистских стервятников. В один из таких налётов, бомба упала у Петропавловского собора. Михаила, висевшего, как раз со стороны площади, взрывной волной подбросило вверх и отнесло от шпиля. Он не успел подстраховаться и ударился головой о шпиль. Михаил Михайлович Бобров рассказывал корреспонденту "Известий": "Раз бомба легла прямо возле собора. И меня на тросе так кинуло, что я маятником в сторону и о шпиль головой. Земба, он ниже работал, сразу ко мне, жив - ли. Вот, кто был надёжный человек - Земба". Боброва часто окликал спокойный голос товарища - "Миша отдохни". И всё же, Михаил был в лучшем состоянии, чем Алоизий, которого приходилось иногда провожать на улицу Чайковского. Михаил поддерживал друга, что-то неладное было у него с ногами, давало знать себя недавнее ранение, мучила цинга. Путь через Неву, на противоположный берег, казался очень трудным. Но Алоизий стремился домой, он знал, отец с матерью волнуются за него, А на другой день, опять, ценой нечеловеческих усилий, он больной, полуголодный, поднимался на колокольню и часами, на пару с Михаилом висел над городом и работал. Из-за постоянных налётов, обстрелов, осколков, из-за потери времени и сил на хождение домой и назад к Петропавловке, друзья решили изменить режим работы и окрашивать шпиль по ночам, когда ничего им не мешало и не тревожило. А заодно и вообще переселиться в собор. Сторож-смотритель помог им в этом переселении. Как-то, проводя экскурсию на колокольню и шпиль, Михаил Михайлович показал на небольшую сводчатую коморку под лестницей колокольни и сказал: "Вот здесь мы с Алоизием и жили. Спали, можно сказать, на могилах царевича Алексея и его жены". Да, действительно, в этом небольшом помещении первого этажа, ещё недостроенного тогда собора, был погребён злосчастный царевич Алексей. Это погребение 1718 года было одним из первых, но не в самом соборе, а в маленьком подсобном помещении, ставшим в молодой столице, новой усыпальницей членов царствующей династии. До основания Петербурга, усыпальницей русских царей был Архангельский собор Московского кремля. Соседство царственных захоронений нимало не тревожило самоотверженных верхолазов. Наоборот, им стало теперь гораздо удобнее и проще. В одной из казарм, на территории крепости, они раздобыли пару коек. Смотритель установил в коморке буржуйку, которую топили, разбирая, здесь же внутри колокольни, старую шахту от старой конструкции курантов. Дерево было сухое пресухое. В коморке было тепло. Михаил Михайлович рассказывал: работу они начинали, когда становилось уже совсем темно, часов в 6 - 7 вечера, разогревшиеся, отдохнувшие и почти ... сытые. Поднимались на свою высоту в ночь, в мороз, в тишину, на свой сверкающий над спящим городом пик. Город был, тих, погружён в темноту, Нева широким белым пространством светилась под звёздами, и, лишь на юге, там, где был враг, краснели вспышки и зарево. А небо, небо было не спокойным, оно во всех направлениях пересекалось снующими, голубыми лучами прожекторов. Они же красили и красили, глуша предательское сверкание шпиля, изредка окликая, и подбадривая друг друга. Глубокой ночью, устав и промёрзнув до костей, они спускались в свою коморку, где, они знали, сторож уже снова протапливает буржуйку и кипятит для них чайник. Это было счастьем и спасением, сознание того, что никуда после работы не надо было брести, что там, внизу, у них под ногами, их уже ждали горячий чай и тёплые постели. Но сверх тяжёлая их работа, напряжение, постоянное недоедание, морозы, всё более и более подтачивали их силы. Вот письмо, отправленное Алоизием в декабре 41-го года к друзьям на Кавказ в альпинистский лагерь "Рот-Фронт". Привожу письмо с некоторыми сокращениями. Оно напечатано в очерке Л.Защитника в журнале "Нева".
"Ленинград, 28.12.41года"
"Добрый день Саша и Юра! Наконец собрался написать вам пару слов. Как видите, я ещё жив, ну и почти здоров. Если вы живы и здоровы, то разрешите вас поздравить с Новым Годом, пожелать в Новом Году успеха в работе, в жизни и хорошего здоровья. У вас, как мне известно, в этом году сезон сорвался. Ну, да это ничего. Отгоним немцев и заживём по-старому. Уезжая, Володя Кабанов шутил, что, вы не скучайте и занимайтесь в городе альпинизмом, покоряйте ещё не взятые вершины, как-то: Исаакиевский собор, Петропавловский шпиль, Адмиралтейскую иглу и Михайловский шпиль. Ну, конечно, посмеялись и попрощались. Но смех смехом, а меня в конце августа (автор ошибается, это было позже) пригласили в отдел охраны памятников и предложили покорить ранее названные вершины. Применяя всю высшую альпинистскую технику, кроме крючьев, карабкался на эти вершины. Михайловский шпиль очень сложный, хотя высота всего 58 метров, Адмиралтейская игла тоже была сложна, высота - 72 метра. Петропавловский шпиль 122 метра. Первые две вершины покорены мною и сделано первое советское восхождение на третью вершину. До меня лазал какой - то маляр и получил за это право пить водку бесплатно во всех казёнках. Вы себе можете представить, какое нужно иметь питание, для такой работы, и какое, я имел. Вот встретимся, так я вам расскажу. Вы вытаращите глаза и, наверное, не поверите. Ну, надеюсь, что скоро должно улучшиться положение с продовольствием. Как только разобьют врага под Мгой, ну, я так думаю, что с тех краёв что-нибудь подкинут. Но, если недели две, три затянется, то я вряд-ли выживу. Все мышцы отстали от костей. А кости все видать и не требуется рентгена. Ну, об этом кончу. Больше радостных вестей нет никаких. Если вы что-то знаете о Володе Кабанове, то сообщите. Напишите, как вы чувствуете войну, и как она отражается на вашей жизни. Пишите всё подробно и пожалуйста, ответьте побыстрей, потому что мы живём, как на пороховой бочке. Ну, счастливо! Желаю вам хорошего здоровья, жму крепко руки и не теряю надежды увидеть вас. С приветом ЛЮСЯ".
Славный ЛЮСЯ не встретился с друзьями, не довелось ему снова побывать в Кавказских горах, но он держался и, может быть, додержался бы, дожил до счастливого дня Победы. Он погиб не в Ленинграде, а где-то по дороге в эвакуацию.
Оля и Аля, закончив работы по маскировке Михайловского шпиля, тоже работали на Петропавловском соборе, окрашивая купол над алтарём. Потом, ГИОП поручил девушкам работу по обмерам нескольких памятников архитектуры, на высотных частях зданий, без лесов. На карнизах и фронтонах Александринского театра, костёла "Екатерины" на Невском, в "Таврическом дворце". Аля, не переборов простуды, сдавала, но, всё-же, эта славная пара работала, не покладая рук, ещё и в январе, и в феврале. К весне, "хранительницей" высотных объектов Ленинграда осталась одна Фирсова. Ей пришлось собирать и организовывать новую бригаду. Подробно об этом, а так же о судьбе Алоизия Зембы, будет сказано ниже.
Глава 23. "Надежды".
Все последние месяцы 41-го года, ленинградцы жили надеждами. Надежды сменили прежнюю уверенность, о которой я уже писала, уверенность в том, что вот-вот произойдёт решающий перелом. Радио играло в нашей жизни, прямо-таки решающую роль. Ах, эта чёрная тарелочка на стене. Чего только она не сообщала! Убийственные и вселяющие надежду сводки Информбюро. "...Наши войска оставили..., ...враг понёс большие потери..".. Но к 9-му декабря, был отбит Тихвин, прорвано 2-ое кольцо блокады... Человек не может жить без надежды, а намётки на успех, сообщения, хотя бы о частичных победах, всё время подогревали эти надежды. Военные планы сохранялись в строжайшей тайне, но слухи, и слухи вероятно фантастические, всё время питали наше воображение. К тому же, папа наш многое знал, и, если не называл имён, то, всегда комментируя общие сводки, тоже подогревал надежды. В сентябре на поддержку обороны города, на Ленинградский фронт прибыл... Кто? Тот, кто "спасёт", кто не допустит штурма города, не допустит окружения. Теперь мы знаем, прибыл Г.К.Жуков. Увы, через месяц, этот "кто-то" отбыл отражать наступление на Москву. 13-го декабря, успех под Москвой! Враг отброшен от Москвы на десятки километров. Ну, теперь, считали Ленинградцы, после такой победы под Москвой, конечно же, все силы будут переброшены к Ленинграду. Снова приедет Жуков, освободит город. Но высшему военному командованию было не до Ленинграда. Там считали, видимо, что на Ленинградском фронте положение, а какое положение: полное окружение, стабилизировалось. Мрут от голода? Ну, вот, налаживается транспортировка грузов через Ладогу - "Дорога жизни". Бомбёжки, обстрелы? Что же, придётся потерпеть... Другие фронты важнее, там решается судьба страны. Но всё же думается, Сталин никогда не любил Ленинграда, жалости, если у него вообще возникало такое чувство, к его стойким, героическим жителям, у него не было. Ленинградские дела были оставлены "на потом". Новые надежды несла Дорога Жизни, Новые сдвиги ожидались весной. Дорога Жизни, этим названием окрестили единственный путь, по которому ещё могла осуществляться связь со страной. Ежесуточное, пусть самое минимальное, снабжение города. Путь вводно-ледовый. Ленинградцы ждали с нетерпением, с надеждой, тревогой, когда же установиться на Ладоге достаточно прочный ледовый покров. Что бы можно было пустить транспорт по твёрдому льду. Но Ладогу долго штормило, лёд ломался. И, хотя, ещё в 20-х числах ноября по Ладоге пошли первые автоколонны с продовольствием, регулярное снабжение долго не налаживалось, погода часто менялась, лёд не наращивался. А страна, между тем, слала продовольственные эшелоны, и грузы накапливались и накапливались на восточном берегу озера. А как это было опасно! Ведь, допусти прорыв вражеской авиации, и грузы погибнут, не достигнув ожидавшего их города. Борьба за Ладогу, за дороги, за бесперебойную, непрерывную доставку грузов, была главнейшей задачей. Из книги Павлова: "Чтобы увеличить перевозки грузов, и не допустить провала машин под лёд, к грузовикам прикрепляли на буксире сани. Такой способ транспортировки уменьшал давление на лёд и позволял везти в два раза больше груза (стр.214) Разгром немецкой группировки под Тихвином, имел для судьбы Ленинграда не меньшее значение, чем прорыв блокады в январе 43-го года. Ведь по существующим в декабре нормам, требовалось завозить в город около 1000 тонн только одного продовольствия в сутки. Освобождение Тихвина, по праву должно признано поворотным событием в обороне города (стр.217, 218)... Среднесуточный завоз теперь стал превышать дневной расход... И это позволило Военному совету увеличить нормы выдачи хлеба с 25-го декабря, что и было, к великой радости Ленинградцев, опубликовано. Но, увы, в декабре ещё не реализовано (стр.285)".
Папа и я всегда приносили домой разные новости и общего порядка, и слухи, и анекдоты. Да, да, даже в те страшные дни - анекдоты. Эта неистребимая устная, часто чрезвычайно меткая информация, была не менее популярны и ходки, чем в мирное время, но ещё более опасны! И вот, мы решили с папой вести дневник, понимая, что эти дни, со всеми своими мелочами, не должны быть забыты никогда! Каждый вечер, поужинав, сидя у буржуйки, при тусклом огоньке коптилки, мы записывали всё, что услышали за день, что рассказывали нам домашние, сослуживцы, часто, что пережили сами.
Приложение: из журнала "Нева" №5 за 1985г.
В. Шефнер. "В Ленинграде в 41-м".
Склоняясь над раскрытой тетрадью
Сидит одинокий старик,
О голоде и о блокаде
Ведёт он вечерний дневник.
Без вычерков и многоточий,
Печальною правдой томим
Потомкам поведать он хочет
О том, что испытано им.
Мерцает коптилка во мраке,
И тени теснятся толпой,
Бредёт карандаш по бумаге,
Петляя, как странник слепой.
И длится с грядущим беседа
И нижутся в строки слова,
И светлая вера в Победу
В душе летописца жива.
............. . .
... а в "Юнкерсе" через мгновенье
Раскроется бомбовый люк...
............. . .
Но всё ещё пишется книга,
Которой, никто не прочтёт. (1984г.)
Нашего с папой дневника, тоже никто не прочтёт. Он погиб в пожаре 20-го января 41-го года.
Глава 24. О гостях и об их делах.
Гости бывали у нас постоянно. Всех охотно встречал и чем мог - помогал наш приветливый огонёк. Иногда к папе забегал Николай Николаевич Белихов. Мама очень симпатизировала этому живому, полному энергии, умному человеку и интересному собеседнику. А Николай Николаевич очень ценил умение охватить любое положение, каким-то обобщающим взглядом нашего папы. Разговор их касался многого, был горяч, горячность исходила от Белехова, и злободневен. Мы с мамой не вмешивались, только с большим интересом слушали. Мамочка непременно изобретала что нибудь, что бы угостить Николай Николаевича. Специально для него пекла из остатков муки, тонюсенькие, но настоящие блины. Однажды к нам позвонила по телефону жена Николая Николаевича, Евгения Николаевна, в большой тревоге. Поздно вечером Белехова забрали в милицию, заподозрив, что он шпион, лазутчик или, хуже того, "сигнальщик". Что же оказалось? Белеховы жили на последнем этаже дома на улице Некрасова. И, вот вечером им показалось, что на чердаке, над их головами, какой-то странный шум. Николай Николаевич, взял фонарик и, в чём был, пошёл по чёрной лестнице на чердак в полной темноте, светя фонариком. Не знаю, почему был шум, но на чердаке были дежурные. Они изловили "неизвестного", у которого не оказалось никаких документов и сразу свели его в милицию, сказав, что подозрительный тип пробирался на чердак давать световые сигналы. И улика на лицо - фонарик, хоть и светил он от силы, на два метра вперёд. Жена Николай Николаевича пошла с ним в милицию, доказывая, что и как, но при тогдашней острой бдительности, дело принимало скверный оборот, и Белихов посоветовал Евгении Николаевне позвонить Михаилу Михайловичу. Всё окончилось благополучно. А летом и я попала в руки милиции, но об этом позже. Частенько бывала у нас Оля Фирсова. Она хотела, что бы её любимого Мишу откомандировали в бригаду маскировщиков. Я уже рассказывала об этом. Оля с помощью папы без конца писала заявления в штаб Ленинградского фронта, то от имени бригады альпинистов, то от имени начальника ГИРП Белехова, то от самого Михаила Шестакова. Но эти заявления и прошения не двигали дела, и Оля опять приходила за советами к нам на Пушкинскую. Это она добыла для нас какую-то особо усовершенствованную коптилку, которая потребляла мало горючего и "хорошо" светила. Такие коптилки изготовлял кто-то из её знакомых. Приходила к нам и Лена Носович, жена Коли Сабурова. Она очень беспокоилась о детях и ещё больше о Николае, о котором не имела никаких сведений. За все четыре года войны, она так ничего и не узнала о судьбе мужа, который был ранен и попал в плен, но это стало известно много позже. А её просто тянуло к нашей семье, спокойствию, и уюту, "блокадному уюту", возможности переключиться. Она не всем тогда с нами делилась, о многом я узнала более точно от неё самой, но уже после войны. Расскажу здесь о Лениных "заботах", потому что они характерны для того беспокойного времени.
Рассказ первый. Об одной несчастливой любви
Елена Григорьевна Носович, жена Николая Дмитриевича Сабурова, родилась в семье политических эмигрантов в Швейцарии, по образованию химик, работала в химической лаборатории при Технологическом институте. Начальником лаборатории был некий Антон Сергеевич Коноплев, человек ещё молодой и холостой. Кроме того, что он был химиком и заведующим лабораторией, он был так же увлечённым спортсменом и тренером по академической гребле, а ещё он был беззаветно и безнадёжно влюблён в Леночку. Благодаря беззаветной преданности Антона Сергеевича, я, вместе с Леночкой, состояла членом спортивного общества "Красное Знамя" и каждое лето занимались академической греблей на базе общества в бывшем спортивном клубе "Дельфина" на Крестовском острове. Каноплёв безотказно ходил с нами на "двойке" рулевым. С началом войны, Антон Сергеевич перешёл на работу в какое-то промышленное предприятие, работавшее на оборону. Это предприятие тоже должно быть эвакуировано и сотрудникам было предложено готовить свои вещи к отправке. Антон Сергеевич навещал Лену, знал, как она тоскует и беспокоится об отправленных в далёкую Сибирь детях и, естественно предложил Лене выехать из Ленинграда вместе с их эшелоном. И Лена на это пошла, хотя Антон Сергеевич предупреждал её, что она будет принята в состав отъезжающих только как его законная супруга. Что же делать? Считалось, что это чистая формальность. Но в то же время, Лена понимала, как мучительна вся эта ситуация для её верного, ещё более, чем раньше, влюблённого поклонника. И она решила пойти на сближение с ним. Тут была и благодарность за постоянную его заботу, и преданность, и тоска оставленной в одиночестве женщины, возможно потребность опереться на кого-то, более сильного, и, конечно же, стремление вырваться из гнетущих тисков блокады. Но возможно ли было личное, пусть недолгое, мгновенное счастье в те страшные месяцы? Возможно ли было укрыться, забыться?
Ничего из личного счастья не получилось, лишь стыд, разочарование и опустошённость. Эшелон того предприятия так никуда и не уехал. Поздно, все пути были уже перерезаны. А несчастный Антон Сергеевич вскоре погиб. Он умер от голода. Лена узнала об этом много позже, от его сестры. Из всей этой печальной истории получилось нечто другое, тоже неблагополучное. Хотя, кто его знает! Пути Господни неисповедимы! Итак, было время, когда Лена собиралась в эвакуацию. Она уложила вещи свои и своих детей, всё упаковала для отправки и на всех пакетах написала: "Елена Григорьевна Канаплёва". Так и стояла в её комнате эта кладь. Эти пакеты, вырвавшись на короткий срок, каким -то образом, в Ленинград, увидел Коля Сабуров, её муж, хорошо знавший о Канаплёве и добродушно посмеивавшийся, в своё время, над его чувствами. А возможно, что ему кто-то сообщил об этих надписях, сейчас это загадка. Важно то, что Коля об этих надписях знал, и с этим жил все четыре года плена. Лена же, все те же годы, не зная, где её муж, жив ли он, ещё больше беспокоилась, зная, что он знает.
Рассказ второй. Об одной матери, потерявшей своё дитя.
Я уже рассказала о несвоевременной любви Сергея Катонина и Тани Рощиной. И так, в квартире Катониных, Танечке и её ребёнку указали дорогу от порога. Кто это сделал, теперь не узнать, думается, что не сам Серёжа, а либо его мать, вера Александровна, либо его настоящая жена Марина Босняцкая. Являться с "повинной" головой к мужу - Игорю Георгиевичу Явейну, Таня, видно, не считала возможным. Дочь её, Нона была эвакуирована, мать и сестра Игоря Георгиевича, тоже. Таня поселилась у своего отца К. И. Рощина. Но там ей с новорождённым ребёнком было трудно. Отец сам был очень слаб. И Таня прицепилась к Леночке Носович-Сабуровой, и перебралась к ней. Вероятно, обе они встретились в Доме Архитекторов, где Лена узнавала о своих детях, отправленных в какую-то далёкую и неведомую Емуртлу, а Таня хлопотала о материальной и продовольственной помощи. А позднее о том, что бы Союз помог ей эвакуироваться через Ладогу. Все жалели тогда бедную Таню. Вероятно, именно в те дни и главный архитектор города Н.В.Баранов узнал о её бедственном положении и искренне ей сочувствовал. Думается, что из-за этого впечатления, оставшегося у Баранова, он так искренне написал через 40 лет в своей книге о трагедии "Тани Р. и Сергея К".. Лена не только пожалела Таню, но и помогла ей, приютив её с ребёнком у себя. Сабуровы жили недалеко от Союза, на улице Якубовича, бывшей Исаакиевской, делила с ней свои скудные харчи. После Лена рассказывала мне, какой ужас они вместе с Таней в те дни переживала. Несчастный ребёнок, родившийся преждевременно, какой-то страшный, весь чёрный, кричал благим матом, день и ночь. Ведь он был голоден, родился от голодной матери, требовал еды, еды, еды, а молока у истощённой Танечки, почти не было. Какие-то прикормки она из детской больницы получала, но этого не хватало. Девочка непрерывно орала, приводя в отчаянье и свою мать, и Лену. Через некоторое время ребёнок умер. Таня решила утаить его смерть, что бы продолжать пользоваться детской карточкой и прикормками из больницы. Она упросила Лену молчать и оказать ей последнюю, в судьбе несчастного ребёнка, помощь. Они обе, ночь, тайком от соседей, вынесли маленький трупик и, просто засунули его, где-то в сугроб. Никому этот ребёнок, плод любви злополучной "княжны" был не нужен. Смерть его была облегчением, даже, для его матери. Таня же, до самой эвакуации, о которой, несколько позже, продолжала жить у Лены. Она уехала из Ленинграда в январе 42-го года, вместе с Галей Оль. Лена, без особого сожаления и даже не особенно сочувствуя, рассказывала мне после войны, о том периоде, когда у неё жила Таня. Она считала, что Таня, при всей её какой-то безвольной симпатичности, была, в сущности, эгоистка, думающей только о себе. Во всяком случае, когда она хлопотала через союз Архитекторов об эвакуации, она наивно советовалась с Леной, не помешает ли её отъезду, если она включит в список на отъезд своего отца: "Вдруг из-за отца, меня не так скоро отправят? Лучше уж я не буду его записывать и просить за него", говорила она Лене. И она не включила его в список и уехала. Отец же её окончательно ослаб и умер, как и многие, многие в Ленинграде.
И, всё же, я буду это подчёркивать в своих записках неоднократно, нельзя судить о поведении людей во время блокады с позиции нормальных, сытых людей, живущих в нормальных условиях. Тем более, нет никакого права, их осуждать, как это делает, к тому же, совсем не точно и несправедливо, в своей книге Н.В.Баранов, в отношении Тани и Сергея. О смерти Сергея, мне рассказала, уже после войны, его жена Марина Босняцкая. Это произошло зимой 42-го года, о чём смотри в главе 26.
"Маленькие Уствольские", то есть - дядя Ваня с тётей Кисой, из своих краёв никуда не уходили. Дядя Ваня побывал у нас на Пушкинской только один раз - посмотреть, куда это мы перебрались со своей улицы Рылеева, упрекал нас, что мы не переехали прямо к ним. Теперь комнату, предназначенную нам, занял Павлуша Мельников, тёти Кисин брат. Дядя Ваня очень похудел, ссохся, стал совсем маленьким, но по-прежнему был улыбчив. Он как-то приспособился к блокадному быту. Даже извлекал для себя некоторую выгоду, так как на работе, благодаря своей общительности и лёгкому характеру, он пользовался симпатией и доверием. Как члену месткома, ему доверили ежемесячную выдачу продовольственных карточек. И он манипулировал в свою пользу то с детскими карточками, то с карточками умерших. По некоторым намёкам мы об этих его делишках догадывались. Но лишь позднее сами убедились, что это так, что в его руках, иногда оставалось по 8 - 10 лишних карточек, а может и больше. Сперва, мы удивлялись, бывая у них, что они, несмотря на очень небольшую зарплату дяди Вани, умудрялись покупать хорошие вещи, как они говорили: "для девочек", т.е. для Тани и Гали, потом поняли, что дело тут не обходится без махинаций. Однажды, когда мы поздним зимним вечером возвращались к себе от "маленьких Уствольских", мама заметила, что папа совсем замёрз в своей чёрной барашковой шапке. Через пару дней мамочка предприняла очень дальний для тех времён пеший поход за тёплой шапкой. По всей вероятности мамочка уже знала о существовании этой шапки, но, вот, застанет ли она дома нашего большого друга и постоянную, верную портниху Марту Ивановну Лапину дома? Всё же она отправилась через все мосты на Павловскую улицу, теперь Мончигорскую, Петроградской стороны. Было очень морозно, по каким-то районам города шёл артобстрел.
Когда и я, и папа вернулись с работы, мамы ещё не было, и мы очень беспокоились, где она, как дошла? А мамочка вернулась очень довольная собой. И, конечно, с трофеем, с тёплой, меховой, с хорошими тёплыми ушами финкой, принадлежавшей покойному мужу Марты Ивановны. Она рассказала нам, как она разыскивала Марточку, которая не жила у себя, т.к. предпочитала быть на "казарменном положении" в детском садике на Пушкарской, где она работала кастеляншей. Но для Михаила Михайловича, которого Марта Ивановна очень любила и уважала, они вместе с мамой сходили в её квартиру за этой шапкой. Теперь папа был снаряжён по-зимнему. К папе охотно приходили его большие друзья и бывшие сослуживцы - Наум Осипович Магид, красивый и видный еврей, который, после ухода папы из Смольного, занял его место заведующего Юридическим бюро. Он держался бодро, вероятно в Смольном он прилично подкармливался. Тяжелее было другому нашему гостю Михаилу Трофимовичу Иванову, у которого хранилась часть наших вещей, большому, массивному мужчине, которому мало было бы и трёх блокадных пайков, а не то, что одного. Они с женой продавали свои уникальные "фарфоры и хрустали" и на это подкармливались. Оба эти друга любили поговорить о политике, о международных делах, о всё не открывающимся, но с нетерпением и надеждой ожидаемом "Втором фронте". Они были лучше других Ленинградцев осведомлены, любили умную беседу и тянулись к папе, который был для них высшим авторитетом. Когда они приходили, слышалось: "Англия объявила войну Венгрии и Финляндии; Япония напала, без объявления войны на Американские владения в Тихом океане; нам в Ленинграде скоро станет полегче, мы отобрали у немцев Тихвин, это начало, мы отгоним фашистов и дальше; идут бои под Москвой, там успешное контрнаступление; врага отогнали от столицы". И т. д. и т. п. Но чаще тревожные вести: "Оставили Одессу; бои в Крыму; бои на подступах к Дону". Много говорили о героических усилиях по налаживанию транспортировки грузов через Ладогу, о приближающейся возможности эвакуации по этому ледовому пути части населения, о "Дороге жизни".
Приходил к папе ещё один его коллега, которого раньше мы у себя не видели. Это был заместитель папы по его общественной должности председателя областной Коллегии Адвокатов, находившейся на Фонтанке 10. Фамилия этого высокого, очень интеллигентного человека была Гамбургер. Он держался очень просто, очень тактично и доброжелательно. В беде он оказался неоценимым другом, помогавший и словом и делом, как никто другой.
Мой друг, один из "Фусеков", Коля Назарин, в конце октября, выписался из госпиталя и уже выполнял различные боевые задания в полку выздоравливающих. Он был зачислен в 5-ый АЗИП (запасной инженерный полк). Чаще всего он выезжал в Невскую Дубровку. И, однажды, попал там, в весьма опасную переделку, и потерял свою полевую сумку, в которой были все письма от его родных. Утрата последних писем была особенно для него тяжела. Бывая в городе, он каждый раз забегал к себе домой, что бы отдать своим маме и сестре которые всё больше слабели, всё, что мог отложить для них из съестного. Иногда он забегал в Дом Архитекторов или в ГИОП, а однажды, неожиданно появился у нас на Пушкинской. "Смогу ли я у вас переночевать сегодняшнюю ночь", спросил он. Был Николаша, в этот вечер, очень подтянут и суров. Как оказалось, служба его в АЗИП окончилась, и он должен был вернуться в свою прежнюю часть. Он уже навестил дома своих, попрощался с мамой и сестрой. И должен был отбыть из Ленинграда, но из-за каких-то оформлений его задержали в городе ещё на сутки, и он счёл за лучшее не тревожить ещё раз своих родных, снова переживать трогательные минуты прощания, и пришёл к нам. Он нашёл у нас самый сердечный приём, ласку и заботу. Очень долго беседовал с папой, рассказывал ему о своих военных впечатлениях, обсуждая и строя всевозможные прогнозы. Коле поставили раскладушку. Он спал крепко, но проснулся рано и утром снова был суров и неразговорчив. Все понимали его настроение и не мешали ему быстро собраться. Мамочка вышла его проводить и на лестнице поцеловала его, перекрестила и благословила. Это она то! Ярая противница религии! Но Коля и через много лет благодарно вспоминал об этом благословении. Его родные трагически погибли в эту зиму, всё в их комнате было расхищено соседями. А Коля до конца жизни уважал и любил трёх пожилых женщин, матерей своих друзей: нашу маму, Наталью Васильевну - маму Коли Фукина и Марию Васильевну Никифоровскую. В то утро, уйдя от нас, Коля встретился ещё с одним однополчанином, и они пешком добирались целых двое суток, разыскивая свой полк. Потом мы надолго потеряли друг друга, но благодаря Ленинградскому Дому Архитекторов, обменялись адресами, три года переписывались и встретились уже зимой 46-го года, когда Николай вернулся из Маньчжурии. Да, после Победы над Германией, ему пришлось повоевать ещё и с японцами. Смотри об этом в разделе "Фронтовые письма друзей".
Глава 25. "Новогодняя".
Приближался Новый Год - 1942-ой. Считается, что декабрь 41-го года был самым тяжёлым месяцем блокады. Между тем, наряду со всеми большими трудностями, бедами, жестокими погодными условиями, увеличивающейся смертностью, декабрь отличали надежды, связанные с организацией "Дороги Жизни". Так как лёд на озере, наконец, окреп, и по нему налаживалось постоянное движение. 25-го декабря, когда Ленинградцы, как обычно, пришли в магазин, они узнали неожиданно, что хлебный паёк увеличен! Радостная весть молниеносно облетела весь город. "В этой небольшой прибавке люди почувствовали провал вражеской блокады и надежды на укрепление пошатнувшихся сил..".. (Павлов. Стр.226)
В последних числах декабря, мы проводили на фронт Николая Назарина, а наш общий с ним друг - Николай Фукин, всё ещё лежал в госпитале на Мойке. В канун Нового Года я получила от него письмо.
Письмо: Из госпиталя от Коли Фукина, декабрь 1941-го года.
На почтовой бумаге - лозунг:
"Болтун, находка для шпиона, болтливость преступление перед Родиной. Нигде, никогда и никому не разглашай военных и государственных секретов".
"Шлю тебе, Натаха, самые хорошие пожелания и верю, что Новый 42 год несёт нам значительно больше радости, чем 41-ый. Во всяком случае, даже приближение 42-го года, как лучшего года, уже чувствуется: победы на фронтах; продвижение наших войск; наконец. Прибавка хлеба! Всё это чудесно и я верю, что 42-ой год будет радостней, дело только за нами. Нужно только драться за радость, за своё счастье! Верно? Само оно не полезет в руки, разве что по глупости, нет, надо самим. Будем встречать Новый Год, как год, в котором мы должны и завоюем радость Победы! Я, пока ещё в госпитале, жду отправки в батальон выздоравливающих. Задержка из-за отсутствия моего размера сапог и шинели. Как только получу, так сразу выписываюсь. Но, по-видимому, встречать Новый Год придётся в госпитале. Отмечу Новый год лишь сигарой (голландской), которую мне достала мама. А по-настоящему Новый Год встретим задним числом, когда повышыбаем "вшивых завоевателей", это, никогда не поздно! Что слышно о Кольках - Назарине и Сабурове? Первый, чертяка, до сих пор не дал мне вести, а, по сведениям, что я имею, он бывает в Ленинграде. По-видимому, он думает, что меня в госпитале уже нет. На всякий случай я ему чиркнул письмо. Что у тебя нового? Если буду в батальоне выздоравливающих, то, может быть, удастся улучить минутку и тогда забегу к тебе. А пока жму руку и шлю привет всем твоим и тебе. Николай".
Комментарий: Да, видно здорово госпитальные политруки их там прорабатывали! И мама его, Наталья Васильевна, навещая сына, ничего видно страшного не рассказывала, не говорила, что делается в городе. Но ведь радио-то работало, сводки Информбюро слушали же госпитализированные! А на счёт прибавки хлеба, то да, действительно объявили. Хотели подбодрить население к Новому Году, но, на самом деле, этот слегка увеличенный, но, увы, всё ещё слишком скудный паёк начали выдавать только в январе 42-го года. Из Колиного письма ясно видно, как неистребима в душе человека надежда, как велико желание эту надежду иметь. Ведь похожие мысли звучали и в предновогоднем письме друзьям от Алоизия Зембы, которое я цитировала раньше. И так, листки календаря 1941-го года переворачивались неотвратимо, и все невольно думали, каков же будет Новый, 1942-й год? И вспоминали прошедшие, казавшиеся такими безоблачно счастливыми встречи Нового Года.
Воспоминания, воспоминания! Я позволю себе отвлечься немного от описания становившихся всё более и более тяжёлыми, холодных дней, первой блокадной зимы и ввести светлую страничку воспоминания о прежних, мирных встречах Нового Года. Но, сперва, немного истории, не такой уж давней. В прежние времена, даже и несколько лет после революции, самым популярным, самым любимым праздником Зимы, был вовсе не Новый Год, а, конечно, Рождество. Сочельник, Рождество, ёлка, подарки, каникулы, все эти зимние радости начинались с 24-го декабря. Сочельник и теперь, в послевоенные годы отмечают повсюду и в Европе, и в Америке. Но в нашем атеистическом государстве, религия была объявлена "Буржуазным предрассудком", с ней и со всеми её проявлениями боролись активно и решительно, и, конечно, "Ёлка", как самая яркая примета Рождества ("религиозного мракобесия"), как и все остальные религиозные праздники, была отменена и запрещена. В Ленинградских семьях, особенно там, где были дети, ёлку всё же почти везде устраивали. Но ни в школах, ни в детских садиках, ни в интернатах о ёлке нельзя было и заикаться. В зимние каникулы были, какие-то праздники, даже с разными "агит-лозунгами", но ёлки, ни, ни. Так было до 36-го года, когда добрый человек и друг детей - П.П. Постышев внёс в правительство официальное предложение, которое было опубликовано в газетах: зимние каникулы в школах должны начинаться с Нового Года, во всех детских учебных заведениях рекомендуется устраивать праздники с украшенной ёлкой и с подарками! С этих пор, праздник с украшенной ёлкой переместился в нашей стране с забытого и "закрытого" Рождества на Новый Год.
Теперь, в конце 1941-го года, в ожидании 1942-го многим, наверное, вспоминались прежние, весёлые Новогодние Ёлки. Ах, как бывало весело, как нарядно, как интересно. Самый необыкновенный, незабываемый и оригинальный для меня и сестры моей Иры, была встреча 1932-го года, т.е. 10 лет тому назад. Эта встреча была организована одним молодым инженером из Ирочкиной компании с Путиловского завода, где после школы Ирочка работала лаборанткой. Зима в Ленинграде стояла в тот год крепкая, морозная. Нева замёрзла, по ней были проложены пешеходные тропинки. И наша предприимчивая "восьмёрка", одетая по "папанински", около 11-ти часов вечера, вышла с лыжами на простор Невы. И с Выборгской стороны, где была квартира Юры, направилась, по хорошо укатанной лыжне, к западу, проезжая под мостами Литейным и Троицким. Город, его набережные, сияли праздничными огнями, по мостовым, звеня, проносились трамваи, автомобили, а на Неве царило арктическое безмолвие, только снег скрипел под лыжами. Около 12-ти мы подошли с реки к Невским воротам Петропавловской крепости. В вышине, на колокольне собора, как глаза совы светился циферблат часов. Мужчины наши, опустошив свои рюкзаки, стали расставлять на гранитных парапетах 8-мь бокалов, пару бутылок шампанского, банку с персиковым компотом и ещё что-то. И вот куранты стали мерно отбивать свои полуночные 12-ть ударов, возвещавшие конец Старого и приход Нового Года. Мы подняли бокалы. Ух, и холодное было то шампанское и те персики! Пока длился бой курантов, мы чокнулись и пожелали друг другу счастливого Нового года. После чего, поехали назад, к Юре, где в тепле и уютной квартиры, мы разморённые и довольные, разлеглись на большом ковре, на середине которого стояла огромная, красная миска с разогретым глинтвейном. И мы с упоением тянули через соломинки сладкий, ароматный напиток.
В последующие годы, когда образовалась "семья Фусек", мы всегда встречали Новый Год в лесной избушке на лыжной базе Дома Архитекторов. Тоже на лыжах уходили в тишину заснеженного леса, кружились вокруг живой, лесной ёлочки. Чудесно всё это было.
Было... было...!
И вот снова зима. Солнце на лето, зима на мороз. Холодно, голодно и страшно, но удивительно, мы, как-то пообвыклись и приспособились и к войне, и морозной зиме. Объявление о прибавке хлебного пайка, безусловно, повысило настроение. И вот мы готовимся к встрече 1942-го года. И как Коля Фукин в своём письме, как и многие. Уверен, что с приходом нового года начнутся всяческие улучшения. Конечно, по установившейся, за месяцы войны традиции, Новый Год мы собрались встречать с "маленькими Уствольскими" у них, на Максимиллиановском. И я, и мама старались получить по карточкам что-нибудь вкусное, праздничное.
Мне, например, удалось, по сахарным талонам, раздобыть на Невском, в магазине, где теперь "Восточные сладости", хорошие, вполне Новогодние конфеты. Само собой разумеется, я их припрятала от соблазна. Они должны были стать украшением праздничного стола. Достали и хорошего вина. Увы! Никогда не забыть мне про эти конфеты и мою вину перед папой. Как-то вечером, совсем накануне праздника, бедному моему папе захотелось сладенького. Ведь он голодал, организм требовал сахара. Папа попросил меня конфет. "Милый папочка, их ведь так мало, с чем мы пойдём к нашим встречать Новый Год"? Чёрствая душа! Помню, меня тогда даже взволновало, что папа "нарушает традицию". Мне невдомёк было, что папа, который и сам был приверженцем традиций, в этот момент действительно и нестерпимо нуждался в поддержании своих сил. А я не дала, хоть он попросил меня и ещё раз. Папа, конечно, понимал меня, простил и забыл, но мне всегда больно и стыдно об этом вспоминать.
Наступило 31-е декабря, наша дружная и как всегда подвижная троица, забрав свои пайки и угощенье, отправилась к "маленьким Уствольским". А там уже было всё приготовлено и красиво накрыто к встрече Нового Года. Я вырядилась снова в своё бархатное платье и розовую кофточку. Нас собралось за праздничным столом семь человек. Хозяева, Павлуша Мельников, домработница Маруся и мы трое. Все принарядились. Все казались такие добрые, благожелательные. И, конечно, все думали о своих любимых отсутствующих. Тётя Киса и дядя Ваня о Танечке и Гале. Мы б Андрюшонке, Марочке и Ирочке, а так же о тех дорогих сердцу, что сейчас воевал. Как прошла эта встреча, чем угощались, что преподнесло нам новогодняя радиопередача, о чём говорилось, я не помню. Конечно, все ждали от нашего папы новогоднего обзора общего положения, ближайших и более дальних перспектив. И папа, как всегда, говорил умно и интересно. И следующий день мы провели у них. Я в компании с Павлушей, сходила с чайниками и бидонами за водой к Неве. Т.к. на Максимиллиановском с водой дело обстояло плохо. К вечеру вернулись к себе, и мы с папой занялись дневничком, подводя итоги минувшего теперь 41-го года. И потянулись трудные будни 43-го года.
В книге "900 дней - 900 ночей", помещена любопытная фотография, очевидно перепечатанная из какого-то немецкого журнала тех времён. Зарывшись в свои окопы под Ленинградом, фрицы тоже готовились к празднованию Нового Года, вернее, к Рождеству и поместили в своей периодике такую вот фотографию: Зима. Лес. Какой-то, одетый по-зимнему, бородатый фронтовик приветствует медведя (русского медведя) и указывает на дорожный столб со стрелками направлений
Берлин - 1781 км.
Вена - 2181 км.
Мюнхен - 2362 км.
и
Ленинград - 10 км!
Выразительная цифра! Но, только они этот Ленинград и видели. Наши Ленинградские художники, из "Боевого Карандаша", тоже преподнесли "подарочек" фрицам в их окопах. С самолётов им были сброшены игральные карты с весьма ядовитыми изображениями вождей 3-го Рейха.
Глава 26. Дела служебные (в начале 42-го года).
Круг работ Николая Николаевича Белехова был очень широк, неожиданно возникали всё новые проблемы. Тяжелые зимние месяцы несли начальнику ГИОП, не только каждодневные заботы о них, но и о людях, т.к. из-за голода и истощения, стали уходить из жизни сотрудники. Таяли кадры тех, кто должен был бы потом, после войны, восстанавливать израненный город. Вот, как пишет об этом Сергей Николаевич Давыдов в своём очерке "Подвиг архитектора Белехова" в книге "Подвиг Века", Ленинград, 1969г. стр285-288.
"Н.Н.Белихов верил в победу, знал, что скоро наступит время, когда знания архитекторов понадобятся для больших и ответственных проектов и восстановительных работ и всемерно заботился о сохранении кадров"... "Очень смело, не жалея сил Николай Николаевич брал на себя заботы о продовольственных карточках, об устройстве об устройстве людей в стационары. Хлопотал и о скорейшей эвакуации тех из архитекторов, кого могла спасти только эвакуация по ладожской ледовой дороге на большую землю. Для тех же, кто оставался в городе он изобрёл полезную и нужную работу по обмерам тех же памятников, причём добился, что за участие в обмерных работах, люди получали бы карточку 1-0й категории. Конечно, Белихов понимал, какие же там обмеры в условиях такой суровой зимы, при полном отсутствии лесов, подмостей, лестниц, притом, что ослабевшие люди сами ели держались на ногах. Обмерные бригады были созданы. И люди работали. А главным в этом деле, была моральная поддержка, чувство пользы, даже необходимость этих обмеров, чувство общности с коллективом". "Сколотив большую группу специалистов - обмерщиков, Николай Николаевич старался поддержать людей, убедить их, что их опыт и знания, и их работа, очень нужны будут городу для спасения его всемирно прославленных памятников искусства. И эта мысль помогала преодолеть страшную апатию, которая надвигалась на людей вместе с голодом, холодом и физическими страданиями".
С января 1942 года более половины архитекторов, оставшихся в городе, стали членами обмерных бригад.
У нас, районных архитекторов, с обмерных бригад прибавилось хлопот. Объекты, нуждающиеся в обмерах, распределял сам Белихов, а мы, районные, наблюдали за работой на местах. Затем, в конце месяца, принимали чертежи или наброски, определяли их готовность и процентовку, на основании которой бригадир получал на свою группу зарплату и сам распределял кому сколько. После чего все участники обмерных бригад получали карточки на следующий месяц, как это и вообще было заведено во всех учреждениях.
Есфирь Густавовна Левина, в книге "Подвиг века" (стр.302) вспоминает, что сперва, в бригаде А.С.Гинзбурга, она работала на обмерах костёла Святой Екатерины, на Невском. В их бригаде были, кроме неё - Юлия Гремяченская и Фаина Капер. Вот её описание: "Мороз минус 30-ть. В коморке привратника, где бойцы охраны топят печурку, поставили стол для черчения. Берёшь рулетку, карандаши, блокноты и уходишь в "ледовый поход", в центральную часть собора.
Бойцы охраняли, хранящиеся там фонды Публичной библиотеки, а для обмерщиков было счастьем, что там были тёплый уголок. На других объектах таких тёплых каморок не было, приходилось всё светлое время, очень короткое, проводить на морозе, чертить уже дома, при свете коптилки".
А вот насчёт карабканья по канатам под купол храма, запись датирована январём 42-го, Левина явно что-то путает. Далее, там же на стр. 304, та-жа, Фира Левина вспоминает, как она, так же группа архитекторских "красавиц": Жени Груздевой, Кати Ушаковой, Ляли Мелик-Багдасаровой, Маши Козловской, и Шуры Игнатовой в бригаде Серебровского делали обмеры в Александро-Невской Лавре. Я помню, что у меня в Александро-Невской Лавре работал Серебровский с бригадой. Добрести туда, по всему Старо-Невскому было трудно и долго. Вдоль всего проспекта стояли, как-бы вросшие в глубокие сугробы, заснеженные, и казавшиеся громадными чудовищами, троллейбусы, а провода свисали над ними серебряными, обросшие густым инеем гирляндами. Обмерять там, лазая по глубокому снегу, было очень тяжело. Погреться негде, и многие не выдерживали. Состав бригады постоянно менялся. Не помню, кто работал в Лавре зимой, но помню, что я, как не горько в этом признаваться, в своих списках обмерщиков, часто ставила над некоторыми фамилиями знаки вопроса. Роковой значок, ведь это означало, что я сомневалась, выдержит ли данный человек, не придётся ли его заменять?
На Васильевском острове, где я бывала чаще, я помню бригаду Андрея Модзалевского, работавшую в Меньшиковском дворце и ещё одну бригаду, но чью, вот-бы мне мой пропавший блокнотик, которая обмеряла маленькую церковь "Трёх Святителей", рядом с Андреевским собором. Товарищи могли обмерять фасады этого здания только на уровне своего роста и, в лучшем случае, при помощи реек и палок, вероятно не очень точно. Ведь лесов там не было, да и быть не могло, всё равно, любые леса ночью разобрали бы и утащили на дрова. В этой бригаде был молодой архитектор Миша Пронин, приятель одного из наших домашних друзей. Миша был очень слаб. И над его фамилией я тоже поставила свою "птичку". Вскоре мы в ГИОП узнали, что Миша умер. И всё-таки, несмотря на всю тяжесть этих работ, они поддерживали многих, давали смысл жизни, поднимали дух, а именно этот эфемерный и категорически отрицаемый атеистами всех мастей "дух", как показал опыт блокады, был сильнее голода, страхов и слабости.
Но жестокая, небывалая блокада, собирала свою страшную дань. Умирали и сильные духом и слабые, старые и молодые, умирало больше мужчин, чем женщин. Не говоря о жертвах бомбёжек и обстрелов. Люди умирали и дома и на работе, в пути и в стационарах. В декабре и январе было наибольшее количество жертв.
!0-го января, в туберкулёзной больнице умер архитектор Павел Николаевич Жуковский, муж Галины Оль. Может быть я, по прошествии стольких лет, не совсем точно помню то, что Галина поведала мне в одну из первых послевоенных встреч, в Ленинграде, когда мы обе вернулись в родной город из эвакуации. Такой рассказ можно рассказать кому-то, а так же выслушать, только один раз. Она рассказала мне о своём последнем "свидании" с мужем уже в морге. О том, как она искала его в оледенелом, чуть ли не до верха сводов забитом окоченевшими трупами, подвале, перекладывая эти оледеневшие тела из одной кучи в другую. В те минуты или часы, когда она проделывала в полутьме подвала эту страшную работу, она, по её словам, сама была полутрупом, совершенно бесчувственным. Машинально, без единой мысли, она искала, искала, пока не докопалась до такого же одеревеневшего тела Павлуши. Там же, в морозной, мрачной полутьме, она с ним и простилась. Потом, у Гали нашлось мужество и силы, спустя неделю или больше, дотащить тело Павлуши до кладбища и захоронить его честь по чести в фамильном склепе семейства Оль. После этой страшной и героической процедуры, Галина стала добиваться через Союз Архитекторов, что бы ей помогли эвакуироваться через Ладогу в Сибирь к детям. Это ей удалось в конце января.
Бывший главный архитектор Ленинграда профессор Лев Александрович Ильин начал писать в эти жестокие месяцы, совершенно замечательные записки, о красоте любимого города, которые он назвал: "Прогулки по Ленинграду". Это были записки чуткого художника о прогулках по Ленинграду 1941 - 1942 года. Отрывок из этих записок помещен в книге "Подвиг века", Ильин описывает там свои впечатления от Дворцовой площади.
Да, я тоже хорошо и отчётливо помню, что красота зимнего Ленинграда в 41-м году была захватывающе прекрасна, но это была жестокая, нечеловеческая красота, какого-то, я бы сказала, "космического порядка". Недаром поэт Н.С.Тихонов в поэме о Кирове писал: "Железными были ночи, свинцовыми дни..".. Город стоял весь белый, укрытый чистейшей снежной пеленой. Его многочисленные сады и бульвары, окутанные инеем, занесённые снегом, выглядели как пышные белоснежные облака. Улицы тонули в сугробах, а среди этих снегов тянулись, как по ущельям, тропки, проложенные прохожими. Над головами гирляндами висели отяжелевшие от снега, оборванные и перепутанные провода. А дома, немые, тёмные, без единого огонька, с зияюще-чёрными, страшноватыми подворотнями казалось были вовсе и не домами, жилищем людей, а какой-то серой неприютной каменной стеной, скалистым каньоном. Казалось, стройная гармония этих заиндевелых стен, побелённых инеем гранитных колонн, решёток с обрамлёнными снегом узорами, узоры чёрных ветвей под шапками пышных снегов и всюду снег, снег, снег, что всё это фантастическое ледяное царство из какого-то другого, не здешнего мира, что это вовсе не создание людей, не места их обитания, а призрачный образ Севера или, может быть, далёких, вечно холодных миров. Казалось, что наш город любимый, обжитой, когда-то приветливый, теперь околдован, даже не Снежной Королевой из сказки, а каким-то Царём-Холодом безвоздушных пространств. И всё же, вся эта фантастика, холодная и равнодушная ко всему живому, не могла не поражать своей непреступной, ледяной красотой.
А люди? Люди казались серыми тенями. Брели эти странные, закутанные так, что и глаз не видно. Тени что-то несли, тянули саночки или со скарбом, или наполненными водой и расплескивающимися вёдрышками, или что-то спеленатое и длинное, неживое, с приподнятыми ступнями ног. И брели эти тени как-то тупо, ни на кого не глядя, еле передвигая ноги.
Но жизнь то была, она теплилась в глубине глаз. И от этой серой, молчаливой толпы веяло СОПРОТИВЛЕНИЕМ. Великая это была сила, сопротивление голоду, холоду, собственной слабости, собственным бедам, а всё вместе - ненавистному врагу.
Стихотворение Н.С.Тихонова:
"... Домов затемнённых громады
В зловещем подобии сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина...
... В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идёт
И сердце прегордое радо,
Что так непреклонен народ..".
Для нас троих, надёжным прибежищем была наша уютная комната в благоустроенной квартире Яковлевых. Здесь был 3-ий этаж, а не 5-ый, как у нас на улице Рылеева. Комната находилась в середине квартиры и сама по себе была тёплой. И очень важно было, что в квартире действовал водопровод, можно было и умыться по-настоящему и постирать, это было такое благо! Увы, благу этому оставались длиться уже совсем не долго, но мы этого не знали! Наш дорогой папа чувствовал, что слабеет, понимал, что если не случиться "чуда", то есть коренного перелома в судьбе Ленинграда, ему не протянуть. Жалея мамочку и меня, он не делился с нами своими предчувствиями. Но он решил кое-чем, до тех пор никому из нас не рассказанном, поделиться с нами. Рассказать об очень трудном для него периоде жизни - о временах гражданской войны.
В долгие, тёмные вечера, когда мы все трое рассаживались около топящейся, жаркой буржуйки, он начал нам рассказывать о своих "приключениях" в те давние времена. Тогда, в 18-ом, 19-ом, 20-ом годах, мама с нами, четырьмя дочками, мал, мала меньше, была разлучена с ним, ничего не зная о нём, как и он про нас. И вот теперь, у этой печурки, похожей на те, прежние, своего рода "символа" и тех грозных и тяжёлых лет, папа принялся вслух вспоминать и делиться тем, что так долго было для нас "за семью печатями". "Меньше знаешь, лучше спишь". Увы, тут я опять виновата перед моим любимым папой. Я почти не запомнила тех его вечерних рассказов. И как горько, я все эти годы упрекаю себя за это! Вероятно, устав от своих утомительных походов по объектам, я дремала. Хотя ясно помню, что слушала его с большим интересом и вниманием. Но рассказы эти как-то смутно фиксировались в моей памяти. Вести записи о таких "приключениях", в то время было смертельно опасно. То, что мне всё же запомнилось: "безумные ночные скачки, последние дни Севастополя..". записано мной в "Семейной хронике". Здесь не место повторять эти записи. Но передо мной и сейчас, чётко встаёт эта вечерняя, мирная картина. Глубина тёмной, чужой комнаты, слабые отсветы от разогретой печурки, на которой поджаривались наши жалкие сухарики, и образ дорогого нашего папы, то поправляющего угли в маленькой топке, то задумчиво продолжающего очередной рассказ о своей "Одиссее"...
Знаете, когда и где я написала эти самые строки? На открытом крылечке своей дачи ("Садоводство Ленпроект"), 10-го августа 1985-го года. Лето. Тёплые, даже душные дни. Вокруг тишина, зелень, поспевают смородина, малина, крыжовник. Мирное небо. Закат. Слышен отдалённый шум проходящего поезда. Жду сестёр, которые должны приехать из города, из того самого города, основная часть жителей которого даже и не знают, и не представляют себе тех страшных дней.
Я писала в начале, что я дала сама себе клятву, что допишу, наконец, в честь 40-летия со дня Победы, эти свои воспоминания. Теперь я подхожу в этих записках к самому страшному для меня периоду. Писать об этом тяжело, заставляешь себя, пишешь с трудом. И если бы не лето, не это приволье вокруг, зелень, душистый воздух, теплынь, то, наверное, и вообще невозможно было бы вспоминать и записывать... Но надо продолжать.
Глава 27. Не мороз, а огонь...
В ночь 19-го на 20-е января загорелась соседняя с нами квартира, на той же площадке лестницы, где жили и мы с Яковлевыми. Говорили, что квартира эта почти пуста, что там ютится какой-то полусумасшедший старик и двое старых, совсем обессиливших людей. Никто так и не узнал, что там, в действительности произошло. Была глубокая ночь, очень тихая, но люто морозная. В квартире сразу заполыхало, огонь всё сильнее разгорался, трещал, стремился в ввысь, лестница наполнилась дымом. Виновники пожара, вероятно, погибли сразу. В глубоком сне мы услышали сильный стук в дверь и крики "Пожар - пожар" ... Мы сразу поняли, да, это не сон, это реальность. В один миг были одеты и под спокойным и властным руководством папы, без всякой паники стали собирать самое необходимое: карточки, разные документы, деньги, свой маленький продовольственный запас и самое нужное и самое тёплое из одежды. Не забыты были и наши аварийные рюкзаки, которые всегда были наготове. Сквозь удушающий густой дым и царящий на лестнице хаос из людей и вещей, мы выбрались на улицу и отдышались. Оглянулись, наконец, на дом, даривший нам такой верный приют, а теперь, в эту январскую ночь, объятый пламенем. Жарко горела та секция дома, что расположена на противоположной от нас стороне лестничной клетки. При этой сухой морозной погоде пламя рвалось прямо вверх. Пожар, возникший в одной из комнат 3-го этажа, уже охватил и4-ый этаж. Его багровые отсветы уже блистали на 5-ом, а вскоре огонь охватил жарким пламенем чердак и беспрепятственно побежал по нему. В нижние этажи, сквозь прогоревшие перекрытия сыпались горящие конструкции, жаркие угли, горящая мебель и утварь. Несчастные, напуганные обитатели дома со своим скарбом плотной стеной расположились вдоль решётки Пушкинского скверика, туда же, в эту слабо шевелящуюся толпу, взоры которой, все как один были обращены на горящий дом, папа пристроил и мамочку с нашими узлами и рюкзаками. Внизу, на тротуаре, чернела масса людей и вещей, за ними чернели стволы в сквере. И над всем этим белейшие, пухлые, как вата, облака заснеженных ветвей сада. А где-то сзади, посреди садика, немо, бронзовый Пушкин в своём грубо сколоченном футляре. И в глазах людей, и на снежной белизне деревьев, красные сполохи, отблески пожара. Я и папа ещё несколько раз, зажав носы от дыма полотенцами, взбегали по лестнице в свою, пока ещё тихую комнату, и при свете карманных фонариков искали и собирали какие-то вещи, бельё, одеяла, книги. Папа считал нужным помогать и приютившей нас в этом доме семье Яковлевых и вытаскивал из квартиры, что-то из их вещей. Вдруг раздались возгласы: "Наконец-то! Пожарники едут!". Действительно, со стороны Невского, к горящему дому, подъехали две пожарные машины. Из них быстро повыскакивали люди в касках, потянули длинные шланги, лестницы, проникли в дом, во двор. Долго невозможно было подать воду, Водопроводные трубы промёрзли, но всё же откуда-то воду дотянули и вверх хлынули струи воды. Пожарные старались отстоять ещё не загоревшиеся части дома и флигеля во дворе. Я с папой и с Н.А.Яковлевым следили с противоположной стороны улицы за ходом пожара и за борьбой отважных людей в касках со шлангами. Я держала папу за руку, и иногда отвлекаясь от трагически прекрасного огненного зрелища, взглядывала вверх, на лицо папы. Оно было задумчиво и серьёзно, отблески огня освещали его похудевшее, бесконечно дорогое для всех нас благородное лицо. О чём думал он в эти минуты, глядя на охваченный огнём дом? И каким по счёту было это пожарище на его беспокойном жизненном пути? Может, быть ему представилось, что так вот догорает теперь и его жизнь? Окна нашей квартиры были ещё темны, мирны, молчаливы. Но чердак над нашей половиной дома уже полыхал и надежды наши, что огонь пощадит этажи нашей половины дома, всё тускнели и таяли. Вот от чердака огонь проник в 5-ый этаж, рушившиеся, охваченные пламенем перекрытия свалились в четвёртый. Загорелось и там. Несмотря на поливающие огонь струи, балки и угли стали валиться и к нам, в 3-ий этаж. Ниже уже не пошло, второй и первый этажи под нами уцелели. Мы поплелись разыскивать в приютившейся у ограды садика толпе нашу окоченевшую мамочку, ведь мороз в ту ночь стоял 30-ти градусный, как и в прошедшие и последующие несколько ночей. Там в толпе тоже всё видели, люди плакали, но продолжали тупо взирать на борьбу пожарников с мощной стихией огня.
Вдруг к нам подошёл какой-то человек. Это был один из знакомых нашего папы, живший на той же улице. Добрый человек этот позвал нас на остаток ночи к себе, помог снести туда наши вещи. Как мы спали в ту ночь и спали ли вообще, я не помню.
Бедными, злощастными погорельцами явились мы все трое, притащив на саночках свои уцелевшие вещи, на Максимилиановский к "Маленьким Уствольским. Куда же нам ещё оставалось деться? Там, казалось, навсегда был для нас тот приютный дом, в котором мы могли делить со своими и радости и горе. Но очень скоро оказалось, что радости и праздники - да, а бедствие и горе - отнюдь нет. Тётя Киса сказала: "Ну вот, дождались! Ведь мы так давно звали вас переселиться к нам"... Да, безусловно, они нас звали. Когда могли рассчитывать на нашу, на папину помощь. Теперь мы были для них, для, папиного родного, младшего брата, которому он всю жизнь помогал и для его жены, гостями нежеланными, но повторяю, деваться было некуда. А тут ведь находились и некоторые наши вещи, и спальные принадлежности. На следующий день, сговорившись с Яковлевыми, они нашли себе приют у кого-то в уцелевшей части дома, я с папой посетила пожарище. Там ещё что-то тлело, было горячо и душно, как на неостывшей лаве, и делать там было нечего. Но мамочка вспомнила, что в нашей комнате, которая, всё-таки, сама не горела, а была лишь завалена осыпавшимися сверху золой, углями, перегоревшей штукатуркой, всякими останками с верхних этажей, в кафельной печке остался горшочек с гречневой кашей, а в тумбочке около папиной кровати "мерзавчик" с водкой. Через пару дней я и мама посетили наше злощастное пепелище. Вошли мы в нашу комнату через порог двери на 4-ом этаже. Всё помещение было завалено плотной, перегорелой, залитой водой и уже заледеневшей неровной массой, доходящей до уровня верша печки и платяного шкафа. По этим бугристым и скользким завалам бродили какие-то фигуры. Нам с мамой встретился крепкий дядька с ломом в руках, кажется, это был пожарный. Мама попросила его помочь нам кое до чего докопаться, соблазнив его обещанием, что если он докопается до кровати стоящей вблизи кафельной печи, то получит в награду маленькую бутылочку водки, оставшуюся в тумбочке. Мы же с мамой хотели извлечь из печи оставленный там, в ту роковую ночь, горшочек с гречневой кашей. Ободрённый надеждой получить "маленькую", он действительно разгрёб при помощи лома мусор, внизу оказавшийся ещё тёплым, и вытащил всё искомое. Довольный наградой он стал откапывать для нас ещё и высокий шифоньер, расположенный около окна. В этом шкафчике удалось выдвинуть только самые верхний из ящиков, в котором лежали обгорелые стопки с бельём. Неожиданно для себя мы вытащили из белья пачку бумаг, это были наши облигации, по 40-ой год включительно, на весьма солидную сумму. Когда после войны был объявлен обмен, мы их обменяли и впоследствии получили деньги по новому курсу. А мы о них совсем забыли, собираясь в спешке. Да и не нужны они, казалось, были в те-то времена. Облигации были слегка подпалены, но совершенно целы. Каша в печке оказалась совсем тёплой, и мы с мамочкой тут же с наслаждением её съели.
Очень жаль, что в сохранившейся до сегодняшнего дня пачке писем от41-го, 42-го года из блокадного Ленинграда не оказалось ни одного письма за декабрь и январь. Ни поздравительных к Новому году, а они, конечно, были, ни о пожаре и последующих трагических событиях. Следующие письма будут уже мартовские.
Боже мой, как трудно мне перешагнуть такой тяжёлый для меня Рубикон, собраться с духом и написать о тех нескольких днях, которые последовали после пожара на Пушкинской улице.
Сегодня суббота, 14-е сентября 1985 года. (Через тринадцать месяцев и одиннадцать дней Натальи Михайловны не станет). Ранняя осень, солнечный день, мы, три сестры у себя на даче в Рощино. Недавно от нас уехал мой единственный племянник - Андрей, тот самый любимый внучёк Андрюшенька, о котором тогда, в 41-м году так много думали, беспокоились и упоминали в своих письмах из Ленинграда, мы, трое тогдашних блокадников. Андрей с женой и годовалым Ванюшкой, провёл на даче свой очередной отпуск. Сейчас я дома одна и передо мной тетрадь, начатая ещё десять лет тому назад. Надо продолжать.
Что бы рассказать о последующих десяти днях конца января. Они прошли как в тумане. Что-то ещё все мы пытались делать, налаживать. Папа, считая, что мы в долгу перед Яковлевыми, без конца ходил и по просьбе Николая Александровича, хлопотал о получении ими в том же районе другой, целой квартиры. На эти хождения папочка тратил свои последние илы. Маме в чужом доме трудно было наладить своё хозяйство. Но, всё-же, опять-таки в силу инерции, у нас был отмечен общесемейный праздник середины зимы - 32, 24-е января, день рождения мамочки и именины папы (Михаил "Новгородский"). Это были последние попытки удержаться на прежнем уровне. С 26-го папа слёг. У него снова начался кровавый понос. Неверно называть это заболевание дизентерией, кровавый понос было типичным заболеванием блокады, из-за недоедания, употребления в пищу суррогатов. И я, и мама, с ног сбились в поисках по аптекам "спасительного" бактериофага. Нигде его не было, а обратиться в "высшие" инстанции мы не сумели. Если бы мы знали, что был в Ленинграде один, чрезвычайно полезный канал, который обнаружился, когда было уже поздно. Начальником Скорой помощи Ленинграда, оказалось, был Борис Митрофанович Шуляк, замечательный человек и врач, в последующем муж нашего давнего друга Марты Конрадовны Фрейфельд-Шуляк. Но мы тогда этого не знали. Узнав о папиной болезни и понимая, что это опасно, как-то вечером к нам пришли давнишние папины друзья, его бывший помощник - Наум Осипович Магид и большой его друг Михаил Трофимович Иванов. Папа очень оживился, слабость его, как рукой сняло. И как же интересна и замечательна была их беседа, конечно на политические и военные темы. ... А через день... Во второй половине ночи, среди всеобщего крепкого сна, вдруг раздался чёткий и ясный голос папы - "Я умираю". Эти слова, этот тон, мгновенно пронзили сознание уже через минуту и я, и мама были на ногах. Было 5-ть часов утра 30-го января.
"Что ты Миша? Тебе что-то нехорошее приснилось". Говорила мама, нежно поглаживая его лицо, лоб, голову.
"Нет, Верочка, жизнь кончена" сказал он ей. Но дальше он позволял нам проделывать с ним всё. Что нам казалось спасительным. Я разбудила Павлушу, он жил в дальней комнате, и он быстро вскипятил самовар. Мы напоили больного сладким чаем, к ногам и рукам поставили грелки, давали лекарства. Папа, казалось, был в забытье. Дядя Ваня и тётя Киса вышли из своей спальни, и я стала умолять дядю Ваню поскорее найти по соседству какого-нибудь врача или сестру. Ведь мы, беженцы, никого не знали в этом доме, в этом районе. Это на Пушкинской жил по соседству доктор Блинов. Но дом на Пушкинской сгорел.
Дядя Ваня с тётей Кисой, увы, с первых же минут повели себя как-то странно, отчуждённо, будто отгородились от нас стеной. Когда наступило утро, они оба оделись и ушли. Дядя Ваня, сказал мимоходом, что поищет врача. Я знала, что в Доме Архитекторов телефон включён, работает, но надо дождаться открытия дома в 10 часов утра. Вскоре я побежала туда, ведь он находился поблизости, только перейти мостик через Мойку. Я стала названивать в Скорую помощь, к себе на работу, предупредить, что не приду, в Смольный к Магиду. Всё это заняло довольно много времени. Сердце у меня всё время болело, что-то дома. А дома мамочка сидела в большом кресле у постели папы, меняла ему грелки, держала за руку, пытаясь изо всех, перелить свою живую энергию из руки в руку. Иногда они разговаривали. О чём?
После мама рассказывала мне, что она напоминала ему: "Миша, ты же мне обещал, что вот кончиться война, и мы с тобой станем жить вдвоём, друг для друга. А дочкам предоставим самим устраивать свою жизнь". - "Ах, Верочка, да, я давал в своей жизни обещания, но много ли из них я смог исполнить...? Поздно"... Думается мне, что во время их последнего, прощального разговора, папочка завещал ей постараться выжить, для того, что бы воспитать их единственного любимого внука Андрюшу. Вероятно, завещание это поддерживало маму все последующие, такие безнадёжно-тяжёлые месяцы, когда в ней ещё теплилась только одна мысль, одно желание - соединиться со своими далёкими дочками и внуком. А я, с того рокового дня, хотя лично мне папа ничего не сказал, ничего не просил, всей душой поняла: мне самой старшей дочери он "завещал" маму. Мой долг, прежде всего перед ним, сберечь её. Молчаливое завещание это, было мной выполнено. Мама ушла из жизни через 36-ть лет. В 92 года, окружённая любовью и заботой своих близких. Мама, вспоминая о том роковом дне, так написала однажды в одном из своих писем к доктору М.М. Филиппову, своему большому и доверенному другу:
Вот отрывок из неоконченного и недатированного письма мамы -
"Как-то в конце января, в булочной, к которой мы прикрепились, два дня не выдавали хлеба. Когда был выкуплен по всем карточкам очередной паёк, хлеб был ещё совсем горячий и сырой. Я хотела нарезать ломтиками и хотя бы подсушить этот горячий хлеб, что бы он лучше переваривался, но мой муж не захотел ждать... я пыталась достать лекарство (бактериофаг), ходила к знакомым врачам, но никто не достал для нас лекарства, и 30.01.1942 года мой муж умер. Тут, нам с Наташей, пришлось совсем трудно, и плохо, ведь за всё, и за рытьё могилы и пр. надо было платить хлебом и мы с ней голодали и совсем обессилили..".
Нет, дело было не в горячем, плохо выпеченном хлебе. Пожар подточил последний остаток сил папы. И после этой аварии организм его уже не смог восстановиться. Вряд ли помог ему бактериофаг, может быть, продлил бы на несколько дней его жизнь. И хлеб тут не причём. Действительно, в тот день принесли свежий, так вкусно пахнущий хлеб. И мамочка дала его папе по его просьбе. Минуты тянулись, врачей не было, мы с мамой не отходили от папиной постели. Вдруг приподнявшись на подушках, он сказал нам так ясно, так чётко: "Устроим сегодня, пир позовём гостей, пусть придут наши друзья, Борис Фёдорович (Б.Ф.Мильк, гимназический товарищ папы, умерший ещё до войны), Михаил Трофимович, Лёвушка..".. Папа называл и другие имена. "Накройте стол красиво, поставьте вина, шампанского..".. У нас ещё оставался от именин маленький "аварийный" запас вина, кажется, это был вермут. Я налила в бокал вина и подала папе. Выпив, он удовлетворённо закрыл глаза и затих. Около двух часов дня раздался звонок. Это пришла медсестра, жившая в этом же доме, вызванная к папе братом.
"Миша, доктор пришёл" сказала мама.
Папа приподнялся и так приветливо, даже шутливо приветствовал сестру, сказав ей несколько ласковых слов... последних его слов.
Сестра деловито раскрыла свой чемоданчик, что-то в нём проверяла, подошла к постели, взяла папину руку проверить пульс.
"Пульса нет" - сказала она - "Он умер".
"Доктор, что Вы? Ведь он только что говорил с Вами!". Сестра сделала какие-то уколы, села около постели. Все молчали, ждали, ещё, на что-то надеясь.
"Скончался". Снова сказала сестра, стала закрывать свой чемоданчик, а нам с мамой давать инструкцию, что теперь надо предпринимать. Мы были, как потерянные, и долго просто сидели после её ухода, держа папины холодеющие руки, всматриваясь в дорогое лицо. Оно было спокойно, умиротворённо. Дома никого не было.
Явился ещё один врач, женщина, из Скорой помощи. Она, как лицо официальное, только констатировала смерть и оформила соответствующие документы.
Вечером пришли друзья проститься с дорогим усопшим.
Папа лежал совсем такой, каким он был, когда накануне они навещали его, разговаривали с ним.
"Михаил Михайлович совсем не изменился, совсем такой же... Как хорошо, что мы успели с ним повидаться". Они долго оставались у нас, давали советы, вспоминали прошедшее. На другой день пришёл папин заместитель по Коллегии Адвокатов - Гамбургер, очень чуткий и добрый человек. Он сказал нам, чтобы мы ни о чём не беспокоились, что он сам, через Коллегию организует похороны. Этим, ещё немного продлевалось папино благодетельное влияние на нашу жизнь. Дальше нам предстояло жить одним, без него, а ведь он был нашим солнышком, опорой, советчиком всем и во всём. Первую холодную, безнадёжную ночь БЕЗ НЕГО, мама просидела без сна в глубоком кресле у его постели. В этой непроницаемой, чёрной тьме, ей ясно виделись знакомые, бесконечно любимые, теперь навеки успокоившиеся черты. Это была ночь их прощания. О чём думала она? Что ей припоминалось?
Из истории. Верочка Дылёва познакомилась с братьями Уствольскими на даче в Луге, летом 1902-го года. Она, юная, семнадцатилетняя курсистка перешла на 2-ой курс Высших Бестужевских Курсов (ВЖК). Сестра её Надя и брат Петя были ещё гимназистами. Михаил Михайлович Уствольский, интересный, стройный блондин, успел в 21 год окончить Петербургский Университет. И работал помощником присяжного поверенного и казался юной, восторженной молодёжи, важным и недоступным. Другое дело Ваня, его младший брат, простодушный и весёлый гимназист.
Михаил Михайлович относился к Верочке и её сестре Наде благодушно и покровительственно, как к девчонкам. Но знакомство между Дылёвыми и Уствольскими всё же продолжалось, и они бывали друг у друга. Верочке, почему-то, хотелось поддразнить, задеть, подшутить над снисходительным, важным молодым человеком. Она и не заметила сперва, что влюблена в него по уши, а осознав это, осталась верна своему чувству на всю дальнейшую жизнь. Он знал об этом, но что из того? Он сын бедной вдовы - учительницы. Он должен добиваться положения в жизни, в своём призвании, в обществе, а то, что он имеет успех у женщин, принимал, как должное. Но, всё же, Вера всегда отличалась чем-то, среди его знакомых барышень, и часто удивляла его своими поступками и вопросами. Побывав в Швейцарии, она вывезла оттуда, под влиянием "нелегальных книг", новые идеи. Прежде пылко религиозная, неожиданно и резко отреклась от всякой религии. На Курсах знакомилась со всякой нелегальщиной. А когда всё общество было потрясено трагическими событиями 1905 года, на два года бросила Курсы, перебралась за Невскую заставу, где жила и преподавала в созданной при её участии, маленькой 2-х классной школе для детей рабочих. Категорически отказываясь принимать от родителей какую-бы-то ни было материальную помощь. После окончания Курсов она собиралась уехать на Урал. Михаил Михайлович с любопытством следил за этой отличавшейся от других, порой застенчивой и робкой, и, в то же время, очень самостоятельной, считавшейся в их кругу "бунтарской" молодой особой. Был дружески к ней расположен. И когда наступил в его жизни трудный и грозный момент, понял, что лучшего друга в жизни, чем Вера, ему не найти. И он угадал. На всю жизнь Вера своей преданной к нему любовью стала для него опорой и в любых обстоятельствах верным, надёжным, любящим другом. А ведь с первых дней их совместной жизни, скромная свадьба состоялась 12-го ноября (25-го по новому стилю) 1908 года, всё едва не сорвалось. И конечно из-за непрактичности и полного незнания жизни Верочки Дылёвой-Уствольской. Как не странно, но именно обрушившиеся вскоре на их семью несчастья, соединили и скрепили любовь и дружбу, столь не схожих между собой, молодых супругов. Всё это случилось подряд в 1909-ом году. В мае покончила с собой, из-за несчастной любви младшая сестра Веры, Надя. Родные стали страшно беспокоиться за беременную в те месяцы Верочку. Действительно, первый ребёнок, дочь Наташа (автор этих строк) родилась недоношенной. Затем, осенью последовал, благодаря провокации, арест Верочки, когда её, с трёхнедельным, грудным ребёнком посадили в тюрьму - "Литовский замок". В последующие годы, с 10-го по 17-ый, казалось бы, жизнь интеллигентной петербургской семьи должна была бы протекать благополучно и стандартно. Михаил Михайлович, человек высокообразованный, умный, интересный, прекрасный оратор, становился популярным в Петербурге адвокатом. Читая первую часть романа А.Толстого "Хождение по мукам", невольно приходит в голову аналогия с внешней стороной жизни семьи Смоковниковых... Но. И в романе, и в жизни это НО, означает 1917-й год и все потрясающие и бурные события, происходившие в нашей стране в течение последующих лет... Михаил Михайлович последовательно оказался в трёх армиях: Царской, Белой и Красной, а Вера Константиновна с четырьмя маленькими дочками очутилась одна, без всяких средств на Северном Кавказе. Очень долго ничего не зная о муже, боясь и не ведая, жив ли он? Но она ждала его и дождалась. И опять, заново, оба начали строить свою жизнь с начала, с нуля, уже в новой стране, в новом советском Петрограде-Ленинграде. Михаил Михайлович был человек активный, смелый и умный, ему не свойственно было оставаться в тени. Ему предложили большую, крупную работу: возглавить юридическое бюро в самом "гнезде большевизма" - Смольном. И, несмотря, на вполне ясный для него риск, он пошёл на это и принял активное участие в оформлении первых законодательных актов Советской власти. После падения Зиновьева и его группы, Ленинградскую партийную организацию возглавил Сергей Миронович Киров. По части юридической и законодательной Михаил Михайлович работал с ним, не будучи членом партии (вообще никто из членов нашей семьи никогда ни в какой партии не состоял). В деловых и административных кругах Ленинграда, многие знали и уважали Михаила Михайловича, а многие из несправедливо пострадавших, преследуемых, терпевших разные, характерные для тогдашних времён беды, зная его принципиальность, немалое влияние и бесстрашие, обращались к нему за помощью и советом. И он многим, очень многим помогал в меру сил и обстоятельств. Семья наша, казалось, зажила сравнительно благополучно. И мы, молодёжь, жили, благодаря нашим замечательным, добрым, внимательным и вполне нам доверявшим родителям, счастливо и "почти" беззаботно. Беззаботно? Нет не то это слово. И нам, дочерям, склонным к беззаботности, бывало в 30-е беспокойные годы, очень тревожно за папу. 1-го декабря 1934-го года, подло и таинственно был убит С.М.Киров. Незамедлительно в Смольном произошла полная смена руководства и служащих. Михаил Михайлович, который в 1932-м году был награждён по случаю 10-тилетия его трудовой деятельности в Юридическом бюро Смольного, в 1935-м году ушёл из этого высокого, но очень опасного учреждения, и снова стал работать в адвокатуре, где тоже завоевал вскоре признание и уважение. Но тревоги продолжались. И мама всегда держала для него "аварийный пакет", на всякий случай, если... И действительно, по чьему-то доносу, папу несколько раз вызывали в "Большой Дом", "из подвала которого видны Соловки", и учиняли многочасовые допросы. Ему везло, из них он выходил с достоинством. Но чего это ему стоило, как это отразилось на его здоровье. Сердце сдавало, болезни выматывали его. В каждый свой отпуск он подлечивался в санаториях Кисловодска.
А в нашей мамочке, всегда продолжала таиться та, верующая в идеалы, ищущая, беспокойная Верочка Дылёва. Она не была удовлетворена тихой ролью домашней хозяйки и сама себе казалась лишь бледной и серой тенью своего блистательного мужа. Действительно, отношения между ними осложнились, было время, когда папа вообще не жил дома, с нами. И мама очень болезненно это переживала. Когда она поняла, что дочки её подросли, достаточно самостоятельны и не нуждаются в её постоянной опеке и заботе. Она вспомнила былое и пошла преподавать математику в вечерней рабочей школе Путиловского завода за Нарвской Заставой. Она с увлечением занималась математикой, взрослые ученики обожали её, постоянно бывали у нас. Уже в очень преклонном возрасте мама с увлечением пыталась найти "доказательство теоремы Ферма". Она сразу встала на ноги, вернула себе самоуважение и... внимание мужа. А, затем, в 1939-ом году родился их внук, Андрюшенька, и сразу, крепко, навсегда снова сплотил семью. И вот - ВОЙНА!
И вот - ВОЙНА, разлука с родными, испытания, перегрузки, голод, пожар...
Отсветы этого страшного ночного пожара, легли, казалось, на последние десять дней их совместной жизни. Да, прошло десять дней, и вот, он навсегда ушёл из жизни, от неё...
Глава 28. "Белое безмолвие". Наша Голгофа.
Такое название имеет один из самых суровых рассказов Джека Лондона из его северного цикла. Я плохо помню его содержание, но настроение, образ, очень точно отвечал тому, что пережили я и мама после кончины папы. Именно глухое, беспросветное, мутное белое безмолвие, казалось, окружило, опустилось на нас.
Вот мы бредём с мамой по пустынным, заваленным сугробами белым улицам. По Гороховой, Звенигородской, Расстанной, название то, какое - расставание, к Волковому кладбищу разыскивать некую, рекомендованную нам Михаилом Трофимовичем, кладбищенскую сторожиху - тётю Таню. Договорённость с ней была короткая и деловая: за столько-то граммов хлеба и за столько-то, в добавку денег, она подготовит могилу и табличку с надписью.
Тот же унылый, обратный путь, среди глухих, заиндевевших стен, как кажется, совсем необитаемых домов.
Славный Гамбургер выполнил свой последний товарищеский долг перед Михаилом Михайловичем, по тем временам, почти невероятный. К нам на Максимилиановский сперва был доставлен, настоящий, из добротных досок сколоченный гроб. Бережно уложили мы в этот простой гроб остылое, ставшее совсем каменным, тело того, кто был нашим папой. Маленькая деталь: мы обрядили папу в его лучший костюм, но, я, по совету знающих людей, изрезала маленькими ножницами всю ткань, что бы костюм этот не мог, кому бы то ни было понадобиться, На следующий день произошло и совсем невероятное чудо. К нашему дому пробыли настоящие, окрашенные белым, похоронные дроги с возницей, запряжённые совсем хилой, отощавшей лошадёнкой. Никакие, самые богатые, самые пышные похороны в мирное время не сравнить с тем, что сумел, в феврале 42-го года, осуществить папин друг - Гамбург. Но прощальной процессии не было. Никто не рисковал в такой мороз пуститься в длинный, длинный путь. Мужичёк сказал нам, что его лошадёнка в силах дотащить только одного провожающего. Мамочка села рядом с гробом на дроги и они тронулись. Оплата, то есть и хлеб, взятый нами по нашим оставшимся двум карточкам, вперёд, и деньги, 20-ть рублей дал мне, в последний момент, дядя Ваня, предупредив, однако, что даёт мне их в долг, были при маме. И ещё саночки, А я потащилась по тому же белому, безмолвному пути, по Гороховой, Звенигородской, Расстанной... Вот и главный вход Волкового Кладбища. За белой оградой, пышные, белые купы деревьев. И снег, снег, снег.
Среди этого белого безмолвия, кругом ни души, дроги давно уехали, саночки, на них крепко привязанный гроб, на нём неподвижная, застывшая, укутанная фигура мамочки. Взялись мы с ней за верёвочки саночек и повлекли гроб к его, как мы надеялись, последнему пристанищу. Путь был не простой. Надо было тащиться ко 2-ой кладбищенской церкви, на тропку, ведущую через всё кладбище к мостику через Волковку, около которого стояла избушка сторожихи. Мы тащили санки, как-то тупо, ничего и никого не боясь, по совершенно безлюдному мёртвому царству. Тропинка была неровной. Тянуть санки было трудно и вдруг, на перекрёстке дорожек, на нашем пути возникло нечто, мешающее нам проехать, какая-то заиндевевшая, бесформенная, непонятная масса, сугроб, или что? С большим трудом, подталкивая сзади, мы перетянули наш драгоценный груз через это досадное препятствие, и, невольно, оглянулись, посмотреть, что же это за странный сугроб. Там лежали, запорошённые снегом два мёртвых тела, без голов... Это мы увидели ясно, но так-как, тогда всё воспринималось тупо, как-то машинально, то мы, отдышавшись, потянули санки дальше к домику. Могила ещё не была готова и тётя Таня, пожилая женщина, мрачного вида, взяв у нас принесённый хлеб, сказала, что бы мы пришли завтра, принесли бы ещё 2-ую порцию хлеба, поручившись, что к "завтрему" всё будет готово. Гроб был поставлен у стенки домика. А мы поплелись в обратный путь, снова тупо и безразлично перебравшись через тех двух с отсечёнными головами.
И снова, на другой день, мы брели среди могил, под обвисшими под тяжестью снега ветвями кладбищенского "леса". Вот и сторожка, вот и дорогой для нас гроб и табличка с надписью на его крышке. Но почему так тихо, так пусто кругом? Нет ни огонька, не вьётся из трубы дымок... Двери дома заколочены, крыльцо изрядно запорошено снегом, ни следов, ни звуков в доме. Он пуст. Что же теперь делать нам? Где же могила? Мы перешли мостик и на одной из ближайших улиц Волковой деревни зашли в какую-то лавчонку. Женщины, бывшие там, всё нам разъяснили. Оказалось, что накануне вечером, совершенно неожиданно к тёте Тане приехал её сын, военный, на машине и, не долго собираясь, увёз её мать из Ленинграда на "Большую землю". Никаких распоряжений она, покидая свой дом и свой "пост", не оставила. Эти же женщины, посочувствовав нам, посоветовали поискать на кладбище каких-то мужиков, которые, якобы могут нам помочь. Действительно, долго-ли, коротко-ли, но мы увидали среди крестов дым костерка и около него довольно таки страшноватых дядек. Рассказали им о своей беде, о том, что уже отдали половину оплаты исчезнувшей сторожихе, пообещав отдать им всё, что сейчас взяли с собой. Они ответили, что на рытьё новой могилы им этого мало, но, что тут, на кладбище есть ров, оставшийся с осени, когда здешнюю окраину готовили к последней обороне, и что в этом рву люди хоронят теперь своих близких. Тут же они взялись совершить и для нас этот обряд. Взяли лопаты, показали нам ров, змеящейся среди крестов и частью уже заполненный. Под огромной, очень заметной среди, более молодых, деревьев, старой берёзой, они опустили папин гроб в глубокую канаву, мы с мамой бросили вниз по комочку мёрзлой земли. И вскоре эта часть рва была уже засыпана землёй пополам со снегом, а на стволе берёзы была прикреплена табличка с дорогим нам именем. Мы расплатились с дядьками хлебом и деньгами. Долго мы там ещё постояли, опираясь на чьи-то неведомые кресты. Начало смеркаться. Постаравшись запомнить это место, ров, старую берёзу, надписи на ближайших крестах, мы покинули последнее пристанище нашего дорогого усопшего, думая, что весной вернёмся сюда и достойно оформим могилу. Увы, мы вернулись сюда только в 1946-м году, вернувшись из эвакуации, и еле-еле смогли отыскать старую берёзу, на которой и дощечки с надписью уже не сохранилось, вместо рва тянулась обычная кладбищенская дорожка... Оказалось, что папочка наш похоронен под корнями этой берёзы, под дорожкой!
Через много, много лет я выяснила, что всё это было тогда не совсем так, как мы думали. Сошлюсь на книгу Н.Н.Баранова.
Стр.56-57 "...Мы с братом повезли гроб по заснеженным улицам в последний путь... эта дорога показалась мне бесконечной. Сил было немного, но останавливаться было невозможно, подгонял мороз. Наконец добрели до кладбища. Я впервые увидел, что людей теперь хоронят не в могилах, а в общих траншеях. Девушки из частей МПВО не в состоянии были долбить мёрзлую землю. Они взрывали её, прокладывали длинные и широкие рвы, куда укладывали мёртвых. Мы подошли к месту, которое нам показали, и хотели опустить гроб в траншею. Девушки сказали, всё сделают сами. Они приняли самодельный гроб и быстро уложили труп в траншею, а фанерную домовину, бросили в костёр... Девушка, очевидно командир похоронной команды, спокойно сказала нам: "Не удивляйтесь, что мы хороним без гробов. Покойникам всё равно, а мы здесь стоим на холоде. Если костёр, то в эту могилу уложат и нас... В конце траншей стояли дощечки с номерами, и сейчас захоронение велось в траншее номер шесть..".
Вот так было поставлено тогда дело на Серафимовском кладбище. Теперь на этом кладбище построен красивый и благородный мемориал:
Ленинградцам, погибшим в 1941 - 1943 годах.
Глава 29. "Белое безмолвие и тёмные норы".
Кончается ноябрь. Кончается и "юбилейный" 1985ый год, а я в своих записях о блокаде, едва перемахнула за середину и ещё не преодолела самый трудный самый трудный для меня "перевал" в этих воспоминаниях, а именно январь - февраль 1942-го года. Потому я так "застряла" на этом перевале, что очень уж тяжело о том, самом жестоком периоде и о страшных вещах того времени вспоминать, а тем более записывать. Но надо же завершить начатое, выполнить свой долг, свой обет, данный мною самой себе к Юбилею Победы (40-калетию). Самое, тяжёлое - личное - уже мной пройдено. Осталось рассказать ещё о том, что было и о чём никогда официально не писалось.
Предупреждаю читателя, первые четыре раздела этой главы - страшные. Далеко не всем будет легко об этом прочитать. "Такое" скорее можно отнести к мрачной фантастике Эдгара По, или Кафки. Пятый очерк трагичен, но человечнее.
Белое безмолвие, глухое, белёсое, студёное и враждебное всему живому, казалось, тогда окутало своей завесой, заворожённый, притихший город. Но так было снаружи, в снегах, под холодным бесстрастным небом, а в домах? Затемнённые, прокопченные, холодные комнаты. Дневной свет почти не проникал в эти "норы". В них царила зловещая тьма, лишь иногда слегка озаряемая робким огоньком коптилки или отсветами, разжигаемой слабой рукой буржуйки. В тишине, нарушаемой только мерным стуком метронома, этих мрачных промёрзших комнат, мучительно медленно совершались тихие, беззвучные трагедии. Приведу некоторые из них. Их рассказали мне непосредственные свидетели, или, даже, участники, но уже позднее, в 45-ом году, когда я, вернувшись из эвакуации, разыскивала друзей, старалась узнать об их судьбах. Это не придуманные, но страшные рассказы.
Рассказ первый: "В мансарде на Фонтанке".
Узнала я об этом от очень доброй женщины, Натальи Васильевны, мамы Коли Фукина, которая из Ленинграда никуда не уезжала. Жила со своей дочерью Натальей Михайловной Ступиной, работала, где-то в порту. По просьбе сына, да и по собственному почину, она иногда навещала родных Николая Назарина, ближайшего друга Коли, живших в доме на углу Фонтанки и Гороховой. Их квартира находилась в последнем, третьем этаже, старинного дома, они занимали там одну, очень большую комнату, типа мансарды, с покатым потолком и единственным большим полукруглым окном, начинающимся от пола. Я бывала в этой комнате. Она напоминала мне, какую-то декорацию, например к Достоевскому. Все стены и скосы потолка были сплошь завешаны большими листами с рисунками Николая, который был очень хорошим рисовальщиком. В семье боготворили Колю, гордились им, он же держал себя с ними порядочным деспотом, но в глубине души относился к домашним с большой нежностью. Больше всех он любил свою бабушку, но её в описываемое время уже не было в живых, оставались мама, очень болезненная женщина и хроменькая сестра - Лена. Пока Коля находился в батальоне выздоравливающих, он часто их навещал, старался выделить им что-нибудь съестное из своего пайка. После его возвращения на передовую, бедняжкам стало совсем плохо, они слабели и, наконец, слегли. Соседи по коммунальной квартире иногда помогали им, выкупали их жалкий паек, приносили воду. Но в то же время они приглядывались, что бы в этой комнате можно было утащить. Первой, очень тихо, безропотно умерла убогонькая Леночка. Но и мать её была так слаба, что не могла даже подойти, подползти к умирающей. Она лежала и умоляла Бога, что бы он поскорее прибрал и её, вслед за дочерью. Но лёжа и ожидая смерти, она слышала в темноте, как крысы шебаршат и грызут что-то в бумагах по углам, как их лапки стуча, пробегают по комнате, как они взбираются на кровать умершей дочери, возятся там... Она слышала их писк и возню, в её воображении вставали, вероятно, страшные картины происходившего там... Но встать она уже не могла. Через некоторое время, соседи, заглянув к ним, обнаружили два обглоданных трупа. Они дали знать об этом в домоуправление, сами же постарались разграбить комнату почти подчистую. По распоряжению властей управдомы или работники домохозяйств, за то, что они убирали трупы из опустевших квартир, имели право воспользоваться продовольственными карточками умерших. Когда Наталья Васильевна, в очередной раз добралась на Фонтанку, у Назариных было пусто. Соседи валили всё на управдома, а тот на них. Думаю, что добрая Наталья Васильевна, жалея Колю, не сообщила ему обо всех тех жутких обстоятельствах смерти его родных, о которых понарассказали ей их соседи. Но, всё же Коля с тех пор помрачнел, ненависть его врагам разгорелась с неистовой силой, она живёт в нём и теперь. И про него вполне можно сказать, что "пепел Клааса вечно стучит в его сердце".
Рассказ второй: "Трагедия в доме Катониных".
Марине Босняцкой, жене Сергея Катонина, не удалось в ту зиму уберечь четверых дорогих её сердцу близких. Она сама рассказала мне об этом в конце 45-го года, когда я навестила её с её, еле уцелевшим младшим сынишкой Серёжей, в квартире на Карповке. Марина, высокая, худощавая, с длинным бледным лицом, пепельная блондинка. Особенно приметны были её очень светлые, очень холодные, какие-то острые, серые глаза. Эти серые глаза светились особенно жёстким блеском, когда Марина, очень кратко и отрывисто рассказывала мне о трагедиях, разыгравшихся в ту зиму в их квартирах: у неё на Карповке и у Катониных поблизости.
И она, и Сергей работали шофёрами, детей пасла их бабушка, мать Марины. Жалея голодных детей, бабушка отдавала им все крохи своего жалкого пайка, и первая умерла от истощения. У Сергея началась цинга, опухли ноги, и он тоже слёг. Дети и Сергей представлялись Марине голодными птенцами, с отверстыми, единственно для еды ртами - клювами. И она старалась, как могла, добывать, добывать, добывать и пихать что-то в эти голодные рты. Мне эта картина хорошо известна. Когда мы, четверо ребятишек, голодные, тоже ожидали целыми днями свою маму, укутанные, накрытые, чем попало в своих постелях, едва высовывая наружу свои носы, что бы дышать. Так было с нами, во время Гражданской войны, в Кисловодске. Об этом я написала в "Хронике". Марина устроилась работать на трассе, подвозящей грузы от Ладоги к Ленинграду. Работа была очень тяжёлая, отсутствовала она подолгу, но зато ей перепадало кое-что из продуктов, доставляемых с Большой Земли. Но целые дни и дети, и Сергей оставались одни в тёмных, холодных, с выступавшим по углам инеем комнатах. В квартире Катониных было особенно мрачно. Там бродила, как тень по тёмным коридорам, шаря руками вдоль стен, полусумасшедшая Вера Александровна, мать Сергея. Ей уже ни до кого дела не было. Другая женщина, сбежавшая из Новгорода, мать Коли Лебедева, тоже совсем одичавшая, оккупировала в квартире кухню, где она занималась тёмными делишками, совсем отделилась от всех и ходила к себе через чёрный ход. Все там жили по своим тёмным норам, как-то враждебно отгородясь друг от друга и неуютно там было мечтательному идеалисту, так доверчиво тянувшегося к людям - Коле Лебедеву, который переселился сюда с Международного проспекта, надеясь на дружбу и благожелательность вожака "Фусеков" - Сергея. Сергей долго отказывался перебираться в комнату Марины, чтобы не слышать стонов и жалоб своих совсем ослабевших детишек. Марина металась от них к Сергею и обратно, и ей, конечно, тоже совсем дела не было до Коли и его матери. Она тогда, и даже позднее, когда мы встретились, всем своим видом, повадками, глазами с их жёстким холодным блеском, напоминала исхудавшую, голодную волчицу, рыскавшую в одном стремлении, добыть съестного для своих детёнышей, в число которых, и, даже, в первую очередь входил Сергей. Увы, двое старших её мальчиков умерли один за другим, умирал и Сергей. Он боролся за свою жизнь, писал прошения, заявления, требования, что бы его поместили в какой-нибудь стационар. Он посылал эти заявления и в Союз Архитекторов и главному архитектору города - Баранову, но не получая ответа, возмущался, писал ещё и ещё. Марина развозила эти послания адресатам, старалась вручить их лично. Копии этих писем, эти крики о помощи и сейчас хранятся у младшего Сергея, их сына. Но призывы эти оставались без ответа. Конечно из-за истории с Таней Рощиной, которую тогда все очень жалели. Все старания, все жертвы Марины, не спасли Сергея. Он умер. Остался у неё маленький Серёжа. Судьба Марины и Серёжи и в послевоенное время сложилась не просто. А отец старшего Сергея, профессор Евгений Иванович Катонин, благодаря заботам и уходу его второй жены - Анатолии Васильевны, уцелел. После войны он жил в Киеве и умер в 1984-м году.
Рассказ третий: "Почему Коля Лебедев не хотел жить".
Записано со слов Марины Босняцкой.
Николай Николаевич Лебедев был талантливый архитектор, добрый человек, хороший товарищ, идеалист и искреннейший комсомолец, но он был некрасив и девушки не одаривали его своей благосклонностью. По службе Коля двигался успешно, был назначен заместителем мастера в мастерской А.А.Юнгера в Ленпроекте. Незадолго до войны, по его проекту были построены два дома, их называли тогда "дома Мясокомбината", на Международном проспекте. Получил там квартиру, из которой осенью 41-го года перебрался к Катониным. Тогда, перед самой войной, казалось, что жизнь и на личном фронте начинает улыбаться Коле. Некая хорошенькая и миниатюрная чертёжница их мастерской - Катюша Переселенцева, позволила ему ухаживать за ней, и они съездили, даже, вдвоём на юг, к Чёрному морю. Но, видимо, что-то у них не заладилось, так как, бедный Коля, со слезами на глазах, отклонил всякие поздравления со стороны друзей - "Фусеков". В военные месяцы Коля перешёл в АПУ к Баранову, получал карточку служащего, а от жизни получал лишь щелчки. Любимая его Катюша полностью отстранилась от него, жила со своими родными, плела где-то маскировочные сети. Об обстановке в квартире Катониных, я уже говорила. Тепло и поддержку он получал от товарищей по работе, с которыми он и делился своими сомнениями и бедами. Та беда, о которой рассказано в книге Баранова, а именно, пропажа из квартиры Катониных всех продовольственных припасов, вероятно, была рассказана сослуживцам им самим. Но кто украл у Коли эти продукты? Марина ли для своих голодных ртов, Вера ли Александровна, целыми днями бродившая по пустующим днём комнатам, собственная ли мать Коли? Вряд ли Сергей, и думается, что Николай Варфоломеевич Баранов, вообще не любивший Катонина, оклеветал Сергея, написав: "Как потом выяснилось, К. украл эти продукты и оставил товарища умирать с голоду"... Самым страшным для Коли в этой квартире было поведение его матери, хотя он всячески гнал свои подозрения, не позволял себе самому кощунствовать на родную мать. Эта женщина довольно давно оставила свою семью, т.е. мужа и сына, живших тогда в г.Валдае, переехала в Новгород и была чужда Лебедевым. Только эвакуировавшись из Новгорода в Ленинград, она вспомнила о сыне и поселилась у него. Если верить рассказу Марины Босняцкой, она связалась преступной шайкой и стала у них "поварихой". По утрам в квартире ещё держался, распространяемый из плотно закрытой кухни, запах какого-то варева и Марина, естественно, как-то этим поинтересовалась. По ночам в их поистине адской кухне эта женщина варила студень. Из чего? Из человеческих мозгов и раздробленных костей преимущественно черепных. Прослушав этот жуткий рассказ Марины, я, естественно, сразу вспомнила те два обезглавленных трупа на Волоковом кладбище. Тогда нам с мамой, удручённым своим горем, не приходило в голову, что и мы рисковали тогда, бродя среди сугробов пустынного кладбища... Мы с ней тогда, как-то тупо, не размышляя, а лишь досадуя на препятствие, перетянули через них свои санки...
Но вернёмся к Коле, Он терял силы, веру в жизнь и людей, слабел, был отвезён в "архитектурную палату" стационара, организованного в "Астории", где и скончался. В 83-м году, после выхода книги Баранова, среди архитекторов поднялось волнение по поводу многих её страниц. Наш общий друг Николай Назарин, говоривший по поводу судьбы Лебедева со свидетелями тех дней, говорил мне, что к Коле на помощь пришли товарищи по работе. Жена архитектора Афонченко Марина Монахова, рассказала, что это она организовала перевоз из квартиры Катониных в "Асторию" ослабевшего Колю. Некий "военный" запросил с неё за этот перевоз на саночках - 30-ть рублей. Что для тех дней было ещё по-божески... Известие о смерти Коли дошло до Катюши Переселенцевой, она явилась в стационар, назвалась женой Николай Николаевича и потребовала выдать ей его документы, часы и какие-то ещё вещи. Сейчас Катюша жива, замужем, имеет взрослого сына, жизнь её вполне благополучна. Но, когда к ней обратилась за сведениями о Н.Н.Лебедеве, собиравшая блокадные материалы, Есфирь Густавовна Левина, она категорически ей в этом отказала. Подробнее о работе Левиной в следующем очерке.
Можно было бы допустить, что рассказ Марины Босняцкой об "адовой" кухне, плод её больной фантазии... Увы, следующий очерк, а источник его верный, подтверждает, что "такое" в Ленинграде тогда действительно происходило.
Рассказ четвёртый: "Стук в соседней комнате".
Я познакомилась с Фирой Левиной в начале 42-го года. Она была членом одной из обмерных бригад и регулярно появлялась у нас ГИОП. Об обмерных работах, в которых она участвовала, она сама рассказала разделе "Архитекторы" книги "Подвиг века". Это была молодая, небольшого роста женщина, с коротко подстриженными волосами с длинным и очень серьёзным лицом. Главное, она была человеком, уже тогда чётко ощущавшим огромное историческое значение всего происходящего и свой долг перед будущим - сохранить в своей памяти то, чему она была свидетелем и участником. И не только сохранить, но и рассказать, и... если получится, опубликовать. И она этот свой долг, после войны свято выполнила. Честь ей и хвала! Последние годы жизни, конец 70-ых, она посвятила сбору материалов для задуманной ею книги. В своей работе она хотела рассказать о жизни, творчестве и участии в войне архитекторов, погибших именно в течение этих роковых четырёх лет. Именно для этой её работы я имела с Есфирью Густавовной неоднократные беседы, делясь с ней воспоминаниями о товарищах, которых я лично знала и о которых могла дать ей некоторые сведения. Н.Н.Лебедев, С.Е.Катонин, В.И.Карозин, М.Пронин и ряд других. Фира вела свои записи для будущей книги, которая так и не увидела свет, так сказать в розовом свете, стараясь облагородить материал. Мы с ней обе жалели, что список "героев" ограничен датой их смерти в 41-м - 45-м годах. И весьма достойные попасть в число портретируемых товарищей, но умерших уже после войны, например Ю.П.Спигальский, М.Е.Успенская в этот перечень не попадали. События, приведённые мной ниже, о трагических переживаниях М.Е.Успенской, рассказаны мне Фирой во время наших бесед в 70-х годах.
С архитектором Успенской, бывшей лет на десять старше меня, я лично познакомилась уже после войны. Мы в составе группы архитекторов посвятили свои отпуска с 1947-го по 1950-й год, творческим поездкам по изучению народного зодчества Карпат. Той части Западной Украины, что была присоединена к нашим юга - западным границам совсем недавно. Облик Марии Евгеньевны стоит в моей памяти чётко. Это была высокая, очень статная и красивая седая дама, очень серьёзная, очень знающая и в высшей степени интеллигентная, настоящая "Петербурженка". Жила Успенская в одном из красивых больших домом начала ХХ века на Большом проспекте Петроградской Стороны, в том конце, где улица замыкается речкой Карповкой. Её сын и невестка были эвакуированы, и она была в своей комнате, в большой коммунальной квартире, одна. В августе 41-го года судьба свела Марию Евгеньевну с Фирой Левиной и другими коллегами на Невской Дубровке, на участке, где возводились военные укрепления, Архитекторам предложили заняться камуфляжем. Их поселили на территории, занятой нашими воинскими частями, выдали ватники и солдатские сапоги. Левина и Успенская поселились вместе, в какой-то каморке. Позже они виделись уже в городе на некоторых обмерных объектах, а в феврале встретились снова уже в больничной обстановке в стационаре гостиницы "Астория". Койки их стояли рядом. И Фира вскоре заметила, что Мария Евгеньевна по ночам не спит, стонет, без конца ворочается... Ясно было, что её мучает не просто бессонница, а какие-то тяжёлые кошмары. Фира, человек чуткий, стала беспокоиться, ей хотелось помочь Марии Евгеньевне, может быть даже посоветоваться с врачом. Поэтому, очень осторожно, она стала выспрашивать её, что же так мучает её по ночам. "Я не в состоянии заснуть", отвечала ей та, "стоит мне лечь, как слышу этот проклятый равномерный, непрерывный стук... стук из соседней комнаты". "Дорогая Мария Евгеньевна, уверяю Вас, здесь никто не стучит и не шумит..".. "Я это знаю, стучит это только в моём мозгу, в моей памяти. Стучали по ночам мои соседи, там, на Петроградской, я сбежала от туда, ночевала у знакомых. И вернуться туда, к себе домой, после стационара, не в состоянии". - "Но что же там было?" Мария Евгеньевна долго отмалчивалась, не объясняя Фире больше ничего, в конце концов, вероятно, поняла сама, что, если расскажет, поделится, то ей станет легче. Да, там дома, ей, конечно, мешали эти ночные стуки, однако долго она и сама не знала, в чём тут дело. Открыла ей эту страшную тайну их общая соседка по квартире. Жильцы, недавно въехавшие в комнату по соседству Марией Евгеньевной из разрушенного дома, по ночам занимались тем, что дробили кости, человеческие кости, в основном черепа, которые тайно, через чёрный ход, приносили в мешке, как кочны капусты. Узнав об их деятельности, Мария Евгеньевна, чуть с ума не сошла, она немедленно сбежала от этого проклятого соседства. И долго ходила сама не своя, почти помешанная. Но ночные звуки продолжали неотвязно её преследовать. После этого признания, Фира сама переговорила с врачами стационара, которые прописали тогда-же для Марии Евгеньевны сильные успокаивающие средства и ещё долго, уже после выписки Левиной, продержали её в стационаре. Там, на Петроградской, в районе Карповки, вероятно, действовала одна и та же банда, разделившая свои преступные функции - одни дробили, другие варили, третьи продавали свои "студни" на "чёрной толкучке"... Так, через долгие промежутки времени, выявилась для меня эта страшная ситуация. В феврале 42-го тропинка на Волковом кладбище, весной 45-го жуткий в своей бесстрастности рассказ Марины и, наконец, в конце восьмидесятых, рассказ Есфири Густавовны, о уже покойной тогда Марии Евгеньевны Успенской, с которой, вполне уже спокойной и благожелательной я путешествовала вскоре после войны, по Закарпатью.
Второе декабря 1985-го года. Наконец-то я перебралась в этих записках через самое, для меня трудное... Как будто перевалила, наконец, через тяжёлые, почти непроходимые, обледенелые, пустынные перевалы... Теперь можно обратиться к более человечным темам. Но остался ещё последний, печальный рассказ.
Глава 30. Ладога - Ярославль.
Спасителен был для Ленинграда этот необычный путь, прозванный "Дорога жизни". Ведь здесь пролегала единственная ниточка, страшно уязвимая, по которой под бомбёжкой, под огнём доставлялось продовольствие в огромный, осаждённый город. И по этой же ниточке, обратным потоком, происходило эвакуация населения на восток, в области далёкие от фронтов.
Когда вся территория вокруг Ленинграда попала под пяту фашистов, эта последняя ниточка, последний шанс на спасение, упорно удерживалась, вопреки всем усилиям, во много раз превосходящего врага, всем, неблагоприятно складывающимся, силам самой Природы.
Если посмотреть на карту, то складывается удивительная, неправдоподобная картина, город в дельте Невы действительно окружён и..., следовательно, обречён, так думал враг. На западе море. Враждебное море, т.к. на южном берегу Невской губы, вплотную к городу стоят немцы. На северном берегу финны. Одна Кронштадтская крепость и её форты на островах в наших руках, непрерывно ведёт бой, отстаивая Ораниенбаумский пяточёк. От залива до Ладожского озера 74-х километровая лента Невы, в сущности, не река, а широкий проток между двумя водными бассейнами. На самом конце этой ленты, в её устье многомиллионный город. Гражданское население, армия, которую надо кормить и кормить. Прежние пути, по которым ежесуточно, ежечасно доставлялись все необходимые грузы и, конечно, продовольствие, все дороги: Балтийская, Варшавская, Витебская, Октябрьская на юге и Финляндская на севере, за исключением одной лишь чисто дачной ветки, перерезаны, перекрыты врагом. И по Неве тоже. Левый берег под немцами, правый, несколько подальше у финнов. Наиболее стратегически важный пункт, где Невы вытекает из Ладоги, недаром названый Петром Первым - "Шлиссельбургом", т.е. "ключ - город", тоже у немцев. На севере далее финны. Казалось бы замкнутый круг. Но остался здесь, на южной оконечности озера наш краешек. Имеющий, от западного кусочка берега, до восточного, тоже нашего, сорок километров воды. Здесь, у этого залива и сосредоточился весь накал борьбы. Для нас последний шанс на спасение миллионов жизней, для немцев выполнение приказа фюрера - "уморить их голодом". Да, для Ленинграда в те месяцы - главной военной задачей было продовольствие. Пусть по самому минимуму, самому ущербному пайку, но ежедневно, ежесуточно, надо было кормить все голодные рты. Ну, а раз, транспортировка продовольствия, несмотря на все невероятные трудности и опасности была организована, то задачей встречного, "порожнего" движения, стало отправка всех лишних ртов из города на "Большую Землю". Тяжёл, опасен, порой и смертелен был для ослабевших людей этот необычный зимний путь. Пока обслуживание этого пути ещё не было налажено, некоторые отчаянные головы рисковали перебираться через озеро пешком. Частичная эвакуация началась, как только установился прочный лёдовый путь. В начале февраля эвакуацию наладили. Приведу строки из книги Павлова: "С февраля начался массовый вывоз людей. Из Ленинграда до станции Борисова Грива эвакуированных везли по Ириновской ветке Финляндской железной дороги, затем, автотранспортом через озеро до станции Войбокало, Волховстрой и других, где вновь пересаживали людей в поезда для отправки вглубь страны... Всего по зимней дороге за неполные четыре месяца эвакуировали 514069 человек". (Стр.247-248).
Мои сверстницы и соученицы - Галина Оль и Таня Рощина были эвакуированы из Ленинграда ещё тогда, когда трасса не была оборудована и более-менее обеспечена пунктами питания и обогрева, то, что появилось позже. Галина Андреевна рассказывала мне, как они 22-го января оставляли Ленинград. Дорога эта от начала и до конца пути была для них крайне тяжела. И они сами дивились тому, что остались живыми. Это была партия, отправляемая от Союза Архитекторов, или возможно вообще от творческих союзов. Маршрут их был организован очень беспорядочно. Началось с того, что, ещё в Ленинграде, их несколько часов продержали сидящими на узлах. Сидели на морозе, на площади около Смольного в ожидании автобуса. Машина, выделенная этой группе, была совсем разбитая и по дороге к озеру несколько раз ломалась. В Борисовой Гриве путников поместили в каком-то плохо отапливаемом бараке. Сразу по прибытии на этот пункт их пригласили на обед в походную кухню, откуда уже доносились такие обольстительные запахи... Но Галина с Таней были уже так обессилены, так беспомощны, что пройти ту сотню шагов, которую надо было преодолеть ради манящей горячей похлёбки, они вынуждены были проползти по снегу на четвереньках...
Насытясь, обратный путь к бараку, они прошли, поддерживая друг друга на своих двоих. Но дальше, весь путь по льду Ладоги прошёл для них, как в тумане. Автобус снова ломался, их высаживали, где-то в этой ледовой пустыне, разместили в какой-то времянке, стойки которой подломились, и покрытие рухнуло на людей. Потом была погрузка в обледенелые вагоны. Галина Андреевна вспоминала смутно, что некоторых эвакуированных, особенно жадно набрасывающихся на еду, которую разносили по вагонам, по прибытию на станцию находили на полках мертвыми. Причиной их смерти, почти всегда оказывалось прободение желудка. Ей запомнился один несчастный мальчик, сын архитектора Б., ехавший со своей матерью на противоположной полке купе. Он выхватывал своими ручонками еду, которую ему и так давали, торопясь проглотить. Ни он, ни его мать так и не доехали до конечного пункта их пути - города Ярославля.
На Ярославском вокзале находился эвако-распределительный пункт. Врачи внимательно осматривали прибывших, а сколько мёртвых тел там было вынесено из вагонов. Таню и Галю разлучили. У Тани нашли воспаление лёгких и её отправили в больницу, но об этом ниже, а Галина попала в стационар, устроенный на территории бывшего тракторного завода. Наконец-то она попала в тепло, в поразившую её неправдоподобную чистоту. В стационаре Галя пробыла долго. Врач, обслуживающий стационар, встревожился, что эта больная так долго совсем не поправляется, направил её на консультацию, где после тщательного обследования у неё нашли застарелый экссудативный плеврит. Ярославские врачи спросили её удивлённо: "Как? Что же это, Ваши врачи отпустили Вас в этот путь с такими лёгкими? Ведь Вам должны были сделать пункцию". На что Галя возразила: "Неужели Вы думаете, что мы, там, в Ленинграде, обращались к врачам? Им, этим Ленинградским врачам еле хватало рук только для раненых". После поправки в Ярославле, Галина Оль продолжила свой путь в Сибирь, в посёлок Емуртлу, к детям. Ранее было рассказано об отправке детей архитекторов в Курганскую область. Через полгода, она поехала к отцу в Свердловск, а позднее работала в Магнитогорске, пока, в 44-ом году не получила вызов назад в Ленинград. Дети были возвращены в Ленинград позднее.
Профессор Никольский со своей верной спутницей жизни Верой Николаевной сообщает в своём "Блокадном дневнике". ...Они выехали в ледовый путь 7-го февраля 42-го года". В конце января в Ленинград для осуществления эвакуации городского населения прибыл А.Н.Косыгин. С февраля начался массовый вывоз людей. "Дорога жизни" только ещё организовывалась, только ещё начинала принимать, со всем возможным, по тем временам, вниманием, заботой и обслуживанием эвакуированных. И вот 7-го или 8-го февраля по трассе пронёсся слух, что везут профессора из Академии Художеств.
В 1984-м году, в Ленинградском Доме Архитектора, на вечере, посвящённом 100-летию со дня рождения Александра Сергеевича Никольского, в числе других воспоминаний, прозвучал рассказ архитектора Леонида Юрьевича Гальперина, ученика профессора. Он рассказал о своей встрече с Никольским на ледовой трассе в 42-м году. Тогда, в первую военную зиму, Гальперин, в чине капитана, был командиром дорожно-комендантской роты, строившей и оборонявшей центральный участок ледового тутти через Ладогу. Услышав об эвакуировавшемся "профессоре", Гальперин встретил в пути машину с этими пассажирами и сразу же, среди плотной массы людей распознал большую, грузную и укутанную фигуру своего бывшего учителя. Пассажиры в машине, и Никольский в их числе, совсем закоченели. Их укачало и умотало в дороге, все они ещё не пришли в себя от переживаний отъезда. Кузов был набит и вещами и людьми так плотно, что и помышлять нельзя было извлечь Никольского на время из общей массы эвакуированных, что бы он хотя бы размялся немного и отогрелся в дорожной будке. Тогда Гальперин сбегал в сторожку, где день и ночь, в больших котлах кипела вода, заполнил свою флягу горячим и сладким чаем отнёс в машину Никольскому. Он хорошо запомнил, с каким упоением выпил тогда этот спасительный чай Александр Сергеевич.
Никольские доехали до Ярославля, города, который и в эту, 2-ую Отечественную Войну, 130 лет назад, в 1-ую Отечественную, гостеприимно раскрыл свои объятия, что бы радушно встретить "беженцев", а в данном случае обессиленных, больных Ленинградцев и оказать им всю возможную помощь. Группа профессоров и преподавателей Академии Художеств была устроена в селе Карабиха под Ярославлем. Вероятно, это та Карабиха, где теперь Некрасовский заповедник. Оправившись, Александр Сергеевич, вскоре принялся за активную творческую деятельность. Он разработал для города Ярославля проект стадиона на 15 тысяч мест, спроектировал посёлки и дома для колхозников, делал и ряд других проектов. Для Ярославского краеведческого музея он выполнил несколько эскизов: "Виды и ансамбли Ярославля".
Забегая на пару лет вперёд, в победный год 1945-й, закончу рассказ Л.Ю.Гальперина о его военных встречах с Никольским. Вторая встреча произошла летом этого знаменательного года, уже в Берлине, в занятой Советскими войсками столице рухнувшего Третьего Рейха. Неожиданно для себя, Гальперин увидал однажды представительную фигуру, богатырского сложения в форме полковника. Это был Никольский! И первыми словами Александра Сергеевича, радостно обнявшего Гальперина были "Спасибо за чай!" За тот чай на ледовой дороге. Вероятно, Леонид Юрьевич сам описал эту встречу в своих статьях посвящённых "Дороге жизни". Мне известно, что он много этим занимается.
Увы, далеко не всем довелось так, сравнительно благополучно преодолеть ледовый путь. Артиллерия противника, его авиация, всё время держали под обстрелом ледовые маршруты. Дороги по льду Ладоги всё время приходилось менять. Одновременно действовало пять или шесть таких трасс с передвижными лежнями и мостиками через полыньи и воронки. Многие и многие из эвакуированных, так и не добрались до места назначения, пропадали без вести... Так бесследно исчезла группа мальчиков из железнодорожного училища, в котором учился Миша Ступин, племянник Николая Фукина. Мать и бабушка мальчика, проводили ребят, потом долго ждали вестей, запрашивали соответствующие организации, но мальчики пропали и никаких следов. Так же неизвестно где, как и при каких обстоятельствах оборвалась жизнь Алоизия Зембы и его матери.
Не раз уже упомянутый мной журналист В.И.Михельсон, проявил много энергии, пытаясь выяснить, что же случилось с отважным альпинистом. Он узнал, что в февральские дни, после окончания маскировочных работ на колокольне Петропавловского собора, товарища Зембы и его напарника лейтенанта Михаила Боброва срочно откомандировали на Кавказский фронт. Он пишет: "Алоизий Земба после отъезда Боброва вынужден был прервать работы, с каждым днём он всё больше и больше слабел от голода и болезней, ноги отказывались повиноваться..".. В эту зиму Алоизия пришлось похоронить своего отца, мать тоже была совсем слаба, друзей в городе не было, многие из них воевали на горных перевалах. Через друзей Зембы, от Володи Кабанова и других, Михельсону удалось напасть на след большого друга Зембы и бывшей его сослуживицы по студии - Зои Васильевне Субатовой. Из беседы с Зоей Васильевной он узнал, что именно она провожала в конце марта 42-го года Алоизия и его мать, больных и вконец измождённых, на перроне Финляндского вокзала. При прощании, рассказала она, стараясь удержать слёзы "Люся, как я не отказывалась, дал мне целую буханку хлеба". Очевидно, это был "сухой паёк", выдававшийся отъезжающим. "Мы едем на Большую землю, а вы с Лаурочкой остаётесь здесь" сказал он при расставании... "Была ночь, светила луна, когда я попрощалась и зашагала по Неве домой, спрятав драгоценную ношу под шубой. Как я позднее узнала, эшелон глубокой ночью 29-го марта отправили на Борисову Гриву к Ладоге". Зоя Васильевна несколько месяцев ждала весточки от Алоизия. Наконец из Северного Казахстана, от родственников, к которым он направлялся, пришло письмо: "Мы их ждали, но они так и не приехали". Наверное, что-нибудь случилось в пути. Или разбили эшелон, а может быть, провалились под лёд, когда ехали по Ладоге. Вероятно, так и было. Много жертв собрала тогда суровая Ладога. Так, на пути к спасению, бесследно исчезли - бесстрашный альпинист, все силы свои и умение, отдавший на труднейшее дело большого стратегического значения, Алоизий Земба и его мама.
Надеясь спасти жизнь своему, недавно родившемуся первенцу, отправились в тяжёлый путь и молодая чета - архитектор Лёва Хидекель и его жена. Драгоценного малыша своего они бережно укутали, обложили грелками. Но лучше бы было, вероятно, если бы они держали младенца у себя на груди, обогревая его своим живым теплом... Где-то на середине ледового пути, они с ужасом убедились, что везут трупик. Малыш тихо умер на этом жестоком пути. Не "Лесной царь", а "Озёрный" - унёс эту маленькую жизнь. Но что же делать? Что делать? Вокруг лёд. Дорожные отвалы. Не бросать же бедное маленькое тельце, вот, просто так, на этой страшной дороге? Они везли его дальше, пересаживались. Наконец, где-то на ж.д. станции, на которой состав стоял некоторое время, они похоронили своего ребёнка, около какой-то деревушки.
Много жертв было на этих дорогах и от "переедания". Многие из эвакуированных, получив возможность поесть, сколько хочется, не в силах были удержаться и жадно заглатывали одним махом такие порции пищи, которые не могли переварить их сильно сократившиеся от длительного голодания желудки. Эти люди уже на пороге спасения заболевали и погибали от собственной неосторожности, неумеренности. У многих, так же вследствие такого переедания, начиналось нечто вроде дизентерии, и эта болезнь уже во время дальнейшего пути, часто оканчивалась для них летальным исходом. Вырвавшись из тисков блокады, попав в места, где кормили, где продовольственный паек был значительно обильнее, надо было быть очень и очень осторожными и умеренными в еде.
Рассказ архитектора - реставратора Евгении Владимировны К.
Женечке К. было в 42-м году двадцать семь лет. Блокадная зима обрушила на молодую женщину одну беду за другой. Её трёхлетний сынишка Миша, был отправлен весной 41-го года "на деревню к бабушке". Впервые же месяцы войны, местность эта стала зоной немецкой оккупации и бедная Женя так, за все годы войны, ничегошеньки не знала, цел ли, жив ли её мальчик. Голодная зима отняла у неё и второго, младшего, полуторагодовалого сынишку, умер от истощения и её муж. В довершение несчастий, в квартире, где она жила, разорвалась бомба, погибло всё её имущество и временно, молодую женщину, поселили где-то в малюсенькой семиметровой комнатке, в которой было - зато тепло. В той же новой для Жени квартире, проживала женщина, работавшая в Райисполкоме и оформлявшая эвакуацию жителей района. Когда обитательницы квартиры познакомились, женщина эта видя бедственное положение своей молодой, одинокой соседки и узнав, что у той, на Большой Земле, а именно в городе Свердловске живёт родная сестра, сама предложила Жене подготовить ей документы для эвакуации в город Свердловск. Была уже весна, ладожская дорога вскоре должна была закрыться. Женя нашла себе какую-то компаньонку по эвакуации, быстро собрала небольшой чемодан с самыми ценными своими вещами и семейными реликвиями. И вот она уже в вагоне, совсем слабенькая, совсем какая-то растерянная, напялившая на свою отощавшую фигурку одну одежду на другую и на третью, отправилась в неведомое, страшное для неё странствие. Как сквозь дымку вспоминает, как она делится доставшейся ей буханкой хлеба с соседками по вагону. Как поезд их надолго задерживается среди лесов из-за аварии впереди. Как она, прибыв в Борисову Гриву, теряет, почему-то своих попутчиков по вагону. Она судорожно держится за свой чемодан и как-то механически подключается к очередной партии отправляемых через озеро. Фантастичен был этот путь в простом грузовике, среди плотной массы людей и вещей, через пронизываемые холодными ветрами, уже залитые надлёдной водой пространства Ладоги. Казалось вот - вот и машина, из-под колёс которой вылетали каскады брызг, сама уйдёт под лёд. Так случалось со многими машинами, но к счастью, не с той, на которой окончательно окоченевшая, временами впадающая в забытье Женя, с её драгоценным чемоданчиком была доставлена на другой берег, на пристань Кабоны. Да, опасный путь через Ладогу был позади, но и здесь, в Кабоны, одинокая, беспомощная женщина едва не погибла. Дело в том, что в течение тех месяцев, когда происходила эвакуация, отношение обслуживающих эту эвакуацию на Дороге жизни, здоровых и сытых людей, к полумёртвым, жалким эвакуируемым постепенно менялось. Да и сам контингент тоже, чем дальше, тем больше было совершенно обезумевших, ослабленных и опустившихся людей. В начале у персонала была жалость, желание подбодрить, помочь, затем к жалости начала примешиваться брезгливость. И несчастные, беспомощные толпы, всё прибывающие и прибывающие из Ленинграда становились для этих здоровых людей, жалко - противными. Они так жадно набрасывались на еду, вырывали иногда друг у друга какие-то куски, потом многие страдали поносом и все пункты их приюта, все дорожки на их пути, грузовики, вагоны - были загажены, распространяя страшное зловонье. После каждого рейса необходимо было мыть и очищать кузова машин, вагоны, пункты питания. Нечистотами были залиты железнодорожные пути.
Эвакуированных должны были обслуживать так называемые "трудовики", т.е. рабочие бригады, состоящие в основном из носильщиков. Предполагалось, что они эту работу выполняют по долгу службы, безвозмездно и бескорыстно. Но, на самом деле, это было не совсем так, а порою совсем не так. Их надо было одаривать папиросами, поначалу и это было ещё, по-божески. Но постепенно аппетиты трудовиков всё разгорались, и с кого могли, они требовали мзду, а некоторые и просто обкрадывали доверившихся им беспомощных клиентов.
Женечку, потерявшую своих попутчиков, и очутившуюся на другом берегу в одиночестве и растерянности, понесло по течению. К той партии, в которой была она, подошли из своих бараков "трудовики", стали хватать их вещи и по длинным мосткам и настилам, местность была болотистая, потянулась вереница людей. Сильные, здоровые мужики с вещами и, еле поспевающих за ними, спотыкающихся и падающих на ходу эвакуируемых. Женя, памятливая на лица, хорошо запомнила того дядьку, который, легко подхватив её чемодан и узелки, зашагал впереди неё. Она еле брела за ним, по временам, как бы засыпая на ходу. Какой-то повелительный инстинкт, упорная мысль о том, что надо идти передвигал её ноги. Но сама она грезила, призрачные видения мелькали в её мозгу. Были моменты, когда она, встряхнувшись спрашивала себя: "что же это, я, кажется, сплю на ходу?", искала глазами спину дядьки с вещами, пыталась прибавить шагу, что бы его догнать, но снова впадала в забытьё...
Она очнулась, потому что её трясли, и услышала голоса: "Кажется, кончилась!", "Да нет, дышит", "Что же с ней делать?". Потом громко, в самое ухо: "Гражданочка, гражданочка, вставай, здесь нельзя лежать, здесь рельсы"... действительно, оказалось, что она лежала головой на рельсах. Вещей её, конечно, не было, мало того, одна нога её была без валенка - спёрли. Второй, вероятно, не успели стащить с ноги. Её подняли, шатаясь, она попробовала идти. Оставшийся валенок мешал ей, и она его сняла, осталась в одних чулках и носках, кто-то посоветовал ей пойти отогреться в бараке, в котором жили трудовики. Она побрела туда по мокрому снегу в одних носках. Кто-то встречный жестоко крикнул ей: "Куда тащишься, всё равно помрёшь!". "Нет, я буду жить!" Желание жить, вдруг охватило её, в ней пробудилось упорство. В барак она вошла во время трапезы. Все что-то ели за грубо сколоченными, длинными столами. Жене показалось, что среди этих людей она узнаёт того носильщика, который обокрал её. Но как она могла это доказать? Ей указали место у печурки, и она с наслаждением протянула к жару свои промокшие ноги. В углу барака была свалена большая куча всякого, брошенного, ничейного барахла - тряпки, шапки, обувь, очень много было детской обуви. Одна из "трудовичек", порылась там и кинула Жене пару лёгких, прюнелевых туфель.
Без вещей, в этих летних туфельках с ног какой-то умершей, Женя подошла к начальнику поезда, показала ему свои документы, хранившиеся в мешочке, спрятанном у неё на груди, и он устроил её в эшелон. Люди набивались в теплушки, носильщики кидали в проём вагона их вещи. У одной Жени не было ничегошеньки. Но всё же она теперь верила, да, она будет жить, она доберётся до Урала, найдёт свою сестру... Перед самой отправкой эшелона, ей запомнилась жестокая сцена: худенькая девочка лет тринадцати, страдавшая поносом, её видели присевшую за вагоном, пыталась влезть в вагон, судорожно цепляясь за порог проёма теплушки. Один из трудовиков, молодой здоровый парень, стал отпихивать девочку, что бы закрыть дверь, но девочка всё хваталась за доски. Тогда он наступил своим сапожищем ей на пальцы, раздался крик, дверь захлопнулась, девочки не было.
На станциях пассажиров кормили. Понемногу все перезнакомились. Увидев, что на Жене совсем лёгкие туфельки, кто-то принёс ей суконные на резине ботики, вероятно, тоже с покойника. Так Женечка доехала до Свердловска, где и нашла свою сестру, позаботившуюся о ней. В Свердловске она работала в артели, где выделывали глиняные игрушки и свистульки. Женя очень умело и со вкусом их раскрашивала. Но, конечно, она мечтала вернуться в Ленинград, начать розыски своего сынишки Миши. Ещё в 43-м году, она написала в секретариат Жданова и ей прислали вызов. В Ленинград она вернулась одной из первых. Жить ей было негде, и на первых порах её приютили у себя Евгения Николаевна и Николай Николаевич Белеховы.
Женечка К. имела направление в город Свердловск, и путь её эшелона миновал город Ярославль. Для большинства же Ленинградцев - "Землёй обетованной", своего рода большим стационаром, был конечный пункт "Дороги жизни" - русский город Ярославль.
Глава №31. О Ярославле.
На гербе Ярославля изображён медведь, так как по красивому преданию, здесь, в начале Х1 века, князь Ярослав Владимирович, будущий великий князь Ярослав - Мудрый, победил в единоборстве медведицу и заложил крепостицу при впадении реки Которосли в Волгу. Высокий мыс у этого устья называется "Стрелкой", а овраг и сейчас - "Медвежий". У города Ярославля славное, героическое прошлое, но не будем здесь очень подробно останавливаться на его истории. Достаточно напомнить, что в бедственные для нашей Родины годы, именно этот город не раз приходил на помощь русским людям.
В ХУ11 веке, во времена, недаром прозванные народом "СМУТНЫМИ", когда поляки, литовцы, всякие самозванцы, Лжедмитрии, а так же изменники из феодального боярства, захватили Москву, терзали и разворовывали московское государство, Волжане поднялись на борьбу со Смутой, создали ополчение. Из Ярославля, где находился центр сбора сил народного ополчения и так называемый "Совет всея земли", из "Святых ворот" Спасского монастыря, благословляемое Патриархом, вышло воинство, возглавляемое князем Дмитрием Пожарским и гражданином Кузьмой Мининым. Вышло на борьбу за спасение Земли Русской.
В том же Спасском монастыре Ярославля был найден в ХУ111 веке рукописный список "Слова о полку Игоревым". Величайший памятник древне - русской литературы, о чём гласит теперь надпись на мраморной доске, прикреплённой к северной стене монастыря. В 1812-ом, памятном всем русским году, когда войска Наполеона заняли Москву, и древняя столица была охвачена грандиозным пожаром, город Ярославль гостеприимно принял тысячи беженцев, москвичей и других, временно нашедших себе приют в этом славном городе на Волге. Ведь недаром, Лев Николаевич Толстой поместил героев, своего великого романа, семейство Ростовых, покинувших горевшую Москву, в городе Ярославле. Толстой знал точно, где приютить своих героев. Ту же спасительную роль, Ярославль сыграл, в гораздо большей степени для Ленинградцев лихую для них блокадную годину.
И что же? Этот Эпизод романа оказался настолько живым, что в наши дни, когда экскурсантов возят по этому городу, то им показывают - "Дом Болконских!" И я, будучи в 1983-м году на экскурсии в Ярославле, видела на одной из его центральных улиц особничок, в котором, якобы лежал умирающий князь Андрей, и где ухаживающие за ним Наташа и княжна Марья узнали и полюбили друг друга. Это один из характерных и интересных примеров, когда литературные герои становятся для читателей живыми людьми и обрастают реальным антуражем. Наша экскурсия состоялась зимой, в феврале. Широкая гладь Волги представляла собой пустыню, снега опушали сады и бульвары города, красиво обрамляли его здания, подчёркивая характерные черты его самобытной, красивой архитектуры.
Вероятно, именно таким, величавым, красивым в своём зимнем уборе, увидели его и прибывающие сюда в 1942-ом году тысячи ленинградцев.
Но вернёмся к нашей теме. Через 43-и года, после эвакуации и временного пребывания всех нас, моих друзей и коллег в городе Ярославле, в такой же морозный и снежный февраль, Татьяна Константиновна Жаркова, бывшая Таня Рощина, вновь посетила этот город.
В настоящее время, она живёт в Подмосковье. У неё семья, два взрослых сына, внуки. Она поддерживает регулярную переписку со своими ленинградскими приятельницами, и, благодаря этой переписке, я, имея самые свежие сведения о дальнейшей, военной судьбе Тани Рощиной, могу закончить этим рассказом данную главу.
В преддверии празднования 40-ой годовщины со Дня Победы, Татьяна Константиновна вспомнила о своём пребывании в Ярославле в 42-ом году, вспомнила о враче, который, как она считала, спас ей тогда жизнь и, желая узнать об этом враче, проявила прекрасную инициативу, она написала в Ярославский Горисполком. В результате, в Ярославской газете "Северный Рабочий" появились две статьи, и её пребывание там, в феврале 85-го года в качестве гостьи города. Одну из этих статей Татьяна Константиновна переслала в Ленинград своей подруге архитектору Людмиле Васильевне Кайтмазовой, а та, любезно передала её мне. В статье очень ценные сведения о том, что сделал город для эвакуированных ленинградцев, а так же и о самой Т.К.Жарковой и о встречах с ней. Вот выдержки, с некоторыми сокращениями, из статьи "Память жива", подписанной И.Копыловой и напечатанной в газете "Северный Рабочий от 10.11.1985г.
"Полгода назад наша газета рассказала о поступившем в Ярославский Горисполком письме от Т.К.Жарковой, которая зимой 1942-го года в числе многих тысяч ленинградцев была эвакуирована в Ярославль. Ярославские врачи вернули молодую женщину, страдавшую тяжёлой формой дистрофии к жизни. Все эти годы Жаркова хранила в памяти фамилию доктора, который спас её. Одну фамилию Третьякова, ни имени, ни отчества, ни инициалов"...
..".Врача Третьякову удалось найти, она оказалась человеком на редкость интересным. Вся её жизнь, наглядный пример верности профессиональному долгу"
Подробно о жизни и работе Валентины Михайловны Третьяковой было рассказано в корреспонденции: "Пришло в Горсовет письмо" (та же газета). "Особой полосой осталось в её жизни время Великой Отечественной Войны, когда довелось доктору Третьяковой быть главным врачом эвакопункта, принимавшего эшелоны, вывозившие взрослых и детей из блокадного Ленинграда"... "Невероятный объём работы пришлось провести ярославским медикам, всем организациям и жителям города в феврале - апреле 42-го года, когда город принял более пятисот тысяч ленинградцев. Сколько же их прошло через руки и сердце доктора Третьяковой, работавшей тогда на вокзале "Ярославль-Главный". В дальнейшем Валентине Михайловне поручили заботу о многочисленных детских домах, куда были распределены маленькие ленинградцы. Среди первых эшелонов в феврале, был состав, в котором прибыли к нам члены художественных Союзов Ленинграда. В числе этих людей была и Татьяна Константиновна Жаркова, т.е. Рощина, автор письма в Горсовет. В ответ на её письмо, Горисполком предложил её быть гостем города, сыгравшего такую значительную роль в её судьбе.
И вот - Татьяна Константиновна вместе с сыном Андреем Анатольевичем - гости нашего города..". ... "Сердечно встретили гостей в Горисполкоме, сделали всё возможное, что бы они почувствовали тепло и гостеприимство Ярославцев. И вот, самая главная встреча с доктором Третьяковой! Потом мы долго разговаривали с Татьяной Константиновной о том, что произошло в её жизни перед её встречей с Ярославлем. Она охотно рассказывала о детстве, о учёбе... И вот ... блокада. И уже не раз подмеченное журналистами - внутреннее сопротивление человека, как будто память его, сознание, предусмотрительно охраняет мозг и сердце от тяжёлых воспоминаний, от травмы на всю жизнь нанесённые человеку, "крещёному блокадой". Жаркова тогда, работала в мастерской по Охране Памятников... Татьяна Константиновна и её коллеги оберегали знаменитые скульптуры Летнего Сада. В голодное время, она, накануне отъезда, жила в необычном помещении - в подвале Эрмитажа. Там тогда же, профессор А.С.Никольский истощённый и больной, при свете коптилки, проектировал Арку Победы... Её вывезли по Дороге Жизни с одним из первых эшелонов, отправили в Ярославль.
Город стал огромным госпиталем для наиболее тяжёлых больных и истощённых ленинградцев. Жаркова с глубоким волнением вспоминала, как ещё до остановки поезда в вагонах появились люди корзинками белых булок - такое чудо для изголодавшихся людей. А едва поезд остановился, у перрона Ярославль-Главный, появились санитары с носилками. Самых слабых выносили на руках.
Накануне состоялось Бюро Обкома, на котором обсуждался вопрос о приёме, размещении и обслуживании населения эвакуированного из Ленинграда. Была создана специальная комиссия, составившая план приёма и размещения Ленинградцев. Только в самом Ярославле было создано 26 стационаров на 4000 коек. Был так же обсуждён вопрос об эвакуированных детях, оставшихся без родителей. 122 тысячи детей приняла Область, в 12-ть раз увеличилась сеть детских домов, в три раза "Домов Малюток". Более 2000 детей ярославцы взяли на воспитание, около 500 усыновили. Медицина впервые принимала таких больных, ещё не было опыта. К тому же, большинство врачей было в то время в госпиталях и на фронтах. Главная тяжесть выпала на долю детских врачей".
Жаркова пишет: "Меня везли на носилках вместе с одним обмороженным инженером. Было чувство, что не доеду... Под руки ввели или внесли, в какой-то бревенчатый дом. Как сквозь сон я увидела кухню, где стояли на плите огромные медные чаны. Кровать - покрыта чистым бельём, в доме - тепло...!
Пища, которой кормили несколько раз в день, была питательна и вкусна". А за всем этим - усилия заводских коллективов, работников бань и прачечных, работников общественного питания, заботы всех жителей...!
"Тесная и кровная связь роднит нас с Ленинградом. И, принимая Т.К.Жаркову, мы отдавали дань этой живой памяти... Недавно Татьяна Константиновна прислала письмо в связи с приближающимся 950-тилетием Ярославля: "Мне хочется всему миру сказать, что сделал Ярославль для ленинградцев"... Письмо это стало как бы добрым приветом от тех тысяч ленинградцев, которым у нас вернули здоровье и силы, возможность учиться и работать. И они, наверное, как и Т.К.Жаркова хранит память о людях, встретившихся им в самый тяжёлый период войны, о примерах доброты, помощи и великодушия.
В эти предъюбилейные дни мы много говорили о прошлом и настоящем Ярославля и не имеем права забыть и об этой странице его истории".
Глава №32. Одни без папы.
Морозный, жестокий февраль, за ним - более солнечный, но всё ещё холодный март. Я и мамочка осиротевшие, сильно ослабевшие, всё ещё жили на Максимиллиановском. Было нам там неуютно и одиноко. Дядя Ваня с тётей Кисой совсем отвернулись от нас. Маруська, их бывшая домработница, жившая в одной из комнат с ними, вела себя и вовсе нахально. Нам с мамой казалось, что теперь, потеряв папочку, мы с ней провалились в какую-то тёмную яму. Ни о чём не знаем, мало что понимаем. Светлый луч папиного ясного ума, понимание современных событий, который и в самые тяжёлые дни поддерживал, поднимая нас, как-то, немного, над происходящим, теперь погас навсегда. Вместе с остатками сил мы теряли и интерес к жизни. Любовь и страх друг за друга ещё поддерживал нас. Я тогда еле - еле доплеталась до работы и обратно, заботы о домашних делах мамочка взвалила на свои плечи. Но ей это становилось всё больше не под силу, хотя она ещё проявляла удивительную мужественность и стойкость.
Своим родным в Саратовскую область мы конечно и телеграфировали и написали о папиной смерти, но первых наших писем о нашей общей тяжёлой потере, они, почему-то не получили. Они, зная о пожаре, о нашем очередном переселении, вообще о тяжёлой обстановке в Ленинграде, конечно, страшно беспокоились, особенно за папу, зная его плохое здоровье. Но первое, после длительного перерыва, письмо из Ленинграда, поначалу сбило их с толку, даже обрадовало, т. к. оно было написано папиной рукой, даже сам конверт был папин, служебный. Но, ... это мамочка просто использовала неотправленный папин конверт, вложив в него коротенькое письмецо для Марочки, к её именинам, будучи уверенной, что все наши печальные извещения они получили раньше.
Передо мной наши мартовские письма:
Письмо: От мамы в папином конверте.
"Товарищи бойцы, командиры, политработники! В час грозной опасности для нашей для нашей Родины ещё теснее сплотимся вокруг партии Ленина - Сталина, вокруг Советского правительства, вокруг главы его - товарища Сталина".
2 марта 1942г.
"Дорогая Марочка, сегодня мы особенно вспоминаем тебя п.ч. сегодня твои именины. По этому случаю, мы устроили обед праздничный, и выпили по рюмочки оставшегося вина за твоё здоровье. Желаем тебе всего хорошего. Будь самостоятельной, ничего не бойся, устраивай свою жизнь. Тётя Киса получила за последнее время много писем от своих девочек. Таня с Юрой работают на севере, живут, конечно, не так легко, но и не плохо. Галя поступила вольнонаёмным стрелком в военную охрану и считается на военной службе и учится в консерватории. Придёт т.Киса, я спрошу и напишу их адреса. От вас последнее письмо было от 4.01.42г. Благодаря нашей разбросанности, мы живём на Максимиллиановском и на Рылеева, а на Пушкинской бываем не так часто, я боюсь потери письма. Ещё раз крепко - крепко целую тебя, Ирочку, Андрюшу, привет А.И.
Мама"
Наши в Карабулаке, страшно беспокоились, узнав о пожаре, боялись за папу, за всех нас и, поскольку они уже знали, что в Ленинграде организована эвакуация населения через Ладогу, горячо надеялись, что и мы пустимся в этот ледовый путь. Вот случайно сохранившаяся открытка от Мариаши:
Открытка: От 05.03.42г. Из Карабулака от Марианны:
"Милые мои!
Сейчас уже март, а писем от вас всё нет и нет. Получили лишь одну телеграмму, в которой вы пишите о возможности выезда к нам. Не понимаю, чего же вы ждёте, в каждом письме, в каждой телеграмме, мы звали вас к себе. Сейчас с Ирой мы живём надеждой, что вы выехали и вот-вот приедете. Я пишу эту открытку и от всей души желаю, что бы она вас уже не застала в Ленинграде.
Целую вас всех. Мара".
Письмо: От мамы.
10 марта 1942г.
"Дорогие мои девочки, завтра или послезавтра уезжают одни знакомые в Куйбышев. Это письмо я посылаю с ними: м.б. скорей дойдёт. Сегодня на Рылеевой я получила 2 Мамочкиных ноябрьских письма; перед этим были письма декабрьские и от начала января, все Марочкины, от Ирочки давно не было. Я написала вам 2-го или 3-го о папиной смерти. Наташа тоже пишет. Мы этого не ожидали, может быть проглядели. Папина смерть явилась следствием происшедшего с нами несчастья - пожара на Пушкинской улице. Там мы потеряли почти всё имущество, из находившегося там, спасти удалось немногое из белья и платья, т.к. пожар начался ночью в соседней квартире. И сразу загорелось на площадке лестницы. Папа продрог на улице и устал, перетаскивая наше барахлишко. Потом он, в этот же день и на следующий, ходил с Яковлевым хлопотать насчёт новой квартиры. Этого добивался от него Яковлев, я же, наоборот отговаривала. Я думаю, что папочку особенно сильно потрясло, наше полное разорение. Т.к. мы потеряли не только самые необходимые в быту вещи: трубы, буржуйку, обе пилы, матрасы, кастрюли и т.п., но и вещи, привезённые с Рылеевой для продажи, т.к. папочка мало выходил и мало зарабатывал последнее время, и мы прожили деньги бывшие у нас с осени. Физическая усталость, ходьба по морозу тоже окончательно ослабили и без того слабое его сердце, а тут ещё - колит и полное отсутствие медицинской помощи, т.к. тут - врачей я не знала, а сходила к доктору Вас. Ал., но, выписанного им лекарство в аптеке не достала. Надо было поддерживать сердце, но этого не сделали, и вот наступил конец. Это случилось 30.01, около часа дня. После этого начались наши с Наташей мытарства. Похороны. Хлопоты с дальними хождениями, т.к. папина служба была на ул. Пестеля, прописаны на Рылеевой. Кое-какие дела надо было закончить и на Пушкинской, а мы ослабели, и ходить было очень трудно. Наташа больна, у неё тоже был колит, а теперь сердечная слабость и отеки ног. Ёе надо хорошенько питать, а после папиной смерти мы наголодались, отдав свой хлеб на похороны. Теперь, правда, немного лучше с питанием, но недостаточно для неё, и для меня тоже, потому что у меня аппетит, как выздоравливающего больного, но так я себя чувствую уже лучше и легко переношу дальние путешествия. Наташу надо подкормить, что-нибудь продать и купить на рынке, а мы этого не умеем, и времени не хватает. Теперь у меня хлопоты с квартирой на Рылеевой. Я добиваюсь квартплаты с уменьшенной площади, и обмена нашей квартиры на другую, с уменьшением жилплощади, пониже и потеплее. Не знаю, что делать с мебелью, продать её трудно и пойдёт за бесценок, перевозить почти невозможно. Сегодня получили две ваши телеграммы. И впервые я серьёзно задумалась, не поехать ли к вам, особенно если можно с заводом, но тут попутно возникают две задачи:
1. Закрепить за собой жилплощадь и право вернуться;
2. Ликвидировать все лишние вещи и добыть побольше денег для дороги и жизни.
С завтрашнего дня постараюсь связаться с Куровскими, Стефановскими, Ждановыми. И будем всё выяснять и действовать. (В телеграммах из Карабулака рекомендовалось связаться этими людьми, родственниками А. И. и Эристовых, которые собирались выезжать из Ленинграда в Карабулак к своим).
Дорогие девочки, нам с Наташей сейчас очень тяжело живётся и морально и материально, у нас ничего нет, ни своего дома, ни денег, ни легко сбываемых вещей. И приходится переносить и скорбь и лишения и унижения, но мы стараемся выкарабкаться из этого положения. Такие бедствия переносим не только мы, а многие миллионы людей. Так что вы будьте добрыми. Крепко вас целую, Андрюшу особенно.
Мама".
Письмо: Открытка. От мамы.
Дата не ясна.
"Дорогие девочки, пишем вам редко, очень устаём. Телеграмма о выезде с заводом опоздала, эшелон выехал 13.03. С Куровскими связались, но в данный момент ничего нет. Вообще выехать, конечно, мы бы могли, но нас задерживает денежная сторона. Я должна получить, но пока, всё ещё неизвестно когда, папину страховку. Кроме того, надо постараться продать кое какие вещи. Но, когда я живу на Максимиллиановском, продавать вещи на Рылеевой очень трудно и ходить туда очень утомительно. Пока что денег на дорогу у нас нет, кое-как набираем на жизнь".
Письмо: От мамы.
31.03.42г.
"Дорогие девочки, на днях едут Стефановские - Александра Ивановна и Елена Ивановна к вам в Карабулак. С ними я посылаю это письмо. Я знаю, вы будете огорчены, что мы не приехали. Но мы пока выехать не можем. Мы с Наташей всё ещё в трудном положении, а ехать без денег тоже нельзя. Деньги нужны и чтобы закупить кое-какие продукты на дорогу, и папиросы, чтобы погрузиться на поезд и прочие, и на расходы на еду в пути, и на жизнь в Карабулаке. Кое-что у меня есть в перспективе: я должна получить 5 тысяч рублей, страховки за папу, но когда это будет, ещё не знаю. Хочется думать, что в этом месяце я их получу. Но этого мало. Здесь придётся оставить все вещи, которые остались в нашей квартире на Рылеевой. Хотелось бы кое-что продать. Но это тоже очень трудно. Из Ленинграда так многие эвакуируются, и они бросают вещи или продают их за бесценок, так что мебель никто не покупает. Я расклеила билетики на углах улиц о продаже вещей и сидела несколько дней в назначенные часы у себя на квартире, но никто не пришёл. Лучше с книгами, их покупают и у букинистов и так. Я составлю список книг и завтра понесу по разным букинистам. Продала я некоторые папины вещи, но дёшево. Я не умею этого делать, и меня обманывают. Так что, пока мне надо собирать деньги на отъезд и это дело трудное. Живём мы с Наташей по-прежнему на Максимиллиановском. Наташа устроилась в Стационар. Там её немного подкармливают, но, всё-таки маловато. Я же питаюсь кое-как. У меня нет ни платья, что бы переодеться, у Наташи нет туфель и бот, всё осталось на Пушкинской. Мы в тяжёлом положении: не лучше, чем в 20-м году. И тётя Киса к нам относится не лучше, чем в те годы (об этом сказано в Хронике). Меня очень угнетает, что у меня нет собственного угла, т.к. на Рылеевой квартира мне сейчас не под силу, если бы вставить стёкла, а так жить в полном мраке - невозможно, да и самых необходимых вещей, как буржуйка, вёдра, пилы, у меня там нет. Хлопотать о новой квартире, ходить туда, всё очень тяжело. Я много делаю, но силы у меня не те, и я очень изматываюсь. И нет у меня друзей, которые ласково бы ко мне относились. А те, что есть, живут очень далеко. Ещё при папочке, я была у Марты Ивановны Лапиной. И хотя она и сама бедствует, она была и приветлива и угостила меня, и папе дала табачку и шапку-финку, и мне стало веселее и теплее на душе. Так-то, если она будет жива, а я ничего не знаю о ней уже два месяца, то помните: Марта Ивановна - хороший добрый человек и мне друг. Мне некогда писать больше. Напишу другой раз и пошлю почтой. Крепко вас целую и обнимаю, желаю всего лучшего. Крепко целую моего дорогого любимого мальчика Андрюшу. Берегите его, но не портите. Пусть он будет хорошим, честным, умным, добрым и мужественным человеком.
Мама"
Мама пишет в своём письме о моих болезнях, о сердечной слабости. Вероятно, примерно тогда же, в марте, Союз Архитекторов организовал медицинский осмотр своих поредевших кадров. Помниться, медицинский осмотр происходил в больнице им. Куйбышева, на Литейном. Собрались мы там, "отощавшие красавицы", смотреть было тошно. Но мы, "любуясь" друг другом, ещё старались шутить.
Само собой разумеется, все мы страдали в разной степени дистрофией. Название этой специфической болезни появилось у медиков в зимние месяцы в Ленинграде. У меня нашли дистрофию 3-ей степени, то есть сильную и рекомендовали подлечиться в Стационаре. К тому времени Союз Архитекторов уже имел собственный стационар, не палаты в "Астории", как это было в декабре, а на частной квартире одного уехавшего архитектора, на улице Герцена,48, т. е. совсем близко от Союза. На основании предоставленной мною медицинской справки, я получила на работе оплачевыемый отпуск и в конце марта 42-го года была определена на 15 дней в этот новый Стационар, в котором уже успел подлечиться и наш начальник Н.Н.Белихов и некоторые другие товарищи.
Немного о Стационарах:
Первые стационары - цель которых была поддержать ослабевших людей, по решению Ленгорисполкома, были организованы ещё в декабре. В книге Павлова (стрю179), сообщается: "Для повышения жизнеспособности ослабевших людей, были организованы, через органы здравоохранения, широкая сеть стационарных пунктов, где применялись комбинированные способы лечения: вводили сердечно-сосудистые препараты, делали внутривенное вливание глюкозы, давали немного горячего вина"... Обычный срок пребывания в стационаре - 2 недели, но для некоторых делались исключение, и они перекочевывали из стационара в стационар. Кормили в стационарах тем же, что полагалось по карточкам, но по карточкам, многое не додавалось, здесь же режим питания был отрегулирован. В записках "П.П.Н". приводится примерное меню: "Завтрак - маленький ломтик хлеба, кусочек сахара, кусочек масла и сколько хочешь кипятку. Обед - ложка натурального витамина "С" (из шиповника), полторы разливной ложки жидкого супа из консервов и на второе по 150 грамм гречневой каши размазни и в ней опять кусочек масла, на 3-е неполный стакан жидкого киселя"; был ещё и какой - то ужин. Николай Варфоломеевич Баранов, очень живо описывает стационар в "Астории" (стр.61,62): "Одним из методов борьбы за жизнь людей стали, так называемые стационары, где в полубольничных условиях врачи помогали больным дистрофией ленинградцам. В гостиницу "Астория" направляли людей творческого труда - учёных, артистов, инженеров, архитекторов... Первые же недели показали, что большинство больных, если истощение не перешагнуло критической черты, быстро приходят в себя. Трудно, а иногда невозможно было помочь только тем, у кого в организме начался распад белков"... "Всех архитекторов поселили в верхнем этаже гостиницы, в светлой угловой комнате, с окнами на юг. Коллеги наши, как выяснилось, весьма довольны пребыванием здесь"... "Но всё же среди некоторых больных наблюдалось какое то одичание... "Они совершенно не обращали внимание на свой внешний вид, бог весть в чём подозревали обслуживающий персонал, по долгу жаловались на невнимание врачей и персонала. Но они и сами часто в одежде ложились на постель, не брились, не мылись неделями. Я знал людей, которые едва-ли, не щеголяли своим дремучим видом... Это были психические отклонения, вызванные голодом, которые, со временем исчезали бесследно".
Стационары спасли многих ленинградцев. Но далеко не все попадали в стационары. Только в мае, я узнала, что без всякой помощи, без всякой поддержки умерла в конце марта самая молоденькая, казалось, самая крепкая из четвёрки альпинистов - маскировщиков ГИОП - Аля Пригожева. А ведь стационары уже существовали и ей, наверное, ещё не поздно было подать руку помощи. Прежде, чем процитировать здесь последнее письмо Али, адресованное Николаю Фукину, приведу здесь, что написал мне сам Николай, пересылая мне, по моей просьбе, копию письма Али. Николай Михайлович в своём письме от25.03.69-го года, сообщает: "... Ко мне в госпиталь, в 1941-м году пришли навестить меня Вера Кулешова и Аля Пригожева. Побыли у меня, посочувствовали моему положению. Я лежал на спине, без движения, т.к. у меня был повреждён таз и связки тазобедренного сустава. На прощание Аля и вера наклонились ко мне и поцеловали меня. После этого я их не видел. Припоминается, что Аля говорила, что не то собирается, не то уже работает на маскировке шпилей. А блокадной зимой, к весне, я получил от Али в госпитале письмо, копию его я тебе и шлю. По-видимому, она оторвалась от других в эти страшные дни. Я же вышел из госпиталя более чем через полгода и уже не мог разыскать её. Тем более, что не помнил на какой линии Васильевского Острова она жила. Письмо её у меня сохранилось, так как я положил его в полевую сумку, и случайно оно там пролежало все годы. Вот - такие дела".
Письмо Али Пригожевой к Николаю Фукину (копия).
Ленинград 22.03.42г.
"Дорогой Коля! Жизнь так не интересна, что ни за что браться не хочется. Жду смерти. Принималась тебе писать три раза и три раза не могла закончить. Никого не вижу, чувствую себя скверно. Совершенно серьёзно - настроение и здоровье на Смоленское кладбище. Я похоронила отца и мать. Теперь сестрёнка и я. Если бы я была одна, я бы здесь не осталась, уехала бы куда нибудь. Лучше ждать нельзя. Забеги ко мне. Я нахожусь в этом же доме, в кв.10. Спроси Левину, а затем меня, конечно, если поправишься и будешь свободен. Вход с улицы, последний этаж, направо. Заходи дорогой, посмотри на меня, на кого я стала похожа.
Целую. Аля".
(Тут же приписано рукой Николая Фукина: "последние строчки письма написаны как-бы слабеющей рукой").
Добавлю от себя - возможно, что Николай переписал для меня не всё, что было в письме... Теперь этого не узнаешь.
Да, погибла альпинистка. Казалось бы, общая любимица, но никто, даже её напарница "по связке" - Ольга, не навестила, не разыскала свою подругу.
Конечно, и ГИОП и Управление по делам Искусств и военные из МПВО должны были бы поинтересоваться судьбой людей, так самоотверженно отдававших свои последние силы для ответственных заданий, так нужных городу... Увы, ни Аля Пригожева, Люся Земба - не дождались помощи. Ольга Фирсова узнала о печальной судьбе Али от её младшей сестрёнки, встретившейся ей на Литейном проспекте...
"Осталась я, Оленька, совсем одна" - сказала она почти шёпотом и заплакала. Этими словами заканчивается очерк об Але Пригожевой в альманахе "Белые Ночи" (стр.451)
Но, всё же подчеркну, нельзя судить по нашим нормальным, здоровым меркам поступки людей, их тупое равнодушие и бессилие. Тогда все привыкли к смерти, ежедневно могли ждать того же и для себя. Очень ясно это всеобщее отупение выразил в своём "Блокадном Дневнике" А.С.Никольский: " А кругом люди мрут и мрут. Мрут, знакомые. Равнодушно узнаёшь об этом в Союзе, в Академии, при встречах на улицах"... "Мрут, стоя в очередях, мрут на ходу, мрут у заборов... где придётся. Именно мрут, а не умирают. Смерть уже не потрясает. Нервы притупились. Надо кончать и поскорее. Но сдавать город нельзя. Лучше умереть, чем сдать".
Такая именно психология преобладала в те месяцы, в этом была большая доля фатализма.
Глава 33. " Мой Декамерон".
Стационар архитекторов на ул. Герцена-48, вспоминается мне, как сказка. Особенно, вероятно, по контрасту с теми "тёмными норами", в которых жили и я и большинство ленинградцев. Это была квартира какого-то уехавшего инженера, доверившего свою оставленную на время жилплощадь и мебель Союзу архитекторов. Расположена она была в высоком первом этаже на северной стороне улицы. Имела четыре или пять комнат; в ней было тепло, светло, очень чисто и, по-домашнему, уютно. Так как в комнатах, особенно в столовой, стояла обычная "интеллигентная" мебель, за створками шкафов и буфета проглядывалась красивая посуда, хрусталь. Из просторной передней я входила в столовую, где стоял длинный стол, застеленный белой крахмальной скатертью и уставленный красивыми приборами с салфетками, бокалами и с графинами, наполненными, золотистого оттенка питьём (вероятно, это был знаменитый хвойный экстракт). Рядом со столовой располагалась большая спальня, ещё пара меньших комнат, так же спален, находились в глубине квартиры. В спальнях довольно тесно стояли кровати с чистейшим бельём, разделённые только тумбочками. Повсюду, и в уборной, и в ванной было очень чисто, висели чистые полотенца. Во время свободное от трапез, большинство обитателей сидело или лежало на своих койках, многие читали или рисовали. Более слабые больные находились в задних комнатах. Я единственная из обитателей стационара не имела своей койки, я была "приходящая". Только на таком условии я согласилась на эту путёвку, так как я не то что не хотела, а просто не могла оставить маму одну на Максимиллиановском; хотя бы вечер и ночь, мне надо было проводить вместе с ней.
Маленькие Уствольские жили очень близко и от Союза и от Стационара. И так, после ужина в стационаре, я уходила к маме. Проверяла, как она себя чувствует, ночевала с ней, утром готовила ей чай, и возвращалась на ул. Герцена, обычно, когда уже все сидели за столом в ожидании завтрака. Как и чем кормили, я совершенно не помню, но я ещё старалась какие то кусочки припрятать, что бы вечером угостить маму, ведь она без меня осталась с одной своей иждивенческой карточкой, хотя в марте поёк был уже несколько увеличен. Некоторые стационарщики жаловались, что им еды дают мало, но, что значит мало? Ведь Ленинград был на голодном пайке, и взять то больше было неоткуда. Все обитатели Стационара сдавали свои продовольственные карточки администрации. У одних карточки были 1-ой категории, у других 2-ой, но во время пребывания в Стационаре - порции были одинаковыми для всех. Возможно, что существовали какае-то дотации.
Трапез, в течение дня было три: завтрак, обед и ужин. Так как в марте дни были достаточно светлыми, то свечей, даже во время ужина не зажигали, но красивые подсвечники, все же украшали стол. Некоторым ослабевшим людям еду приносили в спальню. Достаточно было сказать: "сегодня я не выйду к столу". Многие обитатели пребывали тогда на "постельном режиме", и я не ночуя в Стационаре, этих больных не видела и не знала толком каким образом их в то время подлечивали. Знаю, что одновременно со мной в задних комнатах находились: бывший главный архитектор города Лев Александрович Ильин, архитектор Модест Анатольевич Шепилевский, Олег Никодимович Захаров, но с ними я не встречалась. Вообще повседневный быт Стационара, его порядки, режим, взаимоотношения с обслуживающим персоналом, всё это было как-то далеко от меня, в такие вещи я не вникала. Вероятно, при Стационаре был врач, который наблюдал за нами, давал что-нибудь укрепительное, но я этого, теперь не помню. Знаю, что мне было там очень хорошо, светло, чисто и уютно. А вскоре у нас образовалась и хорошая тёплая компания. Когда погода была хорошая, а она в тот март стояла удивительно ровная и солнечная, с лёгкими морозцами, то после завтрака и обмена мнениями, планами и информацией, многие, и я в том числе, выходили прогуляться по солнышку. Обычно просто переходили на другую сторону и там, слегка притаптывая, прохаживались под Монферановского особнячка. Снег на солнечной стороне слегка подтаивал, с карнизов свисали длинные алмазные сосульки. Воздух в городе был удивительно чист и упоителен. Конечно, ведь промышленность, котельные, транспорт, всё это было в застое. Чувствовалось, что весна уже не за горами. С прогулки возвращались, не спеша, и разбредались по своим спальным местам. Поскольку у меня своей койки не было, то я устраивалась в мягком удобном кресле или подсаживалась к кому-нибудь в ноги постели. В ожидании звонка к обеду, читали, разговаривали, но самая оживлённая беседа разгоралась за обеденным столом. Здесь горячо обсуждались и новости дня, и радио, и газетные сообщения; постоянной темой в общих разговорах были сведения об артобстрелах и бомбёжках, причём каждого, конечно, тревожило, не его ли район подвергся нынче нападению, беспокоило - как там его родные. И тут, непременным условием было: о кулинарных делах ни полслова. Вообще, старались свести разговоры к чему-нибудь совсем, совсем далёкому от войны и от бедствий блокады. После обеда, около постелей собирались маленькие кружки. Кто-либо рисовал, а другой ему позировал, болельщики же наблюдали и мешали своими репликами. Иногда читали, что-либо вслух, а то и на память. Многие просто дремали. После ужина, когда начинало темнеть, я уходила домой. В той партии, с которой свела меня тогда судьба, не было ни одного ранее знакомого мне человека. Но очень скоро у нас образовался свой, очень симпатичный кружок. В него входили - Лев Михайлович и Люси Дмитриевна Тверские, Татьяна Валецкая, Константин Михайлович Дмитриев и я. Что нас привлекло друг к другу - не помню, возможно, мы были самыми большими любителями прогулок по солнышку. И там, на противоположной стороне улицы мы как-то сблизились. Потом нас объединила любовь к стихам. Как-то уже в сумерках, мы уселись в столовой, наполнили бокалы золотистым еловым напитком, и я, любуясь на искры в поднятом бокале, прочла с подъёмом - "Ананасы в шампанском" Игоря Северянина. Все чокнулись и тут же подхватили поэтически - шутливый тон. Вспоминали, пародии из юмористического цикла "Парнас дыбом", в котором была пародия и на Северянина и другие. С тех пор так и пошло. Перед ужином, попивая экстракт, читали стихи или рассказывали о чём-нибудь увлекательном. Помнится, охотно слушали, и мои рассказы о ещё совсем недавних, незабываемых путешествиях дорогих мне "Фусеков" по неизведанным тропам Кавказа. Однажды, когда рассказывали что-то очень увлекательное, и все были настроены самым благодушным образом, зазвучал сигнал тревоги. Нервно и часто затикал метроном, на улице загрохотало. Раздались крики - жестокая правда, от которой нас отделяли только красивые тяжёлые шторы, резко напомнила о себе. Константин Михайлович, подняв свой бокал, сказал: "Друзья мои, это же пир во время чумы, вспомните Пушкина! Выпьем же, пока мы ещё целы - за здравие Мэри, милой Мэри моей!". С того вечера, этот маленький Пушкинский шедевр проник в наше сознание; разительный контраст с тем, что делалось там, извне, и в нашем уютном, временном прибежище... И нам захотелось найти нашему литературно-дружескому кружку другой символ, не такой уж мрачный - "чумной". Конечно же - Бокаччио: "Декамерон" - более оптимистический флорентийский образ.
Нащ "Декамерон" оказался настолько устойчивым, что, покинув стационар, мы продолжали собираться вплоть до моего отъезда из Ленинграда. Хвала Бокаччио!
Не только поэзия или приключения, но и более серьёзные идеи увлекали меня в нашем кружке. Вдохновителем был Лев Михайлович Тверской, который и сам увлекался в то время, изобретённой им, методикой для архитектурно - планировочных проблем. Он готовил статью или книгу и постоянно делился с окружающими своими идеями и соображениями. Как рассказать об этом проще? Дело шло о возможности для проектировщика больших пространств, таких как парки, площади, ансамбли, пользоваться довольно простым в употреблении методом, имея обычный фотоаппарат. Рассчитывая фокусное расстояние по некому графику, изобретённому самим Львом Михайловичем, можно было на плане найти место каждому задуманному проектировщиком объекту, или, наоборот, с плана, по тому же графику, воссоздать перспективу. Метод, изобретённый Л.М. Тверским, приведён в книге Ильинской: "Восстановление объектов ленинградской архитектуры". (Лениздат - 1984г.)
Лев Михайлович обычно полулежал на своей кровати, держа в руках фотографии и листок с графиком, кривые, которого, напоминали какие - то изотермы. Люся Дмитриевна поддакивала ему, сидя на своей койке. А я подсаживалась к ним, устроившись на низенькой скамеечке. И глядела снизу вверх, то на профессора, то на его графики. Сцена напоминала картину: "Христос у Марфы и Марии", где Мария сидит у ног Учителя на полу. Лев Михайлович иногда задавал мне разные задачи. Например, он рисовал по памяти, какой либо пейзаж Павловского парка; группу тёмных елей, пышных кустов с развесистым деревом на переднем плане, а я, по кривым графика, должна была изобразить расположение этих деревьев на плане. Это было увлекательным занятием. Зрители, облокотясь на спинки кроватей, следили заинтересованно, как у меня получается, кто-то подсказывал, кто-то говорил: "дай мне, сейчас это найду". Лев Михайлович посмеивался в свои короткие, "ёжиком", усы и посматривал своими добрыми глазами, поверх сползающих очков. Жена его была довольна, видя, как он заинтересован и оживает. Позднее в эвакуации, пользуясь подаренным мне графиком, я изредка фантазировала, изображая архитектурные пейзажи, выдуманных мною "новых городов", рисовала их воображаемую планировку.
Рисовали не только портреты друг друга, но и что-либо архитектурное. Некоторые проектировали будущие "Арки Победы" или памятники. В грядущей Победе никто не сомневался, сомневались лишь в том, доживём ли мы до неё.
Тогда, горячо обсуждали разные "улучшения" в существующей структуре нашего города. Позволяли себе предполагать даже такое: "Вот бы "умная бомба" разрушила какое-либо неудачное, портящее вид место, тогда бы там..". Но все конечно понимали, какая это химера, знали, что "умных бомб" не бывает. Недавно, Один наш хороший знакомый, архитектор О.Н.Захаров, рассказал мне, что и он, в то же самое время находился в этом стационаре. Но он, этот период своей жизни добром не вспоминает. Наоборот, для него эти воспоминания неприятные. Я его тогда, видимо, не встречала, он был "лежачим", находился в одной из маленьких комнат. Там же, одновременно с ним, лежали Лев Александрович Ильин и Модест Анатольевич Шепилевский. Пищу им приносили прямо в спальню. Олег Никодимович рассказывал, что чаще всего, обитатели комнаты лежали поверх постелей, укрывшись своими пальто. Но, если принимали сидячее положение, то в их руках сразу же оказывались карандаши, и соседи по койкам принимались рисовать друг друга. Захаров рисовал портрет Ильина, а тот Захарова. Портрет Захарова вышел похожим и Олег Никодимович попросил его у автора себе на память. Но Ильин резко ответил, что никогда и никому он своих рисунков не дарит: "Вы сами сделайте для себя копию, а я подправлю". Захаров так и сделал, Ильин прошёлся по его рисунку и даже подписался под ним. То же они проделали с портретом Ильина. Портрет Л.А.Ильина выполненный Захаровым, долго хранился у него, но впоследствии был украден у него на работе в мастерской Ленпроекта. Копия портрета находится в бумагах Ильина в Музее города. Шепилевский тоже много рисовал, но никому ничего не показывал, отворачивался и отгораживался от любопытствующих зрителей. Позднее оказалось, что он рисовал по памяти виды города. И эти его рисунки были изданы потом в виде открыток, выпущенных ещё в блокадном Ленинграде.
Хотя Захаров и был лежебокой, но всё же, однажды у него хватило сил предпринять очень дальнее, по тогдашним временам, путешествие. Ему сказали, что от бомбёжки пострадал жилой квартал вблизи Горного института. А у него там жила близкая родственница и он встревожился. И вот, он расхрабрился и снарядился в экспедицию, прямо по льду Невы, к месту происшествия. Немцы уже не впервые бомбили корабли стоящие там, на ледовом приколе. Но суда не пострадали, а надворные постройки Горного и близлежащие дома он нашёл в руинах. К счастью дом, где жила его родственница, уцелел и Олег Никодимович, успокоенный вернулся в Стационар.
Дружба и сборы нашего маленького стационарного кружка продолжались и после того, как мы все выписались и вернулись к своей работе. Встречи нашего "Декамерона" продолжались на дому у кого-нибудь из участников. Чаще всего на 5-ом этаже дома №57 на Литейном проспекте, у Тверских. К сожалению, не имея дома, я не могла пригласить друзей к себе. В назначенный день и час, все мы являлись к очередному "королю" или "королеве", принося к "чаю" свой личный паёк: кусочки сахара, сухарики и тому подобное, весьма и весьма скромное. Но ведь это было совсем неважно, важно было другое - снова собраться всем вместе, сидеть вокруг красиво накрытого стола и делиться новостями и, неуклонно придерживаясь стиля нашего блокадного "Декамерона", преподносить друзьям что-нибудь новенькое, литературно-поэтическое. Очередной хозяин обязательно подготовлял "сюрприз". Лев Михайлович, обладатель великолепнейшей библиотеки. Заранее раскладывал на столах свои изумительные издания. Сколько у него было редчайших гравюр! Обо всех он мог долго и с увлечением рассказывать, бережно переворачивая драгоценные листы. С полок он любовно доставал какие-нибудь, не менее драгоценные, в старинных переплётах, книги, и что-нибудь из них прочитывал. Помню небольшую книжку в кожаном переплёте с золотым обрезом, из которой он очень выразительно прочитал всей компании длинную, старинную поэму о красотах какого-то идиллического парка. Может быть даже Павловского... Я и Константин Михайлович Дмитриев - были любителями стихов. Дмитриев читал нам любимого им Блока, Ахматову, Белого. Я - читала однажды "Александровские Песни" М.Кузьмина. На другую встречу принесла, перепечатанные моим папой, избранные газели Омар Хайяма в переводе Тхоржевского:
"... Жизнь отцветает, горестно легка,
Осыпается от первого толчка.
Пей! Хмурый плащ луны разорван в небе,
Пей! После нас - луне сиять века..".
Но - к тому времени, весна уже брала вверх над упадочными настроениями. Все надеялись, что жизнь теперь уже не "осыплется" и бодро пили чай, прикусывая малюсенькими кусочками сахара.
Когда мы как-то собрались у Татьяны Валицкой, жившей где-то у пяти углов. Она "угостила" нас своей богатейшей библиотекой старых приключенческих романов. Вдруг, мы встретились у неё с книгами, такими знакомыми, такими любимыми с самого детства. Тут были и Жюль Верн, и Фенимор Купер, и Майин Рид, и Бреет Гарт, и Луи Жаколио и многие другие. Все книги были старинных изданий, со старыми, с детства привычными иллюстрациями. Мы жадно впились в них, разыскивая любимые места, и читали их друг другу вслух...
Встречи "Декамерона" неизменно продолжались всю весну и начало лета. Но потом я стала активно собираться к отъезду. И в июле 42-го года уехали с мамой из Ленинграда. Не знаю, собирались ли они и без меня...
Глава 34. Весенние перемены.
Весна несла чисто весенние и немалые заботы. Снег таял всё сильнее, в морозные ночи смерзал в гололёд. Повсеместное таяние обнаруживало антисанитарное состояние улиц и дворов. Повеяло опасностью эпидемии. В Горисполкоме уже в начале марта учли надвигающиеся опасности и были приняты серьёзные решения по очистке города. Всё население привлекалось к этим работам. Союз Архитекторов тоже собрал свои кадры. И я хорошо помню, как собравшаяся на Исаакиевской площади порядочная группа, довольно потрёпанного вида и не очень уверенно держащаяся на ногах, моих коллег и товарищей с кирками и лопатами принялась дружно скалывать лёд. Солнышко грело, и работа шла весело, с шутками, но, наверное, больше времени уходило не на скалывание льда, а на отдыхательные паузы.
Из книги Баранова (стр.83) "Тысячи горожан участвовали в генеральной очистке города. На улицах висели лозунги и плакаты... "Городу бойцу - грязь не к лицу!"... "Везде, на заводе, в квартире, быту - борись за чистоту!"... "Грязь - беда, борись с бедой, бей лопатой, смывай водой!"... К 15-му апреля этот титанический труд был закончен. К 15-му апреля, к неописуемой радости ленинградцев был пущен пассажирский трамвай...! Больше сотни вагонов, непрерывно звеня, вышли на улицы города".
В АПУ занялись проблемами собирания кадров и создания мастерских, для выполнения проектов повреждённых зданий, освободившихся вследствие разрушений различных участков города. Баранов пишет (стр.86): "Ранней весной 42-го года мы могли рассчитывать на участие в работе Ленпроекта - около ста архитекторов и примерно столько же инженеров. Из крупных архитекторов старшего поколения, оставшихся в Ленинграде, могли возглавить создаваемые мастерские Л.А. Ильин, И.И. Фомин и Е.И. Катонин. Нашлись энергичные руководители и из более молодого поколения. Работы было непочатый край. Союз Архитекторов тоже развернул творческую деятельность; были объявлены конкурсы на проекты реконструкции многих районов города, конкурсы на памятники героическим защитникам Ленинграда".
Из книги Баранова (стр.84), объявление: "10-го мая, воскресенье в Доме Архитектора подводились итоги конкурса на лучший рисунок, отображающий архитектурно-художественный облик Ленинграда в дни Отечественной Войны. Представлено более 100 работ, выполненных акварелью и карандашом..".
Впоследствии - многие из этих рисунков вышли в виде открыток.
Жизнь подсказала и новую, совершенно неожиданную идею: отдать свободные участки, площади и сады города - его жителям под устройство огородов!
Баранов пишет (стр.102) ..". Надо признаться, ранней весной мы долго колебались, выдавать ли разрешение на устройство огородов в центре города... и пришли к выводу, что в садах и скверах и на открытых площадках посадку овощей разрешить можно". Отсюда вытекал вопрос о приобретении и раздаче населению семенного материала".
Я тоже помню эти трогательные огородики, копошащихся там людей, первые всходы. Украсил такой огородик чудесный круглый двор нашей родной Академии художеств. Всем горожанам предлагали брать участки, и мне тоже. Но у нас с мамой было уже твёрдое решение: уезжать. И сестры из Карабулака просили, молили: "Приезжайте! Наташа, спаси мамочку! Бросайте всё и к нам в Саратовскую..".. Поэтому, кроме очередной, повседневной работы, времени оставалось только на то, что бы готовиться к отъезду. А это было очень, очень сложно и перед нами вставало множество трудно разрешимых задач. А работы тоже ведь прибавилось. С весной появилась более реальная возможность заниматься всяческими ремонтами, пусть даже временными заделками разрушенного, исправлениями и фиксацией повреждённого. Очень оживилась и работа "обмерочных бригад". Теперь обмерщикам для обмеров не надо было лазать по сугробам, шарить по обледенелым стенам и выступам. Появилась даже какая-то возможность устанавливать кое-где леса, укреплять лестницы. Бригады обмерщиков обзавелись и новыми кадрами. Так к бригаде Андрея Модзалевского на "Меньшиковом" присоединилась Ирочка Похитонова, всю зиму бедствовавшая со своими двумя малышами. Люди стремились работать, залечивать раны города, но фашисты по-прежнему, остервенело, методически жестоко, продолжали свои варварские обстрелы и налёты. Появлялись всё новые разрушения, по-прежнему при налётах гибло множество людей.
Пора заканчивать свой рассказ о деятельности альпинистов. Сильно поредела их бригада, так самоотверженно работавшая на шпилях лютой зимой 41-42-го года. В городе осталась только одна Ольга Фирсова. А между тем, блеск ещё не закрашенных, не замаскированных куполов, под весенним солнышком, особенно выделялся на посветлевшем ленинградском небе. Наконец-то, после стольких усилий, в распоряжение отдела Охраны Памятников был откомандирован мл. лейтенант Михаил Шестаков. Шестаков и Фирсова дружно принялись создавать новую бригаду. Объекты были не сложные: купол над алтарём Петропавловского собора, купол Николы Морского и Иоанна Предтечи. Ольга завербовала, неожиданно встретившуюся ей, знакомую по обществу спортсменку и художницу Татьяну Эмильевну Визель. Шестаков, перед тем, как принять в бригаду эту худенькую, хрупкую женщину, устроил ей форменный экзамен: она должна была пройти по узенькому карнизу у основания одного из куполов Никольского собора. Татьяна - выдержала. Сам Шестаков пригласил в бригаду своего коллегу, виолончелиста оркестра Радиокомитета - Андрея Николаевича Сафонова. Сафонов был одним из тех немногих музыкантов, кто, не покидая студии Радиокомитета, в течение всей тяжёлой блокадной зимы, поддерживал своим искусством ленинградцев. После того, как 27-го декабря 41-го года оркестр под управлением К.И. Элиасберга выступил с радиоконцертом последний раз за тот тяжёлый сезон, Андрей Николаевич продолжал играть в тёмной и холодной студии в составе струнного квартета. В квартете, кроме виолончелиста Сафонова, участвовали скрипачи Е.Аркин и А.Прессер и альтист И.Янисинявский. Как и М.И.Шестаков, Сафонов был не только музыкантом, но и альпинистом. Так что, в блокадном Ленинграде, пока ещё нужда в маскировочных работах, альпинист Сафонов, каждую свободную минуту отдавал музыке, а музыкант Сафонов - своеобразному "альпинизмом". Когда же - 9-го августа 1942 года, в большом зале ленинградской филармонии была торжественно исполнена Седьмая Симфония Дмитрия Шостаковича, Сафонов был, конечно, в составе оркестра, дирижировал которым К.И. Элиасберг. А потом, после концерта, он вновь поднялся на купол Никольского собора, и, как он рассказывал об этом журналисту Михельсону, посмотрел на раскинувшийся внизу город, борющийся, дышащий отвагой Ленинград, "и как мне показалось, что Седьмая Симфония продолжает звучать..".. Я в это время была уже в дороге, плыла по Волге. Так эта дружная четвёрка: Фирсова, Шестаков, Визель и Сафонов и несли свою вахту на высотных точках города в течение всех месяцев блокады. С Михаилом Бобровым и Олей, уже, будучи в эвакуации, я переписывалась.
Апрельские письма к нашим.
Письмо: От мамы.
От 09.04.42г.
"Дорогие мои девочки, сейчас написала вам открытку, что бы она скорее дошла, теперь пишу письмо поподробнее. С отъездом к вам пока ничего не выходит. Мне надо получить 5 тысяч страховки. Но благодаря стечению обстоятельств, болезнь страхового работника, я всё не могу получить папиной страховой книжки, а следовательно и страховки. Можно продать все вещи. Это дело очень трудное, т.к. сейчас в Ленинграде массовая эвакуация, и все всё продают, а не покупают, а если покупает, то за бесценок. Мне же особенно трудно, т.к. я не живу в своей квартире, а ходить очень тяжело. Было как-то так, я пришла на ул. Рылеева, расклеив по уголкам объявления о продаже вещей и назначив дни и часы. Но в те дни и часы, которые я там указала, никто не пришёл, а без меня, через несколько дней, приходили и спрашивали вещи. Вообщем, мы продали папин новый костюм, пальто, шляпу, частью за деньги, частью за продукты, полученные деньги проели и проедаем. Правда крупа, которую мы купили, очень нас поддерживает. Наташенька была 15 дней в Стационаре и после этого чувствует себя получше, и пободрее и настроение у неё неплохое. Меня же сильно подорвали свалившиеся на нас несчастья. Я совсем не тот человек, что два месяца тому назад, и физически и морально, особенно морально. Я чувствую себя такой одинокой. Так хочется доброты и ласки. У дяди Вани и тёти Кисы мне очень тяжело. Отношение их - жестоко-равнодушное и не желающее ни видеть, ни слышать, особенно со стороны тёти Кисы. Мы с ними очень дружно проводили вместе время до нашего несчастья. И мне казалось, что у тёти Кисы смягчился характер, и поэтому я всё время стремилась жить вместе с ними. И после пожара мы отправились к ним. Но я сильно ошибалась. Тётя Киса - недобрая и лицемерная женщина, дядя Ваня сух и формален, и оба до крайности эгоистичны, хотя они живут, как не многие в Ленинграде, благодаря особому положению дяди Вани на службе. Я за последнее время стала и мало работоспособна, всё забываю, делаю какие-то пустяки, а не делаю главного. И ещё стала бояться, чего раньше со мной не было. Боюсь людей, боюсь, что что-нибудь со мной стрясётся. Вообще со мной неладно. Мне бы надо хорошенько, спокойно отдохнуть. Пожалуй, больше всего меня мучает, что у меня нет своего угла, а приходится мыкаться у чужих, равнодушных и жестоких людей. Это всё я написала о себе. А в Ленинграде у нас кончается зима. Зима была холодная, снежная, морозная и долгая. В последние дни льёт из труб, везде лужи, так, что трудно пройти. Народ везде мобилизован, что бы убирать снег, но местами его ещё очень много. А солнышко светит по-весеннему. Марочка, ты несколько раз спрашивала, что делается, как выглядит Ленинград? Марочка, кто не был этой зимой в Ленинграде, тот никогда не сможет его представить. От тёти Кисы и других, ей подобных, я слыхала: "Проклятый Ленинград..., Злосчастный Ленинград". А я ей отвечала: "Наш Ленинград теперь несчастный, но всё же гордый и прекрасный". В Ленинграде ты увидишь на многих улицах разрушенные бомбами и снарядами дома, но город не разрушен, и так же прекрасны и величественны его площади, улицы, здания. Теперь эти улицы очищаются. Расчищаются трамвайные пути. И будет восстанавливаться жизнь, трудовая, трудная, героически напряжённая, созидательная жизнь. В самые тяжёлые дни, в дни блокадной зимы, город стоял величественный, скорбный, печальный, везде чувствовалось дыхание смерти. И везде - героическая борьба за жизнь, за наш любимый город. И я не знаю, что будет со мной, да это и не так важно, но пройдёт время и город наш возродится, загладятся следы разрушений и жизнь забьёт ключом, трудная и счастливая для тех, кто тогда будет жить и работать. И я желаю, счастья всем, кто молод, кто хочет работать для своей Родины, кто борется за её свободу и независимость от фашистов, кто твёрдо держит знамя Ленина-Сталина. Работайте и вы. Не жалейте своих сил для восстановления счастливой жизни, у нас, в СССР.
Крепко вас целую Мама".
Письмо: Открытка от мамы.
24.04.42г.
"Дорогие девочки, я довольно давно вам не писала. Очень неважно себя чувствую и физически и морально. Очень ослабела, и ходить на Рылееву мне очень трудно. Жить у т. Кисы очень тяжело, хочется перебраться к себе. Наташе лучше, она бодра, строит различные планы. Но денег у нас по-прежнему нет. Если что продадим, то истратим на еду. Пока - эвакуации нет, но говорят, что наладят после 15.05. Если устроимся с деньгами, то я считаю, что нам лучше ехать, если совсем не расклеюсь.
Крепко вас целую, особенно нашего дорогого мальчика Андрюшу.
Мама".
Да, мамочка была удивительно стойкой, но на Максимиллиановском, где она, целые дни, была так одинока, где ежедневно и ежечасно терпела высокомерие, равнодушие со стороны "наших ближайших и любимых родственников", которых она сама, так жалела и которым так сочувствовала в первые месяцы блокады, смотри письма 41-го года. А теперь терпела и прямое издевательство со стороны тёти Кисиной приспешницы, её бывшей домработницы Маруськи, жившей в той же большой комнате, что и мы. Маме хотелось хотя бы доброго взгляда, доброго слова. Я ведь по целым дням была на работе, приходила усталая, озабоченная. Одни и те же невыполненные дела и заботы висели и надо мной и над мамой. Мне ясно было, маму от сюда надо перевезти. И скорее. Но куда? В нашей квартире на Рылеевой, всё ещё было страшно холодно и темно от заколоченных фанерой окон, и неустроенно... Но эта проблема стояла и вскоре, случайно была разрешена. Но сперва ещё одно письмо, вероятно копия с отправленного из Карабулака, от Марианны к другу нашей семьи известному и популярному в дни войны писателю - Николаю Семёновичу Тихонову:
Письмо: Из базарного Карабулака от Марианны.
27.04.1942г.
"Николай Семёнович!
Я опять обращаюсь к Вам. Сегодня мы получили ужасное письмо от мамы, о том, что папа умер, что в квартире у нас всё сгорело, и что она с Наташей остались одни, без денег, без вещей и, что самое ужасное, без друзей. Николай Семёнович, я умоляю Вас, ради папы, с которым Вы были друзьями - помогите им и уговорите их выехать к нам. Если они останутся в Ленинграде, они наверняка обречены на гибель. Вы понимаете, они остались совсем одни, все друзья от них отвернулись, больше того, моя тётка Ксения Корнильевна жить ей не даёт. Они ещё в лучшие времена, когда папа был жив, перебрались к ним на квартиру, а теперь, лучше и не говорить, как изменилось отношение после всех несчастий, случившихся с нашими. Николай Семёнович, я надеюсь на Вас, больше мне обратиться не к кому. Для нас с Ирой это жизнь или смерть, так как жить дальше, потеряв всех, нет ни смысла, ни охоты. За материальную помощь мы с Вами рассчитаемся как можно скорее, а за всё остальное, за моральную поддержку, которую Вы окажите маме, будет вечная моя благодарность, и если я что-нибудь могу для Вас сделать, то можете всегда на меня рассчитывать. Я не хочу и не могу верить, что все люди в Ленинграде превратились в зверей. Этого не может быть.
Марьяна".
Вот - такое письмо. Дошло ли оно до адресата и когда дошло - трудно сказать. Н.С.Тихонов больше пребывал тогда корреспондентом на фронтах, или в Москве, а в Ленинград налетал лишь изредка - проведать свою жену Марию Константиновну Неслуховскую и её родных. От Марии Константиновны позднее, уже летом, я получила извещение с приглашением зайти к ней. Но об этом - дальше. Что же касается самого Николая Семёновича, то и в последние годы войны и впервые послевоенные, он действительно много и охотно всем нам помогал.
Письмо: От мамы.
24.04.42г.
"Дорогие девочки, я Вам не писала недели две. Очень неважно себя чувствую и физически и морально. Очень ослабела. Я не рассчитала своих сил, много ходила на Рылееву, таскала оттуда дрова и бумагу для топки буржуйки, а за последнее время мне это стало совсем трудно. Морально я себя чувствую тоже неважно. Очень мне тяжело жить здесь. Сейчас не хочется об этом писать, как-нибудь напишу, это очень, очень для меня тяжело. Одно время думала, что попаду в психиатрическую больницу. Три месяца тому назад, когда я пришла сюда, ещё, когда был жив папочка. Я была вполне здоровым и бодрым человеком, всех утешала и подбадривала. За это время мне пришлось вынести столько горя, скорби, лишений, унижений, что это сломало меня. Мне очень хочется перебраться отсюда, или на Рылееву, что удобнее всего из-за вещей, которые надо продавать, или к Марте Ивановне. Девочки, от трёх людей я видела теперь искреннее участие и желание помочь: от портнихи Марты Ивановны, от медицинской сестры Нины Петровны Захарьевой и от коммунистки-еврейки Раисы Борисовны Сандлер. Помогала мне отчасти и Полина Петровна. Все они люди трудовые и небогатые. Мы с Наташей пострадали и разорились. Мы с ней сейчас пролетарии. Но и живём мы в пролетарском государстве и друзьями нашими настоящими - оказались пролетарии. Я очень сожалею, что я сейчас не на работе. Была бы я на работе, то общественность мне тоже бы помогла. Сейчас я очень ослабела и не знаю, смогу ли работать, а если бы могла, то мне было бы гораздо легче во всех отношениях. Девочки, мне очень долго не хотелось уезжать из Ленинграда, хотелось остаться здесь и работать для восстановления города. Сейчас весна, стоит хорошая погода и Ленинград чудно красив. И жизнь восстанавливается и налаживается. И мне бы хотелось здесь работать, но я не знаю, смогу ли я сейчас. Я так измучилась, ослабела, мне так хочется отдохнуть некоторое время. Поэтому я бы хотела поехать к вам, если это будет возможно. Пока нельзя. Говорят, после 15-го мая опять будет можно. Вопрос упирается ещё и в деньги. Вещей для продажи у нас не так много и всё что выручаем, мы проедаем, для поддержания сил, а со страховкой, что-то замерло. Ну, видимо будет. Я бы хотела видеть Андрюшу, моего дорого мальчика, хотела бы быть с нам, воспитывать его. Сперва рассказывать ему сказки о смелых и добрых людях, о их подвигах, а потом рассказать ему о героической борьбе, которую ведёт наша страна против немецких захватчиков, за свою свободу и независимость, право на счастливую жизнь для всех народов. Хотела бы научить его: страстно любить свою страну и свой народ; любить всё великое, прекрасное, правду, справедливость, подвиг, смелость, дерзость ума и вечное его движение вперёд; и человеческую доброту, настоящую культуру, чудные книги и картины, и красоту везде, в природе и человеческих творениях; страстно ненавидеть жадность, тупость, лицемерие, шкурничество и жестокость, то, что я вижу около себя так часто и от которых страдаю. А эти качества я часто встречала у людей культурных, воспитанных и уважаемых. В чём-то таким людям живётся легче, а чём-то труднее. Я ещё дедушке говорила: "Я хочу научить Андрюшу любить", а он меня перебивал: "прежде любить дедушку". Я отвечала: "Ну дедушку он и так будет любить". Теперь надо будет его и дедушку любить. Если не я, то ты Ирочка, ты воспитай его настоящим человеком: добрым, смелым, не эгоистом, достойным гражданином".
Мама, ещё в Ленинграде, ещё в 42-ом наметила для себя и всех нас, план воспитания любимого внука. И ей удалось его воспитать, пожалуй, близко к намеченному идеалу. Только, увы, неизвестно, дало ли это Андрею счастье? К бабушке же своей он питал огромную любовь и уважение.
Продолжение письма: "Скоро будет 1-е Мая. Обещают много выдать продуктов. К несчастью у меня потерялись, а может - украли, карточку на мясо и крупу с несколькими добавочными талонами. Но на Наташину карточку мы получим, и, даже вино. И выпьем за Победу!
Крепко целую, обнимаю. Мама".
Из Ленинграда же в июле 42-го года мы с мамой выбрались при помощи папиных друзей и моего начальника Н.Н.Белихова, но до этого было ещё далеко...
Первого Мая 1942-го года, в солнечный, праздничный день я и мамочка, тайно от дядюшки и тётушки, съехали, наконец, с ненавистного нам Максимилиановского переулка и временно поселились, где бы вы думали? На своей родной Спасской - Улице Рылеева, но, конечно, ещё не в нашей квартире, и, даже, не в нашем доме, но поблизости! Мамочка была счастлива. Наконец-то! Нет вокруг сварливых или издевательских физиономий, намёков, попрёков! Она в благожелательной обстановке. Мы с ней смеялись от радости. Мы от этих противных людей, попросту сбежали! Почти как в детской сказке "Я от дядюшки ушёл, я тётушки ушёл"...
Итак, 1-го Мая, когда дома никого не было, оставив вежливую объяснительную записку, мы с мамой, взяв с собой минимум необходимого, сели на трамвай и уехали по приглашению некой Раисы Борисовны Сандлер, к ней и поселились на первом этаже небольшой квартирки на улице Рылеева, дом 8. Да, мамочка была права. Были в Ленинграде и добрые и чуткие люди. И одного такого человека, а именно - бывшую свою сослуживицу по школе, учительницу, Раису Борисовну, мама случайно встретила в нашем районе, в один из своих "походов" в нашу квартиру на улицу Рылеева, и рассказала ей о своих потерях, бедах и затруднениях. А та, приветливо и просто предложила ей: "Так поживите с Вашей дочкой у меня. Места хватит, а Вам будет близко ходить и заниматься Вашими Делами в Вашей прежней квартире". И вот, недолго думая и воспользовавшись праздничным днём, мы с мамой перебрались к Раисе Борисовне. И очень уютно, хотя и тесновато, там разместились.
Воображаю удивление, а может и своего рода досаду, тёти Кисы, человека завистливого и недоброжелательного.
Но мамочка не хотела прощаться с ними. Что бы они могли друг другу сказать?
Я же, конечно, ещё много и много раз ходила к ним, во-первых за письмами, ведь они продолжали туда поступать, а во-вторых, постепенно перетаскивала назад остатки наших вещей.
Глава 35. Сборы и письма.
Где в Ленинграде для нас, Уствольских, самый родной, самый дорогой душе уголок? Конечно же, наш светлый район. Садик около церкви, сам этот благородный храм и угловой дом. Где, в последнем этаже, всегда прежде, светились для нас окна, теперь заколоченные. Наша квартира №8, по улице Рылеева, дом №2 (такого адреса теперь нет), оставалась в ту зиму не совсем необитаемой. Кроме нас там были прописаны: Полина Петровна Колесникова с мужем, семья Гроздовых, мать и две взрослые дочери, семья доктора Шульгина, и мать и две сестры Андрея Ивановича Стефановского, мужа моей сестры Ирины. В ту зиму Шульгины жили при больнице, в которой работали. Ляля Гроздова, похоронив мать, ютилась у себя, тихо, как мышь. Полина Петровна, согласовав вопрос с сёстрами Стефановскими, перебралась в их комнату, как единственную в квартире с уцелевшими стёклами, т.к. окна выходили во двор. Сами сёстры к весне эвакуировались из Ленинграда к брату в Карабулак, похоронив перед этим мать Екатерину Митрофановну Стефановскую (в девичестве баронесса Фон Окерблом). Когда мама приходила в нашу квартиру, Полина Петровна всегда её радушно встречала, поила даже чаем. Она была женщина "себе на уме". Очень практичная. И у неё уже, вероятно, намечались планы дальнего прицела. Как жена военнослужащего она пользовалась кое-какими льготами.
К сожалению, среди сохранившихся наших писем из Ленинграда, нет почему-то ни одного письма от мая 42-го года. Вероятно, мы с мамой, перебравшись и всерьёз занявшись делами у себя, просто не имели времени писать? Я работала, добывала продукты, вечерами помогала маме. Мама же готовилась к нашему отъезду, расклеивала билетики о продаже вещей, ждала не очень-то многочисленных покупателей. Завтракали, а потом ужинали и ночевали мы у гостеприимной Раисы Борисовны. У её же камелька делились очередными новостями и планами. Раиса Борисовна всю зиму, да и теперь, продолжала работать в одной из уцелевших школ нашего района, рассказывала о ребятах, о школе.
Но к моему ужасу и огорчению, несмотря на наши явно улучшившиеся условия, мама моя слабела, чувство голода у неё всё усиливалось. Она напоминала мне птенца, сего постоянно раскрытым клювом, требовательно ждущего, что бы его кормили, кормили, кормили... И, ещё хуже, она сдала морально. У неё появилась мания преследования. Ей казалось, что, что-то плохое непременно случиться. Что нам с ней кто-то, что-то, где-то угрожает. В наших комнатах она шарила по шкафам и ящикам и уничтожала какие-то книги, ценные бумаги, совершенно невинные фотографии... Всё летело в печку в папиной угловой комнате. Хотя и у мамы была в те дни - одна главная цель: уехать к нашим в Карабулак, я начала бояться, и не без основания, что мне маму целой до Карабулака не довести. Надо было, что-то предпринимать. Выручил меня папин друг, и бывший сослуживец Наум Осипович Магид. Он достал для мамы путёвку в больницу-стационар на целый месяц! Этим добрым делом Наум Осипович спас маму, а может так же и меня. Стационар располагался в здании Октябрьской гостиницы, напротив Московского вокзала.
И вот письмо. Июньское:
Письмо: От Наташи.
11.06.1942г.
"Милые мои, дорогие девочки, последнее время мы получили прямо-таки целую кучу ваших писем, открыток и пр. и пр., и все такие милые, тёплые и трогательные, ну прямо, так бы сейчас сели в поезд и поехали к вам. Сестрёнки, какие вы смешнючки! Или вы думаете действительно, что мы к вам не хотим и не стремимся всей душой? Но ведь мы - жить с вами хотим, а не помереть в дороге, на полпути к "Земле Обетованной!" Вы писали, свяжитесь с Эристовыми, Куровскими, Ждановыми. Вот, дескать, все едут, лишь мы такие упрямые ослицы, сидим и сидим в Ленинграде. Между тем, теперь вы, наверное, тоже об этом знаете, что Эристов умер в конце мая, так и не дождавшись отъезда. Жданова умерла в Горьком, а сам он тоже в больнице. Неизвестно, как и что будет. Сколько их, таких не доехавших, слишком слабых, что бы ехать! Мы не хотим быть в их числе. Все эти дни, я из всех сил своих лезла, чтобы не только прокормить, но и укрепить для дороги маму и себя. Сейчас, как будто всё наладилось. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Через левое плечо, чтобы не сглазить. Мамочку, через Наума Осиповича, я устроила в больницу для дистрофиков, то есть на специальное питание и режим. Эта больница новая и первое время там было очень не налажено, так что мама была недовольна, что их недокармливали и вообще плохо ухаживали. Сейчас, я только что от неё, всё налаживается и мама чувствует себя значительно лучше. Врач говорит, что ей надо пробыть там месяц, но если она почувствует себя окрепшей раньше, то мы с ней выедем до первого числа. Полина Петровна тоже собирается ехать с нами и всячески нам помогает. И вообще очень мила. Вы её потом как-нибудь отблагодарите. Хуже всего дело обстоит сейчас со мной. Потому-что, хотя я и устроилась в столовую "лечебного питания", но мне так много приходится гоняться и хлопотать, что питание это, видимо, мне недостаточно и у меня вовсю развивается цинга и вообще, довольно неважно.
Между тем, в больницу, из-за наших дел с отъездом, мне ложиться никак нельзя. Ну, как-нибудь, авось, додержусь, дотяну до Карабулака. А там уже, первое время, все надежды на вас, в июле готовьте для нас помещение, еду, работу, заботу и ласку и пр. Наум Осипович обещал всё устроить в смысле самого отъезда. Деньги тоже, я думаю, у нас будут. Насчёт барахлишка, боюсь, что плохо. Разрешают провозить с собой не более 30-ти кг., а кроме того и силёнок, боюсь не хватит. Во всяком случае, будьте уверены, что постараемся захватить побольше. Стефановские действительно палец о палец не ударили, что бы нам помочь, хотя могли, конечно. Ведь их вёз знакомый врач на своей машине. И благодаря этому они смогли много с собой взять и имели только две пересадки. А это ведь самое сложное. Ну, Бог с ними. Куровские пока не едут, так как Пал Палыча не отпускает высокое начальство, он здесь в Ленинграде получил орден, но сам он мечтает уехать. У Жениной мамы на Фонтанке я ещё не была. Но вообще, я сейчас исключительно занята, кроме работы конечно, приготовлениями прямыми и косвенными к отъезду. Главное стараюсь поднять маму на ноги, что бы вполне благополучно довезти её до вас, а для этого принимаю всякие меры, что бы подкормить её ещё дополнительно и предоставить ей возможность отдохнуть от всех передряг.
У нас в Ленинграде красивая, медленная, холодная весна. Цветет черёмуха. На улицах пробивается травка. Все ленинградцы увлеклись огородами, но мы нет. Твёрдо рассчитываем на вас, хотя у меня есть пропуск в Токсовское огородное хозяйство Дома Архитекторов. Иногда бываю на концертах и в кино, так же у своих друзей. Жизнь здесь могла бы быть очень интересной, большое поле деятельности, особенно в части рисования. Очень много читаю. Ну, не волнуйтесь. Главное - это наш отъезд. Ждите. Получили ли вы письмо про "птицу"? Ваши птички скоро прилетят, дайте им залечить поломанные крылышки. Вы уж не подкачайте. Готовьте встречу и пироги.
Целую. Наташа".
О "птице" напишу несколько дальше. Т.к. это письмо до наших, видимо, не дошло. А сейчас мамина открытка:
Письмо: От мамы. Открытка.
15.06.42г.
"Дорогие мои девочки Ирочка и Марочка, я получила ваши письма от первой половины мая. Спасибо вам за вашу любовь и ласку. Ваши письма принесли мне в больнице утешение. Если только будет у нас с Наташей возможность выехать к вам, мы это сделаем. Последнее время мы к этому направили всю свою энергию, но мы уж очень ослабели. Сейчас я нахожусь в больнице-стационаре, с 3-го мая. Стала чувствовать себя лучше. Но я всё как-то имею мало надежды, что вас увижу, хотя очень этого хочу. Но, что бы со мной не случилось, вы не должны приходить в отчаяние, а будьте мужественны и счастливы. Мне так хочется, что бы вы были счастливы.
Мама".
Письмо: От мамы. Открытка.
17.06.42г.
"Дорогие мои девочки, Марочка и Ирочка, я получила недавно много ваших писем, таких любящих, таких ласковых. Мне очень хочется увидеть вас. Мы с Наташей решили поехать к вам, но будет ли дорога нам по силам, не знаем. Мы хотим подкрепиться. Сейчас Наташа прикреплена к столовой "усиленного питания", а я уже две недели в хорошем стационаре. Чувствую себя лучше. Наташа хлопочет об эвакуации и продаёт наши вещи. Так что ждите нас, но не так уж скоро. Ваши письма доставили мне большое утешение...
Мама".
Письмо: От мамы (фрагмент)
22.06.42г.
"...Многие ваши письма прямо трогательные. Они мне доставили большое утешение. Я сейчас не работоспособна. Чтобы придти в норму и работать мне много нужно. Мы решили с Наташей ехать к вам. Наташа всё подготавливает к отъезду, перевозит с Максимилиановского вещи, продаёт мебель, туго. Хлопочет об отъезде, что бы примкнуть к какой-нибудь организации. Она опять расходует много сил и выглядит плохо. Я поправляюсь, много лежу, но теперь буду больше двигаться. У меня ещё с Мак-го сильно расшатана нервная система, пожалуй, даже психика. Когда я поступила в больницу, я других больных возбуждала раздражение, нервировала их. И меня в палате не любили. Но за это время я стала спокойнее. У нас очень молодой доктор, почти мальчик, чрезвычайно внимательный и заботливый к больным. Я принимала здесь различные сердечные лекарства, бром, железо, витамины. И мне много, много лучше. Я бы могла побыть здесь подольше. Но, кажется, организуется с Наташиной службы какая-то отправка в конце этого месяца. Я знаю, что дорога предстоит трудная. Страшит меня и жара, которую я всегда плохо переносила. А теперь, в моём состоянии, это будет, совсем тяжело. Конечно, я хорошо понимаю, что в дороге надо будет быть осторожными с едой. Молоком мы не будем соблазняться, но как вообще будет с едой дальше? Постараемся добыть соляную кислоту и другие лекарства. Дороги я боюсь, но постараюсь благополучно доехать. Сегодня я чувствую себя значительно окрепшей, а ещё на днях такой слабой, жалкой старушонкой, какой-то неприятной, ненормальной, которая других людей только раздражает, что мне было даже страшно ехать к вам. Ведь я не могла ни помочь Ирочке, ни присмотреть за Андрюшей. И на вас произвела бы тяжёлое впечатление, совсем не та ваша мама, какая была прежде. А мне хочется остаться в вашей памяти такой, как прежде. Но дорога для меня будет конечно тяжела и утомительна. И я не знаю, в каком состоянии доеду до вас. Может быть, первое время буду и слабой, и опять буду психовать. Не огорчайтесь, не смущайтесь этим... Я надеюсь, что если нам с Наташенькой удастся попасть в хорошо организованный эшелон, благополучно перенести дорогу, то даже если я и приеду слабой, больной, такой страшной, какая я сейчас, то недельки через две приду в себя. Дорогая Марочка, я рада, что вы с Ирой живёте дружно и передай мой сердечный привет Андрею Ивановичу. Я не хочу, что бы вы сердились на Александру Ивановну, я для неё всегда была чужим человеком, дружбы между нами не было, и она совсем не обязана была для меня что-либо делать. Я на неё нисколько не обижаюсь и прошу тебя и Иру не сердиться на неё и жить с ними дружно. Вам же будет лучше, если между вами будут хорошие отношения. Сегодня - год войны. Вчера я читала доклад на Верховном Совете и прекрасный, волнующий нас ленинградцев, доклад Жданова. Я верю, я твердо верю в нашу победу над проклятыми немцами, надеюсь, что "Второй фронт" в Европе откроется скоро. Но сегодня в газетах тревожные известия о наступлении немцев на Харьковском направлении и под Севастополем. Но я, так верю, что мы разгромим ненавистных немецких фашистов. Марочка, ведь это проклятый Гитлер и его война причина папиной смерти и наших страданий, а не тётя Киса или Александра Ивановна. Надо это понимать.
Крепко целую. Мама".
Письмо: От мамы. Открытка.
26.06.42г.
"Дорогие Ирочка и Марочка, пишу вам из больницы, где я сейчас ещё нахожусь. Наташа хлопочет об эвакуации, о том, что бы нам ехать в хороших условиях, о деньгах... Но и я ещё очень слаба и Наташа устроилась, с какой либо организацией и денег у нас не хватает. Вещи продать очень трудно, занять, ещё труднее. Страховку получить можно, но боюсь, что бы это нас не задержало. От вас пришёл перевод на 300рублей, второго пока нет. Денег не высылайте, только лишняя забота их получать. Если нам удастся уехать поскорее, я буду очень рада. В дороге с едой буду осторожна. Спасибо вам за советы.
Крепко целую вас дорогие дочки, которые прислали мне такие любящие письма.
Ещё раз целую. Мама".
К сожалению, в дороге мамочка опять изнервничалась и ослабела. Понадобилось не две, три недели, а восемь - девять месяцев, что бы мамочка стала не только такой, как прежде, но даже, в чём-то ещё сильнее.
Глава 36. Купля - продажа, спекуляция, комбинации.
В июне, пока мамочка лечилась в Стационаре, я, для того, что бы мне легче было заниматься продажей вещей и сборами, перебралась от милой и гостеприимной Раисы Борисовны, к себе на 50ий этаж и поселилась вместе с пережившей там всю зиму Полиной Петровной в уцелевшей комнате Стефановских.
По всему Ленинграду, на всех заборах, заколоченных витринах и прочих местах белели записки объявлений: "Продается!"; "Продаётся!"; "Продаётся!" и далее перечень вещей. Вот и мы с мамой поразвешивали таких объявлений.
"Продаётся: Кабинетный рояль "Беккер"; Гостиный гарнитур; Скульптура Гинзбурга "Зевающий мальчик" и пр. ...
В тот вечер мамуля была уже дома. Вот запомнившаяся мне сценка (сценка №1):
В нашу бывшую столовую входит молодая, самоуверенная цветущая и расфуфыренная особа. "Это здесь продаётся рояль?" - "Да!" - "Сейчас я его послушаю". Особа эта, как-то по-хозяйски, окинув взглядом всю комнату, прицениваясь, как видно к другим вещам, уселась за рояль. И заброшенная комната наша, так неожиданно, так странно, наполнилась громкими и бравурными звуками. Рояль ей, видимо, пришёлся по вкусу. И она безапелиционно назначила цену: "Две буханки хлеба и 200 рублей деньгами". Ещё раз зорким взглядом окинула всё выставленное и сказала, что через час придёт с грузчиками. Мы всё же поинтересовались, к кому же попадает наш рояль. - "Я артистка Музыкальной комедии. Я его настрою, он у меня не застоится"... Действительно, примерно через час, эта бойкая дамочка явилась уже с грузчиками. И громко стала распоряжаться, бесцеремонно сдвигая всё остальное в сторону. Грузчики торопились. Дамочка командовала. "Ну, а расплата-то?" - "Да, да. Как условились. Вот две буханки хлеба, а деньги, 200 рублей я сейчас принесу, только прослежу, что бы они осторожно вынесли". Любимый Марианнен рояль и вся шумная компания вывалились из квартиры. Две буханки хлеба лежали на столе, а деньги? Только мы их и видели. Машина укатила, артистка исчезла, не только не отдав денег, но, как мы позже обнаружили, прихватила мимоходом голубую вазочку венецианского стекла...
Продали мы так же гарнитур красного дерева, и прелестный ломберный столик, и дедушкин резной дубовый барометр, и кресла, и зеркало... Покупатели, теперь, весной, когда хлебный паёк по карточкам был увеличен - предпочитали расплачиваться не деньгами, а хлебом. А хлеб продавать, что мне и всем было хорошо известно - строжайше воспрещалось. И продажа хлеба было делом опасным. Но ведь нам на дорогу нужны были именно деньги!
И вот сценка №2: "Продаю хлеб..". Запись из самодельной тетради, блокадного дневника.
Дело было в июне. Мамочка находилась в больнице. А я, собиралась, продав, какую-нибудь безделицу, вроде столика красного дерева. Получить, вероятно, как обычно, за это, драгоценную половину буханки хлеба. А зайти затем к маме, что бы передать ей ещё и свой, добавочный, домашний паёк - немного хлеба, каши, соевого молока. Мамина больница находилась в здании бывшей "Северной" гостиницы, на площади Московского вокзала. По пути туда, я дошла до одной из булочных на Литейном. Вблизи Невского. И стала прохаживаться, зная, что кто - нибудь, меня остановит и спросит: "Не продадите ли хлебца?" Принято было зайти в какую-нибудь из парадных ближайшего дома и там закончить запрещенную и преследуемую операцию. Какой-то дядька остановил меня, мы договорились и оба вошли в сумрак парадной. И вдруг, внезапно, когда я, достав хлеб ,застегивала свой чемоданчик ,дядька этот вырвал хлеб из моих рук и хотел бежать, а я, отчаянно в него вцепилась. И тогда этот несчастный, не в силах от меня вырваться, стал жадно, дико, быстро, кусать, кусать, кусать мой кусок, который я изо всех сил у него вырвать, а когда мне это удалось, он принялся орать и звать милиционера, который не замедлил явиться, т.к. им полагалось дежурить около булочных. Дядька стал кричать, обвиняя меня в продаже хлеба, спекулянтку. Напрасно публика вступилась за меня, дядьку отпустили, а меня повели в милицию. Милиционер был краснощёкий, молодой парень и видно только - что с "Большой Земли", плохо ориентировался в Ленинграде, он и сам не знал хорошенько, где находится ближайшее отделение милиции, и я тоже не знала. И вот, мы стали кружить по улице Марата, по Кузнечному, по Лиговке... Теперь - то мне приходит в голову, что этот блюститель порядка не так - то был прост, подозреваю, что это была игра. Всё время, пока мы с ним кружили, я умоляла его что - бы он меня отпустил. Рассказала ему трагическую историю нашей семьи. Объяснила откуда у меня этот "лишний" хлеб. Сказала, что мама моя сейчас в больнице, и я должна отнести ей передачу... Только не плакала. Слёз у нас тогда не было. Но всё тщетно. Мы искали милицию. Между тем, я ведь ясно сознавала, что положение моё, а значит и мамы - отчаянное. Обвиняемые в спекуляции, в 24 часа, без всякого суда и разбора - высылались на принудительные работы из Ленинграда. Я понимала, что мама без меня погибнет. Что наши вещи и квартира пропадут. Что и я, едва ещё передвигающая ноги, тоже вероятно погибну, и никто даже не узнает, что с нами стряслось...
Наконец мы подошли к зданию отделения милиции, и зашли даже в парадную. Надо было подняться на второй этаж. "Ну, давай сюда хлеб" - вдруг сказал мне мой милиционер. Я, оторопев, глянула на него непонимающими глазами. "Выкладывай! Живо!"... Дрожащими руками я открыла свой чемоданчик и передала ему злощастный, помятый, со всех сторон обкусанный кусок. Я стала даже оправдываться перед этим парнем, за неказистый вид этого куска, объясняя как было дело. И что же? Этот здоровущий, откормленный, крепкий парень забрал с довольным видом мой хлеб, мой "капитал" к себе в карман, а мне приказал - "Убирайся!" А я - была счастлива! Почти не веря в возвращённую свободу. А ещё я ликовала от того, что мне удалось утаить от него второй кусочек хлеба, который тоже надо было продать. Но это уже стало для меня ещё страшнее, но, увы, всё равно, необходимо... Я еле доплелась, тогда, до маминой больницы. Она уже ждала меня, поглядывая на площадь из окна второго этажа.
Если бы она знала, что только что было со мной...
А однажды, приличная сумма, достаточная для отъезда, свалилась мне в руки нежданно-негаданно... Как-то на углу Невского и Садовой встретила я одного из приятелей ещё мирного времени, архитектора Альберта Синявера. Был он в военной форме и вид имел мрачный, но мне обрадовался. Он рассказал мне, что недавно потерял маму. Она в блокаду работала учительницей, пережила всю тяжёлую зиму, а как-то, среди белого дня, на улице попала под обстрел. Ей оторвало обе ноги, и спасти её не удалось. Альберт сказал, что уезжает на передовую, а сейчас вот, только что получил какие-то деньги. "Они мне совершенно не нужны, возьмите себе на дорогу" - неожиданно предложил он мне. И тут же стал совать мне пачку в пятьсот рублей. "Как! Какое же я имею на них право? Альберт? Мне, неудобно! Так, ни с того, ни с сего, брать Ваши деньги". - "Наташа, мы всегда были друзьями, а сейчас главное, что бы Вы выжили, что бы Вы с мамой благополучно уехали. Не смейте отказываться"... Тут же мы обменялись с Альбертом своими адресами. Конечно, подарок его был для меня очень существенным.
Итак, наш отъезд становился реальностью. Мама выписалась из больницы. Ей было значительно лучше. Кроме того, что было важно для нас, у нас организовалась на отъезд, весьма подходящая компания. Жившая в нашей квартире Полина Петровна была женой военнослужащего. До войны, и она, и её муж работали по торговой части. Он и во время войны был где-то интендантом. И оба они были люди ловкие, практичные и пройдошистые. Теперь, видя наши сборы, Полина Петровна, стала просить нас взять и её с собой в Карабулак. Ехать ей куда-либо в другое место было некуда. Эта комбинация устраивала и нас с мамой. Её комната, как площадь военного, в случае её отъезда, должна была быть опечатана, и Домоуправление отвечало за сохранность её вещей. Мы уговорились с ней, что мы часть своих вещей поставим к ней. Мало того, Полина Петровна упросила нас присоединить к нашей "Карабулацкой" компании одну свою приятельницу, молодую, весьма пройдошистую евреечку, которой тоже некуда было податься.
Надо сказать, что присоединение к нам этих двух ловких дамочек, было весьма удачным ходом. Они надеялись на нас, на то, что мы с мамой, имея направление в Карабулак, доставим туда и их. А дальше они нисколько не сомневались, что они, как жёны военных и работницы торговли, сумеют прекрасно устроиться сами. В дальнейшем, так оно и вышло. Поэтому, они зацепились за нас, всячески нас оберегали, заботились о нас. И все организационные заботы, погрузки, разгрузки, поиск носильщиков, расплату с ними, всё это они взяли на себя. Причём делалось всё это весьма ловко и расторопно. Моей заботой была - мама. И только о маме я заботилась сама. И вдруг, незадолго до нашего отъезда, когда я пришла в очередной раз за письмами на Максимилиановский, мне преподнесли сюрприз: "Наташа, мы с тётей Кисой - тоже собираемся с вами в Карабулак. Напиши, что бы и на нас срочно прислали Вызов" - сказали мне мои дядюшка с тётушкой. Было от чего растеряться. После всего, что было, они, видите ли, тоже захотели тащиться вслед за нами... Я прекрасно знала, как отнесётся к такому предложению мама. Что бы ещё, когда-нибудь, иметь дело с этими людьми! Мама, действительно, узнав об этом, прямо задрожала от ужаса, от воспоминаний...
Взять их с собой было невозможно. Я сказала им - "поздно". Документы давно уже оформлены. Какая-то доля злорадства была в этом моём отказе взять их с собой. И они никогда нам этого не простили. Мало того, тётя Киса восстановила против нас своих дочерей.
Глава 37. "У ПТИЦЫ КРЫЛЬЯ" (ОМАР ХАЙЯМ).
У себя на работе, в ГИОП, я передавала дела преемнице - архитектрисе Елизавете Николаевне Рахманиной. О Рахманиной - написано в книге "Подвиг века". Мы с ней вместе ездили, теперь уже на трамвае, на Васильевский остров. Я знакомила её с состоянием объектов, с обмерными бригадами, которые там работали. Передала я ей и ту, кустарно переплетённую тетрадочку, в которой всю зиму я вела деловой дневник по своему району и о пропаже в ГИОП которой я жалею до сих пор...
Кроме того, я старалась навестить всех кого могла из наших друзей ленинградцев, перезимовавших эту страшно тяжёлую зиму, а некоторым написала письма. Например, с этой поры началась моя деятельная переписка с незнакомой нам, но знакомой нашего папы - Ниной Петровной Захарьевой. Которая, в последующие военные голы, писала мне о Ленинграде в Карабулак, и, даже, посылала некоторые книги и открытки. Дружба с семьёй Захарьевых продолжается до сих пор. Конечно, я навестила милую Марту Ивановну, которая тоже мужественно пережила зиму. Потом, уже после Победы, ей пришлось перенести много бед и несправедливостей от "благодарной" власти. Но нам, сёстрам, она продолжала шить самые изысканные туалеты по самой последней моде.
Один мой прощальный визит оставил неизгладимое впечатление. Я получила записку от Марии Константиновны Неслуховской (жены поэта Николая Семёновича Тихонова), в которой она просила меня навестить её и рассказать ей о последних днях папы. И вот я на Зверинской дом №2... Большой, довольно вычурный 6-ти этажный дом. Кстати, теперь, с 1984 года, я с Марьяшей поселились в этой самой квартире с остатками семьи Неслуховских, носящих уже другие фамилии...
В нём, в угловой квартире издавна прожимало большое, интересное, безалаберное семейство большого друга нашего отца - генерала и царского и советского - Константина Франциевича Неслуховского, жившего с тремя дочерьми - - Марией, Татьяной и Ириной и ещё с какими то родственниками. (Мной достаточно подробно написано о Неслуховских в "Семейной хронике"). Нет, наверное, ни одного знаменитого имени нашей культуры, не побывавшего в этой квартире. Каждый из членов этого семейства был по-своему интересен и самобытен. Но сейчас речь пойдёт о моём свидании с Марией Константиновной - женой поэта Н.С.Тихонова. В литературе, посвящённой ленинградским литературным кругам 20-х, 30-х годов - часто упоминается о Марии Константиновне.
Она вышла замуж за Н.С.Тихонова в 1921 году, была несколько старше его, имела на него колоссальное культурное влияние, он был её вторым мужем. А в 1915 году она познакомилась, в полку своего отца (генерала Константина Франциевича Неслуховского), с моим отцом - Михаилом Михайловичем Уствольским. Она влюбилась в него, может быть не без вины и с его стороны. Страдала оттого, что знала о том, что у него жена и двое маленьких детей (потом родились ещё двое). Сомневалась, даже ходила молиться перед иконой Казанской Божьей Матерью в Казанском Соборе, желая перебороть свои чувства. А в последующие бурные годы - они вели переписку, вероятно очень интересную, которую, увы, по просьбе моего отца в 1937-е тревожном году, она собственными руками, плача сжигала в своём камине. И так, Мария Константиновна хотела знать, как умер папа. Я поднялась к ним на 6-ой этаж и вошла в хорошо знакомую, ещё с детства комнату (последние годы своей жизни Н.М. провела именно в этой квартире, примеч. М.М.). Всегда немного сказочное для меня обиталище Марии Константиновны, создательницы и повелительницы изящных и фантастических, в стиле Гофмана или Бакста - кукол, которые сидели на полках, на столиках, выглядывали из разных углов. В комнате было полутемно и накурено. На большой, широкой тахте, поджав ноги, укутанная цветистой шалью сидела на фоне темно-красного ковра - Мария Константиновна, с неизменной папироской в губах. Ковёр, тахта, женщина в шали, всё это, ни дать, ни взять, было почти картиной Врубеля "Гадалка". Может, и карты тут лежали. Все сёстры Неслуховские любили раскладывать пасьянсы. Но сама М.К., совсем не напоминала Врубелевскую героиню. Её доброе, умное лицо с громадными лучистыми, карими глазами, с мягким выражением красивого рта - и сейчас стоит перед моими глазами. "Расскажи всё о папе" - сказала она мне, продолжая курить одну папиросу за другой. Я начала свой рассказ, под этим внимательным, серьёзным лучистым взглядом, обо всём пережитом, в конце января и о белом молчании февраля. Потом мы долго молчали.
"Твой отец - был необыкновенный человек. Мало сказать - умный, человек редкой культуры, редкой порядочности, интересный, блестящий, подлинный и достойный "петербуржец" и как бы последний стоический римский патриций эпохи упадка. Он был необычайно, до дерзости смел и сумел стать значительным, нужным и уважаемым советским деятелем. Да, он прожил красивую жизнь. И смерть его была достойна, проса и красива"... - "Позовите друзей" - сказал он и попросил вина, это ведь действительно - почти по римски"...
Пока Мария Константиновна, задумчиво дымя папироской, говорила, как будто -бы и не со мной, а сама с собой. Передо мной, какой-то общей лентой разворачивалась жизнь папы, его влияние на всех нас и на окружающих и то, что я смутно представляла себе о его молодых годах, и я действительно поняла, что жизнь моего папы красива и до последней минуты закончена.
Коротко я рассказала обо всех наших делах, о своей работе, о том, что сделано и что делается для спасения нашего города.
"А теперь" - сказала мне Мария Константиновна - "тебе надо уезжать, увози, маму. Да, я понимаю, сейчас тебе в Ленинграде, даже интересно остаться, но ты должна выполнить завет папы и спасти свою маму. Уезжайте и пишите".
"А на прощание, вот тебе завет Хайяма. Но, сперва, посмотри внимательно вот сюда" - и она указала мне на ковёр над своей головой. Там в углу ковра, на его тёмно-красном фоне висела большая, декоративная тарелка, по-видимому, эмалевая. На сине-зелёном, мозаичном фоне летела белая птица... "Я купила эту тарелку у уехавших соседей" - объяснила она мне. - "Эта птица, эта тарелка говорит со мной стихами Хайяма. Вот - послушай. Эту "газель" я дарю на дорогу тебе. Слушай внимательно:
Пей! - И в огонь весенней кутерьмы,
Бросай угрюмый, хмурый плащ зимы...
Недолог путь земной, а время - птица,
У птицы - крылья. Ты - у края тьмы..".
Я бесконечно благодарна Марии Константиновне за эти стихи. Они стали мне, как бы талисманом. Только бы выдержали мои потрёпанные крылышки, только бы долететь.
Глава 38. Всё шире, шире, шире...
Телеграмма: Из Ленинграда 25.06.42г. 13ч. 15м.
Срочная. Б. Карабулак. п/я 300. Уствольский.
"Мама поправляется, собираемся выехать тридцатого".
Получено: 29.06.42г. 9ч. 34м.
И вот - мама, я, Полина Петровна и Раиса Исааковна - в пути. Теперь действительно можно было бы спеть - "Прощай (и надолго) любимый город, дом и сад", но мне было не до песен. И вообще, всё мелькало для меня в каком-то тумане. Совершенно не помню, не знаю, как мы грузились, как усаживались на Финляндском вокзале в поезд. Долго ли ехали? Знаю только, что в последний день в Ленинграде, вместе с паспортисткой нашего дома, Женей, хорошо нас всех знавшей, я составила опись оставляемых нами вещей, получила документ, гарантирующий сохранение за нами нашей жилплощади. При мне же опечатали и наши три комнаты и комнату Полины Петровны, в которой, для лучшей сохранности я поместила кое-что наиболее ценное. Надо сказать, что этот расчёт оправдался, а вот "гарантии" государства, не подтвердились. И все наши комнаты были заняты посторонним семейством, с которым, по возвращению мне пришлось судиться, причём "отвоевала я от них только одну из наших комнат. Большинство вещей тоже было украдено. Много позже, некоторые из них, вдруг возникали на нашей коммунальной кухне.
А потом были причалы, сходни, плещущаяся о борта пристаней и барж ладожская волна, укрытые брезентом трюмы, в темноте которых мы отсиживались по пути через Ладогу, от Борисовой Гривы до Кабоны. И снова сходни и снова мостки. Две наши спутницы командовали, распоряжались носильщиками, погрузками, торговались, расплачивались с ними. Я же, вела по этим бесконечным мосткам, потом по ж.д. путям свою совсем растерявшуюся и всё о чём-то беспокоящуюся маму и только этим и была занята. Так же не помню я ни нашего путешествия до Ярославля, ни самого Ярославля. Только снова были причалы и причалы, у которых стояли теперь уже большие пароходы и, вообще, масса разных судов. И вот мы уже на пароходе. Наши вещи кучей свалены в трюме. Только этот трюм попросторнее, и в нём временно поселились такие же, как и мы группы. Кучи вещей и на них люди, такие же, как мы эвакуируемые ленинградцы. Мама, которая опять впала в состояние мании преследования, так, весь наш долгий путь не покидала этого трюма. Ей всё казалось, что нас непременно обманут, обкрадут, и она накрепко приросла к нашим вещам. А взяли мы с собой не так уж много. Некоторые любимые книги, зимние и осенние вещи для себя и Мариаши, тёплые одеяла, бельё, что на продажу и, даже, швейную машинку Стефановских, наша то сгорела. В особой сумке, которую мама всё время держала при себе, находились серебряные ложки и другая ценная мелочь. Дамочки наши тоже в основном обретались в этом трюме, найдя себе подходящих собеседников. Они же приносили всем нам из камбуза еду. Я же почти не уходила с палубы, вдыхала, сколько могла вобрать в лёгкие, воздух, этот дивный, вольный воздух большой реки. И впитывала красоту широких вольных просторов её берегов. Волга! Стояло лето. Погода была прекрасная, но со свежим волжским ветерком. Пароход наш басовито гудел, приветствуя встречные суда и приближаясь к пристаням. Над всем этим раскинулся необъятный и такой спокойный, такой ясный купол летнего неба. Волга текла величаво, плавно, на ней было много мелей, песчаных кос, островков. И чем дальше мы плыли, тем шире становилась эта водная дорога, тем дальше отодвигались берега, с их плёсами, пляжами, зелёными откосами, дальними деревушками и полями, полями, полями... Р о с с и я! - Вот она - всё шире и шире разворачивалась передо мною. Незаметно исчезло, ранее как-то незамечаемое, ставшее уже привычным, чувство ограниченного пространства, сдавленности, блокады. Эта даль и простор широкой волной вливалось в моё сердце. И с каждым днём, чем ниже по течению мы плыли, тем упоительнее был для меня этот простор моей Родины. - "Большой Земли". Может быть, мне вспоминалось такое же чувство, когда я, двенадцатилетней девчонкой, не отрывала расширенных и удивлённых глаз от окон вагона санитарного поезда, когда, после 4-х летнего "беженства", мы вновь возвращались в Петроград с Северного Кавказа, и передо мной разворачивалась Моя страна. Вместе с чувством свободы во мне проснулась и предприимчивость. Скоро во время длительных остановок, когда часами происходили какие-то погрузки и перегрузки, я стала сбегать с парохода на берег. И, даже, подниматься по спускавшимся к пристани пыльным улочкам провинциальных городков, что бы посмотреть на эти городки, и сверху на Волгу... У меня- то на сердце было легко. Я знала: мы плывём всё ниже и ниже, к своим, где нас уже ждут. Но я не подозревала, просто не думала, что, ведь мы плывём вниз, в сторону Сталинграда, и что там назревают великие события, кровавая борьба, величайшая за всё войну битва. И бесконечные грузы, которые с неимоверными усилиями протаскивают с пристаней через дебаркадеры, даже через центральный проход нашего парохода, на другие, присаленные к нему суда и баржи, что всё эти грузы - это орудия, снаряды, это пища войны, предназначены для доставки в Сталинград... Меня скоро заинтересовали и хорошо мне запомнились, как жаль, что я их тогда не записала, удивительная ритмичность, трудовая слаженность в невероятно тяжёлой работе грузчиков. Каждый шаг их, подъём ли, спуск ли, сопровождался не то песней, не то своеобразным, очень чётким речитативом. Слова были бессмысленны, сами по себе, но как чётко они отвечали каждому движению и каждому усилию. Да, ведь эти ритмы, эти речитативы сохранились же, конечно, ещё от времён бурлаков!
Погрузки и ритмичные песни сопровождали нас весь путь. И чем ближе к Сталинграду, тем интенсивнее, напряжённее шла эта работа.
Телеграмма: Из Юрьева. 09. 07. 8ч. 14м.
Срочная. Базарный Карабулак, Разина один, Уствольской=
Благополучно едем Волгой пароходом Комсомолец, здоровы.
Рады скорой встречи пеките пироги, встречайте станции.
Наташа.
Получена: 14.07.42г.
А однажды я отстала от парохода. Это была последняя наша остановка перед Нижним Новгородом. Городок, кажется, назывался Висеносурск, но может быть, и по-другому. Здесь был очень высокий берег. И на верхние набережные вели крутые деревянные лесенки с хилыми перильцами. Я решила, что наш пароход задержится здесь надолго, и полезла наверх по деревянным ступенькам. Вид сверху был изумительный, но ещё мне вздумалось поискать здесь почту. Вдруг я услышала густой бас нашего парохода - первый гудок! Скорее вниз! Не тут то было. Я стремглав летела по лестнице. Раздался второй гудок, затем третий и я, ещё, откуда-то сверху с отчаянием увидела, что наш пароход, наш дом, наш приют, а на нём мама и все наши - убирает трап, медленно отчаливает, даёт задний ход, и вот он уже плывёт вниз, а я одна растерянная и испуганная - одна на опустевшей пристани. Я тут же побежала искать начальника этой пристани, задыхаясь, рассказывала ему о своей беде, показывая ему свои документы, которые каждый из нас, как некоторую сумму денег, носил всегда при себе в мешочке на груди. Спасибо славным волжанам. Все они были приветливы, готовы к сочувствию и помощи. Начальник этой пристани - тоже. Не долго думая он меня определил на небольшой катерок, который вскоре тоже направился к Нижнему. С палубы катерка, среди множества разнообразных судов и пароходов, мне показали и наш Комсомолец. Он ещё не причалил к берегу, стоял на открытой воде. Как же быть? Люди на катере тоже были ко мне внимательны. Они ссадили меня на берег, не на главной пристани, а на подступах к причалам, там, где были стоянки рыбачьих и частных лодок. Я стала искать перевозчика и вскоре договорилась, не помню уж за сколько, доставить меня к нашему Комсомольцу. Когда лодчонка приблизилась громадному корпусу парохода, и мы стали кричать и звать. Там, наверху, на палубе, сперва столпились любопытные, потом подошёл кто-то из команды. Люди, удивляясь, смотрели вниз. Создалась даже своего рода сенсация. Я, раскачиваясь в лодке, размахивала своими документами и кричала: "Я ваша пассажирка, отстала, возьмите меня обратно!" Наконец, к великой моей радости, по чёрной и грубой, маслянистой поверхности высоченного борта корабля. Пополз трап, вот он уже внизу, болтается в воде. И я крепко ухватываюсь за него обеими руками. Лодочник помогает мне советами. Приключение окончилось благополучно. Я, конечно, получила от своих спутниц головомойку. И, впоследствии, они зорко следили за каждым моим шагом. А мама? Мама, вероятно, ничего не знала и не заметила моего исчезновения.
Телеграмма: Из Казани. 12.07.42г. 11ч. 15м.
Срочная. Базарный Карабулак Разина один Уствольской=
Неизвестно докуда довезут срочно телеграфируйте
востребования речные вокзалы Сызрань Вольск
возможность проезда или куда направляться.
Получена: 13.07.42г.
Возник слух, что путь по Волге пассажирским судам будет закрыт.
Мы плыли долго, возможно недели три. Миновали Казань, Самару, Жигули, которые показались мне совсем не высокими и не величественными, Симбирск. Всё ниже и ниже. Берега становились какими-то пыльными, пустынными - начинались степные края. И, наконец, нам объявляют - Вольск! Место нашего назначения. Жадно всматриваемся на правый берег Волги. Сперва меня разочаровывает тусклая пыль цементных заводов, но потом берег становится зелёным, приветливым, поросший лесами. И вот мы на твёрдой земле, теперь уже окончательно. Вольск. Жаль, что мама была такая усталая, такая апатичная, что название Вольск её нисколько не оживило. А ведь, между тем, в молодости, будучи курсисткой, она с сестрой и братом в веселой студенческой компании совершила путешествие по Волге. И было у них немало приключений, в том числе и в Вольске.
Теперь нам оставался ещё коротенький отрезок ж.д. пути, потом семь километров от станции до Базарного Карабулака.
Только тогда, когда я сдала свою бедную маму в заботливые руки, встретивших нас охами, ахами, слезами сестёр, потом они говорили, что страшнее нас они никого не видели, я, наконец, поняла, какая свалилась с меня тяжесть постоянной ответственности за маму. Только теперь, я смогла ни о чём, совершенно ни о чём не думать. Что я и делала. Целыми днями валялась в садике, в густой душистой траве, слушала жужжание пчёл, упивалась тишиной и ширью полей, любовалась на лёгкие облачка на небе.
Действительно, я не хотела ни о чём думать, а между тем, совсем недалеко, километров за 200-ти, ниже по Волге, назревали события, название которым - Сталинград! И я не подозревала, что скоро я буду работать в госпитале, обслуживая, как "культурник" раненых, поступавших из-под Сталинграда. Но об этом, во второй части записок о Войне, которые я собираюсь написать.
Н. Уствольская.
*** Наталья Михайловна не успела написать эту вторую часть.
Приложение №1
Выступление Галины Андреевны Оль на посмертной выставке рисунков и акварелей Натальи Михайловны Уствольской в Доме Архитекторов.
В основе моих воспоминаний лежит личное знакомство и дружба, начиная со студенческих лет, с 1929 года, а также оставленные Натальей Михайловной воспоминания.
Я не буду останавливаться на деятельности Натальи Михайловны как архитектора-реставратора, об этом расскажет Е. В. Казанская, мне хочется восстановить в нашей памяти человеческий образ Наташи Уствольской и осветить основные этапы её биографии.
Наталья Михайловна была человеком исключительной доброты и открытости. Она притягивала к себе людей, особенно молодёжь, богатством духовного мира, стремлением приобщить каждого к познанию открывшихся ей ценностей. Она была интеллигентом в самом высоком значении этого слова.
Следует сказать о тех истоках, которые формировали её личность. Во-первых - это семья; во-вторых - родной город; в-третьих - это природа, которую она страстно любила.
Несколько слов о семье. Мать, Вера Константиновна Дылёва, окончила Бестужевские курсы, преподавала, до революции, в школах для детей рабочих и в воскресных школах для взрослых математику. Её предки - крепостные крестьяне из Ярославской губернии, работали на оброке в качестве лепщиков в Петербургских дворцах. Среди архивных документов мне не раз встречались имена братьев Дылёвых - Ивана, Тимофея и Фёдора, работавших на восстановлении Зимнего дворца после грандиозного пожара 1837 года.
Вера Константиновна была высоко образованным человеком, владела французским, немецким языками, а так же латынью. Уже в преклонные годах вновь занялась математикой, пыталась доказать "теорему Ферма", писала стихи. Всегда бодро переносила разные тяготы жизни, вплоть до блокады.
Сестра Веры Константиновны - Надя, была членом РСДРП, и Вера Константиновна была знакома со многими её друзьями. В 1909 году у неё в квартире, при обыске, была обнаружена нелегальная литература, и она вместе с 3-х недельной Наташей была арестована и посажена в тюрьму (Литовский замок), а затем находилась под домашним арестом. Очень интересной личностью был брат Веры Константиновны - Пётр Константинович Дылёв. Он был врачом, работал Бельгийском Конго. Между сестрой и братом шла переписка. И на её основании Наталья Михайловна написала статью "Работа русского врача П.К. Дылёва в тропической Африке 1925 - 1961 годы".* До этого ей был сделан доклад на эту тему в Географическом обществе.
Отец - Михаил Михайлович Уствольский, юрист по образованию, любил искусство, был активным членом общества "Старый Петербург - новый Ленинград". Десять лет был начальником юридического отдела Смольного, а потом возглавил Ленинградскую адвокатуру. Одновременно являясь консультантом ГИОП, дружил с Н.Н. Белеховым, пытался помочь ему в спасении многих историко-архитектурных памятников от сноса. В числе его друзей была семья Неслуховских - Тихоновых. Был Михаил Михайлович человеком общительным, с большим чувством юмора, блестящий рассказчик. Он начал рано водить детей в музеи, Филармонию. Прекрасно знал родной город, он открывал детям его красоту. Михаил Михайлович умер в страшную зиму 42-го года.
В душе Наташи Уствольской с ранних лет запечатлелась красота Ленинграда и не только классического "стройного, строгого" - Пушкинского Петербурга, но и города Достоевского, города Блока. "О город мой неуловимый" писал Блок. А.В. Брюсов увидел красоту города "стального, кирпичного, стеклянного", обращаясь к нему: "Ты - чарователь неустанный, Ты - неслабеющий магнит". И современник наш, поэт Вадим Шефнер зорко увидел "уютную асимметричность, тревожную незавершённость" зданий модерна, не просто как внешние формы нового стиля, а как отражение тревожного времени: "что снилось тебе, архитектор, пред первой войной мировой?".
Наиболее яркие первые впечатления от природы Наташа получила, когда весной 1917 года, её мать с четырьмя малолетними дочками, старшей Наташе было 8 лет, выехала из измученного голодом Петрограда в Кисловодск к деду Дылёву. Задержались они там, на четыре года. Впоследствии Наталья Михайловна в своей "Семейной хронике"* назовёт эти годы "Хождением по мукам". И там семья бедствовала и недоедала, старшие Дылёвы и младшая дочь погибли от голода, но для остальных детей эта вольная жизнь на природе, в окружении живописного пейзажа воспринималась, как один из самых светлых периодов жизни. По словам Наташи, жизнь на Кавказе наложила отпечаток, какой-то праздничный отсвет на всю жизнь. "Горы Кавказа - моя любовь!" Там она начала посещать гимназию, но в памяти почему-то остались только уроки "Закона Божьего".
1921 - 1927 годы. Первые впечатления от Ленинграда, после жизни на Кавказе были отрицательными. Город показался скучным, серым, скованным. Но, вскоре, это настроение рассеялось, т.к. она очень быстро сошлась со школьными подругами и полюбила свою школу №34 на Литовском переулке. Школа меня пленила, скажет она позднее. Однако сами занятия ей не запомнились. Первоначально она стеснялась, и даже, когда хорошо знала урок, при вызове к доске - терялась. В школе начались её увлечения "литературной" самодеятельностью. Активно участвовала в школьном журнале "Проба пера", являясь фактически его главным автором и художником - оформителем. В эти же годы Наташа заинтересовалась историей религии. После чтения Евангелия поставила перед собой вопрос: "верую ли я или нет?". Ответила отрицательно, но от чтения в душе осталось что-то чистое и светлое.
!928 -1934 годы. Сперва, Академия Художеств, затем, после слияния её с ЛИКС-ом - там. С благодарностью вспоминает в своей "Хронике"* об учителях С.С. Серафимове, Н.А. Троцком, А.А. Оле, А.С. Никольском и других. Это был трудный период для всей советской архитектуры, особенно для студентов, воспитанных на примерах "функциональной архитектуры". С первых лет обучения усвоивших основные принципы конструктивизма, но "отлучённых" от истории архитектуры, посещавших занятия по рисунку и истории искусства, только факультативно. И, вдруг, на 4-ом курсе решительная ломка творческой направленности архитектуры. Каждый из студентов решал эту задачу по-своему. Я помню бедного Серёжу Евдокимова упорно и безуспешно пытавшегося "втиснуть" в задание здание архитектурного института в классические формы Парфенона. Мы с Наташей решили эту задачу очень просто: на чёткие, лаконичные "конструктивистские" объёмы "налепили" декор. Нашей дипломной темой было здание театра. Главной идеей Наташиного театра было, не без влияния шведов, - "экстерьерность интерьера и интерьерность экстерьера". Попросту говоря, благодаря сочетанию "выпуклых" и "вогнутых" объёмов, достигалось включение пейзажа, природы во внутреннее пространство таких помещений, как фойе, рестораны и т.п. Как бывало и у школьной доски, на защите диплома, Наташу сковала, совершенно ей не присущая ей нерешительность, и объясняла она свой замысел не очень вразумительно. Тогда, её руководитель А.А. Оль появился на эстраде, отодвинул в сторону дипломанта и объяснил, какой интересный замысел положен в основу проекта. Всё же комиссия присудила проекту Уствольской только 4-ку, что её очень огорчило: "Я любила свой театр" - записала она в "Воспоминаниях"*.
1934 -1941 годы. После окончания Института, Наталья Михайловна поступила на работу в мастерскую А.П. Вайтенса, в тресте "Ленпроект". Первая работа - рабочий чертёж лестницы для строящегося здания школы на Бородинской улице, привела её в ужас "душа ушла в пятки" - написано в "Хронике"*. После ликвидации этой мастерской, работала в мастерской №2под руководством А.И. Гегелло и Д.Л. Кричевской. Участвовала в проектировании ряда корпусов больницы им. Боткина. Первая самостоятельная работа - проектирование и строительство здания школы на Захарьевской улице, ныне улица Каляева. Задания на эти школы были настолько обеднены, что совестно было такое проектировать - написано в "Хронике"*. Одновременно участвовала в проектировании бани на улице Чайковского, и в работах по реконструкции Аничкова дворца во дворец Пионеров (выполнила проект зала для танцев и игр). После сокращения штатов Ленпроекте в 1936 году, работала в небольшой проектной организации при Горторготделе - занималась оформлением интерьеров магазинов, кафе и т. д.
В эти же годы Наталья Михайловна приняла активное участие в работе народного творчества - ЛОССА. С группой молодых архитекторов (семья Фусек), она отправилась в экспедицию в 1938 году по высокогорным районам Кавказа - в Ингушетию и Хевсуретию. Летом 1939 года, в составе несколько расширенной группы она прошла по горам Чечни и Тушетии. Кроме того, что это были удивительные по силе впечатления путешествия, они дали ощутимый результат - интереснейшие альбомы, дневники с описанием маршрута, записи легенд, бесед с местными жителями, обмерами и зарисовками исторических памятников, средневековых развалин, святилищ. По договорённости с Академией Архитектуры был подготовлен "Путеводитель по высокогорным районам Кавказа", изданию которого помешала война. Уже в 1970-м году Натальей Михайловной была написана статья: "Народное творчество и характеристика расселения в высокогорье Кавказа", которая должна быть опубликована в Альманахе "Страны и народы Востока".* До этого ей был сделан доклад на эту тему в Географическом обществе.
Сохранившиеся в семье Уствольских материалы двух экспедиций, настолько интересны и важны, особенно по тому, что в натуре почти всё изменилось, что следовало бы подумать об их рациональном использовании.
Война. 1941 - 1945 годы. Семья "Фусек" узнала о войне, когда после весёлого похода по северным пригородным местам, ничего не подозревая, вернулась в город.
Первые месяцы войны Наталья Михайловна провела на окопных работах. Затем - в ГИОП-е на должности районного архитектора Василеостровского района и Александро-Невской лавры. Наряду с другими с другими районными архитекторами О.Н. Шилиной, М.М. Налимовой, А.А. Варданян - Наталья Михайловна проверяла готовность историко-архитектурных памятников к защите от возможных пожаров, от бомбёжек и артобстрелов. Особенно запомнились ей два мероприятия: защита от повреждений Ломоносовской мозаики "Полтавская баталия" и маскировка сверкающих шпилей и куполов Ленинграда. В ГИОП-е долго не находили способа укрытия этих архитектурных доминант, служащих опасными ориентирами для врага. Наташе Уствольской пришла в голову блестящая идея привлечь к этой опасной работе альпинистов. Она сама, перед самой войной начала заниматься в альпинисткой секции спортивного общества "Искусство", с практическими упражнениями в скалолазании в Тосно и Саблино. Её предложение было принято, и ей поручили разыскать знакомых альпинистов. Так она стала инициатором этой замечательной и героической эпопеи, неоднократно описанной в различных изданиях. Этими альпинистами стали: Фирсова, Пригожева, Земба, Бобров и Шестаков. Пригожева и Земба погибли в блокаду. Всю первую страшную зиму и лето 1942 года Наталья Михайловна работала в ГИОП-е. Тяжёлые события - повреждение квартиры, где она жила с родителями, младшие сестры и её двухгодовалый племянник были эвакуированы в посёлок Базарный Карабулак Саратовской области; пожар на другой квартире, куда они, было, перебрались; переходы с одной квартиры на другую; голод и холод, совершенно подорвали силы Михаила Михайловича, он скончался. Это было очень тяжело для Наташи и Веры Константиновны. Тем не менее, они мужественно переносили всё то, что на их долю выпало. Когда читаешь их письма, то, кажется, что они пишут в блокадный город, а не из блокадного города. Они успокаивают своих близких и всячески их подбадривают. И такая стойкость просто поражает. Вера Константиновна долго держалась бодро, но смерть мужа подкосила и её силы. Встала необходимость её эвакуации из блокадного Ленинграда. Наташа с матерью выехали из города в начале июля 1942-го года и через месяц прибыли к родным в Карабулак. Немного придя в себя, Наталья Михайловна стала работать в госпитале, затем в отделе "Наглядной политической пропаганды" при Райкоме партии. Писала плакаты, рисовала на фанерных листах, при помощи имеющихся под рукой средств, таких, как дёготь и вакса, портреты передовиков производства, карикатуры на Гитлера и пр. Одновременно преподавала черчение в школе "Механизации сельского хозяйства.
В 1945-м году получила вызов из ГИОП. Вид разрушенных пригородов - написала в "Хронике"* Наталья Михайловна, "гнев за эти страшные разрушения, горячее желание и вера, что эту красоту необходимо и можно восстановить - определили моё решение посвятить себя реставрации, хотя опыта в этой области у меня не было". Этим благородным делом, о котором расскажет Евгения Владимировна Казанская, Наталья Михайловна занималась до выхода на пенсию, а фактически до конца жизни.
В заключение мне ещё раз хочется сказать о замечательном таланте Наташи Уствольской - таланте общения, которое обогащало людей и привлекало их к ней. Даже в блокадном Ленинграде, попав в для подкрепления сил в лечебный стационар, она познакомилась и подружилась с профессором Л.М. Тверским и его женой, с архитектором К.М. Дмитриевым. Выйдя из стационара, они встречались друг с другом, рассматривали гравюры, эстампы, читали стихи Блока, Ахматовой, Пастернака. Высокий интеллект, жизнестойкость характера помогли Натальи Михайловне перенести тяготы блокадного Ленинграда.
Рисунки, акварели, обмеры Натальи Михайловны характеризуют её, как талантливого художника-архитектора, а её душевные качества свидетельствуют о многогранности её натуры. Одного таланта не было у Натальи Михайловны - таланта отстаивать свои личные интересы, "устраивать свои дела". Её плодотворная творческая и общественная работа, она дважды избиралась в депутаты Райсовета, не отмечена никакими регалиями. Она не обладала медалью "За доблестный труд", хотя работала все военные годы, нет у неё и заслуженной ей медали "За оборону Ленинграда", хотя она активно работала в блокадном городе в самую тяжёлую зиму и многое сделала для сохранения его архитектурных памятников. (В медали "За оборону Ленинграда", ей было отказано властями).
Мы, члены Союза Архитекторов СССР, во многом виноваты перед памятью наших товарищей. Редко говорим им тёплые слова. Стесняемся что-ли? А помните слова Ленинградского поэта Елены Рывиной?
"И все слова, что с другом расставаясь,
Вы мертвым скажите в тот невесёлый час
В которых я, живая, так нуждаюсь
Пожалуйста, скажите мне сейчас...
И все цветы, живые, не из жести,
Что бросите вы, в гробовую дверь,
Сейчас, сейчас, пока ещё мы вместе,
Пожалуйста, отдайте мне теперь".
Сегодняшняя наша встреча, это венок памяти о нашем друге - добром, талантливом и скромном человеке - Натальи Михайловне Уствольской.
Г.А. Оль. 25.05.87г.
* Ни одна из работ Натальи Михайловны, кроме нескольких статей, посвящённых архитектуре, опубликованы не были.
Приложение №2
Алфавитный указатель названий и фамилий людей, упомянутых в тексте.
Акимов Николай Павлович - театральный деятель и главный режиссер Ленинградского театра Комедии.
Баранов Николай Варфоломеевич 1909 - 1989г. - главный архитектор Ленинграда.
Белехов Николай Николаевич 1904 - 1956г. - осенью 1941 года - заместитель, а с декабря - начальник ГИОП.
Босняцкая Марина
Бобров Михаил Михайлович 1924г. - альпинист, автор книги "Хранители ангела".
Гамбургер - адвокат, заместитель М.М. Уствольского по Коллегии Адвокатов.
Гинзбург Александр Соломонович - архитектор.
ГИОП - государственная инспекция охраны памятников.
Гроздовы - сестры Ляля и Таня - соседи по квартире, Ляля приятельница М.М. Уствольской.
Детское село - до революции называлось: "Царское село", в настоящее время - город Пушкин.
Дылёва Вера Константиновна 1885 - 1977г. - жена М.М. Уствольского, мать Н.М. Уствольской И.М. Уствольской и М.М. Уствольской.
Дылёв Пётр Константинович 1889 - 1983г. - брат В.К. Уствольской, врач, проработавший большую часть жизни в Бельгийском Конго.
Ефимович Надежда - архитектор, член семьи "Фусек".
Елизаров Борис и его жена Женя - сослуживцы Марьяны Михайловны.
Жданов Андрей Александрович (1896 1948) - секретарь ЦК ВКП(б), возглавлял Ленинградскую партийную организацию в годы блокады.
Жуковский Павел Николаевич (умер в 1942-м году) - муж Галины Андреевны Оль.
Катонин Сергей Евгеньевич (архитектор) - умер в 1942-м году.
Катонин Евгений Иванович (профессор архитектуры), отец Сергея Катонина - после войны жил в Киеве, умер в 1984 году.
Краснояров - журналист, много писал о блокаде, автор статьи "Покорители золотых вершин".
Крамарева Александра Васильевна (преподаватель) - соученица Натальи Михайловны.
Комиссаров Иван Николаевич - парторг на заводе №618 во время эвакуации.
Колесникова Полина Петровна - соседка по квартире на ул. Рылеева.
Левинсон Наум Маркович - главный инженер, а потом и директор завода №618 в Карабулаке.
Ляпина Марта Ивановна - друг семьи Уствольских.
Лебедев Николай Николаевич (архитектор) - умер в 1942-м году.
Левина Есфирь Густавовна - архитектор.
Малишевская Виктория - подруга Натальи Михайловны.
Магид Наум Иосифович - юрист, друг Михаила Михайловича.
Модзалевский Андрей - архитектор.
Рахматуллин Касим Загерзянович - инженер, во время эвакуации завода руководил восстановлением, а потом работой электростанцией в Карабулаке. После войны работал в Москве.
Сабуров Николай Дмитриевич - художник, архитектор (1908-1968). Был ранен, попал в плен, потом ГУЛАГ, превративший его в инвалида.
Стефановский Андрей Иванович (1904-1958) - инженер, муж сестры Натальи Михайловны, отец маленького Андрюши (1939г.).
Стефановская Екатерина Митрофановна (умерла в 1942-м году) - мать Андрея Ивановича, Александры Ивановны и Елены Ивановны Стефановских.
Спегальский (1909 1969) - архитектор, учёный, зодчий, каменщик.
Синявер Альберт - архитектор.
Судаков Владимир Георгиевич - архитектор, участник работ по маскировке золотых шпилей и куполов.
Териоки (Финляндия) - в настоящее время Зеленогорск.
Шульгина Ирина Николаевна - соседка по квартире на ул. Рылеева.
Шуляк Борис Митрофанович - врач, в блокаду работал на скорой помощи, муж Марты Конрадовны - друга семьи Уствольских.
Шилина Ольга Николаевна (1903-1982) - архитектор ГИОП.
Шестаков М.И. - служил в армии, позже присоединился к группе альпинистов занимавшихся маскировкой шпилей.
Эристов Игорь Леонидович (1912-1996) - директор эвакуированного из Ленинграда завода№618.
Эристова Валерия Николаевна (1912-1996) - жена Игоря Леонидовича.






