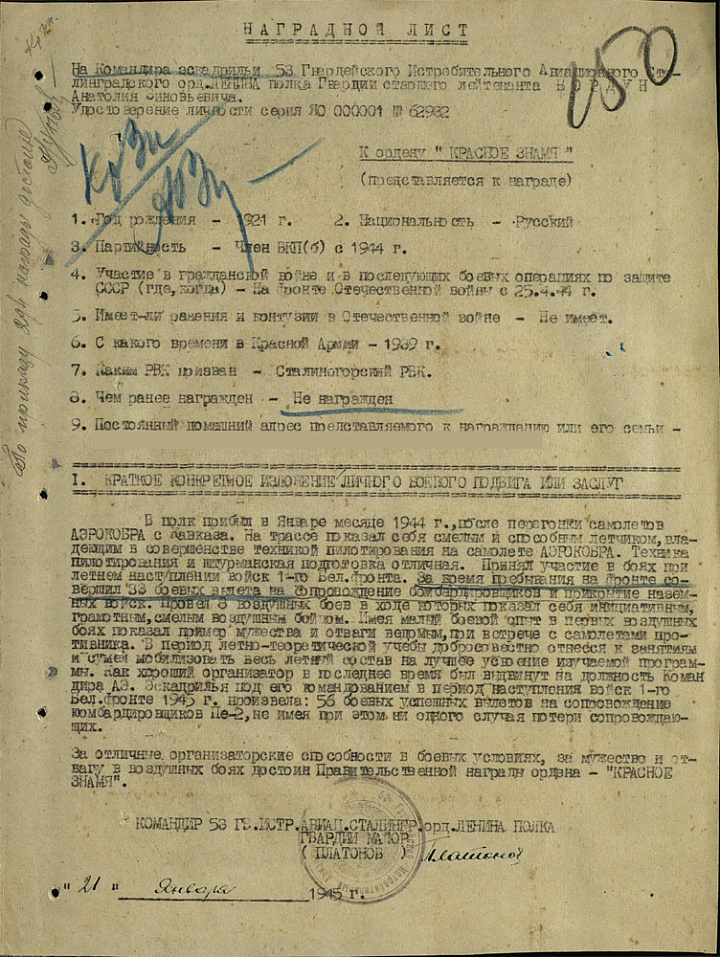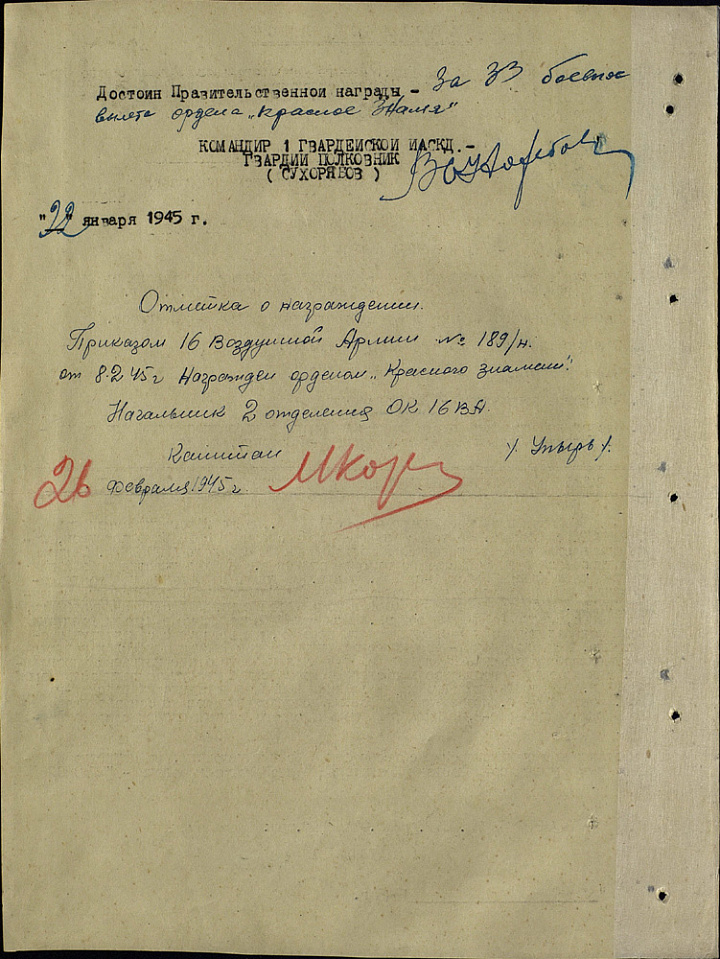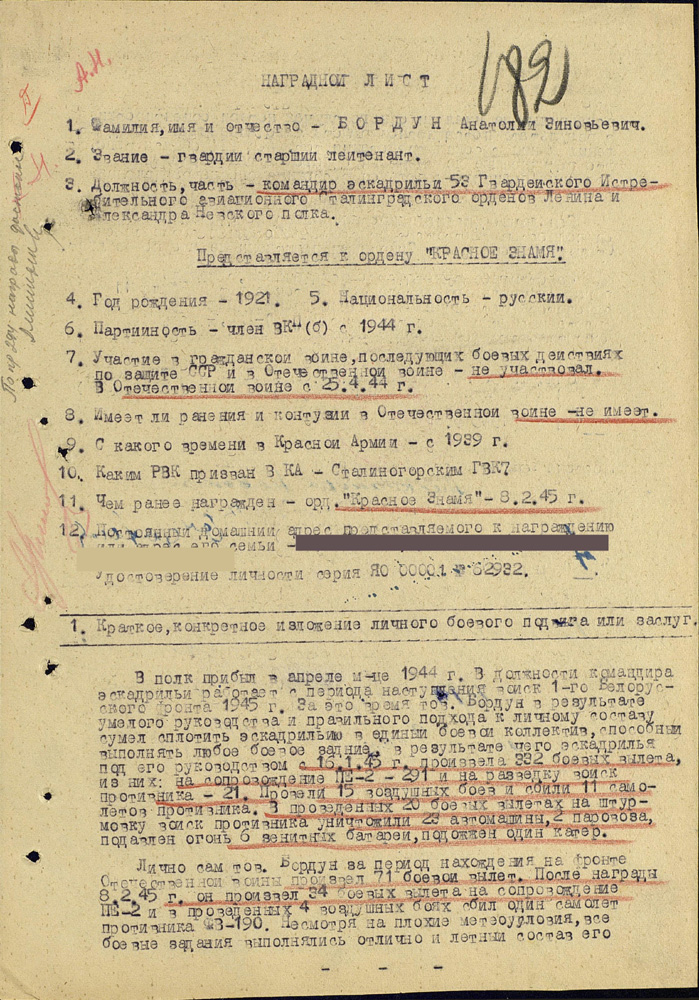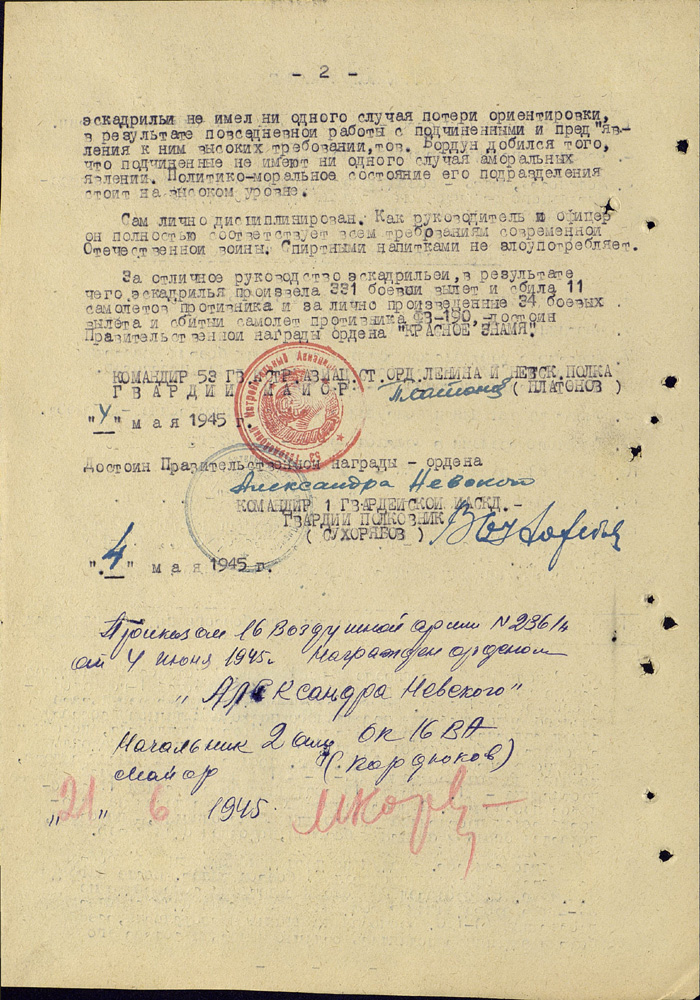Краткая биографическая справка: Родился 3 марта 1921 года в г. Узловая Тульской области. Закончил Качинскую авиашколу пилотов, где был однокурсником Василия Сталина. После этого был лётчиком-инструктором в Руставской авиашколе.
На фронте - заместитель командира и командир эскадрильи 53-го ордена Ленина и Александра Невского Краснознамённого истребительного полка 1-й гвардейской Сталинградской Краснознаменной истребительной авиационной дивизии. За время Великой Отечественной совершил 125 боевых вылетов, сбил 6 немецких самолётов, последний из них - в небе над Берлином 28 апреля 1945 года.
После войны осваивал самолеты Як-15, МиГ-9. В 1947 году принимал участие в первом авиационном параде реактивных самолетов над Москвой. В годы холодной войны воевал в Китае и Корее в составе 72-го гвардейского полка 151-й истребительной авиадивизии ПВО. Возглавлял группу советских истребителей во время первого в истории реактивного боя, состоявшегося 1 ноября 1950 года в небе Кореи, а 9 ноября одновременно с лётчиком Н.И.Подгорным (67-й ИАП) открыл счёт уничтоженных американских самолётов-крепостей B-29. За период холодной войны совершил 150 боевых вылетов, сбил 7 самолетов противника: один B-29, четыре F-80, два F-86.
Окончил службу на должности командира 297-й истребительной авиадивизии ПВО СССР в звании полковника. За службу Родине получил следующие награды: орден Ленина, два ордена Боевого Красного Знамени, орден Александра Невского, три ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны и более двадцати медалей.
Сегодня живёт в Смоленске.
Эти военно-биографические воспоминания, изложенные от первого лица, представляют собой результат обработки ряда интервью М.Свириденкова с А.З.Бордуном. Дневники и какие-либо другие личные записи ветерана при подготовке данного текста не использовались.
Часть первая. В боях с Люфтваффе
1. Человек своего поколения
Вряд ли ошибусь, сказав, что я был самым обычным человеком своего поколения. И если мне довелось пережить чуть-чуть больше, чем многим сверстникам, в этом нет моей заслуги. Так складывались обстоятельства, так сложилась судьба.
Моё детство до определённого момента было таким же, как в тысячах подобных биографий. Родился я 3 марта 1921-го года в городе Узловая Тульской области. Наш город был так назван, потому что через него проходил узел железных дорог. В раннем детстве я любил смотреть на пути и видел, как длинные составы с углём шли из Донбасса в Москву. Мне самому очень хотелось, когда вырасту, стать машинистом, как мой отец Зиновий Павлович. Машинистами в ту пору у нас во дворе многие мальчишки хотели стать. Как-никак, поблизости располагалось большое паровозное депо, ремонтные мастерские. Мы с завистью смотрели на взрослых, которые там работают.
Мою мать звали Лидией Ивановной (в девичестве её фамилия была Оборкина). Я родился вторым ребёнком в семье, брат Виталий был старше меня на два года, а вслед за мной на свет появились Мила, Виктор и Руфа. Руфу, как самую младшую сестрёнку, мы все очень любили.
Самое яркое из переживаний раннего детства - смерть Ленина. В январе 1924-го мне было всего три года, но этот день я запомнил отчётливо. Был очень сильный мороз, шёл снег. Я гулял около дома. Мимо меня проходили сосредоточенные, заплаканные люди. Гудели паровозы.
Дома родители объяснили мне, что произошло большое горе. Отец, бабушка, все старшие очень хорошо отзывались о Ленине, переживали, что его не стало. То, что на смену Ленину пришёл Сталин, обрадовало моих родителей. И все последующие годы отец и мать очень уважали Сталина за порядок, за понимание нужд рабочих, считали, что он в полной мере продолжил дело Ленина.
Я помню ещё НЭП. Мы с родителями жили на центральной улице, она называлась 1-й Садовой. Неподалёку от нашего дома находились два магазина, пивная на площади, две парикмахерских, другие торговые точки, райком комсомола, горком. Тут же были и советские учреждения. Как-никак наш городок в те годы был очень небольшим. В нём жило тогда всего около 30 тысяч человек.
На Первое Мая или во время ярмарок народ собирался на центральной площади. Помню, на масленицу или в медовый спас мимо наших окон постоянно проезжали крестьянские подводы. Крестьяне из окрестных деревень везли на ярмарку мёд, яблоки, ягоды, продукты. Конечно, и блины продавались. Мы ходили посмотреть на ярмарку вместе с родителями, а когда подросли, то уже и сами стали бегать туда.
Что ещё интересно, в период НЭПа мать отправляла меня в парикмахерскую и давала с собой пять копеек. Столько тогда стоила детская стрижка. И вот, когда я первый раз пришёл, парикмахер денег с меня не взял и, мало того, дал мне с собой пять больших сахарных конфет, обёрнутых в разноцветную ленту. Он как раз знал, что у нас в семье было пять детей. Сказал:
- Только обязательно поделись с сестрёнками и братьями!
По пути меня знакомые ребята спрашивали:
- Откуда конфеты?
Я отвечал, что из парикмахерской. Таким образом, вскоре вся наша детвора именно в эту парикмахерскую стала ходить, а за ними и взрослые. Не знаю, возможно, парикмахер меня и бескорыстно конфетами угостил, но на пользу его делу это явно пошло. А мать тогда, шутя, сказала, что от конфет у нас волосы на голове слипнутся.
Ещё в НЭП была у нас частная булочная Громыхалина, и почти все в городе покупали хлеб именно там. Была и кооперативная торговля. Там цены, конечно, повыше оказывались, зато товаров больше.
А вот разгула преступности, который якобы творился в НЭП, в нашем городе совершенно не было. У нас квартиры и дома не закрывались, замков не было. Ворота и калитки если и закрывали, то вместо замков всовывали деревянные палочки, чтобы скот не зашёл.
В ту пору даже драк, таких, как сегодня, не было. У нас были кулачные бои. На новогодние празднества мы лепили крепость из снега, а потом шли стенка на стенку, пытались взять эту крепость. И такой закон был: если ты поскользнулся или тебя толкнули и ты упал, тебя уже не то, что ногами лежачего бить, а вообще никто не трогает. Встанешь, только тогда опять с тобой начнут бороться. А уж чтобы кто-то взял в руки палку, камень или нож... Если такое вдруг случалось, то на нарушителя этого закона тут же набрасывались и противники, и свои. Я не помню ни одного случая, чтобы у нас кого-то убили во время кулачных боёв. А если где-то случалось убийство, так это вообще ЧП на всю область было.
 |
А.З.Бордун г. Узловая, 1937 г. |
Что ещё характерно. Мы пацанами играли на улице, а если мимо проходил кто-то из взрослых, мы должны были здороваться с ним, вне зависимости от того, знаем мы этого человека или нет. А если взрослый спрашивал какой-то дом поблизости, мы обязаны были проводить его до этого дома.
Помню, я один раз заигрался в "чижика" и не заметил проходившую мимо соседку тётю Валю. Она пожаловалась моей матери, что я не поздоровался с ней. Так мать, когда я пришёл домой, меня по мягкому месту тряпкой огрела. Я объяснил ей, что не видел, заигрался. А мать мне сказала:
- У тебя глаза молодые, ты должен всё видеть!
У неё не было привычки наказывать нас, но в этом случае она сочла необходимым ударить меня тряпкой для острастки.
Когда НЭП стали сворачивать, большинство продуктов остались в магазинах, но, конечно, уже не в таком ассортименте. Зато после НЭПа появились торгсины. Это были государственные организации, которые скупали у населения золотые кольца, портсигары и другие подобные изделия. На деньги, полученные в торгсине, там же можно было купить продукты в два раза дешевле, чем в магазинах. Но, главным образом, в торгсины шли, естественно, не за продуктами, а за хорошей модной одеждой и другими подобными вещами, которых, кроме как там, было нигде не купить.
Детство моё проходило на улице. У нас, мальчишек, была своя футбольная команда. А ещё мы играли в "чижика", в догонялки. По вечерам с работы приходили парни 18-20 лет и тоже шли на улицу. Они играли в лапту. Это было нечто подобное американскому бейсболу.
Почти на каждой улице у нас стояли качели. А в Железнодорожном парке стояла даже карусель, но не такая, как современные. К пятиметровому столбу был под углом прикреплён металлический круг, на котором висели лямки из прочной верёвки. Мы держались за них и бежали по кругу, то поднимаясь вверх, а то вынужденные снова бежать, чтобы карусель продолжала вертеться.
Эта карусель не раз вспоминалась мне во время войны. Было в этом что-то такое. Ведь нам, лётчикам, тоже пришлось многому научиться, многое пережить на земле, чтобы заслужить право подниматься в небо и гнать врага прочь из нашей родной страны.
Впрочем, нас с детства учили преодолевать трудности. Так, ещё в школе у нас были нормы БГТО (будь готов к труду и обороне). Чтобы сдать эти нормы, нужно было быстро бегать, хорошо прыгать, одним словом, серьёзно заниматься физкультурой. Я физкультурой занимался, и поэтому БГТО освоил. А когда стал комсомольцем, сдал уже и нормы первой ступени ГТО (готов к труду и обороне). Мог бы освоить и вторую ступень, если бы больше тренировался. Там я только по прыжкам в высоту немного не дотягивал, нужно было на метр сорок прыгнуть.
По сути, мы были первым поколением, выросшим в советской стране. Для нас было предметом гордости, если тебя приняли в октябрята. Принимали туда только дисциплинированных ребят, которые хорошо учились. Естественно, и остальные старались соответствовать. Каждому хотелось стать октябрёнком.
К пионерам, а уж тем более к комсомольцам, требования были ещё жёстче. В ту пору туда действительно принимали только самых достойных, а не всех подряд.
Я сам стал пионером уже в пятом классе. Для меня это был особенный день. Меня все поздравляли и во дворе, и дома. Отец был рад за меня больше всех.
Спрашиваете, что означала авиация для моего поколения? Началось, конечно, не с моды на авиацию, а вообще на технику. У нас тогда только начали появляться первые тракторы и автомобили. Если на улице появлялась машина, мы, мальчишки, бежали за ней сломя голову. Когда появились мотоциклы, они вообще казались нам чем-то невиданным! В ту пору ведь и велосипед был далеко не у каждого. Всегда спрашивали: "Дай покататься". Ну, кто давал, а кто нет, тут уж такое дело.
А через некоторое время и в газетах, и по радио, везде заговорили о спасении челюскинцев. Я учился тогда в шестом или седьмом классе. И после этого всё наше поколение "заболело" авиацией. Лётчики казались нам недосягаемыми, теперь даже к космонавтам так не относятся.
Помню, как однажды летом мы впервые увидели самолёт. Это был У-2, летевший на небольшой высоте. Он скрылся за полем, и мы побежали туда, надеясь, что он сел и мы сможем рассмотреть его, как следует. Но самолёт улетел куда-то дальше.
Потом в нашем городе наконец появился ОСАВИАХИМ. Там поначалу ещё не было авиационных кружков, но многие из нас всё равно записались туда. Я занимался в стрелковом кружке. Там мы изучали стрелковое оружие, вплоть до пулемёта Максим, и сами стреляли. Сначала из мелкокалиберной винтовки, а потом уже из настоящей боевой.
Затем появился и планерный кружок. Туда привезли учебный планер УС-4. Я сразу записался в этот кружок. Чтобы попасть туда, нужно было пройти медосмотр. Мало того, принимали только пионеров и комсомольцев.
В кружке мы подробно изучали теорию, материальную часть. Нашим инструктором был Юрий Петрович Юриков. Он был гражданский, до этого жил в Барнауле, прошёл там соответствующую подготовку и был направлен к нам.
 |
Будущая супруга А.З.Бордуна Мария Петровна Юрикова г. Узловая, 1937 г. |
Для того чтобы инструктор допустил тебя к практике, нужно было сдать экзамены по аэродинамике (там была ещё простая аэродинамика, не высшая) и по материальной части. Кроме того, была так называемая балансировка. То есть ставили планер против ветра и удерживали его за консоль. Держат планер за крыло, потом отпускают, воздух обтекает крыло (размах там был 6 метров), и за счёт этого планер накреняется. А ты сидишь в планере и обязан удержать его в горизонтальном положении. Сначала в течение десяти минут, потом двадцати, потом получаса. Освоишь это, тогда должен научиться делать спиной то же самое. То есть требовалось, не глядя, чувствовать спиной положение корпуса самолёта. Таким образом нас учили чувствовать самолёт, лётчику это крайне необходимо.
После таких упражнений мы учились делать "пробежку". Здесь надо подробнее сказать о том, что представлял из себя УС-4. Это был моноплан с двумя консолями. Он запускался амортизатором. То есть натягивалась такая огромная рогатка, на каждый её ус становилось по пять-десять человек. Инструктор отдавал команду, и ребята начинали натягивать её. Десять шагов пройдут, кричат "раз", двадцать шагов - "два", тридцать - "три". В зависимости от количества шагов зависело, насколько далеко полетит планер. Это определял инструктор.
Для отработки "пробежки" он отдавал команду на 10-20 шагов. При этом планер не отрывался, а скользил по земле. Ты, сидя в планере, должен был удерживать балансировку, чтобы он двигался по прямой. Потом, по мере усвоения этого навыка, давалась возможность взлететь сначала на метр, потом на два. А потом уже мы набирали и 30-40-метровую высоту. Пролетали мы определённое расстояние, совершали посадку, а потом все дружно толкали планер до места старта.
Нас в кружке было около двадцати человек. Летали мы по очереди. Мне нравилось заниматься. Теорию я легко освоил, а когда дошло до практики, то одним из первых научился отрываться от земли.
Через некоторое время в Сталиногорске (ныне Новомосковск), находившемся к северу от Узловой примерно в пятнадцати километрах от нас, открылся аэроклуб. И вот, как-то раз к нам приехали оттуда и зазвали к себе - сначала в парашютный кружок.
Я записался туда. Что интересно, к этому моменту я уже немного представлял себе, как прыгать с парашютом. В нашем городском парке стояла двадцатиметровая вышка. К ней был соответствующим образом прикреплён парашют с противовесом, который обеспечивал постепенное снижение для того, кто прыгнет. Школьники могли бесплатно прыгать с этой вышки, а взрослые покупали билеты за 10-15 копеек.
В парашютном кружке мы снова начали с теории. Потом на качелях занимались: учились делать соответствующие развороты, тренировались на подвесной системе. Выполняли укладку парашюта, прыгали с вышки, такой же, как стояла в парке.
Наконец, в одно прекрасное утро поехали на аэродром. Там сначала отрабатывали на земле выход из самолёта. Парашютист ведь должен был при этом определённые маневры делать. Когда всё это было освоено, состоялся и сам прыжок.
Прыгали мы рано утром. Примерно в 5-6 часов, когда тихая погода, почти безветренная. Двухместный самолёт поднялся в воздух. Набрали мы высоту восемьсот метров, самолёт вышел на прямую. Инструктор рассчитал ветер и говорит:
- Приготовиться!
Я на переднем сиденье был, на спине - парашют, на груди - запасной. После команды инструктора от меня требовалось встать, развернуться и выйти на трап самолёта, держась за борт. После этого продеваешь руку в резинку, прикреплённую к ручке открытия парашюта. Инструктор смотрит, помогает, чтобы ты хорошо резинку надел. И даёт команду:
- Пошёл!
Ты прыгаешь, отделяешься от самолёта. В первые секунды немного страшно, но успокаиваешь себя. Мол, парашют есть парашют, прыгал же с вышки. Правда, там метр-полтора пролетишь, и парашют сразу натягивается. А здесь дергаешь кольцо примерно через пару секунд после прыжка. Парашют постепенно выскакивает из ранца, а через секунды три-четыре - рывок, и ты начинаешь покачиваться в воздухе, как на качелях.
Ощущение необыкновенное. Самолёт метрах в пятидесяти над тобой. Всё тихо кругом, земля приближается. Инструктор видит, что у тебя всё нормально, идёт на посадку. А ты снижаешься со скоростью 5-6 метров в секунду. То есть парашют гасил половину скорости свободного падения. Такие же парашюты были у нас и в истребительной авиации.
Когда земля уже близко, готовишься к приземлению, устраиваешься на подвесной системе. Приземляешься в полусидячем положении. Едва коснувшись земли, желательно было сразу упасть на бок, чтобы удар пришёлся не на ноги, а на корпус. Парашют в это время ложится на землю, и ты, чтобы тебя не потащило, подтягиваешь нижние стропы, гасишь наполнение. Погасил - отцепляешь от себя парашют, собираешь его, укладываешь в ранец и ждёшь, когда за тобой придёт машина.
Приехав, докладываешь инструктору о выполненном прыжке. После первого же прыжка нам выдавали удостоверение, значок и пилотку. Синяя пилотка с авиационным кантом - шик! Кроме того, за первый прыжок ещё и деньги выдавались - пятнадцать рублей. Значительная сумма, если учесть, что в то время булка хлеба стоила восемь копеек.
После этого нам предложили заниматься в аэроклубе, учиться на лётчиков. Правда, для этого была нужна рекомендация комсомола. Ещё один момент состоял в том, что обучение в аэроклубе оплачивалось профсоюзом. А я же в девятом классе учился. И где мне денег взять, если отец простой машинист, в семье пять детей? Однако профсоюзная организация депо выделила деньги на занятия в аэроклубе для ребят, которые у них работали. Ну, и на меня заодно, поскольку моего отца на работе уважали, он хорошим машинистом был.
Таким образом, из нашей школы всего двое ребят смогли попасть в аэроклуб. Я и Лёшка Митусов. Впоследствии мы с ним оба до командиров авиационных дивизий дослужились. А остальные ребята, занимавшиеся в аэроклубе, были ремонтниками, токарями и т.п. Кроме них было ещё шесть неработающих Кобяков, Швецов, фамилии остальных не помню.
По утрам за нами приходила машина из аэроклуба. Мы занимались до 12 часов дня, потом нас привозили обратно. После этого ребята шли на работу, а мы с Митусовым в школу.
Сначала мы, естественно, изучали теорию. Потом начались вывозные полёты. Моим инструктором был Василий Иванович Мошнин. С ним я выполнял тренировочные полёты на самолёте У-2 по кругу, в зону и т.д. Вскоре он разрешил мне первому из нашей группы вылететь самостоятельно. В заднюю кабину на места инструктора для балансировки положили мешок примерно такого же веса, как человек, привязали его, чтобы не мотался по кабине. Я взлетел, выполнил все задания, сел. После этого начал летать самостоятельно - по кругу, в зону, на низкой высоте, по маршруту и т.д.
Что характерно, в школе меня уважали и одноклассники, и учителя за то, что я занимаюсь в аэроклубе. Для того, чтобы его посещать, вставать приходилось в три часа ночи, идти к остановке. В четыре за нами машина приезжала, везла на занятия. С восьми до двенадцати мы, как правило, летали. Занятия в школе начинались в два часа дня, и, конечно, на уроках мне нередко хотелось спать. И иногда случалось, что я задремлю, положив голову на парту. Но учителя не возмущались. Учился я нормально, а к тому, что в аэроклуб хожу, в ту пору было особое отношение.
 |
Заметка в газете "За образцовую магистраль" от 16 сентября 1938 г., сообщающая о занятиях комсомольцев города Узловая в аэроклубе. На снимке второй справа - А.З. Бордун |
В 1938-м году, когда я ещё учился в десятом классе, в аэроклубе начались экзамены. Приехала военная приёмка, так называемые инспекторы. Они проверили у нас технику пилотирования, после чего нам присвоили звания лётчиков-спортсменов и выдали удостоверения. Кроме того, лучшим из нас предложили поступать в Качинскую военно-авиационную школу. Я сразу написал заявление.
В начале февраля 1939-го пришла разнарядка, 15 человек из нашего аэроклуба были приняты, и я в том числе. Правда, я к этому времени ещё не сдал экзамены за десятый класс. Но я уже не представлял себя никем другим, кроме лётчика. Поэтому вместе с остальными поехал на поезде в Крым, в Качинскую авиационную школу.
Как оказалось, правильно поступил, потому что из Качи меня потом отпустили, чтобы я смог сдать школьные выпускные экзамены. Родители были довольны, что я связал свою судьбу с авиацией. Тем более что мой старший брат хотя и не занимался в аэроклубе, но тоже учился на лётчика в Энгельской бомбардировочной авиашколе, откуда выпустился на самолёте СБ. Вот так двое сыновей машиниста стали лётчиками.
2. Я учился с Василием Сталиным
Качинская военно-авиационная школа находилась в Крыму, на берегу Чёрного моря. Военный городок Кача располагался почти у самого устья одноимённой речушки. Мы выехали туда из Узловой 6 марта 1939-го года. Я точно запомнил дату, потому что это было ровно через три дня после моего восемнадцатилетия.
Мы ехали на поезде. Когда наш состав приближался к Севастополю, я впервые увидел море. Сначала мы смотрели на него из вагона. Потом во время остановки у нас было полчаса, чтобы спуститься к морю и пройтись вдоль берега. Берег там был крутой, обрывистый. А ещё море показалось мне чем-то похожим на небо.
Когда мы доехали до Севастополя, нас уже встречали на станции. Мы погрузились в кузова "ЗИСов", и нас повезли в Качинскую школу.
Мы прибыли на место, и нас сразу отвели в казарму. Но кровати там не успели ещё поставить. Не знали, сколько нас будет. Разместили всех на полу: прямо на него положили солому, а сверху постелили брезент. Мы переночевали, утром нас разбудили, отправили в баню. Там нас всех сразу постригли наголо. Причём в ту пору курсанты должны были ходить с такой причёской весь срок обучения, отращивать волосы даже на пару сантиметров не разрешалось.
В бане, постриженные наголо, в облаке пара мы даже с трудом узнавали друг друга. Помылись, выходим из бани весёлые, распаренные. Нас тут же направили на повторную медицинскую комиссию, уже более строгую, чем в военкомате. Одного из нас на ней даже забраковали, правда, уже не помню, кого.
После медкомиссии нам выдали обмундирование и отвели в казарму. Там уже койки стояли и тумбочки. Нам выдали матрасы, мы набили соломой тюфяки. Нам показали, как заправлять одеяла и подушки. Потом уже была подгонка обмундирования. И, наконец, нас разбили на группы и учебные взводы. Взвод состоял из трёх групп, в каждой по одиннадцать человек.
Тут же из курсантов были назначены командиры взводов и отделений. Командиром нашего отделения стал Свищенко, парень из Днепропетровска, а командиром моего взвода В.Нестеров. Трудно сказать, по какому принципу их отобрали. Мы все на первых порах были одинаковыми, мало кто выделялся в лучшую или в худшую сторону.
Дальше в течение месяца у нас был курс молодого бойца. Мы занимались строевой и физической подготовкой, изучением уставов, стрельбой из винтовки и тому подобным.
Наша военная школа охранялась, в ней было очень мало гражданских. Мы сами первое время совершенно не получали увольнений. В "самоволку" курсанты тогда не ходили, поэтому прошло ещё много времени, прежде чем мы смогли посмотреть город. Единственное, нам разрешалось выходить на берег моря. Но купальный сезон ещё не наступил, вода была холодной.
Окончив курс молодого бойца, в апреле 1939-го года мы приняли присягу. После этого началась наша лётная учёба. Я хорошо помню всех инструкторов нашей эскадрильи. Во второй группе, в которую я входил, инструктором был младший лейтенант Замеховский, а в первой и третьей - соответственно Черненко и Ильин. Три группы составляли звено. Командиром нашего звена был В.Дорогов. Вместе с ещё тремя звеньями наше звено входило в 1-й отряд, его командиром был капитан Петров. А командиром 2-го отряда был старший лейтенант Сараев. Командиром 3-й эскадрильи, в которую входили наши отряды, был майор Тарасенко. А всего в Каче было четыре эскадрильи, в каждой по 260 человек.
Наше обучение началось с полётов на уже знакомом мне самолёте У-2. Инструкторы только один раз слетали с нами, аэроклубовцами. Посмотрели, что мы всё умеем, и разрешили уже самостоятельно сделать по два-три вылета, в том числе и полёты с остановленным винтом. То есть в последнем случае от нас требовалось в воздухе выключить мотор и планировать, чтобы точно сесть туда, откуда ты взлетел. Конечно, сложно это, нужен хороший расчет, понимание высоты... Но, как говорится, не боги горшки обжигают, мы освоили и такое. После этого нам пришлось выполнить ещё по прыжку с парашютом. И, наконец, мы перешли к изучению материальной части И-16.
Надо сказать, изучением И-16 занимались в 3-й и 4-й эскадрильях. А курсанты 1-й и 2-й эскадрилий осваивали И-15. Последний представлял собой биплан и был более устойчивым и безопасным, чем И-16, но при этом обладал немного худшими лётными характеристиками. Многим из тех, кто выпустился на И-15, потом в строевых частях довелось летать уже на "чайках". "Чайка" - это модификация И-15. В отличие от изначальной модели, она представляла собой полутораплан с убирающимся шасси.
Параллельно с изучением матчасти мы начали вылетать с инструкторами на двухместном самолёте УТИ-4, по большому счёту он отличался от И-16 только наличием двух кабин.
Отлетав на УТИ-4, мы вскоре приступили к полётам на И-16. В управлении это была, как говорится, строгая машина, но мы уважительно относились к своим И-16, "ишаками" не называли, это уж в строевых частях их так окрестили.
Конечно, к началу Великой Отечественной И-16 уже несколько устарел. Но для своего времени это была замечательная машина. Более того, освоив И-16, я уже ни на каком другом самолёте не боялся летать.
Почти все недостатки И-16 были продолжением его достоинств. Это очень маневренная машина, очень управляемая. Но чуть "перетянешь" ручку управления, сразу срываешься в штопор. Однако И-16 и из штопора вывести легко, если не паниковать. Другое дело, что в начале войны многие лётчики ещё не успевали этот самолёт освоить, а их уже в бой отправляли. Но такая тогда была ситуация.
Зато, полетав на И-16, ты понимаешь, что такое по-настоящему чувствовать самолёт. Без этого им просто невозможно было управлять. Так что для учебных целей И-16, как мне кажется, очень хорошо подходил. Единственное, что помнится до сих пор, для того, чтобы убрать или выпустить шасси, там приходилось крутить специальную рукоятку лебёдки - ровно 43 оборота! Но, с другой стороны, это вполне приемлемый недостаток, ведь И-16 был первым в мире выпускавшимся серийно истребителем-монопланом с убирающимся шасси.
Конечно, инструкторы нам с самого начала объясняли, насколько осторожно и внимательно нужно управлять И-16. Да мы и сами это поняли, ещё когда на УТИ-4 полетали. К тому же было у нас в школе и две катастрофы. Катастрофой в авиации официально принято называть лётное происшествие, в котором гибнет хотя бы один человек. Обе катастрофы случились на УТИ-4.
В одной из них разбились инструктор с курсантом. Они сорвались в штопор на первом развороте. УТИ-4 имел такую особенность: срывался в штопор при неправильном пилотировании. Для выхода из штопора в горизонтальный полёт была необходима высота не менее 150 метров, а они выполняли первый разворот как раз на этой высоте или даже чуть меньшей. Вот и разбились.
Другая катастрофа иначе случилась. Курсант с инструктором вырулили на старт. А на аэродром в это время почему-то трактор выехал. Курсант, который в стартовом наряде был, сразу показал красный флаг, то есть запрет взлёта. Но потом ему взбрело в голову указать лётчикам на трактор, и он махнул флагом в его сторону. И как получилось, лётчики как раз против солнца смотрели, им флаг показался белым, тем более что как раз такое движение белым флагом означает разрешение взлёта. А из кабины в УТИ-4 был плохой обзор, и трактор они не увидели. Начали набирать высоту, и зацепили трактор шасси. В результате самолёт разбился, тракторист погиб, но лётчики, к счастью, остались живы.
Эти случаи сразу с нами разбирали, объясняли нам ошибки. И, в принципе, мы летали безбоязненно. Никто из нас это в голову не брал. И, надо сказать, никаких опасных ситуаций за время учёбы у меня ни разу не возникало. Хотя самолёт И-16 был строгим не только в воздухе, но и на посадке. Если во время пробега ты чуть перетянул на себя ручку управления, он сразу на крыло сваливается и цепляется крылом за землю. Да даже если просто чуть не удержишь ручку, И-16 разворачивается и ломает шасси. Но со всем этим вполне можно освоиться. Тем более что я сам не был особенно выдающимся курсантом, выпустился только вторым или третьим из группы. Однако после И-16 мне было легко летать и на английских, и на американских, и на всех советских самолётах.
Но не буду забегать вперёд. Едва только мы начали изучать И-16, в нашем классе появился Василий Сталин. Он сразу производил впечатление своим сходством с отцом. Среднего роста, профиль - точная копия Иосифа Виссарионовича, веснушки, рыжеватые волосы, подвижный очень... Одним словом, настоящий джигит!
Правда, во время теоретических занятий он порою совершенно не знал, что ответить на вопрос преподавателя, отшучивался. Шутить он умел, мы с трудом сдерживали смех. Но продолжалось это недолго. Вскоре с Василием начали заниматься индивидуально, чтобы он лучше матчасть учил. И я слышал от ребят, которые с ним ближе дружили, что ему даже письмо от отца пришло: "Вася, если любишь меня, полюби и теорию!"
Конечно, руководство школы относилось к сыну Сталина с особенным трепетом. На первых порах он даже жил в отдельной комнате в доме у начальника школы комдива В.И.Иванова. Но потом об этом как-то доложили Иосифу Виссарионовичу, и тот распорядился, чтобы Василия поселили вместе со всеми в казарме и кормили из общего котла.
В казармах мы жили по тридцать человек в комнате. Правда, комнаты были большими, поэтому даже кровати у нас у всех были одноярусными. Но, тем не менее, сына Сталина не решились поселить в общей комнате или он сам не захотел. В итоге что получилось. У старшины эскадрильи Остроушко была отдельная комнатка, и вместе с ним поселили Василия. (Остроушко был тоже курсантом, но он был лет на пять старше нас, поэтому его и назначили старшиной.)
Столовая находилась в пятидесяти метрах от наших казарм. До столовой мы ходили строем. А кто же сына Сталина строем погонит? Соответственно, Василию также присвоили звание старшины. Это четыре треугольника на форме (тогда ещё погон не было). Старшины должны были ходить не в строю, а рядом со строем. На этом, пожалуй, привилегии Василия и заканчивались.
В столовой нас всех кормили одинаково хорошо. Там стояли столики - каждый на четырёх человек. Приходишь, на каждом столе уже бачок с первым, хлеб нарезан, компот в стаканах, специи разные в солонках. Причём в бачке всегда было столько супа, что каждый мог хоть по две порции себе налить. Второе нам разносили в тарелках официантки.
Поели - сидим, встаём по команде. Посуду за нами убирали рабочие по кухне, которые назначались из обслуживающих частей, но не из курсантов. Мы только изучением военного дела занимались.
График у нас интенсивный был. Сразу после завтрака занятия, потом обед, один час на отдых и снова занятия. После ужина у нас было немного личного времени: побриться, подшить подворотнички, написать письма домой. А в десять вечера у нас всегда проходила вечерняя прогулка. Ходили строем и обязательно с песнями. Песни были самыми разными, вплоть до "Калинушки", главное, чтобы хором можно было исполнять. Конечно, у каждой эскадрильи была и своя любимая песня. Например, в нашей 3-й эскадрильи мы особенно часто пели:
Джимбо, шкипер английской шхуны,
Плавал сто двадцать лет,
Обошёл все моря и лагуны
И весь свет...
Дальше этот шкипер влюблялся в смотрительницу маяка, его любовь ничем хорошим не заканчивалась. Ну, знаете, как это бывает в песнях... И многим из нас эта песня почему-то особенно нравилась. Точно так же и в других эскадрильях свои песни были. Услышав их, уже можно было определить, какая эскадрилья идёт.
Расскажу ещё о Василии Сталине. Несмотря на все оказываемые ему привилегии, он был хорошим парнем и носа кверху не драл. С каждым из нас держался на равных. Когда ему присылали посылку, угощал всех папиросами. А в эскадрилье ведь двести пятьдесят человек, папиросы у него быстро заканчивались! Тогда уже он сам у нас стрелял курево.
В авиашколе мы постоянно занимались спортом. Даже выходишь из комнаты, чтобы зайти в уборную или в курилку, а по пути в коридоре турник стоит, брусья. И ты обязательно хотя бы несколько раз подтянешься.
Василий Сталин очень любил спорт. Но особенно азартно он относился к футболу. А во время игры всем одинаково по ногам попадало, он не был исключением. Тем более что играли не в бутсах, а в сапогах. Причём не в майках даже, а в обычной форме, только ремни снимали. Василий играл хорошо, но, когда проигрывал, тоже особенно не расстраивался.
Лётчиком Василий Сталин был прекрасным. Я читал, что за время войны он лично сбил два самолёта противника и три в группе, даже несмотря на то, что его старались особо не выпускать в бой. И я думаю, что это действительно так, учитывая, как хорошо пилотировал Василий.
Техническую подготовку он проходил вместе со всеми в учебном лётном отделе (УЛО) нашей авиашколы. А вот уже пилотированию из соображений безопасности Василий Сталин обучался отдельно. У нас был один инструктор на группу из одиннадцати человек, а у него свой индивидуальный - капитан К.В.Маренков, лучший инструктор школы. Кроме того, у Василия Сталина был отдельный ангар, где стояли самолёты, на которых он летал - ДИТ-2 и И-15.
Руководство школы, видимо, решило, что И-15 всё-таки безопаснее, чем И-16. Самолёты Василия были окрашены в красный цвет. И нам было указание, когда красный самолёт в зоне, к нему близко не подходить.
Однако какими бы ни были меры предосторожности, а лётчик-истребитель находится один в кабине своего самолёта, в воздухе уже никто за него решение не примет, от ошибки не спасёт. И под руководством опытного инструктора из Василия Сталина получился действительно очень хороший лётчик.
В целом же Василию, конечно, непросто было. Говорят, всеобщее внимание со временем испортило его характер. Видя перед собой сына Сталина, люди невольно старались ему угождать, даже если подобного за ними прежде не числились. Тот же наш начальник школы комдив Иванов зарекомендовал себя очень толковым командиром, ещё когда авиационным подразделением командовал. Начальником училища он тоже оказался грамотным, справедливым и не крикливым. К нам постоянно заходил в казармы, на построение смотрел.
Что особенно запомнилось, у него излюбленным занятием было проверять, как обмундированы курсанты. Мы носили хлопчатобумажный костюм, бельё по времени года и яловые сапоги на каблуке. Комдив Иванов стабильно раз в два-три месяца осматривал строй и на сапоги обращал особенное внимание. Если видит, что сапоги сбиты, тут же даёт команду, и тебе вместо них новые выдают. А твои сапоги потом ремонтируют и выдают уже охране, обслуге, шофёрам. Мы, курсанты, только в новом во всём ходили. Наш начальник следил, чтобы мы всем были обеспечены, да и за остальными вещами смотрел, как положено. Ну а то, что он организовывал какие-то поблажки Василию Сталину, за это его упрекать нельзя. Кто бы на его месте поступил иначе в то время?
Мы сами к Василию не ощущали особой зависти. Ну, не ходит он строем, ну, сапоги у него хромовые, а не яловые, ну, форма у него из чуть более лучшего материала, чем у нас... Всё это воспринималось, как должное, ведь он сын вождя. Наоборот, нам импонировало, что он с нами запросто общается, курит и со всеми на равных.
 |
Выпускники Качинской авиашколы, звено В.Дорогова. Кача, 1939 г. |
Авиашколу наш выпуск закончил в апреле 1940-го года. Тех, кто были отличниками по всем предметам, выпускали в звании лейтенанта, остальных младшими лейтенантами. Василий Сталин выпустился лейтенантом, я тоже. После этого наш выпуск сфотографировали. На снимке отличники сидели рядом с начальником училища. Таким образом, я оказался рядом с Василием Сталиным. Однако фотографии этой у меня, к сожалению, не сохранилось. Когда уходил в действующую армию из Руставской авиашколы, где был инструктором, оставил там свои вещи, и так они все пропали.
После окончания учёбы Василия Сталина направили в 16-й авиаполк под Москву. А меня вместе с ещё одиннадцатью выпускниками - в Руставскую авиационную школу пилотов, сформированную на базе Кировобадской авиашколы. Думаю, страна всё-таки готовилась к войне: в тот период много дополнительных военных школ разворачивалось. Руставская авиашкола находилась примерно в 40 километрах от Тбилиси в сторону Баку. Там я и встретил начало войны.
3. Начало войны
 |
А.З.Бордун (слева) с Иваном Чернышёвым. Тбилиси, август 1940 г. |
В выходной день мы, инструкторы, тоже могли позволить себе отдохнуть.
- Толя, пойдём на Куру! - предложил мне Володя Петров.
Я жил в одной комнате с ним и с Ваней Рудаковым. Но Ваня был женат и по выходным уезжал к село к жене. А мы с Володей холостяками были. Река Кура протекала неподалёку от нашей Руставской авиашколы.
И мы вдвоём пошли на реку - половить рыбу, позагорать, искупаться. Рыба в тот день клевала плохо, и мы больше загорали. Вдруг слышим со стороны нашего училища сирены заревели - тревога! Мы с Володей сразу оделись и побежали туда.
Прибегаем, объявляют построение. Мы тут же собрали наших курсантов. А сами, к слову, ещё в гражданское были одеты, на реку мы в форме обычно не ходили. Выстроилась вся наша школа. Выходят политрук Кочкин и командир эскадрильи Михаил Иванович Мощенко. Объявляют, что началась война.
Не скажу, что для меня это совсем неожиданным оказалось. В начале1941-го мы уже между собой поговаривали, что должно случиться что-то такое. Во-первых, Европу война уже охватила. Во-вторых, у нас военные училища росли как на дрожжах. И, конечно, я сам не мальчишкой уже был. Не думал, что Германию мы за месяц победим. Знал, что война - это надолго, правда, не думал, что на целых четыре года.
В тот же день мы рассредоточили самолёты нашей авиашколы, соорудили укрытия для них, замаскировали. Начали дежурить на аэродроме. А через несколько недель стали и воздух патрулировать на И-16. Правда, толку от этого мало было. Через Грузию ходили на разведку немецкие Ю-88. Они более 10 000 метров набирали высоту. А у нас И-16 были учебные, с маломощным мотором М-25. Мы даже и мечтать не могли на такую высоту подняться.
Правда, неподалёку от нас, в Вазиани, находился боевой аэродром. Там уже были И-16 с мотором М-63 - шестьсот лошадиных сил! Но, оказалось, что они тоже на такую высоту подняться не могут.
Примерно через месяц, к нам, наконец, начали поступать из Куйбышева истребители МиГ-1. Мы стали на них патрулировать. До трёх тысяч метров этот самолёт шёл, как утюг, то есть вообще считай никак. Но после трёх тысяч воздух разряженный, и здесь он уже хорошо набирал скорость, маневренным становился. На МиГ-1 уже можно было подняться на 11-12 тысяч метров.
Кислородное оборудование для больших высот было простым: кислородная маска, шланг - и больше ничего. Ты перед взлётом это всё надеваешь, и пошёл. Там был клапан специальный сделан, который по мере подъёма перекрывался, и автомат сам подавал кислород в тех количествах, которые необходимы, в зависимости от высоты. Вручную ничего не регулировалось. Но для полётов такая система вполне подходила. Вот тогда мы и начали гонять фрицев. Правда, на моё собственное дежурство это как-то ни разу не выпадало (немцы вылетали на разведку далеко не каждый день), а вот другие наши инструкторы иной раз давали Юнкерсам жару! Когда же у нас появились МиГ-3, немцы вообще отказались от таких полётов.
Жизнь авиашколы с началом войны практически не изменилась. Жили мы к этому моменту уже в сборно-щитовых домиках на территории школы. А вот в 1940-м, когда мы только приехали в Рустави, там ещё ничего толком не было обустроено, только казармы для курсантов сделали, а мы, инструкторы, жили в ящиках, в которых самолёты к нам поступали с заводов. В каждом ящике было установлено по четыре койки, сделаны окна, и в них мы размещались.
 |
А.З.Бордун (слева) с Борисом Репиным. Рустави, 29 августа, 1940 г. |
Питание всё время было нормальным. В столовой всегда были плов, мясо, правда, в основном баранина, да к тому же жирная, супы. В начале 1943-го, когда бои шли в районе Моздока, немцы перерезали магистрали, и цитрусовые, предназначавшиеся на экспорт, стало некуда отправлять. Они стали распределяться внутри Грузии, в том числе поступили и к нам в школу. Представьте только, что у нас было. На завтрак - апельсины. На обед - борщ с мандаринами, каша рисовая с апельсинами. На ужин - рыба, но тоже с апельсинами. Кроме того, нам ещё и так выдавали каждому по пол-ящика апельсинов. Они были переложены пергаментной бумагой, на каждом ни пятнышка. Видно, словом, что для импорта. В результате у нас вся территория авиашколы была завалена корками апельсинов и мандаринов. Я сам тогда их так отъелся, что до сих пор на них смотреть не могу.
Конечно, мы, инструкторы, на выходных выезжали и в Тбилиси. До войны у нас, инструкторов, был такой порядок. У нас было два аэродрома, 1-й и 2-й, но 1-й аэродром был основным, и мы туда слетались после того, как заканчивались полёты. Именно на 1-м аэродроме и находился наш ангар для самолётов. И вот, если ты сел точно на посадочное "Т", то иди на остановку автобуса до Тбилиси, тебе никто слова не скажет. А уж если промазал или "скозлил" при посадке, то к остановке автобуса можешь и не подходить. У нас было 30 инструкторов, и таким образом регулировалось, чтобы не все сразу в город ездили.
После начала войны с этим ещё строже стало. Мы летали до тех пор, пока было горючее. Горючее нам привозили, как правило, одну-две цистерны, в каждой по 50 кубических метров. Летали без выходных в две смены: одна с раннего утра до полудня, вторая с четырёх часов вечера до восьми. То есть летали, когда хоть немного жара спадала. А то ведь на солнце сталь самолётов нагревалась градусов до семидесяти. И вот так мы летали, во время войны уже на МиГах и ЛаГГах курсантов учили.
 |
Инструкторы Руставской школы пилотов. Слева направо: Борис Репин, Владимир Юрьев, Анатолий Бордун, Иван Чернышёв. Тбилиси, 12 сентября, 1940 г. |
Здесь мне хотелось бы немного рассказать о самолёте ЛаГГ-3. Он был сделан в основном из дельта-древесины, металла на него требовалось очень мало. Однако металл есть металл, а дерево есть дерево. Поэтому стоило тебе на ЛаГГе чуть коснуться земли во время посадки консолью, и крыло моментально приходило в негодность, расслаивалось. В результате его уже было почти невозможно починить, приходилось заменять. С другими моделями, где детали корпуса алюминиевые, гораздо проще было. Закатишь самолёт в ПАРМ, то есть в полевую авиаремонтную мастерскую, там тебе даже на дырки от пуль мигом заклёпки поставят, и ты продолжаешь выполнять боевую работу на той же машине.
Кроме того, ЛаГГ-3 довольно тяжёлым был и из-за этого обладал не самой лучшей манёвренностью. Но это вполне объяснимо, ведь дерево сопоставимой с металлом прочности будет обладать гораздо большим весом. Таким образом, все недостатки ЛаГГ-3 вытекали из его главного достоинства: деревянный корпус значительно удешевлял его изготовление. А страна в начале войны отчаянно в самолётах нуждалась. И хотя ЛаГГ-3 был хуже МиГов или Яков, но, несмотря на все недостатки, это был довольно неплохой самолёт. Немало было лётчиков, которые и на нём очень успешно фашистов сбивали. Ну а потом в 1943-м производство этой модели свернули (если не считать того, что Тбилисский авиазавод в 1944-м году выпустил ещё 420 самолётов ЛаГГ-3, которые использовались как ночные истребители).
 |
Лётчик-инструктор А.З.Бордун в кабине самолёта ЛаГГ-3. Рустави, 1942 г. |
Но вернусь к нашей жизни в авиашколе. Когда мы отрабатывали горючее (оно уже шло преимущественно на фронт, к нам поступала с перебоями) или если начинались профилактические работы по матчасти, тут уже у нас, инструкторов, было несколько свободных дней. Но выезжать куда-то мы могли только с разрешения командования.
В Тбилиси можно было что-то купить, обновить себе гражданский костюм, сходить в театр, в кино. Даже во время войны там хорошие фильмы шли. Здесь, как и многие лётчики, я прежде всего вспоминаю фильм "Истребители" с Марком Бернесом. Там всё достоверно было показано и снято чудесно.
Конечно, не возбранялось нам зайти и в ресторан. С началом войны меню там практически не изменилось, только цены выросли. Но у нас, инструкторов, была большая по тем временам зарплата - 890 рублей. А в ресторане даже во время войны за раз можно было потратить рублей пятьдесят-шестьдесят, от силы сто.
Помню знаменитый тбилисский ресторан "Фуникулёр", построенный Берией в 1936-м году. Этот ресторан располагался на вершине горы, куда посетители доставлялись в специальных вагончиках, постоянно поднимавшихся к вершине и спускавшихся вниз. К слову, там же на горе находилась могила матери Сталина. А в ресторане с высоты был прекрасно виден город и стремительно текущая Кура.
Сейчас, когда вспоминаю об этом, мне сразу приходят на ум стихи Мандельштама. Тбилиси в них именуется ещё Тифлисом, так город назывался по-русски до 1936-го года:
Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.
Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов...
Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...
 |
А.З.Бордун (справа) с Иваном Рудаковом на КП полевого аэродрома. Рустави, 11 октября 1943 г. |
Инструктором в Руставской авиашколе я пробыл до 1943-го года. Мы с моим другом Володей Петровым за это время по три заявления написали, чтобы нас на фронт отправили. Но нас никак не хотели отправлять: инструкторы тогда были на счету, мало было специалистов, которые могли должным образом готовить лётчиков для фронта. Однако в четвёртый раз нам с Володей всё-таки удалось уговорить начальника школы полковника Смирнова. Сначала, правда, он, как всегда, ответил нам:
- Ребята, идите занимайтесь, чем вам положено.
Но мы продолжали настаивать, и он, наконец, согласился:
- Да ну вас к чёрту, надоели вы уже! Ладно, отпущу вас, раз так рвётесь на фронт.
Отдал он соответствующее распоряжение, мы забрали документы и поехали в Тбилиси. А туда как раз приехали за лётчиками представители Центрального фронта. Это был уже октябрь 1943-го. Пришли мы с Володей в штаб формирования лётных частей. И надо ж такому случиться, я вдруг встретил там своего приятеля лётчика Гришу Сахарова. Он у нас в Закавказском военном округе был инспектором, а потом тоже каким-то образом вырвался на фронт и попал в 1-ю Гвардейскую Сталинградскую истребительную авиадивизию. Гриша спрашивает нас:
- Вы как сюда попали?
- Да вот из школы документы забрали, теперь на фронт.
Он обрадовался, говорит:
- Давайте к нам!
- А куда это? - спрашиваю.
- В 1-ю Гвардейскую!
Ну, а нам всё равно было, куда, лишь бы на фронт. Гриша тут же забрал у нас с Володей документы, чтобы нас в другую часть не сманили. Что интересно, туда же в штаб формирования тогда прибыли ребята, только что закончившие нашу лётную школу, и некоторые из них также попали в 1-ю Гвардейскую авиадивизию.
Из Тбилиси мы с Володей сразу поехали на поезде в Кировобад. Там лётчики получали "Аэрокобры", которые перегонялись туда из Америки через Иран, и переучивались на них в специальном учебном центре в запасном авиаполку.
Вместе с нами в учёбный центр как раз попали и лётчики 1-й гвардейской Сталинградской дивизии, приехавшие за "Кобрами". Их было человек восемь.
В учебном центре нас познакомили с самолётом "Аэрокобра", рассказали о его особенностях. Что интересно, почти все тамошние инструкторы оказались выпускниками нашей Руставской лётной школы, некоторых из них даже я сам учил.
После рассказа о матчасти нам предложили опробовать машины в воздухе. Конечно, двухместных "Аэрокобр" не было, и мы сразу в одиночку вылетели на новых машинах. Но так и должно было быть, мы ж не курсанты. Ребята с фронта, а мы с Володей Петровым лётчики-инструкторы. Это ж профессия! Для меня, что на табуретке сидеть, что в самолёте - одинаково спокойно. Наш инструктор Володя Соболев так и сказал мне сразу:
- Садись, взлетай!
Соболев был нашим курсантом, мы с Володей Петровым его знали хорошо. Он у нас в Руставской школе учился, мы его выпускали. И после выпуска он попал в ЗАП, то есть в запасной авиационный полк. Там его назначили инструктором, и он переучивал на новые самолеты лётчиков, приезжавших со строевых частей.
В первом же полёте на "Кобре" я неплохо освоился с управлением и получил определённое представление, что это за самолёт. Конечно, здесь сыграл роль мой значительный предыдущий опыт. "Кобра" мне понравилась, а мне было с чем сравнивать. Я ведь до этого летал на УТИ-4, И-16, УТ-2, потом на МиГ-1 и МиГ-3. Кроме того, в 1942-м году у нас в авиашколе появились самолёты-спарки Як-7, и мы на них вывозили курсантов, пока они не становились готовыми к одиночным полётам. А потом, как я уже говорил, мы стали обучать курсантов летать и на истребителях ЛаГГ-3, которые начал выпускать Тбилисский авиационный завод. Таким образом, до "Аэрокобры" я освоил немало моделей самолётов.
Сравнивая "Кобру" с перечисленными выше советскими истребителями, скажу, что, в общем-то, она не уступала ни одному из них, и поэтому почти никто из нас не расстроился, что нам, вместо отечественных, выдали западные самолёты.
Вскоре, ещё октябрь не успел закончиться, мы вылетели из Кировобада на "Кобрах", которые получили. Нам нужно было их доставить в полк. В качестве лидера нашей группы выступал самолёт Пе-2, который должен был довести нас до Армавира, где у нас намечалась промежуточная посадка. Взлетели мы вслед за ним, идём группой. Сначала всё нормально было. А потом, я смотрю, у меня из редукторного бака масло фонтаном бьёт. В "Аэрокобре" мотор находился в задней части самолёта, а редукторный вал проходил чуть ниже пола кабины между ног у лётчика. И, чтобы этот промежуточный вал не вибрировал, он смазывался специальным маслом, которое постоянно поступало на него из редукторного бака, располагавшегося в носовой части. И готовивший самолёт к вылету механик Разин, как впоследствии выяснилось, забыл закрыть заглушку масляного бака. В результате в моём истребителе на козырёк начало подтекать масло.
Я докладываю об этом ведущему группы Фёдорову. Он говорит:
- Не обращай внимания, иди спокойно.
- Хорошо, - отвечаю, лечу дальше.
Под нами был уже горный массив Нуха - Закаталы, входящий в главный кавказский хребет, и тут вдруг в моём самолёте полностью выбило масло, начало заклинивать винт. Понимаю, что мне ничего не остаётся, кроме как идти на вынужденную посадку. Конечно, нервы были на пределе, внизу ведь горы, а не равнина. Разбиться очень запросто можно было. Однако контроль над собой я сохранял, а иначе разбился бы и костей не собрали...
Развернул я самолёт и докладываю Фёдорову:
- Винт заклинивает, иду на вынужденную.
Он был спокойный мужик, на войне уже не мало повидал. Слышу, говорит по рации:
- Сахаров, посмотри, как он долбанётся.
- Спасибо за тёплые слова, - говорю и продолжаю планировать. Винт у меня немного прокручивается под напором воздуха. Видя это, я вообще выключил мотор. Снижаюсь, надо выбирать место для посадки. В первую голову мне пришло садиться на реку. Но потом вспомнил, как сам купался в горных реках. Там везде такие валуны были, что неминуемо разобьёшься. И вдруг вижу более-менее ровную площадку на горе. Это была такая узкая зелёная полоска между деревьями длиной метров двести - триста.
Завожу я туда самолёт, и прямо передо мной оказываются большие деревья. Я до упора тяну на себя ручку управления, еле перевалил через них! Потом ручку отдал, и моя "Кобра" носом пошла вниз. Я одним махом снова хватил на себя ручку управления и выпустил шасси. Сел на шасси и несусь вперёд. Только в самом конце полосы удалось самолёт остановить. Я, что называется, весь взмок. Вылез из самолёта, эмоциональное возбуждение такое, что даже немного потрясывает. Тем не менее, не отходя от машины, я передал по рации группе, что сел нормально. Фёдоров очень обрадовался. Говорит:
- Молодец, настоящий лётчик! Мы пошли дальше, скоро пришлём к тебе помощь.
После этого я уселся на траве рядом с самолётом. Закурить очень захотелось, а папирос или табаку с собой не было. Прошло примерно полчаса, и появились двое пограничников с собакой. В том районе как раз погранзастава была: они следили за тем, чтобы диверсанты не проникли. Подходят эти пограничники ко мне:
- Здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Ваши документы.
- Пожалуйста.
Посмотрели они моё удостоверение, спрашивают, что произошло. Я коротко объяснил, говорю, мол, надо сообщить в Баку, что сел и с самолетом все нормально. Потом спрашиваю у них:
- А закурить то есть?
Они рассмеялись:
- Ты ж сидишь на табаке!
Дело в том, что я сел прямо на табачное поле, правда, весь табак там зелёный ещё был... Дали пограничники мне махорки. Покурили мы, пошли на заставу.
Там моё удостоверение ещё раз проверили, сообщили в Баку. Из Баку подтвердили, что я советский лётчик, который пошёл на вынужденную посадку в данном районе. После этого меня накормили. Я немного посидел, поболтал с пограничниками и пошёл спать.
У них в караульном помещение были специальные топчаны, на которых наряд отдыхал. Там постели были застелены - всё, как положено. Мне выделили место, я лёг, поворочался немного, вспоминая трудный день, а потом уснул.
Утром, только проснулся я, на заставу пришёл секретарь местного райкома. Просит:
- Покажите мне лётчика!
Увидел он меня, говорит:
- Пойдем, дорогой, тебя аксакалы требуют.
Я удивился:
- А зачем я им?
- Ну как же? Ты же лётчик - сталинский сокол! Вы для нас всё равно что сыны Сталина. Вот они и хотят посмотреть на тебя.
Мне делать всё равно было нечего, пока за мной не приедут, и я согласился пойти с ним. Тем более что аксакалы стояли как раз возле заставы. Ну, посмотрели на меня, рассказал я им немного об авиации. После этого у меня спрашивают:
- А к самолёту подойти можно?
- Пойдёмте.
До места моей вынужденной посадки там было недалеко, километра полтора-два. Показал я им самолёт, объяснил, как такие машины летают. Они довольными остались, говорят:
- Пойдём теперь к нам!
Зашёл я с ними во двор дома. А там уже всё было подготовлено ко встрече со мной. На земле лежал очень красивый ковёр метров 6 шириной и метров 10 длиной. Аксакалы тут же уселись на него, положив ноги под себя, как это принято на востоке. А мне, как человеку непривычному, принесли скамеечку. В общем, всё учли.
Что ещё интересно, во дворе лежало шесть цементных шестигранников, которыми были накрыты какие-то сосуды, вкопанные в землю. Я тогда впервые в жизни такое увидел. Оказалось, это были глиняные кувшины - каждый литров на двести! У местных жителей существовал обычай: когда в семье рождался ребёнок, вино из винограда, собранного в год его рождения, наливалось в такой кувшин, зарытый в землю, и накрывалось цементным кругом с соответствующей прокладкой (в более давние времена круг, безусловно, был не цементным, а каменным). Соответственно, старея, это вино становилось только лучше, и открывали его на какую-нибудь знаменательную дату, например, в день свадьбы или другого торжественного события.
И вот, подошёл к одному из вкопанных в землю кувшинов старик-аксакал с длинной белой бородой, отодвинул цементный круг. При этом в руках у него был черпак в виде сосуда на длинной ручке. Он начала доставать этим черпаком вино из кувшина и разливать в рога. Рога были большими, каждый литра на три, не знаю, бараньи или буйволиные.
Между тем, нам принесли плов, сваренный исключительно на баранине. Он лежал в большом деревянном корыте. Впрочем, "корыто" - не совсем верное слово, скорее это была такая посуда в форме корыта, но красиво отшлифованная, с резьбой.
Начали угощать меня вином. Оказалось, это вино впервые было недавно открыто на восемнадцатилетие одного из сыновей семейства по случаю его проводов в армию. Впрочем, после празднования его ещё очень много там осталось. А раз я сам человек военный, то именно этим вином решили угощать и меня. Скажу честно, вкус у этого напитка был, действительно, изумительный. Те бутылочные вина, что мы сейчас покупаем в магазинах, с подобным вином даже близко не сравнятся.
Закусывали вино пловом, который все прямо руками брали из той самой резной посудины в форме корыта. Однако мне, как гостю, непривычному к этому, принесли вилку. Правда, вилка была с обломанными зубьями. И я так прикинул, что голодным останусь, если буду пытаться есть с помощью неё. Поэтому, как и остальные, тоже стал брать плов руками. Все сразу так обрадовались:
- Наш человек! Сразу видно, сталинский сокол - сталинский сын!
И пошли тосты, веселье, разговоры... Аксакалы по-грузински говорили, я по-русски. Секретарь райкома выступал в качестве переводчика. Он, хотя и был грузином, но по-русски очень хорошо говорил.
Через некоторое время прямо во дворе начали делать шашлык. Развели огонь. Шашлыком занималась женщина в чадре, из-под которой были видны только одни глаза. Смотрю я на неё, и вдруг вижу, подносит она к нашему ковру очередную порцию шашлыка, материя от её лица немного качнулась в сторону и, оказывается, у женщины носа нет. То есть провалился он, сгнил, у них в тех местах был распространён природный сифилис. Я оторопел, потом думаю: "Надо брать те куски мяса, которые в огне были, там всё сгорает".
Соответственно, я уже сам снимал себе куски мяса с шампура. Аксакалов обрадовало, что я, как они, мясо себе сам с шампура снимаю. Опять я услышал одобрительное:
- Наш человек!
Вот в таком духе и проходило наше застолье. Начали мы примерно в пять вечера. До этого ведь самолёт смотрели, ходили туда-сюда. А потом уже сидели во дворе в полутьме при свете костра. Дело в том, что там, в горах, после шести вечера как-то моментально наступает темнота. А уснул я примерно в одиннадцать вечера. К этому времени я почувствовал, что с меня уже достаточно вина. К слову, там было такое вино, что от него хоть и хмелеешь, но голова остаётся светлой. Однако на мои двигательные функции вино хорошо подействовало, и подняться я не смог, поэтому заснул прямо на ковре. При этом мне даже дали что-то типа подушки, накрыли.
Проснулся я утром. Аксакалы смотрят на меня:
- О, наш человек! Уже проснулся!
И опять начинается застолье... А я уже не могу пить, если похмелиться только, это бы ещё куда ни шло. Но им разве объяснишь! Да ещё каждый к себе зазывает. Так и проходил я с ними от двора к двору всю неделю. Под конец уже настолько наугощался, что пришлось решительно сказать:
- Всё, ребята, я больше не могу.
Что ещё интересно, неподалёку от этого селения, где я гостил, за горным хребтом находилась Телавская авиашкола. И там пошли легенды, что нашёлся лётчик, который в горах сел на шасси и самолёт сохранил. Так они прилетали на своих УТ-2 на место вынужденной посадки, чтобы с высоты посмотреть, что и как.
Наконец, из Баку приехала бригада местных техников на грузовике во главе с полковым инженером. Осмотрели они самолёт, порадовались, что он действительно остался цел. Правда, его всё равно надо было разобрать, чтобы вывести на ремонт. Я их спрашиваю, могу ли я ехать.
- Да, езжай, - отвечают. - Ты самолёт нам с рук на руки сдал.
А там как раз автобусы ходили, и я поехал обратно в Кировобад. В Кировобаде к этому моменту уже находился инженер 53-го гвардейского полка нашей дивизии Иван Тимофеевич Пехов. Он приехал туда в ЗАП в качестве представителя 53-го авиаполка, а следом за ним должны были прибыть лётчики на переучивание и за новыми "Аэрокобрами". Пехов был уже наслышан обо мне. Поговорил он со мной и предложил:
- Слушай, я попросил, чтобы наши самолёты перегнали в Аджикабул. Езжай туда, проверишь, чтобы лётчики всё освоили: как надо рулить, как надо летать. А когда они выучатся, подготовите машины и перегоните их в полк.
Я согласился и поехал. Аджикабул находился всего в 150 километрах от Кировобада. Дождался я лётчиков, облетали мы с ними самолёты, подготовили к перегонке, и вылетели вскоре. Я как раз и возглавлял десятку наших самолётов.
Сначала мы сели в Куртум-кале, это был за Махачкалой первый аэродром, потом долетели до Армавира. Оттуда - в Харьков, из Харькова - в Новозыбково (это под Брянском), где и располагался штаб нашей дивизии.
 |
Зачёт по радиосвязи, начало 1944 г. Второй слева - А.З. Бордун, дальше слева направо Александр Денисов и Владимир Кузменов |
Это было уже начало апреля 1944-го. Как раз тогда в Новозыбкове я и был зачислен в 53-й гвардейский истребительный авиаполк. (Хотя в состав 1-й гвардейской истребительной дивизии меня зачислили гораздо раньше - ещё в ноябре 1943-го.) Командовал полком герой Советского Союза Моторный Иван Порфирьевич.
Скажу несколько слов о нашем командире полка. Это был замечательный лётчик. Он воевал очень храбро и умело. За это Ивана Порфирьевича в январе 1943-го удостоили звания Героя Советского Союза. А ему ведь тогда ещё и двадцати пяти лет не исполнилось, он родился 29 августа 1918-го года.
Но, что интересно, когда я прибыл в полк и впервые увидел Моторного, мне показалось, что ему уже немного за тридцать. Он достаточно солидно выглядел, да и первые годы войны, конечно, наложили отпечаток на его лицо. В 1941-1942 годах немцы господствовали в воздухе, тогда лётчикам очень тяжело было, многие погибали. Однако определённая солидность в облике Ивана Порфирьевича сочеталась с энергичностью, подвижностью. Но при этом он всё делал без спешки: у хороших лётчиков каждое движение рассчитанное, точное.
Моторный был невысокого роста, но широкоплечий. Блондин, лицо открытое, всегда выбритое. Весёлым был, умел хорошо играть на баяне. Одной из любимых песен Ивана Порфирьевича была песня "Синий платочек". Играл он и другие песни, популярные в те годы. Общительным был, каждый из нас мог к нему запросто обратиться. Но при этом и требовательным был наш командир, умел полк в порядке держать. Учителем он оказался превосходным, в этом плане молодым лётчикам, попадавшим в наш полк, очень везло. И само собой, мы все очень уважали Ивана Порфирьевича.
Кроме нашего 53-го полка, в 1-ю гвардейскую авиадивизию входили 54-й гвардейский Керченский полк (им командовал Евгений Петрович Мельников) и 55-й гвардейский Харьковский полк (им командовал герой Советского Союза Василий Иванович Шишкин). Мой друг Володя Петров к моменту моего появления в Новозыбкове был уже зачислен в 54-й полк, так что не получилось у нас вместе летать.
53-й и 54-й полки дислоцировались на аэродроме в деревне Нейговка, а 55-й полк на аэродроме в Новозыбкове. У нас было некоторое время, чтобы слетаться, освоиться. А потом наш полк начал участвовать в операции по освобождению Белоруссии. Меня ждали мои первые воздушные бои.
4. В белорусском небе
 |
Лётчик Д.В.Голубкин (крайний слева) делает доклад заместителю командира эскадрильи А.З.Бордуну о совершённом боевом вылете. Район Одера, апрель 1944 г. |
Когда я прибыл в полк, для лётчиков нашей дивизии как раз наступил период относительного затишья. Примерно в середине апреля войска 1-го Белорусского фронта временно перешли к обороне, и наши лётчики вылетали только на разведку и перехват самолётов противника. Воздушных боёв в эти дни практически не было.
Я попал в 3-ю эскадрилью к своему давнему приятелю Василию Сергеевичу Батяеву. Он был моим земляком, вырос в Сталиногорске, где его родители работали на химкомбинате. Мы с ним вместе учились летать в одном аэроклубе, только я на первом аэродроме, а он на втором. Потом вместе попали в одну группу Качинской школы пилотов и одновременно выпустились оттуда. Но меня в инструкторы направили, а его в часть. За время войны Вася облетался в частях, приобрёл боевой опыт и стал командиром эскадрильи. Он был хорошим лётчиком и товарищем, метко стрелял по самолётам противника. Командиром он тоже был толковым, неплохим организатором. Меня назначили сначала командиром звена, но уже через пару недель Батяев взял меня своим заместителем. К концу войны мы стали с ним близкими друзьями.
Как заместитель командира эскадрильи, я изучал район предстоящих боевых действий, вёл подготовку молодых лётчиков, поступавших к нам в полк. Конечно, у меня ещё не было фронтового опыта, но в пилотировании я мог дать им очень многое.
Наконец, в двадцатых числах июня 1944-го года войска 1-го Белорусского фронта снова перешли в наступление. Перед нашей эскадрильей была поставлена задача сопровождать бомбардировщики Пе-2 за линию фронта. Это был мой первый боевой вылет. Боевым вылетом у нас считался либо вылет за линию фронта, либо вылет, когда было соприкосновение с противником.
Зная о ситуации на фронте, я понимал, что без воздушного боя мой первый вылет вряд ли обойдётся. Решил спросить у Васи Батяева, как это обычно бывает. Он начал мне объяснять с серьёзным видом:
- Подойдёшь к линии фронта. Увидишь "мессер", сразу принюхайся - запахнет сосновыми досками!
- А почему сосновыми досками? - не понял я.
- Так ты, что, не знаешь? Из них же гробы делают! - рассмеялся Вася.
Он с юмором был. Я про себя хмыкнул: "Ладно, посмотрим!"
Летим мы, сопровождаем "пешек", чтобы их истребители противника не тронули. Идём в строю, приближаемся к линии фронта. Вот-вот наши Пе-2 начнут бомбить передний край противника. И вдруг, вижу, "мессеры" появились.
Я понюхал, понюхал - ничем не пахнет. Какого-то страха или чего-то такого у меня уже не было. Это пока не видишь противника, гложет неприятное ощущение, а когда воздушный бой завязывается, бояться уже некогда. Начинаешь действовать, оцениваешь маневренные качества противника, соотносишь их со своим мастерством.
Завязался бой. Через некоторое время мы на вертикаль перешли. Потом, когда "мессер" завис, я в него всадил очередь из пулемётов и из пушки, он задымил и ушёл вниз. То есть сбил я его. Наши Пе-2 за это время успели отбомбиться у ушли вместе с нашей группой истребителей обратно к своим аэродромам. Мы с моим ведомым Володей Михайловым сориентировались, где мы находимся, и тоже полетели домой (лётчики всегда свой аэродром называют домом).
Подходим к Нейговке, и я деревню вижу, а находившийся рядом с ней аэродром - нет. У нас ведь был полевой аэродром, то есть обычная обкатанная грунтовая площадка и на ней только посадочное "Т" - два белых полотнища, каждое метров десять длиной и метра три шириной. Если они лежат в форме буквы "Т", можно садиться, а если в форме креста, то садиться по каким-то причинам нельзя.
И вот, я возбуждённый после боя и почему-то никак не могу разглядеть, где находится аэродром. Начинаю делать круг. Вдруг слышу по рации голос Моторного:
- Чего ты крутишься?
- Полосу не вижу.
- Накрени вправо.
Я накренил самолёт, смотрю, взлётно-посадочная полоса лежит подо мной. Развернулся я, зашёл, сел. И следом за мной сел мой ведомый.
Я доложил командиру полка о том, что сбил самолёт противника. Конифотопулемётов на "Аэрокобрах" в нашем полку не было. Сбития проще подтверждались. Ты говоришь, где сбил самолёт противника. А потом представитель из полка едет в наземные войска в тот район, и там ему пишут бумагу о том, был или не был сбит на самом деле вражеский самолёт. Таким образом, пресловутые приписки у нас на этом этапе войны были попросту невозможны.
Вот так я сбил свой первый "мессер". Друзья меня поздравили. Особенно Вася Батяев был рад. Я ему, улыбаясь, сказал, что не почувствовал запаха сосновых досок. Он тоже засмеялся:
- Правильно, пусть фрицы этот запах чувствуют!
Что ещё интересно. У нас в полку было принято. Если ты сбил самолёт, то можешь, проходя вдоль полосы на низкой высоте, сделать бочку. Или две бочки, если сбил два самолёта. Конечно, после первого сбития мне было не до этого. А впоследствии я не раз по такому поводу бочки делал.
Работали мы всегда по вызову. На линии фронта находились пункты наведения авиации, и оттуда с нами связывались по рации, давали данные по предстоящему заданию. Могли нас и по тревоге поднять. Из трёх эскадрилий нашего полка одна всё время дежурила, через некоторое время её сменяла следующая и т.д. И кто был на дежурстве, те в случае чего сразу же поднимались в воздух, как только видели сигнальную ракету. А дальше уже в зависимости от воздушной обстановки. Могла только одна дежурная пара взлететь, а могли и сразу две эскадрильи подняться.
Но вернусь к заданиям по сопровождению бомбардировщиков. К этому этапу войны Пе-2 уже практически всегда выполняли бомбометания с пикирования, а не с горизонтального полёта. И у нас была особая тактика сопровождения Пе-2.
До линии фронта наши истребители шли обычным строем крыло в крыло, а, как пересекали линию фронта, то мы, ведущие, шли впереди, а ведомые держались на дистанции 150-200 метров от нас. Истребители при этом, естественно, находились на некоторой высоте над клином "пешек", чтобы в случае чего не дать истребителям противника атаковать наши бомбардировщики. Вылетали мы на такие задания не меньше, чем звеном. Также, сопровождая бомбардировщики, мы нередко ходили "ножницами", когда приближались к линии фронта. То есть ты, допустим, идёшь с правой стороны, набираешь высоту метров 600-700 над самолётами, которых сопровождаешь, и переходишь со снижением на левую сторону. А те, что с левой стороны шли, действовали наоборот. Потом мы снова высоту набирали, и всё повторялось. Это позволяло нам сохранять скорость и лучше контролировать воздушное пространство.
А вот когда Пе-2 выходили в район бомбометания, мы перестраивались в "этажерку". Так назывался этот боевой порядок среди лётчиков.
Что представляла собой "этажерка"? Мы разбивались, как правило, на три небольших группы. Одна группа оставалась сверху над бомбардировщиками и должна была не допускать, чтобы истребители противника могли ударить по "пешкам" сверху. Ещё одна группа начинала летать вокруг района бомбометания на высоте входа наших бомбардировщиков в пикирование. А третья группа точно так же летала на высоте их выхода из пикирования. При этом вторая и третья группы всегда летали с противоположным курсом: если вторая по часовой стрелке, то третья - против часовой и наоборот.
В результате, откуда бы враг ни попытался подойти к нашим пикирующим бомбардировщикам, мы тут же завязывали бой с истребителями противника и не подпускали их к "пешкам". Кроме того, летая по кругу, мы также старались вести огонь по зениткам противника. Одним словом, делали всё, чтобы свести к минимуму потери среди бомбардировщиков. В Белорусской операции наш полк сопровождал бомбардировщики из 3-го бомбардировочного авиакорпуса. На последующих этапах войны мы также именно с этим бомбардировочным корпусом работали.
С сопровождением бомбардировщиков связан один интересный случай, происшедший через несколько дней после моего первого воздушного боя. Мы всем полком (а это три эскадрильи сразу!) сопровождали на бомбометание большую группу самолётов Пе-2. На нас напали вражеские истребители. Завязался воздушный бой. И фашистам удалось сбить одного из наших лётчиков - Ивана Тура (Тур - это у него фамилия такая была, при этом он был русским по национальности, но, возможно, не без украинских корней) (Гв. лейтенант Тур Иван Селиверстович не вернулся из вылета 23.08.1943 - т.е., за полгода до прибытия Бордуна в полк. Тут либо Тур потом вернулся, то ли просто автор рассказывает что-то, что было полковой легендой - Алексей Пекарш).
Когда самолёт начал падать, Ваня не растерялся и успел выпрыгнуть с парашютом. Однако здесь комичное дело вышло. Когда парашют раскрывался, у Вани при рывке парашюта соскочили с ног кирзовые сапоги. Видимо, они у него не совсем по размеру были. А поскольку под сапоги в армии надевают не носки, а портянки, то приземлился Ваня Тур уже босиком.
А дальше получилось ещё интереснее. Приземлился он прямо на передовую. На земле тоже бой идёт: с одной стороны наши стреляют, с другой немцы. А Ваня Тур, что называется, оказался между двух огней в буквальном смысле этого слова. Он испугался, что его немцы в плен возьмут, узнают, что лётчик, начнут допрашивать с пристрастием. Чтобы избежать этого, Ваня закопал своё лётное удостоверение и другие документы, которые у него были, в ближайшую кочку. А бой продолжается, Ване пришлось перебегать с места на место, чтобы уходить из зоны интенсивного огня. В результате потерял он из вида ту кочку, куда документы спрятал.
Бой закончился. Подходят к Ване Туру наши пехотинцы. Спрашивают:
- Ты кто такой?
Он говорит:
- Лётчик.
- Документы покажи!
- Я их в кочку зарыл.
Тут пехотинцы обступили его, кричат:
- Ты власовец!
Даже по морде пару раз ему дали, все ведь на эмоциях, разгорячённые недавним боем. Ваня продолжал оправдываться:
- Я свой! Я лётчик!
- Какой ты лётчик?! Лётчики ходят в коверкотовых гимнастёрках, у них брюки тёмно-синие, сапоги хромовые... А ты без сапог даже!
Тем не менее, Тур уговорил всё-таки пехотинцев, чтобы ему дали возможность поискать ту кочку, куда он документы зарыл. Но не смог её найти, там на каждом метре подобные кочки были.
В итоге отвели Ваню к командиру части, втолкнули в землянку. Там командир начал его допрашивать, кто он такой. Но рассказ Тура показался командиру неубедительным. А время-то военное. У Вани погоны младшего лейтенанта, а документов нет. И командир тоже решил, что перед ним власовец. Отдал приказ - расстрелять. Тогда на фронте дело быстро решалось.
Тут бы и расстреляли Ваню Тура. Но спас его случай. Подошёл к нему один пехотинец, уже в возрасте мужик. Спрашивает:
- Ты с какого аэродрома?
- С Нейговки.
Пехотинец обрадовался:
- Это ж моя деревня там рядом! Отсюда до неё километров пятьдесят всего.
Повернулся он к командиру:
- Товарищ командир, разрешите, я его отведу на аэродром. Вдруг, правда, лётчик? А если не тот, я его там и кокну. Ну и попутно к своим зайду домой, узнаю, как они.
И, видимо, командир уважал этого мужика. Разрешил ему дойти до Нейговки с нашим Ваней Туром. Для перехода Ване даже старые сапоги выделили, не мог же он босиком пятьдесят километров прошагать.
И вот, на третий или четвёртый день после того вылета, когда сбили самолёт Тура, он, наконец, снова появился в нашем полку. Мы все тогда как раз на аэродроме были. Я взлетаю, и вдруг вижу, что прямо передо мной Ваня с каким-то пехотинцем через полосу идёт. А Тур же лётчик, он увидел меня и понял, что я могу не успеть отвернуть и срежу им головы своей машиной. Тогда он побежал. Пехотинец закричал на него, подумал, что он убегает, сделал предупредительный выстрел в воздух. Ну, а мне на задание нужно было лететь, перепрыгнул я через них, пошёл по заданному маршруту.
Потом, когда вернулся на аэродром, узнал всю эту историю и то, как она закончилось. Оказалось, после предупредительного выстрела пехотинца Ваня ещё быстрее побежал к командному пункту. Пехотинец рванул за ним и уже собирался на поражение открыть огонь. Но возле командного пункта Моторный стоял. Он руководил всеми нашими полётами и лично провожал и встречал нас на аэродроме. Увидев Тура, Иван Порфирьевич тут же ринулся ему на встречу. Они обнялись. Мы-то в полку все уже думали, что погиб наш Ваня Тур. А пехотинец как увидел, что его недавнего пленника, которого все считали власовцем, обнимает командир полка, так перекрестился:
- Господи, а я его чуть не кокнул, когда он побежал!
Зрелище, действительно, было впечатляющим. Моторный ведь был со звездой Героя Советского Союза на форме. Да ещё рядом гвардейское знамя развевается. У нас в полку было заведено перед полётами выносить к аэродромному командному пункту своё гвардейское знамя. Его вид подстёгивал нас, заставлял ответственнее относиться к предстоящему заданию. А теперь представьте, что пехотинец всё это впервые увидел. Естественно, у него была реакция шока. Однако молодец мужик - и нашего лётчика от расстрела спас, и своих родных, благодаря этому, смог навестить.
Мы сопровождали не только бомбардировщики. Не менее часто нам приходилось сопровождать штурмовики. В Белоруссии мы работали в основном с 4-м штурмовым авиакорпусом.
Что характерно, пока мы доводили штурмовики до цели, их боевая задача нередко изменялась. Допустим, должны они были штурмовать укреплённые немецкие позиции в какой-то деревне, но, пока летели к цели, наши войска уже заняли эту деревню, а немцы отступили. Конечно, в подобных случаях с ними пытались связаться с пункта наведения. Но здесь надо сказать ещё об одном моменте. У наших штурмовиков Ил-2 очень плохо работала рация. У них отечественные радиостанции были. Зато у нас на "Кобрах" радио американское, и слышно по нему нам было очень хорошо. Соответственно, наведенцы связывались с нами.
Например, как-то раз мы были уже в 15-20 километрах от цели, и я вдруг слышу по радио:
- Маленькие, цель изменилась, - нас истребителей по радио называли "маленькими", а штурмовиков "горбатыми", такие были кодовые обозначения. - Наши войска заняли деревню и ведут бой с противником. Нужно ударить по танкам противника, которые в двухстах метрах западнее деревни.
Я называю свой позывной:
- Маленький 81-й, - и докладываю, что задание понял.
А штурмовики как работали. Доходят до цели, их ведущий опускает нос, начинает штурмовать, а остальные ориентируются на него и тоже открывают огонь. Соответственно, мне нужно было вплотную подлететь к ведущему штурмовиков и показывать ему знаками, кричать по радио (когда мы вплотную подходили, оно у штурмовиков начинало хоть кое-как, но работать), что цель изменилась, а новую цель я ему сам покажу. Если он не понимает сразу, начинает нос опускать над старой целью, то уже кулаком грозишь ему. И всё нормально - доводишь штурмовиков до новой цели, потом сам опускаешь нос и показываешь своим огнём, где находятся немцы. И тогда уже вся их группа начинает штурмовать.
При сопровождении бомбардировщиков нам никогда не приходилось наводить их на новые цели (бомбардировщики работали не по переднему краю, а по второму и третьему эшелону войск противника, соответственно их цели не менялись), а со штурмовиками у нас часто возникали хлопоты. Но наш полк всегда успевал показать им новую цель и не допустить, чтобы они прежнюю цель штурмовать начали. Тем не менее, я знаю один случай, когда в другой части штурмовики всё-таки ударили по своим.
Произошло это, в одной из штурмовых авиадивизий. Эта дивизия тогда только перелетела с Дальнего Востока, лётчики ещё не освоились на фронте.
В начале лета 1944-го они целой дивизией (а это около 90 самолётов!) вышли на штурмовку и ударили по своим войскам, находившемся на переднем крае. Представьте, целая дивизия отработала по своим. В результате была сорвана атака. Я слышал, что от огня штурмовиков досталось даже командному пункту Рокоссовского.
Моя эскадрилья тогда как раз в этом районе в воздухе находилось, и нам передали по рации, чтобы мы оттянули эту дивизию. А то ведь, если бы они там до конца доштурмовали, потери в наших наземных войсках были б большие.
Спрашиваете, как мы их оттягивали? Подлетаешь к ведущему штурмовиков и даёшь очередь перед носом его самолёта. Причём стреляешь одновременно и из пушки, и из двух пулемётов. Снаряды из пушки пролетают перед ним, как шары, размером с кулак. Такое нельзя не заметить. Ведущий смотрит на тебя, а ты ему жестами показываешь: уходи! При этом мы не боялись, что кто-то из штурмовиков сдуру по нам ударит. Мы рядом с ними летели. Они по нам ударить не могли, даже если бы захотели.
Некоторые из штурмовиков сразу не понимали, чего от них хотят. Но наши очереди всё равно заставляли их поднять носы самолётов, а дальше мы им уже показывали, что всё, хватит штурмовать.
Вот так мы их оттянули. Полетели они к своему аэродрому и, не поверите, с перепугу ещё и его штурмовать начали. Естественно, после такого дивизию расформировали, а всё её руководство, в том числе и штурмана, и всех ведущих, отдали под трибунал. А простых лётчиков, конечно, не наказывали. Чем они виноваты? Они на ведущих ориентировались. Лётчиков просто распределили по другим частям.
Однако подчеркну, больше ни об одном подобном инциденте я не слышал. Это был исключительный случай. А в основном штурмовые авиационные части выполняли свои задачи вполне профессионально и достойно.
Говоря о хорошей работе штурмовиков, мне сразу вспоминается, как в самом конце июня немцы, зажатые со всех сторон нашими войсками, переправлялись в районе Березина (это под Минском). Наши самолёты им там всю музыку испортили: не дали возможности фрицам переправиться в нормальных условиях. Там и штурмовики наши по немцам работали, и бомбардировщики сыпали на них бомбы. Мы туда летали в качестве сопровождения, но если истребителей противника не было, тогда тоже штурмовали. Однако штурмовали таким образом, чтобы у нас оставались боеприпасы на отражение возможной атаки.
Там очень большая немецкая группировка была. Вскоре её окружили, и она зашла в большой лес под Минском. Одновременно была окружена и фашистская группировка под Барановичами. Но там её окружили уже со всех сторон, а в кольце окружения минской группировки немцев были разрывы. И перед нашей 16-й воздушной армией была поставлена задача не дать немцам опомниться, чтобы они не сообразили, в каком направлении можно выйти из окружения.
Это происходило в первых числах июля. Лес, где засела вражеская группировка, был огромным: не меньше 100-150 гектаров. Туда и штурмовики летали, и бомбардировщики, чтобы не дать немцам поднять голову. Мало того, даже к нашим истребителям бомбы подвешивали. "Кобра" могла нести на внешней подвеске одну бомбу весом 250 килограмм или две бомбы по 100 килограмм. Дело в том, что на "Кобру" могли устанавливаться подвесные баки: либо два под плоскостями, каждый по 75 галлонов (это почти 300 литров), либо один бак на 150 галлон под брюхом. Этого количества бензина хватало на семь часов полёта. Баки мы в основном подвешивали, если надо было кого-то сопровождать на дальнее расстояние. А тогда, вместо дополнительных баков, у нас бомбы были. И ты нажимаешь тумблер сброса подвесных баков на ручке управления, бомбы сразу вниз уходят (в боевых условиях использовали один ПТБ емкостью 75 галлонов под фюзеляжем - Алексей Пекарш).
До этого мы тренировались у себя в зоне: подвешивали бомбы к самолётам и сбрасывали их с пикирования или с горизонтального полёта. Но никаких особых приспособлений у нас для бомбардировки не было. Так и в этой операции - бомбили, что называется, на глазок.
Мы бросали бомбы, особо не разбирая куда, в лесу всё равно ничего не видно. Нам было главное создать шумовой эффект. Когда вокруг тебя всё грохочет и взрывается, тут тебе уже не до того, чтобы куда продвигаться, ты просто забиваешься в укрытие и ждёшь, пока всё кончится. И нашей задачей было как раз добиться от немцев такого поведения, чтобы они не пытались вырваться из окружения. Если во время полёта мы видели хоть какое-то движение внизу, тут же опускали нос и открывали огонь из пулемётов и из пушек. В общем, устроили немцам сладкую жизнь, не давали им опомниться.
Что характерно, у нас в полку не было лётчиков, летавших ночью, но во время окружения минской группировки мы совершали вылеты до одиннадцати часов вечера. Я специально отобрал группу из ребят, которые могли ориентироваться в сумерках. И вот, мы делали за день 4-5 вылетов, а потом вечером, когда начинало темнеть, ещё один вылет. Садиться, правда, приходилось уже в полутьме. Один раз мы возвращались с вылета так поздно, что по краям взлётной полосы наши техники даже расставили кастрюли и другие ёмкости с подожжённым маслом, чтобы мы не промахнулись при приземлении.
В итоге мы свою задачу выполнили: не позволили немцам головы поднять в лесу. Кольцо окружения вокруг них окончательно замкнулось. А дальше подошли танкисты и артиллеристы, расчленили эту группировку и взяли в плен.
Помню, я потом документальный фильм смотрел. Там показывали, как немцев из-под Минска и из-под Барановичей вели через Москву. Они думали туда победителями войти, а вошли военнопленными. Кое-кто из них ещё пытался при этом фасон держать, но в основном все угрюмые, оборванные. 150 тысяч их там было, насколько я помню.
Вот так и воевали. Весь июль без передышки шли бои. Помимо полётов на сопровождение, мы выполняли задания по прикрытию наземных войск, летали на разведку. Что интересно, именно в июле 1944-го небо стало настолько насыщено советскими самолётами, что буквально, куда ни глянешь, везде наши самолёты были. А ведь в начале войны совсем наоборот было: немцы обладали полным воздушным господством.
Однако именно в июле погиб мой друг по Руставской авиашколе Володя Петров, служивший в 54-м полку (лейтенант Петров Владимир Алексеевич, успел до гибели 28.06.1944 одержать 3 личных победы - Алексей Пекарш). Он должен был вылетать на сопровождение самолёта-разведчика Пе-2 в составе четвёрки вместе с Яшей Михайликом, Сашей Денисовым и молодым лётчиком Гагиным. Но у Гагина мотор не запустился, а ждать, пока техники найдут неисправность, времени не было. Они вылетели втроём. Михайлик был у них ведущим, а Петров с Денисовым шли ведомыми.
И здесь надо сказать о таком моменте. Незадолго до вылета у Володи Петрова на шее с левой стороны фурункул вскочил. Такое бывает у лётчиков, потому что во время полёта приходится постоянно голову в разные стороны вращать, шея потеет, воротничок натирает шею, туда грязь попадает, и, соответственно, может вскочить фурункул. В результате Володя из-за фурункула не мог повернуть шею в левую сторону. Он мог отказаться от боевого вылета, и ему бы никто и слова не сказал. У лётчика, а тем более у истребителя, голова должна в обе стороны вращаться на 180 градусов, чтобы он сумел приближение противника разглядеть. Но Володя был человеком исключительно добросовестным и от вылета не отказался.
А в тот день солнце как раз светило им в спину, то есть противник мог сзади незаметно подобраться. И что получилось, юго-восточнее города Осиповичи на Володю с Денисовым обрушилась восьмёрка "фоккеров". Они атаковали как раз со стороны солнца. То есть нашим лётчикам было неудобно на них смотреть, а у немцев наоборот был превосходный обзор.
Завязался бой. Володю зажала четвёрка "Фоккевульфов-190". Начали крутиться. И Володя начал крутиться влево. И тут, видно, понял, что не может налево смотреть из-за фурункула, начал свой самолёт на правый вираж перекладывать. А когда перекладываешь самолёт на другой вираж, машина останавливается и как бы замирает перед тем, как войти в другое вращение. Этим воспользовался один из немцев. Он поймал Володю Петрова в прицел и дал очередь. Володина "Аэрокобра" загорелась и пошла вниз.
Денисова в том бою тоже подбили, но ему удалось сесть на фюзеляж, он остался жив. Пе-2 за время боя ушёл в облака. Михайлик сбил один "фоккер", прикрыл Денисова, пока тот снижался, и потом оторвался от немцев. Они не стали его преследовать. Вероятно, у них горючее уже заканчивалось. А Володя погиб.
Похоронили Володю Петрова там же в районе Осиповичей. А лётчиков как хоронили обычно. Выезжала на место падения специальная бригада из техников, собирала то, что осталось от погибшего. Если лётчика сбивают на самолёте, у него, как правило, руки, ноги - всё отдельно валяется, а если самолёт горит, так вообще мало что остаётся. И когда лётчика сбивали далеко от аэродрома, то его останки, как правило, хоронили в районе гибели по согласованию с местной воинской частью. Потом бригада возвращалась в полк, докладывала, писали родным похоронку.
После войны Володю, как и многих, кто погиб в Белорусской операции, перезахоронили. Теперь он покоится у нас в Смоленске на Солдатском кладбище на Витебском шоссе.
Вот так я потерял своего друга. Однако бои продолжались. С перемещениями линии фронта, наша Нейговка постепенно всё больше отдалялась от неё. Нам требовалось всё больше времени, чтобы доходить до линии фронта, и командование приказало нам подвешивать дополнительные топливные баки. В бою мы нередко сбрасывали их, чтобы не терять в маневренности.
 |
Подведение итогов дня после боевых вылетов лётным составом 53-го ГвИАП. Ковель, 1944. А.З. Бордун - стоит в пилотке крайний справа во втором ряду |
Здесь надо сказать, что с одного аэродрома мы работали на пределе своего радиуса действия, а потом, когда войска уходили вперёд, мы тоже передвигались вслед за ними. То есть, как правило, первоначально наш аэродром находился на расстоянии 15-20 километров от линии фронта, и затем эта дистанция увеличивалась до 40 километров, после чего мы перелетали на новое место. Немного позади нас дислоцировались штурмовики, а бомбардировщики обычно находились в 100-120 километрах от линии фронта. Таким образом, именно истребители размещались так, чтобы у них было минимальное время на подлёт к цели. Поэтому ещё в июле мы перелетели из Нейговки на аэродром под Ковель.
5. Между боями
Отвлечёмся на время от описаний боёв, и я расскажу о том, каким был наш фронтовой быт. Мы, лётчики, жили, как правило, в деревнях, находившихся в трёх-четырёх километрах от аэродрома. В соседней с аэродромом деревне освобождали большую хату, и мы заселялись туда целой эскадрильей. То есть по двенадцать лётчиков на дом.
В этой хате техники сбивали для нас нары. На них стелили солому, а сверху брезент. Кроме того, у нас были одеяла. Вот и все наши постельные принадлежности! В таких условиях мы обычно жили и спали.
Хозяйка со своей семьёй, пока мы занимали дом, обычно жила где-нибудь у родственников. При этом она нередко заходила к нам, жаловалось на зверства немцев, убирала в доме. Мы, когда могли, своим хозяйкам помогали продуктами, делились с ними пайками.
Конечно, после рассказов местного населения мы на фашистов во время боём смотрели уже не как на живых людей, а как на врагов. Но, что интересно, помню я момент, когда я впервые увидел немца, взятого в плен. Это был обычный солдат в сероватой шинелишке, перепуганный, бледный. Его никто даже не бил. Мы подошли к нему, спросили:
- Что, фриц, хана? Гитлер капут?
- Нет, Гитлер у нас бог, вы нас пока не победили, мы ещё повоюем.
Он говорил на ломаном русском (у многих из них во время войны были немецко-русские разговорники), мы немного понимали по-немецки, часть слов жестами выражали.
Мы посмеялись над его словами, да и пошли дальше.
Надо сказать, за время войны не было ни одного случая, чтобы у меня на глазах кто-то глумился над взятым в плен немцем. Не было даже такого отношения: "Вот ты фашист поганый!" Русским такое не свойственно. Нас, советских людей, вообще так не воспитывали, чтобы мы могли измываться над врагом, оказавшимся в нашей власти. Мы отвагу показывали в бою.
А вот немецкие лётчики иногда вели себя недостойно. Некоторые из них расстреливали наших ребят, когда те с парашютом выпрыгивали. Даже по уже приземлившимся огонь вели. А я не могу припомнить ни одного случая, чтобы кто-то из наших начал стрелять по немцу, выпрыгнувшему с парашютом.
Но вернусь к нашему быту. Технический состав жил в землянках около аэродрома. Эти землянки они сами рыли для себя. Иной раз и нам, лётчикам, в землянках доводилось жить, если рядом с аэродромом деревни не было. В холодное время года в землянках, конечно, было похуже, чем в хатах, холоднее. Бывало, возвращаешься с задания, посреди землянки топится печка-буржуйка, сделанная из бочки, а вокруг этой печки все нары заняты. Что делать? У нас в этих случаях такая шутка была. Вынимаешь из кармана несколько патронов и кидаешь их на печку. Нагревшись, патроны начинали взрываться. У нас при этом никогда не было несчастных случаев. Но кто-нибудь, кто трусоват, обязательно соскакивал с нар. А ты уже мог лечь на освободившееся место.
В целом же у нас в полку и особенно в эскадрильи у всех между собой были самые тёплые отношения. А как иначе? Мы ведь вместе на задания ходили, там от каждого может зависеть жизнь товарища. По вечерам, когда полёты заканчивались, мы все в кучу собирались, начинали травить байки, анекдоты. Ребята о письмах из дома рассказывали, а вот в карты и другие игры как-то не играли, не было это принято у нас в полку.
Конечно, было место и шуткам, и розыгрышам. На войне ведь, если не смеяться, с ума можно сойти. Помню, сидели мы под Варшавой. И наш лётчик Сергей Иванович Коробов (С.И. Коробов служил в 28 ГвИАП - совсем другая дивизия, и другой корпус даже. А вот в Корее они служили вместе. Возможно - оно тут и спроецировалось - Алексей Пекарш) вечером пошёл по нужде. Туалета на улице не было, и он уселся на корточки в укромном месте неподалёку от хаты. А наши ребята-хохмачи в темноте незаметно подобрались к нему сзади и подставили снизу лопату. Только он сделал дело, лопату сразу убрали. Но Сергей Иванович даже не заметил, застегнул свой лётный комбинезон, вернулся в дом.
Только он улёгся на нары, кто-то из ребят с серьёзным видом сказал:
- Что-то запахло.
Коробов тут же решил, что он, видимо, на комбинезон ненароком попал. Выскочил из хаты, глядит: точно, кучки нет! Сразу снял он себя комбинезон, и так его смотрел, и так, даже наизнанку вывернул. Вернулся он в хату. Ребята снова:
- Что-то пахнет!
Тут он вдруг понял, что над ним пошутили. Махнул рукой:
- Эх вы, заразы!
Вот тут хохота было.
Тем не менее, за войну был у нас один случай, когда шутка окончилась плачевно. У нас было принято, если кто-нибудь заснул, пока все ещё сидят, как-то разбудить его неожиданно или толкнуть. А у меня в эскадрильи был лётчик Баранов, неплохой пилот, но дёрганный немного. Он заснул, его начали донимать. В конце концов он не выдержал и бросил в шутников свой ремень с кобурой. А у него там был пистолет, и в канале ствола девятый патрон стоял. В результате так несчастно совпало, что пистолет ударился, выстрелил, и пуля сразу убила нашего лётчика по фамилии Лам (Лам Лев Александрович, лейтенант, погиб в результате несчастного случая 04.12.1944 - Алексей Пекарш). Пуля ему точно в сердце попала. Эх, бывают же такие горькие совпадения...
Баранова судили, приговорили к двум годам штрафбата. Но лётчиков не отправляли в штрафбат. Он остался у нас в полку и должен был летать до тех пор, пока противника собьёт или его самого собьют. Тогда его могли оправдать. И Баранов сбил два "мессера", ему сняли судимость. Это правильно было, он ведь не убийца, а просто в полусне бросил кобуру наотмашь, и всё так неудачно совпало.
Спать мы ложились вечером часов в одиннадцать - двенадцать. После боевых вылетов нам перед ужином выдавали фронтовые 100 грамм водки. И вот мы пили, ужинали и ложились спать.
Кроме водки, нам выдавали курево - папиросы (как правило, "Беломор") и спички. Насколько я помню, мы получали по пачке папирос в день. А в конце войны, вместо "Беломора", нам немецкие сигареты выдавали. Но они плохими были - вонючие, в них не табак, а труха какая-то, только что папиросная бумага была никотином пропитана. Большинство лётчиков меняло свои папиросы техникам на махорку. Она нам даже больше нравилась, чем "Беломор". Махоркой можно было сразу накуриться, чтобы во время вылета курить не хотелось. А техники с нами охотно менялись, потому что им пофорсить хотелось с папиросами. Ну а мы и так лётчики, нам форсить не нужно!
С питанием у нас особых проблем не было. Кормили хорошо. У лётчиков была 5-я норма, то есть кормили нас по усиленной норме, а в паёк входило сливочное масло, сахар и шоколад. Шоколад выдавали - одну плитку на двоих в день. Но обычно мы шоколад сразу не забирали, а в конце недели сразу получали каждый по три плитки. Что характерно, в борт-паёк, который был неприкосновенным и лежал в кабине вместе с аптечкой на случай вынужденной посадки, также входила плитка шоколада, а ещё банка сгущёнки и галеты.
Технический состав, конечно, кормили несколько хуже, чем нас. У них была 6-я норма, то есть меньше калорийность, меньше мяса, сахара и т.д. Однако они тоже не голодали, по крайней мере, в тот период, когда я был на фронте.
И раз уж я заговорил о техниках, скажу, с техническим составом у наших лётчиков всегда были самые хорошие отношения. Техник - это ведь, считай, хозяин самолёта. Именно от него зависит, на исправной ли машине ты полетишь в бой. Мы своим техникам верили от начала и до конца. Приходишь к самолёту, техник докладывает. Обойдёшь машину, посмотришь со всех сторон, спросишь, какие регламентные работы проводилось. Техник тебе расскажет, ты ему на слово веришь, взлетаешь.
Конечно, среди технического состава были и женщины - и мотористки, и младшие специалисты по вооружению. Это были аккуратные девушки, мы к ним относились с уважением. Моим мастером по вооружению была Соня Козловская, она после вылетов набивала мне боекомплект. Лиля Артемьева была секретарём в нашем полку и фиксировала вылеты.
Конечно, иной раз мы могли попросить у девушек, чтобы они нам воротнички подшили или постирали что-нибудь. Были и ребята, которые ухаживали за ними. Периодически это перерастало в более серьёзные отношения, которые заканчивались свадьбой. Так у нас был хороший лётчик командир звена Антонов Павел Кузьмич, впоследствии ставший заместителем командира эскадрильи. А после войны он вообще дослужился до командира нашего 53-го гвардейского истребительного авиаполка. Он был парень скромный, не слишком говорливый, хотя дрался с немцами отважно и стрелял метко. И вот, Паша Антонов ещё до моего прихода в полк женился на своей мотористке Ксении, и они жили дружно и хорошо.
Спрашиваете, не повлияло ли на моё доверие к техникам то, что при первом перелёте в полк меня подвёл мой механик Разин? Нет, не повлияло. Мы, лётчики-истребители, всегда очень уважали своих техников и доверяли им. А Разина военный трибунал осудил на пять лет, его отправили в штрафной батальон. О его дальнейшей судьбе мне ничего не известно.
К остальным техникам, которые были у меня за время войны, никогда никаких претензий не было. Перечислю имена некоторых из них: инженер эскадрильи Иван Кузубов, Никитин, Куваев, Иван Волшак. Мы с ними всегда друг другу верили. Сказал, что сделал, значит сделал. У нас даже взаимоотношения были не сухие служебные, а скорее дружеские.
По этому поводу такой момент вспоминается. В годы войны охотой мало кто занимался, и очень много зайцев расплодилось. Особенно много их было на аэродромах в Польше. Там ведь леса и поля являлись частной собственностью, и на зайцев только хозяева этих угодий могли охотиться. А на аэродромах кто был хозяином, если не мы. Соответственно, мои механики Куваев и сибиряк, фамилию которого я уже не могу вспомнить, охотились на зайцев.
Сибиряк ещё до войны был охотником, однако он время от времени промахивался. А вот Куваев, который всю войну был моим мотористом, бил без промаха. Что интересно, он уроженец подмосковного Серпухова, не занимался ни стрелковым спортом, ни чем-либо подобным, а стрелял так, что из обычной винтовки-трёхлинейки без каких-то там оптических прицелов мог подстрелить зайца на краю аэродрома.
И вот, мы вылетаем на задание. А Куваев за то время, пока нас не было, старался хотя бы двух зайцев подстрелить. Одного он менял хозяйке, в чьей хате мы жили, на самогон, а второго просил зажарить. Прилетаем мы, он нас угощает и самогоном, и зайчатиной.
Конечно, иной раз приходилось и немного подстёгивать техников, чтобы они относились к своим обязанностям предельно добросовестно. Помню, после войны, когда мы стояли в Кёнигсберге (ныне Калининград), в нашей эскадрильи появился техник Матюхин. И вот, у нас в учебно-тренировочной спарке Як-7 сменили мотор, который выработал ресурс. И у нас такое было положение - после ремонта самолёт облётывает всегда лучший лётчик. А поскольку я был командиром эскадрильи, то это было как раз моей обязанностью.
Перед вылетом техник самолёта лейтенант Матюхин мне докладывает:
- Товарищ командир, самолёт к полёту готов!
Я обошёл вокруг самолёта, посмотрел. А это ж спарка, в ней два человека должны лететь. Конечно, можно было и груз какой-то во второй кабине закрепить, но зачем этим заниматься, если есть живой человек. И я говорю Матюхину:
- Садись, полетим вместе.
А он не ожидал такого, говорит:
- Товарищ командир, разрешите, я ещё раз осмотрю машину.
- Зачем ты будешь осматривать?
- А я ещё раз удостоверюсь, что всё в порядке.
- Нет, ты доложил, что самолёт готов. Садись!
Он сел в заднюю кабину, лицо испуганное. А я про себя думаю: "Сейчас тебя выучу, Матюхин, как надо самолёт готовить к вылету!"
Сел в переднюю кабину, запустил двигатель. Слышу, нормально работает, вырулил взлетел. Только оторвался, набрал высоту метров пятнадцать, и перевёл лапку магнето на первый ряд свечей (в Як-7 было два ряда электросвечей, и лётчик при необходимости мог переводить мотор на работу только с одним рядом свечей). Двигатель тут же начал работать так, как будто барахлит. Я немного подождал, и возвратил магнето в исходное положение. А Матюхин же моих манипуляций не видит, решил он, что дело плохо, сидит ни жив ни мёртв. Я облётывал самолёт примерно полчаса. За это время ещё пару раз магнето переключал. Ох, и нагнал я страху на Матюхина!
Садимся, зарулил я самолёт на стоянку. Спрашиваю у своего техника:
- Ну что, Матюхин, понял, как самолёт надо готовить к полёту?
Он опустил голову:
- Понял, товарищ командир.
- Ладно. Пойди остальным техникам расскажи, чтобы больше подобного не было.
У нас на аэродроме все хохотали, когда узнали об этом. И больше у меня ни с Матюхиным, ни с кем-то ещё из техников никогда проблем не было.
Что интересно, в послевоенные годы мне даже удалось повлиять на улучшение питания техников. Дело в том, что до 1956-го года лётчикам привозили обед на аэродром, а техникам нет. А они ведь вставали раньше нас, самолёты готовили, у них немало сил расходовалось. Соответственно, мы их подкармливали, отдавая часть своего обеда.
А в 1956-м году в Москве проходила верховная коллегия по поводу высокой аварийности в авиационных частях. На коллегии присутствовали министр обороны Н.А.Булганин, маршал Г.К.Жуков, который был тогда его заместителем, а также А.М.Василевский, Л.А.Говоров, Н.Г.Кузнецов и многие другие крупные военачальники.
Я к тому моменту был командиром 441-го авиаполка, и выступал на этой коллегии с докладом. Говоря о причинах аварийности, я выделил два момента. Первый - что у нас на полк всего две учебных спарки, а нужно хотя бы четыре, чтобы поддерживать навыки молодых лётчиков. И второй момент - что техников на аэродромах не кормят, а ведь от того, как они подготовят самолёт, нередко зависит жизнь лётчика. Во время доклада Жуков очень пристально на меня смотрел. Взгляд у него тяжёлый, колючий. И не дай Бог тебе моргнуть: кто говорит правду, тот моргать не будет. Но я взгляд выдержал, и в конце коллегии ко мне подошёл маршал Василевский. Он сказал, что решение обозначенных мною проблем достаточно затратно в масштабах страны, но, скорее всего, они будут решены.
И, действительно, примерно через две недели после нашего возвращения в полк вышел приказ кормить на аэродромах не только лётчиков, но и техников, а вскоре в полки начали поступать и дополнительные учебные самолёты-спарки.
Но вернусь к нашим фронтовым будням. Конечно, как и все на фронте, мы верили в приметы. К примеру, старались не фотографироваться перед боевыми вылетами. Сейчас гляжу на наши снимки, их могло бы намного больше быть, если бы не эта примета. Но лётчики, воевавшие ещё в 1941-1942 годах, рассказывали нам: только у них кто сфотографируется перед боевым заданием, так и знай, что его собьют. И мы эту примету уважали, всегда ей следовали.
Однако в Бога мы в ту пору не верили, никто не крестился, только матерились, если туго приходилось.
Что ещё рассказать о быте. Денежные аттестаты, которые нам выдавались за службу, мы в основном отсылали родителям. Но часть денег тратили и на себя, отовариваясь в военторге. Туда привозили конфеты, шоколад, сахар, консервы, колбасы, сухие торты. В общем, мы могли кое-чем побаловать себя. Да и подворотнички мы всё время там покупали.
Стирали свою форму мы, как правило, сами. У лётчиков с этим особых хлопот не было. На аэродроме стояла бочка с бензином, мы кидали туда гимнастёрки, штаны. Потом потрёшь, вся грязь отлетает, пару раз в воду окунёшь, да вешаешь сушиться. И всё нормально - форма чистая!
Мылись мы раз в двадцать-тридцать дней. Нам устраивали полевые бани. В палатках устанавливали печки и котлы. Там стояли бочки - одна с холодной водой, другая с кипятком, рядом лежала ржаная солома. Мыло выдавали нам. Солому мы запаривали кипятком и тёрлись ею, как мочалкой. Грязь отлетала иногда вместе с кровью. Но это мелочи. Всё равно мы радовались, если наступал банный день.
Говоря о бане, я вспоминаю один эпизод. Когда мы летали на Лодзь, вскоре погода ухудшилась, и у нас по случаю отсутствия вылетов организовали баню. Мы моемся, и вдруг сигнальная ракета взлетела. Как потом оказалось, распогодилось немного и бомбардировщики к нашему аэродрому вышли, а от нас требовалось их сопровождать. Соответственно, мы из бани выскочили. Я успел надеть только штаны и рубашку. У меня даже волосы остались намыленными. Вылет прошёл благополучно, но если бы меня сбили, думаю, подивились бы на земле, что лётчик едва одетый и голова в мыле.
А самым неприятным в наших фронтовых буднях было то, что мы в боях теряли товарищей. Особенно обидно было, если это случалось из-за трусости кого-то из сослуживцев погибших.
В июле 1944-го (20.07.1944 - Адексей Пекарш) так погиб Герой Советского Союза, штурман 54-го авиаполка Чичико Кайсарович Бенделиани. Он тоже на "Аэрокобре" летал. Когда его сбили, он вместе с ведомым сопровождал группу штурмовиков Ил-2, которая должна была атаковать возле Западного Буга продвигавшиеся к фронту немецкие резервы. Недалеко от цели их встретили немецкие "Фоке-Вульфы-190".
Чичико Кайсарович был настоящим асом. У него был свой особый приём: он сбивал самолёты противника при лобовой атаке. Подобное мало кому удаётся. Представьте только, когда ты идёшь в лобовую атаку, самолёт противника приближается к тебе под нулевым ракурсом, то есть тебе виден только контур самолёта - кабина, плоскости и всё. И вот, он как-то умел так прицелиться, чтобы, целясь по одному этому контуру, вражеский самолёт сбить. А мы все обычно старались во время боёв такой маневр сделать, чтобы сзади зайти, тогда нам были уже видны не только плоскости, но и фюзеляж, и всё остальное - гораздо легче было попасть. А Бенделиани запросто сбивал в лоб и "мессеры", и "фоккеры".
Думаю, он бы и из того боя вышел победителем. Но его подвёл ведомый - майор В.Д. Верховский, комиссар полка, в прошлом лётчик-бомбардировщик. Мой фронтовой друг Герой Советского Союза Яков Данилович Михайлик подробно описывает гибель Бенделиани в своей книге "Соколиная семья", вышедшей в Воениздате в 1971-м году. Но там Михайлик умалчивает о том, что Верховский струсил. В советские времена всё-таки было не принято писать о том, что комиссар полка может повести себя недостойно. Но наш 53-й полк очень часто стоял на одном аэродроме вместе с 54-м полком. Мы все друг друга знали, дружили и, конечно, были в курсе этой неприятной истории.
Когда лётчика в бою бросает его ведомый, ведущий практически обречён. Так и получилось с Чичико Кайсаровичем. Верховского после этого убрали из комиссаров и перевели куда-то в наземные войска. Что с ним дальше сталось, я не знаю. Но никто из однополчан ему морду за трусость не разбил. Возможно, зря.
Откровенно говоря, от комиссаров и других политработников в лётных частях было больше вреда, чем пользы. В нашем полку комиссаром был Мельниченко. Он ходил всегда подтянутый, отутюженный, но сам был не лётчиком, а пехотинцем. Мельниченко всегда нас поучал. Комиссару это по должности положено. Однако мы его мало уважали, видели, что он только трепаться умеет. Но Мельниченко хоть быстро понял, как мы к его речам относимся, и не допекал нас слишком часто.
Какие-то помпезные партийные мероприятия и митинги, которые принято описывать в мемуарах советских лет, в нашем полку не проводились. Думаю, что так же было и в других авиационных полках. Да они и не нужны по сути были: у всех нас и так были твёрдые советские убеждения.
Партийные собрания у нас проходили в спокойной рабочей обстановке. А когда меня на польской территории принимали в партию в ноябре 1944-го года, то мы просто собрались под крылом самолёта. Присутствовали комиссар, парторг и коммунисты из эскадрильи. Прочитали моё заявление, тут же решили: парень летает хорошо, выполняет свои обязанности, воюет нормально. Подняли руки и проголосовали за то, чтобы принять меня в партию. Как видите, без всяких митингов.
До этого ещё в Руставской авиашколе в 1942-м году я стал кандидатом в члены партии. Коммунисты для нас всегда были примером в выполнении служебного долга и во всём остальном. А я был требовательным к себе, и поэтому не спешил из кандидатов становиться членом партии. А когда понял, что достоин, только тогда написал заявление. Рекомендовали меня в партию Вася Батяев и инженер эскадрильи Иван Кузубов.
Ребята из эскадрильи меня поздравили, но никаких торжеств по этому поводу мы не устраивали. Но, конечно, я всё равно почувствовал, что теперь должен ещё лучше летать, ещё мужественнее сражаться. А через некоторое время в полк приехал представитель из политотдела дивизии и, когда я вернулся с вылета, вручил мне партийный билет, причём опять же под крылом самолёта. После этого я всегда летал не только с удостоверением лётчика в кармане, но и с партбилетом.
Таким образом, официоза было вовсе не так много, как о нём говорят. Однако коммунистами мы были убеждёнными, и я сам остаюсь коммунистом до сих пор.
Как я относился к Сталину? Сталин был у нас верховный главнокомандующий, ему я доверял от начала и до конца. Ещё в школе я видел, как он относился к своему сыну Василию. Сталин даже ему не давал поблажек. Поэтому Иосиф Виссарионович всегда оставался для меня образцом справедливости и мудрости. В моём окружении была непоколебимая вера в него, и никаких сомнений не возникало даже в самые сложные периоды войны.
После так называемых "разоблачений" Хрущёва моё отношение к Сталину не изменилось. Ни один правитель не застрахован от ошибок, а самому Никите Сергеевичу было ой как далеко до Сталина. Хрущёв пришёл к власти только благодаря помощи Жукова, а потом самым подлым образом отстранил Жукова от командования армией, когда тот был в командировке в Югославии.
Жуков подвергся страшной опале. Помню, я отдыхал зимой в конце 50-х годов в санатории в Архангельском. А у Жукова в том районе дача была, он любил заниматься подлёдным ловом. И вот, ко мне прибегает один полковник, рассказывает:
- Рыбачил я, а тут ко мне Жуков подошёл. Спрашивает: "На что ловишь?" Я растерялся, отдал ему свой запас наживки и убежал. Это ж Жуков, репрессированный человек, какое с ним может быть общение...
Я сразу сказал этому полковнику, что он мерзавец, и больше ему руки не подавал. Но, вообще, этот случай был типичным. Жуков в полнейшей изоляции оказался.
Кроме того, придя к власти, Хрущёв понял, какой страшной силой в политической жизни является армия. И он её сократил почти на два миллиона. Причём уволил всех самых опытных фронтовиков, которые обладали собственным мнением и могли высказаться против его курса. Я сам под это сокращение попал, хотя был лётчиком первого класса, командиром дивизии, полковником, летал днём и ночью, здоровье превосходное было и возраст всего 39 лет. А ведь лётчику, чтобы стать профессионалом и уметь летать и воевать в любых условиях, требуется не менее шести лет. Но Хрущёв об этом не задумывался. Возможно, в кукурузе он и разбирался, однако армию он не понимал и люто боялся её.
Завершая рассказ о фронтовом быте, нельзя не вспомнить о письмах, приходивших на фронт из дома. Они были очень важны для каждого бойца, как для лётчика, так и для пехотинца. Получая письма от родных и близких людей, ты как бы более зримо осознавал, за кого ты воюешь, ведь понятие "Родина" неотъемлемо от дорогих тебе людей, живущих в твоей стране.
С родителями я переписывался всю войну. Именно от них узнал о гибели обоих своих братьев.
Моему младшему брату Витьке в 1941-м было всего пятнадцать лет. Но он был рослым парнем, настоящим богатырём, нас со старшим братом на целую голову выше. Когда осенью немцы подходили к Узловой, он как комсомолец добровольцем ушёл на фронт. В военкомате его спросили, сколько ему лет. Он ответил, что восемнадцать. А Витька был парень здоровый, подготовленный, ему поверили. Спросили паспорт. Он сказал, что забыл его дома, потому что спешил в военкомат. А время военное, и его без волокиты зачислили в состав действующей армии. Погиб Витька в 1941-м году под Серпуховым у деревни Клеменки, когда Гудериан с южного направления прорывался к Москве. В Клеменках мой младший брат и похоронен.
Мой старший брат Виталий, как я уже рассказывал, был лётчиком-бомбардировщиком. Но во время службы он однажды сильно простыл, подхватил воспаление лёгких. У него развился туберкулёз, и его демобилизовали перед войной.
Виталий вернулся в Узловую. Его в городе знали, как комсомольца, участника самодеятельности (он очень хорошо пел и играл на духовых инструментах), и взяли работать в горком комсомола.
Осенью 1941-го к Туле подошли немцы и в ноябре заняли город Узловая. Секретарь Тульского обкома Калиновский организовал подполье. Мой брат тоже пошёл в партизаны. Как музыкант, он ездил по области, играл на разных концертах, на танцах и вместе с этим выполнял работу для подполья.
В декабре 1941-го, когда он однажды играл на танцах, его вдруг узнала какая-то девчушка, подошла к нему:
- Здравствуйте, Виталий Зиновьевич, как вы живёте?
Он заговорил с ней. А у немцев уже были списки партизан. И кто-то из полицаев, как услышал его имя и отчество, сразу заподозрил Виталия. Забрали его в гестапо вместе с той девчушкой. Прижали её там, она фамилию моего брата назвала. Немцы, глянули в списки: так и есть, партизан известный. Приговорили его к расстрелу.
Перед расстрелом Виталия держали в землянке. Он находился там в одних кальсонах, рубашке и босиком, поэтому его особо не охраняли. Думали, не сбежит по морозу. А мой брат всё-таки сбежал, и в те лютые декабрьские морозы прошёл полуголый босиком по снегу тридцать километров до Узловой.
А у нас дома как раз немцы остановились, но отец всё равно впустил Виталия. Немцы спросили, кто это такой. Отец им ответил, что это его сын, который ночевал в сарае, а теперь совсем промёрз, пришёл домой погреться.
Виталий залез на печку, у него жар. И так и не оправился он от болезни, умер в начале 1942-го года.
Так что из трёх братьев остался я один. Поэтому, оказавшись на фронте, я врал в письмах к родителям. Писал им, что по-прежнему работаю инструктором в авиашколе на Кавказе. Только после Дня Победы им написал, что закончил войну в Берлине, живой и здоровый.
Кроме родителей я также переписывался со своей будущей женой Марией Петровной Юриковой. Она была младшей сестрой моего инструктора из ОСАВИАХИМа. До того, как я уехал из Узловой, у нас были очень чистые по современным меркам отношения. Мы вместе ходили в школу (Маша училась на класс младше меня). Она очень хорошо пела и танцевала, а через некоторое время начала меня учить танцевать. Вскоре мы поняли, что любим друг друга, но наши отношения оставались очень целомудренными. Тогда подобное поведение было нормой. И, знаете, это ничуть не мешало нам с Машей тосковать друг по другу, пока мы были в разлуке.
Во время войны жизнь моей будущей супруги была не самой лёгкой. В 1941-м она поступила в Московский авиационно-технический институт (МАТИ), но потом вместе с институтом эвакуировалась в Сибирь. Там работала в колхозе, потом в лесхозе, а институт доканчивала уже после войны.
Мы с Машей переписывались всю войну. Письма с фронта, конечно, проходили через цензуру. Так, нам нельзя было рассекречивать местоположение части и всё остальное, что могло представлять военную тайну. Если что-то такое было написано, то цензура это вычёркивала из письма. А практически обо всём остальном можно было писать, даже об усталости и о плохом настроении. Но мы старались писать бодрые письма. Мол воюем, бьём врагов, нас бьют, мы снова бьём, продвигаемся вперёд. Вот такое у нас было настроение, тем более что мы уже понимали: победа не за горами!
6. Освобождение Польши
20 июля 1944-го года советские войска под командованием маршала Рокоссовского прорвали немецкую оборону западнее Ковеля и, форсировав Западный Буг, вошли на территорию Польши. И вот, когда Рокоссовский развивал наступление по освобождению Польши, мы стояли на аэродроме под Ковелем.
И что получилось, как раз в один из тех дней в конце июля погода была нелётная. На нашем участке в небе была десятибалльная низкая облачность, и мы дежурили на аэродроме. Самолёты наших эскадрилий были расставлены так, что с одного конца аэродрома машины одной эскадрильи, с другого - второй, а по центру - третья эскадрилья. Мы сидим в своих машинах в течение часа, потом вылезаем из них, на дежурство другая эскадрилья заступает. И так все по очереди. Благодаря этому дежурная эскадрилья могла сразу же взлететь по сигнальной ракете, а остальные эскадрильи также в случае необходимости быстро бы в воздух поднялись.
Когда мы так дежурили, то, сидя в кабине, можно было и книжку почитать, и письмо домой написать. Но мы обычно просто сидели и наблюдали за окружающей обстановкой. Всё-таки боевое дежурство - есть боевое дежурство. И вот я сижу, смотрю, от линии фронта со стороны Ковеля идёт Ил-2 на высоте примерно 150 метров. Я сначала не придал этому особого значения, потому что аэродром штурмовиков находился неподалёку от нашего. (Мы там все рядом стояли: сначала аэродром нашего полка, через несколько километров от него - аэродром 54-го полка нашей дивизии, а за ним - аэродром штурмовиков.) И вдруг вижу, Ил-2 заходит на наш аэродром, начинает планировать, но пролетает мимо взлётной полосы, поэтому даёт газ, уходит на второй круг. Я удивился, что он промахнулся, но думаю: "Что ж, бывает и такое..."
Второй раз Ил-2 нормально на полосу вышел, приземлился в середине полосы, несётся на шасси в направлении моей эскадрильи. Я стоял в конце полосы, но вижу, что как-то не совсем так он движется. Говорю ребятам:
- Вылазьте из самолётов, сейчас упустит направление - порубит!
Мы выскочили из своих машин. Ил-2 пронёсся всего в пятидесяти метрах от нас, выкатился за полосу и стал на нос.
Мы сразу подбежали к нему. Смотрим, "ильюшин" весь побитый, причём один зенитный снаряд попал как раз между кабинами лётчика и стрелка. Мы взялись за фюзеляж, только качнули, самолёт опустился и переломился пополам между кабинами. Заглянули мы внутрь, стрелок мёртвый сидит, а лётчик ранен в спину, дышит тяжело и кровь идёт.
Мы вытащили лётчика, выдернули у него парашют, расстелили парашют и положили на него лётчика. Потом достали из кабины тело стрелка и тоже на парашют положили. Вызвали санитарную машину.
Лётчик был тяжело ранен, дышал тяжело, то глаза откроет, то закроет. Вскоре санитарная машина приехала, лётчика увезли. Потом мы узнали, что этот штурмовик ходил на разведку через линию фронта. Его на низкой высоте поразило зенитным снарядом, и лётчик тяжело раненый смог пролететь примерно 70 километров, дотянул до нашего аэродрома. До своего аэродрома ему оставалось ещё километров 15-20. Он, видимо, почувствовал, что силы у него на исходе, и приземлился у нас. Причём когда увидел, что на полосу не попадает, сумел на второй круг пойти. Вы только представьте, какая сила воли нужна, чтобы сделать это с тяжёлым ранением! Именно в тот момент я понял, почему немцы, за считанные месяцы захватившие половину Европы, так бесславно начали отступать в России. И мне до сих пор жалко, что я не знаю имени того раненого лётчика. Когда мы его из самолёта вытаскивали, думали ведь только о том, как ему помочь, его удостоверение никто не посмотрел.
Через некоторое время погода улучшилась, и мы продолжили боевые вылеты, участвуя в освобождении Польши. Причём под Ковелем мы пробыли недолго и вскоре перелетели на польский полевой аэродром в районе Хелма.
Мы снова сопровождали штурмовики и бомбардировщики, а также совершали вылеты на разведку, на определение, где противник находится, на расчистку воздушного пространства. Ходили и на свободную охоту.
Я сам во время Великой Отечественной на свободную охоту летал всего несколько раз и ничего героического за время этих вылетов, насколько помню, не совершил. Но ребята, которые ходили на свободную охоту постоянно, не раз немцев сбивали. Таких ребят в каждом полку нашей дивизии было по 4-6 человек. Это были лётчики, которые стреляли особенно метко, отобранные из числа бывалых фронтовиков. Так, в нашем полку на свободную охоту постоянно ходили Павел Кузьмич Антонов, Василий Сергеевич Батяев, Геннадий Сергеевич Дубёнок, Михаил Семёнович Логачёв, Иван Иванович Кобылецкий и другие.
 |
2-я авиаэскадрилья 23 ГвИАП, Польша, 13 октября, 1944 г. Крайний справа во втором ряду - А.З.Бордун |
Скажу несколько слов о перечисленных выше лётчиках, о ком я ещё не рассказывал. Гена Дубёнок был Героем Советского Союза. Он был удостоен этого звания ещё за сталинградские бои. Летал очень хорошо, но был немного с гонорком. Бывало, соберутся наши ребята, начинают по-свойски общаться, шутить, а Гена Дубёнок немного в стороне держится. То есть он старался себя подать так, будто он, будучи героем, чуть выше остальных. Но ребята ему спуску не давали, если зарывался, говорили: "Гена, закройся!" И он особо не обижался, смирял свой гонор, нормальным мужиком был.
Миша Логачёв в конце войны был у меня замом командира эскадрильи. Он сам курский и на Курской дуге начал воевать. Блондин, но волосы с рыжиной. Воевал он хорошо, но характер у него был непростой. Я своим ребятам всё прямо говорил, а он, хотя и относился к ним хорошо, но мог сначала промолчать, а потом попадётся кто ему под горячую руку, так на того всех собак спустит.
Ваня Кобылецкий перешёл к нам в полк из 54-го полка заместителем командира полка в конце войны. Он с 1941-го года воевал, в Сталинграде особо отличился, очень храбро сражался и даже на самолёте Як-1 таранил немецкий истребитель. Сразу после войны ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Про Кобылецкого что интересно. В конце августа 42-го под Сталинградом его сбили, он горел в самолёте. Когда Ваня у нас служил, я обратил внимание, у него спина состояла из сплошных сгустков горелой кожи. И вот, после такого его отправили через сталинградскую переправу пароходом в Саратов. А переправу бомбили, и баржу, на которой он был, потопили. А Кобылецкий, хотя и скромным мужиком был, но своими наградами очень гордился, боялся, что их у него украдут. Он попросил, чтобы их ему завернули в платочек, и этот платочек себе за щеку засунул. У него уже тогда несколько орденов было. Соответственно, когда баржу потопили, он поплыл, а платочек из-за щеки не выпустил. Его возле берега выловили, спасли, вылечили, и он снова летал.
Что самое главное, Кобылецкий был очень добросовестным мужиком. В конце войны у нас многие заслуженные лётчики старались меньше появляться в небе и особо в бой не ввязываться. А Кобылецкий летал, участвовал в боях - и хоть бы что!
Со мною вместе он очень любил летать на спарке Як-7 во время войны. Бывало, скажет: "Давай, слетаем, я тебя проверю!" А сам знал, что у меня пилотирование хорошее. Мы с ним по очереди: то я в переднюю, он в заднюю кабину, то наоборот садились. И летали над своей территорией. Ваня особенно любил, когда я бочку делал на высоте 15-20 метров от земли. Допустим, мы летим, а мимо идут пехотинцы или танкисты едут. Ваня мне сразу говорит: "Сделай бочечку, чтобы народ поинтересовался!" И я делал бочку - одну, вторую, третью...
Кобылецкого после войны демобилизовали по инвалидности. Он в боях не жалел себя, и это сказалось на здоровье. В 1986-м году его в госпиталь положили. А я тогда как раз на экскурсию по Украине поехал и подгадал так, чтобы заехать в Киев и Ваню Кобылецкого в госпитале навестить. Когда я к нему зашёл, мы обнялись, расцеловались, повспоминали былое. А через некоторое время после этого мне написали, что он умер 24 июля 1986-го года. Всё получилось, как в стихах одного поэта-фронтовика: "Мы не от старости умрём, от старых ран умрём".
Но вернусь к свободной охоте. На свободную охоту мы, как правило, ходили одной парой и летали с вытянутым пеленгом. Во время таких полётов в первую очередь исключительная меткость требовалась от ведущих. Ведь задача ведущего - сбить самолёт противника, а задача ведомого охранять ведущего, чтобы того не сбили во время атаки. Когда ты атакуешь, у тебя всё внимание сосредоточено на том, чтобы сбить вражеский самолёт, ты не смотришь назад, со спины тебя ведомый прикрывает. И, надо сказать, постоянно летавшие на свободную охоту ведомые в нашем полку тоже очень меткими были, нередко они даже менялись ролями со своими ведущими. А при необходимости на свободную охоту летали и обычные лётчики, как я.
Освобождая Польшу, наши войска вышли к Одеру. И в первых числах августа 1944-го моя 2-я эскадрилья получила задание перелететь на аэродром Люблин-восточный и сопроводить самолёт-разведчик Пе-2, который должен был произвести воздушную фотосъёмку вдоль линии фронта от Варшавы до Сандомира. А это расстояние около 400 километров!
И вот, мы перелетели на новые аэродром, потом по команде взлетели с него и пристроились за самолётом-разведчиком. Одна беда, нас не предупредили, что этот бомбардировщик, переоборудованный для аэрофотосъёмки, будет идти на высоте 7 000 метров. "Кобры" на этой высоте ещё могли работать вполне эффективно (хотя выше уже нет), но дело в том, что, начиная с высоты 5 000 метров, без кислорода летать нельзя. И хотя у нас в "Аэрокобрах" всегда были кислородные баллоны, но кислородные маски мы брали с собой, только когда заранее знали, что будем летать на больших высотах.
Что делать? Сопровождать самолёт-разведчик мы должны были при любых обстоятельствах, а без кислорода на большой высоте голова начинает кружиться, и это плачевно может кончиться. Вскоре я догадался, и по рации сказал своим ребятам:
- Доставайте шланги.
То есть, хотя маски и нет, ты кислородный шланг в рот берёшь, дохнёшь пару раз и идёшь на одной высоте с самолётом-разведчиком. Потом чувствуешь, что в глазах начинает немного темнеть, опускаешься на высоту 4 500 - 5 000 метров, затем опять высоту набираешь. Так мы и сопровождали. На наше счастье, немецких истребителей в воздухе не было.
Самолёт-разведчик выполнил задание, лётчик поблагодарил нас. Мы сели и оставались на аэродроме Люблин-восточный ещё дней шесть, пока проявляли отснятые во время разведки плёнки и командование их изучало.
И вот, пока я был там, поляки, находившиеся на аэродроме в качестве обслуживающего персонала и охраны, предложили мне посмотреть на Майданек. А я тогда ещё не знал, что так называется печально знаменитый немецкий концлагерь. Думаю, майдан - это, вроде, по-нашему означает базар. Но мне объяснили, что к чему, и я поехал.
Для поездки нам дали "виллис". И, что интересно, на одном из участков пути мы невольно вклинились в колонну правительственных машин. Тогда в Люблине как раз начало формироваться новое польское правительство. Рядом с нашим "виллисом" ехала машина, в которой сидел Роля-Жимерский, главнокомандующий Войска Польского. В других машинах также ехала польская политическая элита. Все одеты так цивильно, но машины у всех разные, лимузинов не было. Однако, что удивительно, мы проехали некоторый отрезок пути вместе с этой колонной, и никто на нас даже внимания не обратил, не говоря уже о том, чтобы остановить и хотя бы документы проверить. Потом мы повернули к Майданеку, а польская правительственная колонна поехала дальше в направлении Люблина.
О Майданеке я не буду рассказывать подробно. Об этом лагере много написано, зачем повторяться? Но, что сразу бросилось в глаза, так это шесть огромных печей, в которых сжигали заключённых. Эти печи были прекрасно видны с воздуха, когда мы взлетали по маршруту, проходящему над лагерем. Поляки рассказывали, что, когда эти печи работали, на Люблин шёл такой дым, что нельзя было дышать от смрада и гари. Многие жители старались бежать из города. Их ловили, но возвращали не домой, а бросали в лагерь.
Ещё одна навсегда врезавшаяся в память деталь. При лагере были разбиты огороды, на которых заставляли работать заключённых. И там была цветная капуста - просто огромная, килограмм по сорок каждый кочан! То зелёная, то ярко-красная с голубым отливом... Она такая крупная выросла, потому что огороды постоянно удобрялись пеплом из печей, в которых заключённых сжигали. Её мы даже с высоты видели, но, пока не побывал в лагере, я не мог понять, почему она такая большая.
Кроме того, мне запомнились четыре барака, стоявших рядом. Они были наполнены вещами казнённых. В одном бараке одежда рассортированная, в другом - обувь, причём тоже разложена по стопкам. Там и сапоги самых больших размеров были, и детской обуви много, даже пинетки. А ещё один из этих четырёх складов был доверху наполнен человеческими волосами, срезанными у заключённых. Из них немцы изготавливали мягкие тапочки для моряков-подводников и стельки для обуви железнодорожников.
Конечно, видел я там и вагонетки для подвозки трупов, и обгоревшие человеческие скелеты, и много других ужасов. Но огромные кочаны капусты, гора детской обуви, барак, доверху набитый волосами - одного этого уже достаточно, чтобы понять, какие зверства творились в Майданеке.
Впрочем, надо рассказать ещё про один момент. В одном из бараков были выставлены изделия, изготовленные из кожи заключённых. Причём немцы особенно ценили, когда на коже была какая-нибудь красивая татуировка, допустим, орёл, бабочка или ещё что-нибудь в том же духе. Кожу сдирали с заключённых, обрабатывали и делали из неё абажуры, кошельки и тому подобное.
После Майданека мы вернулись на аэродром. Пошли в лётную столовую. И гляжу, там сидят пленные немецкие генералы и полковники. Как я узнал потом, там и комендант Люблина был, и комендант Майданека. При виде их меня злость взяла. Посмотрел на них и скомандовал:
- Ну-ка встать!
Видимо, эту фразу по-русски они уже выучили. Их восемь человек было, и все поднялись.
- Вольно, садись, - сказал я.
Они сели за стол и заговорили между собой по-немецки. Видно, недовольны были, что простой офицер ими командует. Но подчинились, перепуганные все были.
Я подошёл к нашему офицеру, который их сопровождал. Это был майор или подполковник, теперь уже не помню точно. Он и рассказал мне, что это люди из бывшего немецкого руководства Люблина. Их накормили, затем прилетел самолёт Ли-2, и их отправили на нём в Москву. В общем, очередные бравые немецкие вояки добрались до нашей столицы вовсе не в том качестве, в каком думали в 41-м году.
Покинув Люблин-восточный, моя эскадрилья продолжала участвовать в боевых вылетах по освобождению Польши. Иной раз, сопровождая штурмовиков, мы тоже штурмовали позиции немцев. Из своих пушек и пулемётов стреляли по их танкам, автомашинам, пехоте. Довелось мне и прикрывать нашу пехоту от немецкой авиации в ходе прорыва к Висле в районе Демблина.
Во время этого прорыва мы двумя эскадрильями (2-й и 3-й) сопровождали бомбардировщики на бомбометания. Нас атаковала десятка "мессеров". Мы атаку отбили, и немецкие истребители сразу ушли. Они всё-таки видели, что у нас значительное численное преимущество. В результате ни нам не удалось сбить вражеский самолёт, ни немцам. Просто отбили атаку и пошли дальше сопровождать бомбардировщики.
Так мы и продвигались к Варшаве, перелетая с одного аэродрома на другой. Между тем, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944-го года наша дивизия была награждена орденом Красного Знамени.
В августе были очень сильные бои под Варшавой. Поляки, подстрекаемые англичанами, преждевременно начали восстание против немцев. А фашисты их прихватили и начали очень жёстко это восстание подавлять. Надо было как-то спасать восставших поляков. И наше командование приняло решение без подготовки начать наступление на Варшаву. Конечно, это стоило нам очень больших потерь. Немцы бросили на противодействие нашим войскам огромные силы, в том числе и значительное количество авиации. Соответственно, мы делали вылеты на расчистку воздуха. Об одном из таких августовских вылетов мне и хотелось бы сейчас рассказать.
Отправился я на это задание, будучи не совсем здоровым. У меня с правой стороны лица был флюс, десну нарвало и раздуло щёку. А у нас в полку стоматологов не было, надо было в госпиталь ехать. И я плюнул на это дело: что ж я буду по каким-то госпиталям мотаться, пока наши ребята с немцами дерутся?! Болит - не болит, а натянул я шлемофон, наушники, да и пошёл на задание.
Мы шли восьмёркой, я нашу восьмёрку возглавлял. Над Варшавой мы встретили штук двадцать "мессеров". Завязался бой, начали делать манёвры с большими перегрузками. У меня был фирменный манёвр - косая петля с последующим выходом с полупереворотом на противника. То есть тянешь на максимальной скорости, переворачиваешься и пикируешь на врага. При это возникает 6-7 кратная перегрузка. Иными словами, мой вес был 70 килограмм, а на меня во время этого манёвра 420 килограмм, а то и больше давило. Но так или иначе манёвр этот мне удался, один из "мессеров" оказался у меня в прицеле, и я сбил его.
Второе звено моей эскадрильи действовало немного выше, и там уже немцам удалось сбить нашего лётчика. Пока я атаковал свой "Мессер", однин из фашистов сумел сбить самолёт Богатырёва, который был ведомым командира второго звена.
Продолжая бой с численно превосходящим противником, мы отходили на свою территорию. И там уже немцы не стали преследовать нас дальше. До их аэродрома оттуда было далеко. У них, видимо, горючее было уже на исходе. Да и у нас тоже. Так мы и разошлись, сбив по самолёту.
Возвращаясь на свой аэродром, я заметил, что за время боя у меня лопнул нарыв на щеке. Ещё бы, при таких-то перегрузках! В результате у меня потекла кровь, гной, всё лицо залило.
Когда я посадил самолёт, зарулил на стоянку, ко мне, не успел я ещё вылезти из кабины, подходит мой механик украинец Иван Лихобабин. Как глянул он на меня, так ему плохо стало, он даже упал с плоскости.
Я его спрашиваю:
- Что с тобой?
А он оторопел:
- Командир, ты как?
- Нормально.
- А что у тебя с лицом? Ты тяжело ранен?
- Нет, не ранен.
- А почему весь в крови?
- Так это зуб выскочил от нагрузки!
Мы потом с Лихобабиным всегда смеялись, когда вспоминали этот случай.
Что ещё помнится из того периода. Жили мы тогда в основном в избах поляков и у нас с ними складывались вполне дружеские отношения. А как иначе? Ведь два славянских народа, к тому же и тот, и другой настрадался от немецких захватчиков. Однако в каждом народе попадаются люди хитрые и жадные. И по этому поводу мне вспоминается несколько смешных случаев, происшедших во время освобождения Польши.
Как-то раз моя эскадрилья поселилась в хате у одного относительно зажиточного поляка. Он сразу наварил бимбера (так назывался польский самогон), чтобы подзаработать, продавая его нам. Ну а мы думаем, почему бы и не купить, всё-таки устаёшь в боевых вылетах, расслабиться как-то нужно.
Купили мы бутылку, предложили хозяину с нами выпить. А он, пройдоха такой, ещё и жену свою начал угощать этим самым самогоном, который мы у него купили. Ну ладно, мы ждём, что он хоть какую-то закуску нам предложит. Всё-таки до этого я никогда не сталкивался, чтобы хозяева нас ничем не угощали, если сами они не голодали. А этот жадничает, ничего не предлагает.
Прошло около часа, и вдруг мой лётчик Горобец (это находчивый такой украинец был, хороший мужик) откуда-то принёс шмат сала. Режет это сало и угощает всех, поляка в том числе. Поляк ест кусок за куском и нахваливает:
- Хорошее сало!
А я не понимаю, откуда Горобец сало взял. Спрашиваю его об этом. Он мне подмигивает: молчи! Оказалось потом, что Горобец залез на чердак к нашему хозяину, а там целый поросёнок копчёный висел. Ну Горобец и отрезал кусок от бока на закуску.
После этого случая мои лётчики ещё не раз к поляку на чердак наведывались. Но, когда мы уезжали, поляка вдруг чёрт дёрнул самому на чердак слазить. А там уже половины поросёнка не было. Наш хозяин сразу прибежал ко мне:
- Командир, ваши съели!
- Так ты ж сам с нами закусывал! - отвечаю, едва сдерживая смех.
- Ну я же думал, что это вы откуда-то ещё принесли...
И что тут делать? Конечно, надо было бы его наказать за жадность. Но мы же лётчики, а не воры. Говорю:
- Ладно. Сколько стоят твои полпоросёнка?
Поляк назвал цену, мы всё заплатили, так что в итоге он в накладе не остался. Да и мы о деньгах не сильно горевали. Всё-таки и сала поели, и посмеялись.
В другом месте торговец-поляк всё норовил нас обсчитать и товар плохой всучить. Так наши мотористы очень остроумно его проучили. Приходит один из них к нему в "склеп" (так по-польски называется нечто вроде магазина или лавки) и спрашивает:
- Пан, кольца нужны? - а они как раз перед этим поршневые кольца на двигателях наших самолётов меняли, и у мотористов много этих колец было.
- А что это такое? - спрашивает поляк.
- Это дефицитная вещь, ставится на моторы у самолётов.
- Нет, не нужно мне такое.
- Да возьми хоть за бутылку!
Поляк подумал немного и согласился, взял набор колец за бутылку бимбера.
На следующий день к нему приходит другой моторист, сговорившийся с первым, смотрит на полку магазина, восклицает:
- А что это у тебя - кольца?!
- Кольца.
- Ой, покажи. Да какое кольцо! Сколько стоит?
Поляк говорит:
- Одно кольцо - 120 злотых, - как раз столько стоила у них бутылка бимбера.
- Хорошо, давай мне три кольца! - моторист забирает кольца, отсчитывает поляку деньги.
А через пару дней к этому торговцу снова приходит первый моторист с кольцами. И поляк взял у него на этот раз сразу целую пачку. Это бутылок на двадцать, если не больше! В результате у поляка в магазине целая полка была этими кольцами завалена.
Потом над этим же торговцем наши механики ещё раз подшутили. Приходят к нему и спрашивают:
- Хочешь иметь самолёт?
- Ну а как же! - отвечает он.
- Пошли смотреть!
Показали ему стоявший на аэродроме самолёт По-2. Поляк его осмотрел со всех сторон. Стали обсуждать цену. Отдал поляк за него двух коней и бимбера несколько литров. А там что получилось. Была пересменка часовых на аэродроме, и пока один ушёл, а другой не пришёл, механики как раз и "продали" самолёт поляку. Тот отдал им коней с самогоном и пошёл на аэродром забирать самолёт. Но к тому моменту там уже часовой был.
Поляк подходит к По-2. Часовой на него косится:
- Ты что здесь делаешь?
- Это мой самолёт. Пришёл забрать.
- Что? Ну-ка марш отсюда! - один выстрел вверх, второй.
Торговец видит, что такое дело, и давай бежать. Пришёл потом к нам жаловаться. Мы его спросили, что случилось. А как он начал рассказывать, так все едва на ногах держались от хохота. Конечно, отдали ему коней. Благо, все, кто хотел, уже на них покатались. А вот несколько литров бимбера так и остались на совести механиков.
Не знаю, как отнесётся к весёлым случаям, о которых я рассказал, человек, не видевший войны. Но нам было просто необходимо хоть изредка над чем-то так смеяться. Это спасало от напряжения боёв. Освобождая Польшу, мы всё лето и половину осени до наступления осенне-зимней оперативной паузы, когда позволяла погода, делали в основном по два вылета в день. Это на сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. А если надо было ещё летать на расчистку воздушного пространства, на прикрытие войск, на разведку, то и до четырёх вылетов в день доходило. И это ещё не самое большое количество, в той же Берлинской операции мы и по пять вылетов в день делали.
Конечно, и друзей теряли постоянно. Именно при освобождении Польши погиб мой ведомый Володя Михайлов. Мы четвёркой сопровождали девятку бомбардировщиков. И у нас завязался воздушный бой с истребителями противника. Их было около десяти машин. Меня прихватила четвёрка истребителей. И Володю тоже прихватили несколько "мессеров". В общем, оторвали нас друг от друга. Другую нашу пару тоже связали боем. Я увидел, что Володе в хвост немец зашёл, подскочил, но отбить не смог. На меня четверо моих немцев с удвоенной силой насели, оттеснили. Я с большим трудом вывернулся, сделав правую косую петлю на максимальной скорости. Лётчики обычно делают левые фигуры пилотажа, выполнять фигуры в правую сторону не каждый умеет, поэтому моего манёвра не ожидали. Я хотел снова рвануть на помощь Володе, но его самолёт уже сбили. Он шёл на посадку раненый, приземлился, скопотировал и разбился.
Володя Михайлов был хорошим парнем, надёжным другом. Он пилотировал умело, стрелял умело, никогда не бросал меня в воздушном бою. Горькая это была потеря.
После Володи моим ведомым стал Борис Стрельников. Он появился у нас в полку в составе пополнения. Я увидел, что этот молодой лётчик летает и стреляет неплохо, взял его к себе ведомым. Боря тоже оказался хорошим, надёжным парнем. С ним я и летал до конца войны.
 |
Зам. Командира 53-го ГвИАП В.С. Батяев (крайний справа) ставит боевую задачу 3-й авиаэскадрилье. Польша, конец 1944 г. А.З.Бордун - второй справа |
Завершая рассказ о боях 1944-го года, добавлю, что в конце этого года меня по решению командира полка назначили командиром второй эскадрильи. Предыдущий командир этой эскадрильи погиб в воздушном бою под Варшавой.
Иван Порфирьевич Моторный посчитал, что из меня получится командир эскадрильи. Надо сказать, что он хорошо знал всех своих лётчиков по их боевым качествам и способностям. Иван Порфирьевич был хорошим организатором и, что самое главное, таким умением обладал: руководя воздушным боем, он и сам дрался с врагом, и работу каждого из нас видел.
Бывало, вечером разбираем мы бой, и Моторный объясняет нам наши ошибки. Допустим, ты начал атаковать истребитель противника, а не посмотрел, что тебя самого сзади могут срубить. На первый раз обошлось, но это ведь не значит, что в следующем бою обойдётся. И Иван Порфирьевич заострял на этом твоё внимание, после такого ты уже внимательнее летал. Или, допустим, ты стрелял по вражескому самолёту, но не сбил. Тогда Моторный тебя спрашивает:
- А ты заклёпки видел на самолёте?
- Нет.
- Ну, тогда и стрелять не надо было. Чего пулять в воздух?
И здесь он был абсолютно прав. В зависимости от глазомера лётчика, заклёпки на самолёте противника ему видны с расстояния 50-75 метров. Соответственно, с этого расстояния и можно было попасть во врага, а полагаться на случай в лётном деле не годится.
Иван Порфирьевич замечательно понимал лётное мастерство, перспективно видел бой, великолепно ориентировался. При этом он никогда не поучал нас свысока, а скорее делился своими знаниями, как талантливый и более опытный лётчик. Мы все воспринимали его, как отца родного.
Однако под конец 1944-го всё-таки убрали Ивана Порфирьевича из нашего полка. Он был взрывным, но справедливым и всегда каждому говорил то, что думает, не взирая на должности и звания. Конечно, это не каждому начальнику понравится. И не сошёлся Иван Порфирьевич с нашим командиром дивизии полковником В.В.Сухорябовым. Да если бы только с ним. Моторный и с начальником политотдела дивизии Акимовым мог поспорить, и с начальником штаба дивизии полковником И.В.Крупениным.
Крупенин тоже был хорошим лётчиком, но с гонором. Под конец войны он уже не летал. И как-то раз Крупенин сделал нашему Ивану Порфирьевичу за что-то замечание, а тот ему:
- Иди ты лесом! Надо летать и воевать, а ты всё стараешься быть в сторонке.
Вот и ополчились наши дивизионные руководители на Моторного, обвинили в пьянстве. Иван Порфирьевич им на это возражал:
- А почему я не могу выпить на отдыхе? Мне, как и всем лётчикам, после трудного вылета иногда нужно напряжение снять.
- Но ты же командир полка!
- А меня лётчики и не видели никогда пьяным! - настаивал Иван Порфирьевич.
Здесь он правду говорил. Если ему требовалось расслабиться, то выпивал он только в своём командирском помещении отдельно от нас и пьяный оттуда никогда не выходил.
Но сживали-то его вовсе не из-за так называемого пьянства. И Моторного сначала перевели в другой корпус, а потом демобилизовали.
После войны Иван Порфирьевич работал в аэропорту Риги разведчиком погоды. Летал на истребителе, пробивал облака, смотрел, что происходит в атмосфере. Для него эти полёты не были особо сложны, он ведь был лётчик первоклассный.
После Моторного командиром нашего полка на некоторое время стал мой давний знакомец Гриша Сахаров. Конечно, до Ивана Порфирьевича ему было далеко, но это тоже был хороший мужик, умелый лётчик. Общался он с нами запросто, любил и выпить, и с ребятами посидеть, да поговорить по душам. Но в пьянстве его не обвиняли, потому что Сахаров, когда с командованием общался, умел и промолчать, если надо.
После Сахарова в самом конце войны нашим командиром полка стал Александр Алексеевич Платонов. Как и Сахаров, он прежде был лётчиком-инспектором в Закавказском военном округе, потом немного позже меня перешёл в нашу дивизию и служил на какой-то должности в дивизионном управлении. В самом конце войны его командиром полка назначили, но в боевых вылетах он уже не участвовал. Тем не менее, мы его тоже уважали. Он воевал ещё в Финляндии и был удостоен за ту войну ордена Ленина. У него была репутация хорошего лётчика. Командиром он был требовательным, но никогда не кричал, не шумел. В быту был неприхотлив. Одним словом, нормальный мужик, ничего плохого о нём я не скажу.
Таким образом, нам было грех жаловаться на своих командиров полка. А с толковыми командирами всегда воюется лучше.
7. Познаньская цитадель
 |
А.З.Бордун в кабине "Аэрокобры" перед вылетом на боевое задание. Познань, март 1945 г. |
В конце осени и в начале зимы 1944-го мы летали мало. Это самое худшее время года для лётчика. В этот период были частые туманы, низкая облачность, плохая видимость, а потом и снегопады.
Однако 14 января 1945-го года началась Варшавско-Познаньская наступательная операция, которая была частью Висло-Одерской операции. Она осуществлялась войсками 1-го Белорусского фронта, поддерживать которые должна была наша 16-я воздушная армия.
Целью Висло-Одерской операции было окончательное освобождение Польши и выход советских войск на рубеж рек Одер и Нейсе, иными словами - выход к Берлину.
У нас снова начались боевые вылеты. 17 января мы делали последние вылеты в район Варшавы на расчистку воздушного пространства. Со стороны противника там как раз работала группа Мельдерса. Это были отборные немецкие лётчики, настоящие асы. У них была даже особая раскраска самолётов: жёлтый кок и концы крыльев с жёлтыми полосами, на фюзеляжах то лев намалёван, то тигр.
И вот с такими ребятами моя эскадрилья завязала бой в районе населённого пункта Луков, который недалеко от Варшавы. О том, что нам противостоят лётчики из группы Мельдерса, мы уже знали, у нас ведь тоже разведка работала. Соответственно, были настроены на серьёзного противника. И, действительно, дрались эти немцы отважно, техника пилотирования у них была хорошая.
Бой шёл на вертикалях. Несколько минут мы маневрировали, не стреляя друг в друга. Опытные лётчики открывают огонь, только когда займут выгодное положение и противник у них в прицеле окажется. Однако пока займёшь такое положение, приходится по вертикали три-пять минут помотаться.
И как-то так получилось, что я прозевал, и, вижу, немец зашёл ко мне в хвост. Я сразу ногу вправо дал, и его первая очередь прошла мимо меня. Конечно, он добил бы меня второй очередью. Но я перехитрил его. Резко взял на себя ручку управления и дёрнул самолёт так, что со всего корпуса машины пошли струи. Когда производишь резкий манёвр, то воздушный поток срывается, и на консолях, на отдельных выступах самолёта появляются белые струи.
Увидев это, немец решил, что он сбил мой самолёт и проскочил мимо меня. А я тут же ручку отдал, моя "Кобра" крутнулась на одном месте, и этот "мессер" оказался перед носом моего самолёта. Я поймал его в прицел, очередь дал и сбил.
Вернулись мы на аэродром. Было около пяти вечера. Всё вокруг серое, погода сырая. И начало меня клонить в сон. Как-никак, в этот день было два воздушных боя, и когда на вертикалях ходили, перегрузки были страшные, 6-8-кратные, а сердце-то одно. Пока мои лётчики собирались, прилёг я на чехлы возле самолёта, да и задремал. Благо, на мне был лётный меховой комбинезон, под ним куртка, так что замёрзнуть я не мог.
А эскадрилья моя собралась, пошла в столовую на ужин. Там только заметили, что меня нет. Вернулись на аэродром. Видят, лежу я на чехлах, и меня снежком даже припорошило. Растолкали они меня, пошёл я ужинать.
Ещё что-то особенное о наших январских вылетах я спустя столько лет вспомнить не могу. Однако я до сих пор не могу без улыбки вспоминать о задании, которое мы получили в середине февраля, когда город Познань был фактически взят. Не взятой оставалась только познаньская Цитадель - старинная крепость, превращённая немцами в непреступный бастион, куда отошли остатки сил гитлеровцев. О штурме Цитадели я расскажу немного позже.
Так вот, город Познань уже был по сути в наших руках, и танковые части получили приказ двигаться дальше на Берлин. Однако сразу после взятия города танкисты немного похозяйничали на его улицах, и как-то получилось, что несколько из них зашли в немецкую бактериологическую лабораторию. В этой лаборатории немцы культивировали бактерии чумы и других подобных заболеваний, исследовали возможности их применения в качестве оружия. А наши танкисты увидели там банки с какой-то жидкостью, понюхали - спирт! Выпили, а на следующий день поехали дальше наступать.
 |
А.З. Бордун (справа) с механиком Иваном Лошаком. Познань, март 1945 г. |
И вот, когда они ушли уже далеко, к нам поступило задание: найти этих ребят. На башнях у танков каждой части были свои опознавательные знаки, чтобы можно было с воздуха ориентироваться: раскрашенный определённым цветом квадрат, треугольник или другая геометрическая фигура. Нам сообщили опознавательный знак, который нужно искать на башнях, и мы вылетели.
Обнаружили мы этих танкистов километрах в 50-60 за Познанью. В этом районе немцы ещё удерживали фронт, но наши танкисты прорвали его на своём участке и ушли вперёд. Мы их нашли, передали по радио. Туда сразу после этого прилетел самолёт По-2 со специалистами. И что бы вы думали, ребята, выпившие спирт из баклаборатории оказались живы и здоровы! Представляете, выпили всё подряд, и ничего им не сделалось! Однако убедиться в этом было необходимо. Сами понимаете, если бы они были больны чумой, холерой или чем ещё, так всех вокруг бы позаразили...
В Познани наш полк сидел на Западном аэродроме вместе с 54-м полком и полком бомбардировщиков Пе-2. Там очень большой аэродром был, и все три наших полка на нём поместились.
После полёта на поиски танкистов получили мы обычное задание по прикрытию бомбардировщиков. Собрались мы с ними вместе. Их самолёты стояли на левой, а наши на правой стороне аэродрома. Поставили нам общую задачу. Бомбардировщики начали готовиться, достали карты, разложили, штурманы маршрут просчитывают... А мы ничего такого не делаем. Бомбардировщики смотрят на нас, спрашивают:
- А вы будете готовиться?
А какая у нас подготовка. Вытаскиваешь карту из-за голенища сапога (мы карты в планшетах никогда не носили), берёшь карандаш и проводишь линию от какой-то точки рядом с аэродромом до цели. И всё. Причём свой аэродром мы не обозначали, чтобы, если собьют, враг не узнал, где он находится. Бомбардировщики удивляются:
- И что, это вся у вас подготовка?
- Да, вся подготовка.
Конечно, у них ведь для расчёта маршрутов у лётчиков даже штурманы были, а нам такой тщательной подготовки не требовалось. Перед истребителями ведь другие задачи стоят. Но зато в любом месте, где мы останавливались, у нас в хате потолок всегда был разрисован. В нашем полку среди младших специалистов технического состава были ребята, которые умели рисовать. Они и переносили на потолок карту района боевых действий, извилины рек, дороги, контуры леса и другие характерные моменты рельефа местности. А уже на печках и стенах мы сами рисовали углём или карандашом карты каких-то дополнительных районов, куда нам предстояло лететь.
Соответственно, когда мы отдыхали, то вольно или невольно смотрели на эти карты на потолке и стенах, запоминали. При этом, конечно, и зрительная память развивалась. А для лётчика зрительная память - это первое дело. Таким образом, хотя карты и лежали у нас обычно за голенищем, но всегда были в голове. Мы как ориентировались. Взлетаешь, смотришь солнышко слева. Значит, на обратном пути оно уже должно быть не на левом крыле, а на правом плече. В полёте видишь что-нибудь приметное. Например, перекрёсток дорог, неподалёку от которого речка проходит. И уже сразу понимаешь, где именно находишься.
Подобное умение особенно помогало, когда случались воздушные бои. Пока дерёшься с противником, тебе не до того, чтобы смотреть, где ты оказался. Но только бой закончился, смотришь, где солнце. Если не с той стороны, с которой должно быть, то разворачиваешься. Потом летишь и видишь, допустим, лесной массив, по его конфигурации сразу определяешь, где ты. Достанешь карту, сверишься, всё правильно - и летишь дальше. А уж последний участок пути до своего аэродрома мы, как говорится, и с закрытыми глазами могли пройти!
Что ещё интересно. Надо признаться, рисовали мы не только карты на потолках. На своих самолётах мы рисовали звёзды по количеству сбитых самолётов противника. И у каждого лётчика в нашем полку на его истребителе белой краской было нарисовано столько звёзд, сколько он сбил самолётов за время войны. Благо, это в начале войны был один самолёт на несколько лётчиков, а уже к концу 43-го, когда мы получали "Аэрокобры", у каждого был свой самолёт. Более того, к Варшавско-Познаньской операции у нас было по два самолёта на лётчика-истребителя. Это позволяло нам сделать за день максимальное количество вылетов. А такая необходимость периодически возникала, особенно, когда шли сильные бои и нужно было обеспечивать войскам постоянное прикрытие с воздуха.
То есть ты приходишь с задания, докладываешь, садишься во второй самолёт и снова взлетаешь по команде. А техники за это время тот самолёт, на котором ты с прошлого вылета прилетел, осматривают, заряжают боеприпасами и т.д. И пока ты вернёшься, он тоже готов к бою.
Все самолёты нашей дивизии также имели определённую раскраску, в зависимости от полка. К примеру, У 53-го полка был красный кок и красная косынка на околышке руля поворотов. У 54-го полка - белый кок и белая косынка. У 55-го полка - голубой кок и соответствующая косынка. А номера у всех нас были нанесены белой краской сбоку около дверки ближе к винту. Я до сих пор свой номер помню - 42-й. При этом ничего особенного на своих самолётах мы не рисовали. Это немцы любили изображать львов и других животных, чтобы нас устрашить. Но мы всё равно их успешно сбивали.
Однако расскажу, наконец, о штурме познаньской Цитадели. Она располагалась на возвышенности и была окружена противотанковым рвом пятиметровой глубины и шириной около тридцати метров. Весной этот ров наполнялся водой, но тогда, в конце зимы, воды ещё не было. За рвом была крепость, сложенная из красного кирпича. Толщина стен в ней была полтора-два метра. Причём шесть этажей в ней находилось под землёй, а в верхней части, находившейся над землёй, были зарешёченные амбразуры с огневыми точками. И всё это сооружение сверху было покрыто землёй, там сосны росли. То есть Цитадель была замаскирована, чтобы противник не мог её обнаружить с воздуха.
Группировка, засевшая в крепости, насчитывала более пяти тысяч человек. Это были отборные ребята - эсэсовцы, артиллеристы, а также немецкие курсанты из находившихся в Познани лётного, зенитно-артиллерийского и танкового военных училищ. У них в Цитадели была своя электростанция, своя водокачка, свои склады с питанием и боеприпасами. Со всем этим они там очень долго держаться могли. Более того, наш Западный аэродром, и второй - Восточный, где сидели истребители из другой дивизии, находились неподалёку от Цитадели.
И вот, наш СМЕРШевец Коля Шеспинский нам сообщил, что прилетавшие ночью немецкие самолёты-разведчики передали по радио гарнизону Цитадели приказ Гитлера: если они возьмут один из наших аэродромов, то им всем сразу присвоят офицерские звания и вывезут по воздуху в Берлин.
К слову, капитан Коля Шеспинский всегда, когда мог, давал нам полезную информацию. И если многие военные ругают СМЕРШевцев (в большинстве случаев, я думаю, вполне справедливо), то о Коле я ничего плохого сказать не могу. Он добросовестно занимался своей работой, а среди нас "врагов народа" не выискивал.
Для примера расскажу об одном случае. Уже под конец войны немецкие "Юнкерсы" сбросили ночью на наш аэродром листовки следующего содержания. Мол, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о розыске военнопленных и, если мы хотим узнать о судьбе наших родственников и друзей, оказавшихся в плену, нам нужно писать по такому-то адресу в Москву. Естественно, никакого такого указа не было. А немцы разбросали эти листовки, чтобы напомнить нам о том, что три миллиона наших солдат попали к ним в плен, и деморализовать нас. Действительно, у нас практически у каждого был родственник или друг, попавший в плен. Однако деморализовать нас подобными листовками было нельзя: мы ведь наоборот думали, что возьмём Берлин и все русские пленные на свободе окажутся. Так что просчитались немецкие пропагандисты. Однако рассказ не об этом.
Я прочитал немецкую пропаганду, да и взял себе пару листовок. У нас бумаги мало было, а листовки на ту же самокрутку могли сгодиться. Положил я их в свой планшет. Карты мы за голенищем сапога носили, а планшет для листовок вполне сгодился. Иду по аэродрому, мне навстречу Коля Шеспинский. Конечно, он, будучи СМЕРШевцем, всполошился, что немецкие листовки по всему аэродрому раскиданы. Поздоровались мы. Коля видит, что у меня планшет в руках. Говорит:
- Дай-ка, я на твой планшет посмотрю.
Я без всякой задней мысли протянул ему свой планшет. Он достаёт листовки и спрашивает меня:
- Ты читал?
- Читал.
- А то, что на обороте написано, читал?
- Нет.
- Ну так прочитай!
Я переворачиваю листовку и вижу такую надпись: "Данная листовка является пропуском на немецкую территорию". То есть я, как лётчик, мог сесть на вражеской территории и с этой листовкой перейти на их сторону. В те времена хранение подобных вещей было подсудным делом. Меня с этой листовкой могли в лагерях сгноить. А Коля посмотрел на меня, сказал:
- В следующий раз читай с обеих сторон, - забрал у меня листовки и никому не сказал о происшедшем.
И никаких проблем у меня в связи с этим делом не было. Вообще, у Шеспинского было такое качество: свою работу он знал, а под кого-то из нас никогда не подкапывался. Мы его за это уважали, хороший был мужик.
Но вернусь к познаньской Цитадели. Не знаю, действительно ли немцы собирались покидать Цитадель и штурмовать наши аэродромы. Но, так или иначе, сложилась ситуация, когда основные войска нашего фронта уже взяли плацдарм на берегу Одера, вышли к Берлину, а в Познани остались только тыловые части, а эта Цитадель так и не была взята.
Жукову доложили об этом, он приехал в Познань. Как раз и на наш аэродром заезжал. Приехал он на "виллисе", его ещё на двух "виллисах" сопровождали. Взгляд у него такой суровый был. И вот, разобрался он в ситуации. А в Познани что творилось: тыловые части стояли, и кто мародёрничал, кто пил-гулял. Жуков сразу коменданта Познани взял за шкирку, приказал собрать всех мародёрствующих и организовал штурм Цитадели. Что главное, перед штурмом нашли немца, который знал расположение коммуникаций и электростанции крепости. После этого авиация отработала как положено, даже мы, истребители, стреляли по этой Цитадели из своих пулемётов и пушек. Однако авиации противника в районе Познани не было, поэтому вылеты обошлись без воздушных боёв. И уже после этого пехота пошла на штурм. 23 февраля 1945-го Цитадель взяли, как раз в День советской армии. Конечно, многие мародёры при штурме погибли, да и нормальных ребят тоже немало с жизнями простилось. Но оставлять эту крепость позади наступающей армии было нельзя.
Мы с ребятами поехали посмотреть на Цитадель через некоторое время после штурма. Во многих местах через ров были переброшены штурмовые мостики. По ним в ходе штурма пехотинцы к крепости прорывались. А наши танки в это время стояли вокруг рва и вели из своих орудий прицельный огонь по огневым точкам защитников крепости.
К моменту нашего появления по штурмовым мостикам уже пленных вели. Что удивительно, среди них и русские бабы были. Но наши пехотинцы этих баб там сразу и расстреляли за предательство.
Рассказали нам пехотинцы, как штурм проходил. Оказывается, сначала пустили огнемётчиков. Они прошли по штурмовым мостикам, вышли к зарешёченным окнам и пустили туда струи из своих огнемётов. В крепости сначала верхний этаж загорелся, потом огонь ниже пошёл, и из неё начали горящие немцы выползать. При этом некоторые молодые немцы, выползая, пели песню гитлерюгенда (а может, и какую-то другую немецкую песню, но нам пехотинцы именно так рассказывали). Видимо, для них она была, как для нас "Интернационал". Наши их в плен брали, а поляки, участвовавшие в штурме, пленных не брали, сразу расстреливали. Поляков можно понять, всё-таки это были как раз те немцы, что на их земле бесчинствовали.
Идём дальше, нас подзывают к себе танкисты, стоявшие возле своих Т-34.
- Лётчики, давай сюда!
Танкисты - молодые ребята, как один русоволосые, курносые. У них на гусеницах лежат два ящика с мармеладом. Как я потом узнал, это они на складе в Цитадели взяли. Там же танкисты прихватили и несколько ящиков коньяка.
Мы подходим, танкист отбивает о броню горлышко коньячной бутылки и выливает её всю в большую консервную банку от свиной тушёнки, протягивает мне:
- Давай, выпей за нашу победу!
Я выпил, сколько мог. Только банку от лица отодвинул, он мне чуть ли не в рот сунул горсть мармелада на закуску. Угостили они всю мою эскадрилью. Постояли мы с ними немного, пошли дальше.
Идём по перелеску, окружавшему противотанковый ров Цитадели. И вдруг я вижу такую картину. Лежит сосна, поваленная снарядом в ходе артподготовки. На ней сидит пехотинец. Рядом лежит портянка, на портянке банка свиной тушёнки и две бутылки коньяка. А второму пехотинцу сесть не на что было. Он подобрал замёрзший скрюченный труп немца, поставил его на четвереньки и уселся на него. И вот они сидят, выпивают, рядом автоматы лежат. По их разговору я понял, что это два мужика из одной деревни, которые служили в разных частях, а после штурма встретились.
И вот, они вспоминают односельчан, как в поле работали и всё такое. У немца половины головы нет, кишки торчат, а пехотинец спокойно сидит на нём, выпивает закусывает, разговаривает. И видно, что оба мужика простые, сельские. Возможно, они и стрелять не умели до того, как немцы на нашу страну напали. А повоевав в пехоте, конечно, и не такое видели...
Заметив нас, пехотинцы предложили:
- Ребята, садись с нами.
Но мы отказались, потому что уже отметили с танкистами взятие Цитадели, нам же нужно было ещё и на аэродром как-то возвращаться.
Вскоре после взятия Цитадели, уже в самом конце февраля, мы как-то раз сопровождали бомбардировщики Пе-2 на бомбометание в район севернее Штеттина. И на обратном пути я вдруг заметил немецкие танки внизу. Доложил об этом командиру полка. Он передал эту информацию в штаб фронта. А там сразу догадались, в чём дело. Наши войска взяли плацдарм за Одером и выстроились в огромный клин протяжённостью километров пятьдесят. Однако немцы удерживали оборону с юга и с севера. И с севера немцы решили ударить нам во фланг. Клейст сформировал войсковую группу, которая должна была ударить по нашим войскам, занявшим плацдарм, чтобы отсечь и разгромить головную часть советского клина. В этой немецкой группе было несколько сотен танков и пехота.
Соответственно, только я прилетел на аэродром, туда представитель командования приехал. Расспросили меня подробно, что и как, и отправили на доразведку. Моя эскадрилья сразу взлетела. Но погода уже испортилась, дымка стояла. А немецкие танки замаскировались, понимали фрицы, что мы им всю малину испортим, если найдём их местоположение до того, как они дождутся подходящего момента, чтобы по нашим войскам ударить. В результате мы несколько дней подряд летали на высоте 150-200 метров, искали эти танки.
Наконец, нервы у немецких танкистов сдали, и когда мы пролетали прямо над ними, они открыли по нам огонь из танковых орудий. Ну, тут уж нам точно стало ясно, где они находятся. Мы собрались уходить. Однако в небе "мессеры" появились. Завязался воздушный бой. Мы восьмёркой шли, и немецких самолётов примерно столько же было. В результате у нас такая карусель завязалась. Тут "мессер", тут я, тут "мессер", тут наш самолёт... Ох, как покрутиться тут пришлось. Но потом я всё-таки поймал противника в прицел, и сбил один "Мессершмитт-109". Отбились мы от немцев, после этого собрал я группу, и мы ушли на аэродром.
После нашего возвращения собрали большую группу бомбардировщиков Ту-2 и Пе-2 для бомбардировки найденных нами танков. Мы, истребители, полетели в качестве сопровождения.
Когда наши самолёты дошли до цели, немецкие танкисты сразу вызвали мощную группу воздушного прикрытия. Там и "Мессершмитты" были, и "Фоккевульфы". Мы сразу связали боем истребители противника, а наши бомбардировщики в это время заходят, бомбят. Наконец, отбомбились, в облака ушли. Я по рации спрашиваю:
- Как там?
- Всё нормально, отбомбились, в облаках идём. А вы разбирайтесь сами.
Ну, мы и разобрались в итоге. У нас такая же карусель завязалась, что и в прошлый раз, только на этот раз самолётов с обеих сторон было больше. И вот, я пытаюсь захватить противника в прицел. Меня сзади ведомый прикрывает, но его в это время другой немец захватить в прицел пытается. Такая была котовасия. В результате немцам удалось сбить четыре наших самолёта. Никто из тех четырёх лётчиков в полк не вернулся, все погибли. Я сейчас могу вспомнить фамилии только двоих из них. Это Коля Дерябин и Хрюкин. Последний был ведомым у моего заместителя командира эскадрильи Кузьмина. А брат у Хрюкина тоже был лётчиком. Он работал на Ил-2, был командиром полка, героем Советского Союза. Он через некоторое время прилетал к нам, спрашивал как погиб его брат. Однако, надо сказать, мы в том бою отплатили за смерть наших ребят. Немцы сбили у нас четверых, а нам удалось сбить семь или восемь их машин (Бой имел место 01.03.1945, в нем действительно погиб мл. лейтенант Владимир Кузьмич Хрюкин - брат Героя Советского Союза. К сожалению, фамилии остальных летунов мне неизвестны - Алексей Пекарш).
Я сам сбил очередной "мессер". Увидел, что он атакует соседнего лётчика. Думаю, надо помочь. Подошёл к вражескому самолёту. Надо сказать, мы старались подходить к истребителю противника так, чтобы были чётко видны его элероны и заклёпки. И я как раз так удачно подошёл и сбоку по фашисту ударил. А там сразу же видно, попал ты или нет. После твоей очереди по воздуху трасса идёт, и если ты попал по врагу, она обрывается, а если не попал, продолжает дальше от самолёта уходить. Кроме того, когда ты попадаешь в самолёт, его лётчик инстинктивно поддёргивает самолёт, ручку хватает на себя, оглядываясь назад. И вот, если трасса обрывается и самолёт такой клевок делает, то уже ясно, что ты попал по противнику. И я по нему хорошо так ударил сразу из пушки и из пулемётов. Он клевок сделал и задымил.
Потом мы ещё несколько вылетов совершали на уничтожение этой немецкой группировки и в итоге разгромили её полностью, не дали ей ударить по нашим войскам.
3 марта я отпраздновал свой очередной день рождения. Да так отпраздновал, что чуть не лишился самолёта на следующий день. Но перед этим необходимо рассказать небольшую предысторию.
В Познани в районе железнодорожного вокзала стояло три клёпаных нефтеналивных цистерны, наполненных спиртом. Огромные такие цистерны. В войсках узнали о них после взятия города и начали черпать. Тогда командование возле них поставило охрану из русских солдат. Но это ничего не изменило. Кто-нибудь за спиртом подходит, спрашивает у часового:
- Чего стоишь?
- Да спирт охраняю.
- Ну, корешок, дай черпануть.
- Залазь, черпай!
Видя такое дело, командование выставило часовых поляков, решив, что они проявят б?льшую исполнительность. Однако и это не помогло. Если часовой упорствовал, наши подъезжали к нему на танке и просто отодвигали поляка пушечным стволом вместе с винтовкой в сторону.
И вот, этот спирт сначала котелками доставали, потом на ремнях пришлось котелки опускать. А потом уже дочерпали до такой степени, что приходилось ещё и самим нагибаться, просовывая голову в цистерну, чтобы спирта набрать. Ну а за спиртом ведь ездили, нередко уже будучи пьяными. Пьяные иной раз не удерживали равновесия и ныряли в эти цистерны. А спирт же не вода, там захлебнуться ещё проще. И вот мы к тому моменту, как цистерны подожгли, уже на Берлин ходили. Обратно летишь, если видишь вдали три огромных свечки, значит, точно идёшь на аэродром. То есть цистерны эти горели, как огромные спиртовки, в течение 10-12 суток, и видно их было с воздуха километров за пятьдесят.
Однако ещё в ту пору, когда спирт можно было без труда зачерпнуть, не просовываясь в цистерну, мой механик поехал туда за спиртом перед моим днём рождения и привёз целую десятилитровую канистру. Имея такое изобилие, мы праздновали аж двумя полками. Из 54-го полка пришли Илья Чумбарев, Сашка Денисов и многие другие ребята.
Отметили мы, а на следующий день с утра полетели на задание - сопровождать бомбардировщики. Ну а спирт же такое свойство имеет: если его много выпить, а на следующий день с утра выпить воды, то тебя вскоре опять развезёт. И, видимо, это произошло с Ильёй Чумбаревым. Вышли мы район Одера, и Илья на своём самолёте при перестроении, снижаясь, не увидел меня и рубанул мне правое крыло, элерон по лонжерон отсёк винтом, при этом сам плоскость свою смял. Но я сумел его сбросить, а то бы оба на землю рухнули. Чумбарев сорвался в штопор и выпрыгнул с парашютом.
Приземлившись, он попал в передовую часть к нашей пехоте в районе Одера. Там видели, как он со мной столкнулся. Посочувствовали ему, снова налили как следует, а потом на попутной машине отправили на аэродром.
А я после столкновения с Ильёй увидел, что еле лечу с обрубленной плоскостью. Думаю, конец мне, если бой завяжется. Передал управление группой своему заместителю, а сам потихонечку пошёл домой.
Подлетаю к своему аэродрому. Думаю, как мне садиться с обрубленной плоскостью. Осмотрелся, сбавляю обороты мотора. Вижу, самолёт не падает на крыло. Значит, сяду. Одна беда, закрылки я выпустить не мог, они ж под плоскостью располагаются, их тоже обрубило. Но, ничего, выпустил шасси, потихонечку подвёл самолёт к взлётной полосе, начал снижаться, прибрал газ, сел, пробежку по полосе сделал, притормозил, заруливаю на стоянку. В общем, сел благополучно.
Между тем нашему командиру дивизии полковнику Сухорябову уже доложили о случившимся. Но только Илья Чумбарев в том состоянии, в котором он был, не разобрался, как всё получилось, и сказал комдиву, что это я его подбил.
Сухорябов сразу вызывает меня. Я приехал к нему, доложился:
- Командир эскадрильи старший лейтенант Бордун по вашему приказанию прибыл.
Он сразу на меня:
- Вы почему столкнулись с Чумбаревым?
- Товарищ командир, если я на кобре летаю задом и хвостом вперёд, то я виноват, а если я летаю нормально, то кто-то другой.
- Как так? Поедем смотреть самолёт!
Подъехали мы с ним к моей "Аэрокобре". Посмотрел он, как у меня плоскость обрублена, а сам ведь лётчик, понимает, что к чему. Тут Сухорябов сразу потеплел:
- А чего ж ты раньше не сказал, что это Чумбарев тебя стукнул?
- Да я ж говорил, что хвостом вперёд не летаю.
Конечно, командир дивизии после этого отругал Чумбарева на чём свет стоит. Но Илья был очень умелым лётчиком, героем Сталинграда, и дело спустили на тормозах. При этом и моё отношение к нему не испортилось. Чумбарев пришёл ко мне на следующий день, извинился. Сказал, что сам не разобрался и действительно думал, что это я его сбил. Он был парнем хорошим, и я на него зла не держал. Главное, мы оба в живых остались.
А самолёт мой починили буквально в тот же день. Там нужно было плоскость сменить.
В марте мы сопровождали бомбардировщики во время вылетов уже непосредственно на Штеттин. Там была переправа Альдам, через которую немцы пытались уйти на запад в сторону Эльбы. И, помню, как-то раз мы сопровождали девятку Пе-2, когда они бомбили эту переправу, чтобы не дать немцам уйти.
Что получилось, зенитный снаряд разорвался под самолётом ведущего бомбардировщиков. В результате Пе-2 перевернуло, что называется, вверх ногами, при этом у самолёта даже тормозные решётки сами выпустились. (На "пешках" под крыльями были специальные тормозные решётки, которые выпускались при пикировании, чтобы машина не разогналась слишком сильно и из пикирования выйти могла.)
Стрелок из экипажа бомбардировщика, когда самолёт перевернулся, с перепугу выпрыгнул с парашютом. Но лётчик не потерял самообладание, сделал бочку и вернул "пешку" в исходное положение.
Я спрашиваю по рации лётчика:
- Как вы там?
- Ничего, нормально.
- Твой стрелок выпрыгнул.
- Я уже понял.
Между тем, Пе-2 идёт со снижением, моторы дымят. Спрашиваю у лётчика по рации:
- Командир, что делать собираешься?
- Садиться будем.
- Давай, садись. Я тебя прикрою.
Подошёл к "пешке" и сопроводил её, пока она на брюхо ни села. Потом вижу, ребята выскочили из неё, машут мне, мол, всё у них нормально. Остальные Пе-2 тем временем уже домой пошли, и мы с ведомым тоже полетели на свой аэродром.
Ладно, дошли мы до Рогачёва. Там был аэродром другого истребительного полка. Я сел там, документы показал, объяснил причину посадки. Захлопнул дверцу, и вдруг ко мне мой старый товарищ Лёшка Митусов подбегает. Оказалось, он на этом аэродроме сидел. Однако общаться нам было некогда в тот раз. Мне нужно было на свой аэродром спешить. И я сказал Лёшке:
- В Германии поговорим.
Так оно потом и получилось.
8. "Аэрокобра" и другие истребители
Перед рассказом о своём участии в Берлинской операции, сделаю небольшое отступление и расскажу о том, какой машиной была "Аэрокобра" с точки зрения лётчика и сравню её с другими самолётами, на которых мне доводилось летать, а также с немецкими самолётами, против которых нам приходилось бороться.
Когда я впервые сел в кабину "Аэрокобры", мне как лётчику-инструктору было, безусловно, интересно ознакомиться с новым для меня самолётом. И за годы войны я убедился, что "Кобра" - это действительно надёжная и хорошо сконструированная машина.
Какие у неё были сильные стороны. Многие лётчики и я в том числе, прежде всего, ценили в этом самолёте мощное вооружение. На "Кобрах", которые были у нас, стояло два 12,7-мм пулемёта "Кольт-Браунинг" и кроме них ещё и 37-мм пушка M4. Летать на модификациях "Кобры" с двумя дополнительными крыльевыми пулемётами мне не доводилось, но скажу, что и двух крупнокалиберных пулемётов было вполне достаточно для воздушного боя. Так, например, вооружение МиГ-3 состояло всего из двух 12,7-мм пулемётов, но эта машина имела прекрасные боевые характеристики. А на "Кобре", кроме двух хороших пулемётов, стояла ещё и пушка M4. Её скорострельность была более чем достаточной: за 10 секунд можно было выпустить весь боезапас. Естественно, мы расходовали снаряды более экономно. Давали короткую очередь, выпуская из пушки по противнику за 2-3 секунды 4-5 снарядов, а потом, если видели, что надо, то добавляли. При этом "Кобру" никогда не трясло и не уводило при стрельбе, так что к её вооружению ни у кого в моём полку претензий не было.
Второе очень важное достоинство "Аэрокобры" - это её устойчивость на взлёте и на посадке. Этот самолёт был очень неприхотлив. Трёхстоечное шасси позволяло "Кобре" взлетать с грунтовых аэродромов, даже если полоса раскисала из-за непогоды. В этом плане машина была гораздо более приспособленной к полевым условиям, чем наши отечественные самолёты.
Здесь мне вспоминается, как мы вместе с 54-м полком стояли в Познани, а 55-й полк сел в стороне на грунтовый аэродром. И вот, с приходом весны началась сильная оттепель, у 55-го полка взлётная полоса раскисла так, что чуть ли ни в болото превратилась. Взлетать с неё они не могли даже на "Кобрах" и сидели без дела. Хорошо хоть, рядом с их аэродромом находился спиртзавод, и лётчики могли убить время тем, что пили спирт.
Тем не менее, надо было выручать ребят, и из наших двух полков, 53-го и 54-го, отобрали самых сильных лётчиков, которые даже с такой полосы могли бы взлететь. Из моей эскадрильи отобрали двоих - меня и Володьку Кузьминова.
Привезли нас на аэродром 55-го полка рано-рано утром, когда ещё немного подмораживало. И не поверите, мы и самые опытные лётчики из 55-го полка смогли взлететь и успешно перегнали самолёты в Познань.
Что интересно, я два рейса делал, и ко второму самолёту, который я перегонял, под брюхом был прицеплен подвесной бак на 150 галлонов. При этом, когда мы вылетали на задания с подвесными баками, у нас обычно переключатель стоял так, чтобы мы сначала из подвесных баков топливо расходовали. Когда завязывался воздушный бой, мы подвесные баки сбрасывали и переходили на топливо из плоскостных баков самолёта. Однако в тот раз подвесной бак был прицеплен, а переключатель стоял на использовании топлива из собственных баков "Аэрокобры".
Я не придал этому значения и не стал ничего переключать. А когда перелетел, оказалось, что подвесной бак был заполнен не бензином, а спиртом. Техники самолёта так схитрили, чтобы на новый аэродром перевезти спирт. Ну, его, конечно, постепенно употребили в дело...
Впрочем, речь не о том. Но если бы у 55-го полка были не "Аэрокобры", а другие самолёты, то стояли бы они на своём аэродроме до середины весны, пока полоса не подсохла бы. Конечно, не каждый лётчик и на "Кобре" взлетит с раскисшей полосы, но при соответствующем опыте это, как видите, вполне возможно.
Мало того, "Аэрокобра" была единственным самолётом, который мог садиться на шоссейные дороги и взлетать с них. Главное, чтобы шоссе было не меньше 30 метров шириной, потому что в противном случае было очень тяжело выдержать направление и самолёт мог соскочить с дороги. Покрышкин и другие асы во время Берлинской операции не раз взлетали с автомагистралей и садились на них. А попытаться совершить такое на том же Ла-5 или на Яке было бы крайне рискованно.
Третье из главных достоинств "Аэрокобры" - это хорошая защита лётчика. На отечественных истребителях того времени двигатель всегда находился спереди, а сзади лётчика защищала в лучшем случае бронеспинка. На "Кобре" же, наоборот, двигатель находился сзади, что очень важно, если враг тебя со спины атакует. А спереди для нормальной защиты опытному лётчику вполне достаточно иметь только бронестекло и мощное вооружение.
Среди других положительных качеств "Аэрокобры" я бы выделил удобную кабину, высокую устойчивость и живучесть металлической конструкции, а также хорошую радиостанцию.
Из кабины у "Кобры" был хороший обзор во все стороны, а это крайне важно для лётчика-истребителя. Кроме того, чего греха таить, кабина в ней была гораздо комфортабельнее, чем в советских самолётах. В неё даже шёл подогрев от двигателя, благодаря чему нам не было холодно летать зимой, а летом мы подачу тепла от мотора перекрывали, и нам становилось жарко только во время боя.
Металлическая конструкция в "Кобре" действительно была устойчивой (не деформировалась ни при каких манёврах) и очень живучей. Я уже рассказывал, как Илья Чумбарев подрубил мне плоскость, а я не только сумел сесть, но и мой самолёт починили за один день. При этом все остальные детали в самолёте так же были надёжными. У нас в дивизии среди пилотов "Аэрокобр" было очень мало потерь по техническим причинам.
К радиостанциям, установленным на "Кобрах", у нас никогда не было нареканий, но я об этом тоже уже рассказывал раньше.
Кроме того, в "Кобре" мне нравилось наличие режима экономичного расходования топлива. Мы его иногда включали, возвращаясь с дальних вылетов, когда топливо было на исходе и нужно было долететь до аэродрома. Помню, в ноябре 44-го мы возвращались на аэродром в Быдгоще (или Бромберге, как этот город называли немцы), и горючее было совсем на исходе, но, благодаря этому режиму, мы дотянули. Правда, я нормально сел, а мой ведомый Боря Стрельников на полосу выкатился, а зарулить на стоянку не смог. У ведомого обычно больше топлива расходуется, ему ведь позади вертеться приходится, дистанцию соблюдать.
Исходя из всего вышесказанного, вполне понятно, почему Покрышки предпочёл именно "Аэрокобру". Однако эта машина не была идеальной. Были у неё и очевидные недостатки.
Главным из них являлся тот, что "Кобру" было очень сложно покинуть в воздухе. Малейший просчёт, и лётчика рубило стабилизатором. Дело в том, что в отечественных самолётах лётчик сбрасывал "фонарь" и спокойно выпрыгивал. А в "Кобре" нельзя было выскочить через верх, лётчик вываливался на плоскость, а оттуда его потоком воздуха тащило к хвосту машины, и он в большинстве случаев ударялся о стабилизатор. При этом лётчики в основном ломали позвоночник, но могли удариться и другой частью тела.
На моей памяти у нас в полку за время войны подобных случаев не было. А вот уже после войны в Кёнигсберге на аэродроме Нойхаузен лётчик-инспектор из 11-го истребительного авиакорпуса герой Советского Союза подполковник Николай Куприянович Делегей демонстрировал нам, как выводить из штопора "Аэрокобру". Первый раз это у него хорошо получилось, а во второй раз он не смог вывести самолёт из штопора и выпрыгнул с парашютом. Его рубануло о стабилизатор, и "Кобра" упала в одну сторону, он в другую. Мы нашли его тело, у него был сломан позвоночник, и после удара о стабилизатор он уже не смог раскрыть парашют.
Наверняка спастись от удара о стабилизатор можно было только одним способом. Перед прыжком наши лётчики накреняли "Аэрокобру" и старались выскочить из кабины так, чтобы не коснуться плоскости. Конечно, для этого тоже определённые навыки требовались.
Вторым серьёзным недостатком "Кобры" было то, что её было тяжело вывести из штопора. Правда, справедливости ради, надо сказать, что "Аэрокобра" была достаточно устойчивой машиной и в штопор срывалась только при грубых ошибках в пилотировании.
Однако, если всё-таки "Кобру" штопорило, то воздушный поток лишь частично попадал на хвост самолёта, а стабилизатор и руль оставались вне этого потока. Что это означало. Отечественные истребители было просто выводить из штопора. Там стоило лишь немного дать ногу, и воздушный поток шёл с хвоста на нос, обтекал, и самолёт переходил из штопора в пикирование. Более того, на том же И-16, Ла-5 или Яке даже ногу давать не надо было. Просто ручку немного отдашь, и самолёт сразу прекращает вращение, переходит в пикирование, а дальше его вывести в нормальный полёт уже никакой проблемы не составляет.
На "Аэрокобре" же из-за особенностей конструкции хвоста воздушный поток шёл иначе. Поэтому, чтобы вывести самолёт из штопора, требовалось до упора дать ногу в направлении, противоположном направлению вращения, держать её и ждать. Ждать приходилось долго, поскольку при штопоре воздушный поток оказывает очень малое воздействие на руль поворота "Кобры". Конечно, не все летчики выдерживали такое ожидание. Но если высота позволяла, нужно было запастись терпением. Тогда в конце концов "Кобра" раскручивалась, воздушный поток попадал на хвостовое оперение, машина прекращала вращение, опускала нос. После этого ногу можно было поставить нейтрально, перевести самолёт в пикирование и выводить затем в горизонтальный полёт.
Но, как я уже говорил, на это требовалось время. А "Кобра" за один виток штопора теряла около двухсот метров высоты. Соответственно, минимальная высота, на которой "Аэрокобру" можно вывести из штопора, это 800-1000 метров. Наверное, если очень повезёт, сделать это можно и с высоты 500-600 метров, но, скорее всего, в этом случае лётчик всё-таки разобьётся.
Тем не менее, кроме сложностей при выпрыгивании с парашютом и при выводе из пикирования, других явных недостатков у "Аэрокобры", пожалуй, не было. Но были у этой машины и особенности, которые не всем нравились.
Так, в качестве горючего "Кобре" требовался высокооктановый бензин. У нас его в ту пору ещё не производили, а импортного высокооктанового бензина иногда не хватало. В таких случаях нас снабжали обычным авиационным бензином, в который был добавлен продукт Р-9 ("эр-9").
Двигатель "Кобры" как работал. Поршень сжимал поступившую в него порцию топлива, доходил до определённого положения, после чего на свечу подавалась искра, порция топлива загоралась и поршень отходил на прежнее место. При использовании же низкооктанового бензина топливо детонировало от сжатия ещё до того, как поршень доходил до нужного положения, и по нему происходил встречный удар. В результате нарушалась координация всей работы двигателя. И чтобы этого избежать, в низкооктановый бензин добавляли продукт Р-9, который предотвращал детонацию.
Другое дело, что при использовании низкооктанового бензина с продуктом Р-9 наши машины несколько теряли в мощности. Допустим, давая вертикаль на импортном топливе, я мог набрать 800 метров, а на отечественном - только 700 метров. Но когда я летал на "Кобрах", нас в основном уже нормальным высокооктановым бензином заправляли.
Бензин к нам всегда привозили на специальных бензовозах. Единственное, когда мы после боёв за Варшаву сели в Ополье, там бензина вообще не было, поскольку распутица стояла, а железнодорожное сообщение в этом районе ещё не было налажено. Однако нам в тот период нужно было летать на разведку и прикрывать важные объекты. Поэтому нам привозили горючее на самолётах Ли-2. Так пару раз повторялось, а потом вновь было налажено обычное снабжение.
И вот, некоторые лётчики критиковали "Кобры" за то, что они не могли летать на отечественном бензине. Но на лётной работе нашего полка в 1944-1945 годах это практически не сказывалось.
О других положительных и отрицательных особенностях "Аэрокобры" я, пожалуй, лучше расскажу, если буду сравнивать её с другими истребителями аналогичного класса.
Яки, начиная с Як-3, а также Ла-7 были примерно равноценными машинами с "Аэрокоброй". Ла-5 немного слабее. Но, конечно, у каждой из этих моделей были свои достоинства и недостатки.
Яки были более маневренными, чем "Кобры", более простыми в управлении. Кроме того, энерговооружённость, одна из важнейших характеристик самолёта, у Як-3 равнялась полутора, а у "Кобры" лишь немного превышала единицу. А что такое энерговооружённость - это отношение тяги мотора к весу самолёта, от неё и скорость зависит, и маневренность. Здесь Якам в тот период не было равных.
Однако у "Кобры" было сильнее вооружение и лучше обзор из кабины, кабина просторнее, она была более неприхотливой к взлётной полосе, лётчик в ней был лучше защищён.
Ла-5 не уступал "Кобре" по обзору из кабины и вооружению, но лётчик в нём сзади был защищён только бронеспинкой, к тому же двигатель на Ла-5 был слабее.
Как видите, "Аэрокобра" была очень приличной машиной для своего времени. Тем не менее, многие из наших лётчиков были бы не прочь пересесть на советские самолёты, подвернись такая возможность.
Например, был у нас в полку лётчик Дмитрий Васильевич Голубкин. Это был герой Сталинграда. Он был небольшого роста, коренастый, скромный. Воевал храбро, но не зазнавался, метко стрелял, хорошо ориентировался, всегда выручал друзей, когда мог. Голубкин был командиром звена, и ребята, летавшие с ним, его очень уважали. И вот, у него была такая особенность. Он под Сталинградом воевал на Яках, на "Аэрокобру" перешёл с большой неохотой. И, бывало, увидит Голубкин какой-нибудь Як, сразу аж вздрагивает весь, глаза загораются. И многие лётчики из нашего полка, которые воевали прежде на Яках, очень любили эти машины.
А я сам с удовольствием пересел бы с "Кобры" на Ла-5 или Ла-7. Я ведь начинал летать на И-16, а эти машины по управлению и по конструкции во многом были похожи на И-16. Объективно Ла-5 был хуже "Аэрокобры", а что лучше - Ла-7 или "Кобра" - можно спорить. Однако, чем ближе было к Победе, тем больше мне хотелось встретить последний день войны именно на советском самолёте. Тут чисто психологические мотивы. Но, тем не менее, продолжали мы летать на "Кобрах", и эти машины нас не подводили.
Из всех истребителей, которые к нам поставлялись по ленд-лизу, "Аэрокобра" была, безусловно, самым лучшим. Ещё "Спитфайр" был неплох, но до "Кобры" ему было далеко. А те же "Харрикейны", "Киттихауки" были никуда не годными машинами, поэтому у немецких асов и оказывалось на счету такое огромное количество сбитых самолётов противника.
На "Харрикейне" я летал в конце войны, когда в боях наступало затишье. Мы этот самолёт использовали для буксировки конуса, по которому наши лётчики вели огонь, чтобы не разучиться стрелять. А для боёв этот самолёт мало годился. Конечно, среди советских лётчиков были те, кто и на "Харрикейне" сбил немало вражеских истребителей. Но это просто ещё раз доказывает, что любая машина хороша в умелых руках, а плохой лётчик и самый лучший истребитель может разбить, даже не встретившись с противником.
9. Битва за Берлин
 |
На КП полевого аэродрома Морин. Второй слева - В.Макаров, третий справа А.З.Бордун, стоит - И.Т.Пехов, за столом командир 53-го ГвИАП А.А.Платонов с радистом. Польша, конец весны 1945 г. |
В конце марта перед началом Берлинской операции мы по-прежнему оставались на аэродроме в Познани. Однако к этому моменту он уже находился в 120 километрах от переднего края, и перед самым началом операции, в первых числах апреля, мы получили приказ перелететь на полевые аэродромы, находившиеся в 40-50 километрах от линии фронта.
Правда, поначалу на новые аэродромы перелетела лишь часть сил нашей дивизии. Но моя эскадрилья перелетела. О времени начала наступления, мы не знали, даже разговоров об это не шло. Но нам было приказано замаскировать аэродром и самолёты. Как мы это сделали? Убрали посадочное "Т" с полосы, на месте взлёта поставили деревья. Самолёты тоже обложили деревьями. Там было редколесье, чередующееся с небольшими полянками, и с воздуха наш аэродром и машины после маскировки было невозможно заметить.
Соответственно, жили мы в землянках рядом с аэродромом. И когда всё было готово, дали мне команду забрать из Познани ребят, которые оставались там. Послали меня, я на бреющем полёте рванул в Познань. Там оставался заместитель командира нашего полка майор Кобылецкий, которого к нам перевели с повышением из 54-го полка, тогдаший командир нашего полка Сахаров, а также ребята из других полков. Объяснил я им ситуацию, и полетели мы вместе на полевые аэродромы под Берлином. Там было два аэродрома. На одном наш полк сидел, на другом 54-й и 55-й полки нашей дивизии. Довёл я ребят до этих аэродромов, объяснил, как им заходить. Перед их приземлением деревья со взлётной полосы убрали, и все сели благополучно.
Я вернулся на свой аэродром. Взлётные полосы после этого снова были замаскированы. А дальше был обычный вечер в землянке. Мы ничего не знали о предстоящем наступлении, хотя было уже 15 апреля. Наша эскадрилья, как обычно, поужинала, легла спать. В землянке мы, как всегда, спали на брезенте, под которым была солома. Лётчики в одном конце землянки, техники - в другом. Землянка находилась рядом с нашими самолётами: выскочишь из неё, пробежишь двадцать-тридцать шагов, и ты уже в своей машине.
И вот, в пятом часу утра 16 апреля 1945-го года я проснулся оттого, что стоявшая на моей тумбочке тарелка и алюминиевая ложка в стакане задрожали и начали звенеть. Это советская артиллерия начала работать по подступам к Берлину. Но орудия находились в сорока километрах от нас, мы их гула не слышали, а вибрация через землю передавалась, и посуда у нас задрожала.
А я проснулся, не понял сразу, что происходит, вышел на улицу, чтобы посмотреть. Вижу, всполохи в сорока километрах от нас, а со стороны Берлина зарницы за облаками сверкают. Тогда как раз облачность была. Тут я и понял, что происходит. Возвращаюсь в землянку, говорю эскадрилье:
- Ребята, началось наступление на Берлин!
Конечно, это радостная была новость. Все тут же высыпали на улицу, тоже посмотрели на небо. Потом ребята вернулись в землянку, легли спать. Было ясно, что утром у нас вылеты начнутся.
В восемь утра мы встали, позавтракали в полевой столовой. Сидим на аэродроме, всё вокруг в тумане, ждём, пока он рассеется. Наконец, в одиннадцать утра туман поднялся. Начальник штаба нам объявил, что будем сопровождать бомбардировочный корпус Каравацкого. Пришли четыре девятки бомбардировщиков, наш полк, ещё когда они подлетали, поднялся в небо.
Моя эскадрилья была замыкающей в охране бомбардировщиков. Пристроились мы за ними, и пошли на Берлин. Это было уже около половины двенадцатого. Наши бомбардировщики должны были бомбить передний край. Мы спокойно идём, сопровождаем их, направление знаем, курс 270.
Дошли до переднего края, а он весь в облаках и бурлит от разрывов артиллерийских снарядов. Земля в воздух взлетает, клубы дыма везде, гарь, да ещё облачность и туман. В результате бомбардировщикам было просто не видно целей. А у них был приказ: если передний край будет закрыт, пройти ещё 50 километров вперёд к Берлину и выполнять бомбометания по запасным целям. Полетели мы дальше вглубь немецких позиций. Отошли примерно на 60 километров за линию фронта, и бомбардировщики начали бомбить второй эшелон немецкой обороны. Отбомбились они, немецких истребителей в воздухе не было. Мы благополучно отвели бомбардировщики обратно.
Доложили о выполнении задания, и сразу на новый вылет. К этому времени уже распогодилось, видимость стала нормальной, и бомбардировщики смогли по переднему краю работать. Но истребили противника так в воздухе и не появились. Мало их у немцев осталось к этому времени.
Вот так мы и летали в ходе Берлинской операции. Занимались сопровождением бомбардировщиков и штурмовиков, а также делали вылеты на расчистку воздуха. С улучшением погоды немцы всё-таки стянули к Берлину оставшуюся у них авиацию, и мы летали уничтожать вражеские истребители.
Что ещё интересно, если самолёты Ил-2 раньше всё время ходили на задания на высоте 150-200 метров, то во время Берлинской операции они стали летать до целей на высоте 1 500 - 2 000 метров. Их машины на такой высоте тяжеловато шли, но штурмовики опускались до высоты 150-200 метров только над самой целью. Мы поначалу удивлялись, с чего это вдруг "ильюшины" так высоко забрались. Но потом быстро поняли в чём дело. Наша артиллерия, не переставая, вела интенсивный огонь по Берлину. Артиллерийские снаряды сначала вверх высоко взмывали, а потом снижались по рассчитанной траектории. Соответственно, на низких высотах они попадали в свои же самолёты. И чтобы этого не случалось, штурмовикам был отдан приказ летать на высоте 1 500 - 2 000 метров. Отработав по целям, они снова набирали высоту и уходили домой. Сопровождая их, мы обычно барражировали немного выше, чтобы эффективнее отражать атаки истребителей противника. Но при этом, естественно, нужно было оставаться в пределах зрительной связки со штурмовиками. Таким образом, в хорошую погоду мы могли и на 3 000 - 4 000 метров подняться, а если погода ухудшалась и дым был плотный, то мы опускались и шли с ними чуть ли ни крыло в крыло. В общем, делали всё, чтобы не дать врагу возможности сбить наших подопечных. Благо, "Кобры" хорошо летали на любой высоте от нескольких десятков до семи тысяч метров.
Мой последний боевой вылет в небе Великой Отечественной состоялся 28 апреля 1945-го года. Мы всем полком сопровождали три девятки бомбардировщиков Пе-2 в район Потсдама. Потсдам находится всего в двадцати шести километрах юго-западнее Берлина. Таким образом, мы и над Берлином прошли. Берлин к этому дню уже весь горел, дым стоял до высоты 6 500 метров. Конечно, жалко, если видишь, что даже один дом горит, а тут целый огромный город. Но горящий Берлин вызывал у нас радость, всё-таки он был столицей гитлеровского рейха. В воздухе пахло гарью, горелым мясом. Пришёл наконец-то такой день, когда Берлин уже фактически пал. Мы в последнее время даже летали к целям, ориентируясь на стоявший в воздухе дым.
Моя эскадрилья сопровождала последнюю девятку бомбардировщиков. Перед бомбардировщиками стояла задача разбомбить какую-то немецкую группировку возле переправы в районе Потсдама. Впрочем, мы, истребители, на их цели особо не смотрели, мы воздух контролировали, тем более что всё вокруг в дыму было. Бомбардировщики шли на высоте 5 000 метров, а дым ещё выше стоял.
Отбомбились все три девятки нормально, выполнили свою задачу. Однако у них в каждой девятке было по самолёту, который должен был сфотографировать эскадрилью над целью во время бомбометания, поражение цели. И получилось так, что в самолёте-фотографе из третьей девятки то ли фотоаппарат не сработал, то ли лётчик забыл его включить.
Соответственно, две группы развернулись, пошли домой вместе с основной частью наших истребителей. А мне ведущий третьей девятки бомбардировщиков говорит по радио:
- Командир, надо сделать второй заход. У нас фотоаппарат не сработал.
- Ладно, делайте, - говорю.
Остались мы четвёркой истребителей прикрывать бомбардировщики во время второго захода. Высота у нас около шести тысяч была. И вдруг я вижу, со стороны Берлина слева и сзади на меня одна восьмёрка "фоккеров" движется, а справа вторая восьмёрка.
Бомбардировщики к этому моменту уже зашли на цель второй раз. Их ведущий мне кричит:
- Смотри, "фоккера" появились!
- Вижу, сейчас будем защищаться. А ты стрелков ваших предупреди, чтобы работали хорошо.
- Добро.
Я своим скомандовал, чтобы они настроились на бой с "фоккерами". Мы пошли ножницами. Но, конечно, в бою четвёркой против шестнадцати вражеских истребителей у нас плохие шансы были.
Однако здесь надо сказать о том, что у всех наших истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, в общем, у всей авиации, кроме дальней, рации работали на одной частоте. И когда я крикнул "фоккера", меня услышали истребители из 176-го авиаполка Валентина Макарова. Они как раз над Берлином находились. Слышу, кричат мне по рации:
- Где "фоккера"?
- В районе Потсдама.
- Сколько?
- Две восьмёрки.
- Сейчас прилетим!
Между тем истребители противника уже начали на нас наседать. Один "фоккер" подошёл к крайней "пешке", я его отогнал очередью. И вдруг мимо меня проскакивает его ведомый, я его тут же поймал в прицел и накрыл очередью. Он сразу дёрнулся, задымил. Было видно, что попал хорошо. А тут и ребята из 176-го полка появились на своих Як-3, целая восьмёрка! Связали они немцев боем и штук шесть сразу сбили. Остальные немцы начали уходить. Причём, что характерно, пошли они не на свой аэродром, а в сторону Эльбы. Там, километрах в семидесяти от Берлина, стояли американские войска. У немцев был приказ, завершая последний бой, не домой лететь, а садиться на свои прежние военные аэродромы, занятые американцами. Русским фрицы боялись сдаваться в плен после всех зверств, что они на нашей земле натворили.
Моя девятка бомбардировщиков тем временем уже всё сфотографировала, что им надо было, и мы пошли домой.
Вот таким был мой последний боевой вылет в берлинском небе. За войну на моём официальном счету появилось шесть сбитых немецких самолётов: четыре "Мессершмитта" и два "Фоккевульфа". В действительности я сбил на два-три самолёта противника больше. Но мы ведь в парах всегда работали. А ведомых тоже нужно было подбадривать, чтобы у них был стимул твою спину защищать. Им ведь тоже хочется, чтобы у них были сбитые самолёты на счету. А если ведомый начнёт не твою спину прикрывать, а сам вражеские самолёты в прицел ловить, это для тебя плохо кончится. Поэтому мы время от времени, когда нашим ведомым приходилось особенно сильно покрутиться, отдавали им свои сбития. У них это засчитывалось, как победа в группе. И это было справедливым, ведь жизнь ведущего напрямую зависит от работы ведомого.
 |
А.З.Бордун (крайний слева) после окончания войны с боевыми товарищами из 55-го ГвИАП майором Яковом Варловым и капитаном Михаилом Афанасьевичем Уваровым. Нойбранденбург, 1945 г. |
29 апреля и несколько последующих дней мы просто дежурили на аэродроме, но уже не получали никаких боевых заданий. Наш полевой аэродром Морин находился в польском лесу примерно в сорока километрах от Одера. Мы стояли там вместе с 54-м полком нашей дивизии. Настроение у всех было хорошим. Выстрелов нигде вокруг не раздавалось, вместо них слышалось пение птиц. Весенний лес утопал в зелени. Было ясно, что дело идёт к победе, хотя о более-менее точной дате окончания войны никто из нас ещё не знал.
Находясь на аэродроме, мы в эти дни даже в футбол играли. Но при этом покинуть аэродром мы не могли. Нам было приказано оставаться в боевой готовности, наши эскадрильи по-прежнему дежурили по очереди, сидя в кабинах самолётов, чтобы взлететь по первому сигналу. Более того, даже после Дня Победы нам было приказано продолжать дежурство на аэродроме на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств. Соответственно, у нашего полка не было никакой возможности пошуровать по немецким складам и отправить домой посылки с трофеями. Правда, мы не сильно переживали по этому поводу. А командование дивизии нашло выход из ситуации.
Батальон обеспечения дважды пригонял к нам машины с трофеями. В этих машинах были предметы обихода, то есть отрезы тканей, одежда, полотенца и т.п. Кроме того, в машинах были и продукты: крупы, консервы, искусственный мёд. Всё это между нами распределялось. Мы складывали это в посылки, зашивали их, писали адрес и тут же сдавали свои посылки ребятам из батальона обеспечения, которые на тех же самых машинах отвозили их на почту. Вот так это было организовано командованием, что мы и трофеи какие-никакие домой отправили, и боевое дежурство вести не прекращали.
Вечером 8 мая мы, как всегда, окончили дежурство, поехали отдыхать. Ночевали мы в тот период на третьем этаже школы, находившейся в четырёх километрах от аэродрома. Мы поужинали, поболтали, легли спать.
Около трёх часов ночи нас разбудил страшный грохот пулемётов и пушек. Я высунулся в окно, посмотрел в сторону аэродрома. А он весь в огнях: из пушек наших самолётов шары размером с кулак вылетают (снаряды пушек, установленных на "Аэрокобрах", вылетая, светились в любое время суток, а тут же вообще ночь), везде "трассы" пулемётных очередей (пулемётные ленты у нас на самолётах всё время заряжались так: трассирующий патрон, за ним бронебойный, за ним осколочный, снова трассирующий и т.д.) Увидев такое зарево, я сразу решил, что немцы атаковали аэродром, напав на него откуда-то из леса. В лесу ведь даже танки немецкие оставались. Немцы, когда отходили в Германию, побросали их там с полными боекомплектами и горючим. Соответственно, какой-нибудь отряд оголтелых фашистов мог воспользоваться этим и атаковать. Потом гляжу, внизу стоит солдат, охранявший школу, и вверх палит из своей винтовки. Кричу ему:
- Что такое? Почему стреляешь?
- Командир, победа!
- Какая победа?
- Наша победа!
Тут я всё понял. На душе сразу легче стало. Тут уж можно было догадаться, что аэродром никто не атаковал, а это наши механики там салютуют. Так оно и оказалось. Они на аэродроме в землянках ночевали, у них радиоприёмники были, и они по радио услышали, что Германия капитулировала и победа объявлена. Механики тут же запустили двигатели наших самолётов и начали салютовать в небо. Двигатели для этого нужно было обязательно запустить, потому что пулемёты "Кобры" через винт стреляли, там были специальные синхронизаторы установлены, которые прерывали огонь в тот момент, когда лопасть проходила мимо пулемётного ствола.
Осознав, что война закончилась, мы, лётчики, тут же достали свои личные пистолеты "ТТ" и тоже начали палить в воздух. Конечно, стало не до сна. Все начали обниматься, целоваться, достали самогон, пошло празднование. Потом нам ещё и нормальную водку выдали. И всё было, как в песне. День Победы, "радость со слезами на глазах", праздник - такой долгожданный и давшийся нам такой дорогой ценой.
За годы Великой Отечественной войны я получил следующие награды. За мой первый сбитый "мессер" и первые боевые вылеты меня наградили медалью "За боевые заслуги". Также в 1944-м году за последующие воздушные победы меня наградили орденом Боевого Красного Знамени. В апреле 1945-го меня удостоили ордена Александра Невского за руководство воздушными боями и проявленную в них личную храбрость. В мае 1945-го меня наградили орденом Красной Звезды. А орден Отечественной войны я получил уже в последующие годы.
 |
А.З.Бордун, 1946 г. |
Вскоре после Дня Победы перелетели мы на аэродром в Бранденбург. Это в 140 километрах севернее Берлина. А второй комплект наших самолётов оставался ещё на польской территории. И в августе мы, взяв парашюты, поехали на "студебеккерах" в Польшу на свой старый аэродром ________________ за нашими самолётами.
К этому моменту немецкие земли за Одером уже были отданы полякам, согласно соглашению, заключённому в Потсдаме. И вот, подъехали мы к переправе через Одер. Перевезли нас на барже на другой берег. Смотрим, там стоят польские офицеры и солдаты. А немцы, которые раньше жили за Одером, идут к этой переправе с пожитками. И взрослые, и дети узлы тащат. Некоторые на тачках везут своё имущество. Хотя, конечно, и на тачке много не увезёшь.
Возле переправы поляки досматривали немцев и отбирали у них приглянувшиеся вещи. Ну а нам же любопытно, как переселение немцев происходит. Стоим всей эскадрильей возле машины, смотрим на это дело.
Ко мне подходит старик-немец. Говорит по-русски:
- Здравствуй, капитан.
- Здравствуй, - отвечаю.
- Капитан, ну что ж вы смотрите, как грабят народ?!
Разглядываю его, удивительно мне, что он по-нашему так складно говорит. А рядом со стариком два пацана: один белокурый лет пяти-шести, другой брюнет, чуть постарше. Спрашиваю у старика:
- А откуда ты русский язык знаешь?
- Я в 14-м году у вас в плену был, так что научился вашему языку хорошо. Капитан, защитите от поляков!
Я говорю:
- Так они победители, они могут хозяйничать, как хотят.
- Какие они победители? Мы знаем, кто победил. Вот у меня два пацана. Это не мои сыновья, я их подобрал. Но я им объясню, и они на всю жизнь запомнят, как поляки издеваются над немцами. А победили нас одни только русские.
- Ну, это ты зря так решил мальчишек против поляков настраивать, - сказал я ему.
Старик-немец пошёл дальше. А я подозвал к себе командира переправы. Говорю ему:
- Прекратите мародёрство!
И вот, пока мы там были, поляки пропускали гражданских, ничего у них не забирая. Хотя, ясное дело, только мы уехали, они наверняка продолжили немцев обирать.
Конечно, за всех русских я тоже не поручусь. Но ребята из моего полка всегда вели себя порядочно с мирным населением. У нас в лётном общежитии работали пожилые немки. Они убирали наши комнаты, другую подсобную работу выполняли. Кроме того, немецкие женщины работали у нас при столовой, картошку чистили, гардеробщицами были. И вот, они все к нам всегда с уважением относились, знали, что русские люди никакого произвола себе не позволят. Более того, мы им даже отдавали то, что у нас оставалось из продуктов.
Ещё, что интересно, из Бранденбурга мы перелетели в Кёнигсберг, и там немецкие мальчишки подбирали объедки из мусорных баков возле столовой. Мы этих пацанов подзывали к себе, и всегда давали кусок хлеба, котлету, яйцо или ещё что-нибудь. Жалели их, они ж не виноваты, что эта война была.
Но вот, помню, в Кёнигсберге был полевой аэродром Нойхаузен, и на нём немецкие военнопленные работали, убирали территорию и т.п. Я как-то раз вышел из столовой. Вижу, худой широкоплечий немец, здоровый, два метра ростом, глядит на строй наших солдат, проходящих мимо. А это были ребята, призванные в самом конце войны. Они идут в обмотках, практически все небольшого роста, с винтовками, которые на их плечах кажутся едва ли ни б?льшими по размеру, чем сами солдаты.
Немец смотрит на них грустно. Видимо, обидно ему было, что они таким пацанам войну проиграли. Я подошёл к нему:
- Ну что, любуешься?
Он повернулся, вытянулся. Я скомандовал:
- Вольно. Что, смотришь, кому войну проиграл?
Он заулыбался, а у самого вид такой несчастный. Ещё бы, они ведь в 41-м на нас отборными частями наступали, с современной техникой. А наши простые ребята их победили.
Конечно, по прошествии времени всё уже иначе воспринимается. Злоба к противнику проходит. В середине 50-х я ездил с женой по туристической путёвке в Болгарию и встретил там бывшего немецкого пехотинца. Он тоже приехал в Болгарию туристом и у него вместо одной ноги протез был.
Я его спросил:
- Ты где ногу потерял?
- А ты сам где воевал?
Мы разговорились. Он русским немного владел, я по-немецки кое-что понимал. Оказалось, он под Курском ногу потерял. Я рассказал ему, что лётчиком был. И мы без всякой злости пообщались, бои повспоминали.
Потом мне и в Германии доводилось с бывшими противниками разговаривать. Конечно, переживают они своё поражение. Но при этом им обидно, если кто-то скажет, что их победили поляки, американцы или кто-то ещё. Немцы считают победителями только нас, русских.
Как и все ветераны, я счастлив, что смог внести свою лепту в нашу Победу.
| Интервью и лит.обработка: | М. Свириденков |