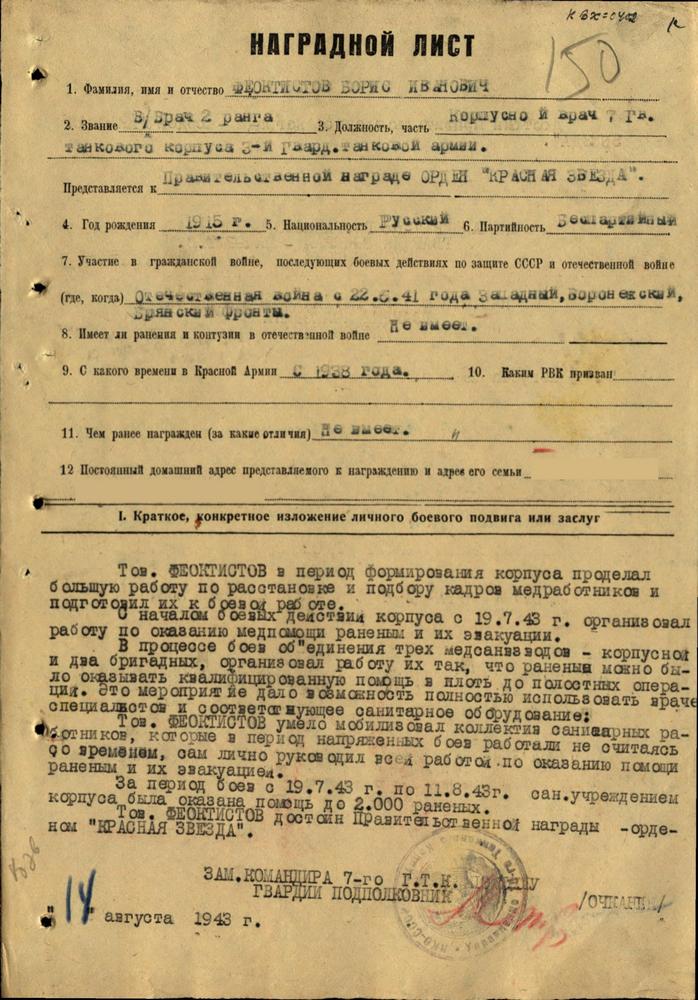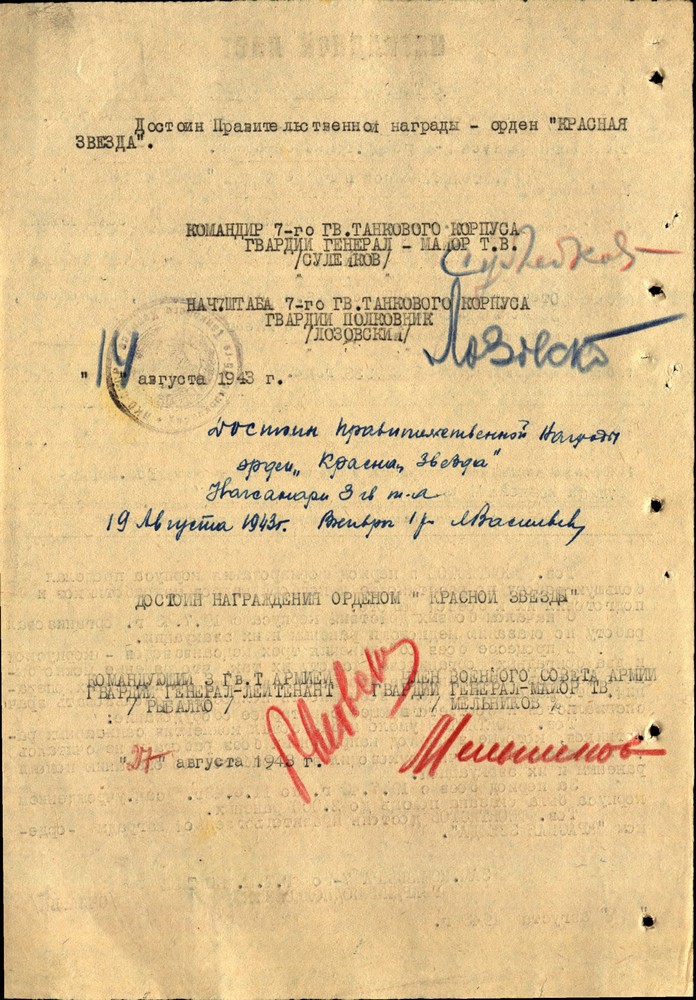Военно-Медицинская Академия
Военно-Медицинская Академия
Весной к нам в институт пришел генерал из военно-медицинской академии с целью отбора абитуриентов на 4-й курс академии. Весть об этом быстро разнеслась по институту. Советоваться было не с кем, да и ни к чему. У меня и раньше была тайная мечта стать военным и, долго не раздумывая, я подал заявление. Уже шли экзамены, когда меня вызвали на медкомиссию. По здоровью претензий ко мне не было, биография у меня самая пролетарская, что тогда было очень важно, отметки по дисциплинам были не блестящие, но вполне терпимые, и я был зачислен слушателем в академию.
Вместе со мной было подано много заявлений, но прошло нас только пять человек. Причем с набором торопились, мы еще не закончили экзамены, а уже состоялся приказ о зачислении. Последний экзамен по топографической анатомии я сдавал уже в академии известному профессору Шевкуненко, по книге которого занимались все мединституты. Говорят, что он никогда не ставит двойки, отчасти это спасло некоторых из нас, потому что процесс перехода из института в академию отвлек внимание от занятий и подготовки.
Итак, я стал слушателем военно-медицинской академии. Прощание с институтом не было бурным, все прошло как-то буднично, постепенно, кроме того был период окончания учебного года, плановые занятия закончились, шли экзамены, а, следовательно, все студенты разбрелись по уголкам, готовясь к экзаменам.
Нас, вновь поступивших в академию из многих институтов, собралось человек 60, разбили нас на два взвода, что означало две учебные группы, одели в летнее обмундирование и отправили в лагеря для усвоения основ военной дисциплины и обучения по программе рядового бойца. С подъема до ужина ходим в строю: на завтрак, на занятия, на обед, ужин и обратно, только строем. Хождение в одиночку допускается только в туалет и в личное время после ужина. Строевые занятия, приветствия (отдание чести), ночные караулы (часовыми), за летний период сделали из нас сносных военнослужащих, которых уже не стыдно было в форме выпускать в город. Конечно, военная муштра нелегко дается, тем более в летнюю жару, в поле, под палящим солнцем, порой гимнастерка так пропитывалась потом, что ее выжимали, как после стирки. Было иногда очень трудно, но я не страдал, как некоторые упитанные горожане, морально я был подготовлен, я знал, куда шел, да кроме того я привык к жизненным трудностям, и лагерное обучение не угнетало.
Но все имеет свой конец. Кончилось и военное лагерное обучение, нас разместили в общежитии, а кто имел родственников или снимал частную квартиру, разместились в городе. Начался учебный процесс. Обучение в военной академии отличается тем, что программа насыщена военными и военно-медицинскими дисциплинами, упор делается на лечение заболеваний, характерных для военной службы, на санитарный контроль в военных городках. Строевая подготовка не закончилась лагерями, она продолжается и в учебный период. Особенно много мы занимались строевой подготовкой готовясь к параду. Парад войск проводился два раза в год: в майские и октябрьские праздники. Подготовка к параду начиналась месяца за два до праздников. Ежедневно за час-полтора до занятий, в утренние сумерки, на улице по булыжной мостовой нас тренировали шагать строевым шагом и на приветствие "с трибуны" кричать в один голос троекратное "ура". К началу учебного года нам выдали офицерское обмундирование и пошили индивидуально каждому шинель и хромовые сапоги. Выдали также офицерский ремень с портупеей. В качестве головного убора выдали фуражку, а для зимы "буденновку". Шинель мне пошили просто замечательно, строго по фигуре, я в ней казался стройным офицером. Но недолго красовался я в своей новой шинели, в октябре, во время занятий, ее украли. Взамен, после соответствующих хлопот, мне выдали шинель рядового состава, уж в ней я не казался таким стройным. Своим видом рядового среди остальных слушателей я раздражал начальника курса, он постоянно высказывал, что своим видом я порчу общий вид строя. К счастью, мои муки продолжались недолго: вора поймали, судили (им оказался молодой парень без определенных занятий), а мне выдали компенсацию, и я заказал новую офицерскую шинель. Все же новая не была такой отличной, как первая.
Занятия шли своим чередом. Теоретические основы медицины ничем не отличались от преподавания в мединституте, преподаватели, хотя и носили военную форму, были такими же, как и везде. Грозой для всех слушателей во время занятий по терапии и на зачетах был профессор див-врач (носил два ромба, что значит генерал-лейтенант) Аринкин, крупнейший специалист по заболеваниям крови (гематолог). На лекциях он зорко следил за всей аудиторией, и если заметит, что слушатель задремал или чем-то отвлекся, он его сажал рядом с собой и продолжал лекцию. Он был отличный специалист, известный своими работами за пределами нашей страны, он страстно желал, чтобы мы, слушатели, стали хорошими врачами. Я не знаю ни одного слушателя, который бы с одного захода сдал Аринкину зачет. Были случаи, когда слушатели ходили к нему по несколько раз, но уже после этого материал они знали, как следует.
Как-то получилось так, что на лекциях я частенько садился на самые задние ряды и играл в "балду" с рядом сидящим товарищем. Эта игра не требует переговоров, мы лишь поочередно писали на бумаге буквы и передавали бумажку друг другу. Игра отнимала внимание от лекции, правда, были лекции, которые не давали ничего нового кроме того, что было в учебнике, и, не прослушав такую лекцию, мы много не теряли. Но были, и их большинство, лекции, которые нужно слушать. Я очень сожалею, что иногда пренебрегал лекцией некоторых ученых. Это моя, и не только моя, глупость, возникшая еще в школе. Как часто мы слишком поздно осознаем свои ошибки.
Шло время, занятия продолжались. Как-то командованию курса понадобилось проверить физическую выносливость слушателей. В парке, в Лесном, был отмерен маршрут в три километра, дано спортивное время для его преодоления бегом, нас выстроили и после напутственной речи начальника курса дан старт. Бежали, как есть, в форме , в сапогах, без какой-либо тренировки. Я, как и большинство моих товарищей, не задумывался над целесообразностью такой проверки, получен приказ, раз надо, значит надо, и мы полностью выкладывались, чтобы уложиться в положенное время. Подбегая к финишу, многие, в том числе и я, падали. Ведь никто не подумал, что можно было сорваться, повредить сердце, ведь приказ есть приказ. Как часто мне приходилось видеть массовые кроссы, проводимые в институтах или в учреждениях, когда в погоне за массовостью заставляли бежать всех сотрудников без проверки их физического состояния. Кто похитрей, доставали разные справки, но таких, как правило, мало, большинство, особенно молодых, чтобы показать себя совершенно здоровыми, подвергали свое сердце опасной, чрезмерной нагрузке.
Моя личная жизнь изменилась, дружба с Валей Васильевой перешла в близкие отношения. У нас родился сын. В честь старшего брата, которого я уважал больше всех, сына назвал Сергеем. Свадьбы у нас не было, события развивались как-то между прочим, без придания им особого значения. Стал вопрос о комнате, где мы могли бы жить. Валя жила "между" старшими замужними сестрами, имеющими по комнатке в коммунальной квартире, принять нас они не могли. В этот период в семейном общежитии освобождалось много комнат, уезжали слушатели, получившие назначения после окончания академии. Один из них мне сказал: "Не жди манны с неба, не дождешься. Я даю тебе ключ, занимай мою комнату и не отступай". Я так и сделал. Начальник курса поворчал и успокоился, а я заимел комнату в семейном общежитии.
Новый учебный год (5-й курс) мы начали при отсутствии нескольких слушателей. Они, как мы узнали позже, участвовали в боевых действиях во время событий на реке Халхин-Гол. Вскоре приехали и они, полные впечатлений о боевых событиях. У нескольких слушателей на груди блестели ордена. Конечно, это было крупным событием для нашего курса. Через короткое время события на Халхин-Голе были оттеснены более крупными событиями, происходившими на Западе. Это оккупация Чехословакии, раздел Польши. В воздухе запахло грозой. Более дальновидные люди говорили, что войны не миновать.
Война с финнами
Во второй половине ноября, поздно вечером, нам, слушателям 5-го курса, объявили тревогу. Кто жил в общежитии, явились к месту сбора быстро, кто жил на частной квартире, явились немного позже, ну а тех, кто был в это время в театре или у знакомой, пришлось разыскивать, но и их все же нашли. В клубе, куда нас собрали, объявили, что едем на финский фронт в качестве зауряд-врачей (врачей без диплома). Утром со склада академии нам выдали обмундирование военного времени: телогрейки, ватные брюки, валенки, полушубки, каски, противогазы и прочее. К вечеру мы были в пути, в пригородном поезде, идущем по направлению к финской границе, к Карельскому перешейку, к центральному направлению боевых действий. Поезд шел не только медленно, а очень медленно, с частыми остановками. Мы ехали всю ночь. Ехали в полном составе слушателей курса, командования (начальника и комиссара) с нами не было, они остались в академии, командир и комиссар были назначены из числа слушателей. По прибытии в штаб армии они остались в санотделе армии. Для дальнейшего следования были назначены новые командир и комиссар, тоже из состава слушателей. По прибытии в штаб корпуса, они, в свою очередь, остались при корпусном враче, остальных отправили в дивизии. Некоторые остались при дивизионных врачах, а всех оставшихся отправили в полки, а оттуда многих назначили батальонными врачами. Меня назначили в медпункт ДЭП-а (дорожно-эксплуатационного полка). По сравнению с передовой в расположении полка было относительно спокойно. Но там я пробыл недолго, меня перевели в медсанбат стрелковой дивизии, сформированный в г.Туле. В медсанбате работали солидные врачи, призванные из больниц города Тулы. Это был дружный, доброжелательный коллектив, я с удовольствием вспоминаю их дружеское, теплое отношение ко мне, самому молодому из них. В медсанбате меня определили работать на ПСЛ (пункт сбора легкораненых), но это название относительное, поступали в медпункт не только легко раненые, но и средней тяжести и тяжело раненые, в основном те, кто еще мог самостоятельно передвигаться.
ПСЛ выдвигался вперед от медсанбата, ближе к войскам, раненые поступали вскоре после ранения, подчас минуя полковой медпункт. Мы размещались в двух палатках, развернутых в стык одна к другой. Одна палатка служила перевязочной, другая для ожидания и питания раненых. Зима 1939-1940 года выдалась суровой, морозы достигали сорока и более градусов. Впервые в армии была введена "Ворошиловская" норма - 100 граммов водки. Она хорошо согревала, особенно, если удавалось принять две нормы. Морозы были настолько сильные, что вода, являющаяся составной частью водки, вымерзала, и в бутылке водки плавали ледяные пластинки. В палатках поддерживалась почти нормальная температура, непрерывно, круглые сутки топилась печь, накаленная докрасна.
В жизни человека больше всего запоминается самое первое событие. В условиях войны мне больше всего запомнился первый раненый, поступивший прямо с передовой. Когда я приступил к работе на ПСЛ, было небольшое затишье в боях, раненые почти не поступали, и это дало возможность передвинуть ПСЛ в новое, более приближенное к войскам место и оставить меня, еще не "обстрелянного", в лесу только с санитаром. Наступили сумерки, палатки освещались керосиновыми фонарями "летучая мышь". Света от них немногим больше, чем от луны, основная надежда на молодые зоркие глаза. Было тихо и спокойно, но вот откинулся брезентовый полог палатки, внесли раненого с забинтованным лицом и положили на перевязочный стол. Я стою возле печки, делая вид, что грею руки, но нужно что-то делать, а я боюсь подойти. Наконец, сделав над собой усилие, подхожу с дрожью в коленях к раненому. Ранение лица или черепа. Лицо изобилует кровеносными сосудами, опасность множественного и обильного кровотечения, смогу ли я что-либо сделать? Усилием воли заставляю себя не дрожать, замечаю, что повязка на лице мало промокла, осторожно снимаю повязку, виток за витком разматываю бинт, кровотечения нет, смелее снимаю повязку, и мне открывается обезображенное черное лицо. Глаза кровянисто-красные, щеки разворочены и висят, как два лоскута, все лицо в мелких черных точках и как бы в саже. Раненый в полном сознании, рассказал: возле него разорвалась мина и обожгла лицо. У меня в памяти тотчас же возникли занятия по челюстно-лицевой хирургии. Нужно немедленно проверить, насколько поражены глаза, сохранилась ли способность видеть? Перед глазами начинаю показывать пальцы, спрашиваю, видит ли, он отвечает, что очень мутно, как в тумане видит мою руку и на ней пальцы. Этого вполне достаточно, зрительная способность сохранена и после рассасывания кровоизлияния зрение у него восстановится. У меня как-то отлегло от сердца, и я уже более уверенно стал обрабатывать рану. Вспомнил, что при висящих лоскутах живой ткани после очистки раны нужно сделать направляющие швы, но ни в коем случае не зашивать рану. Я так и сделал, наложил два направляющих шва и снова забинтовал лицо. Заполнил "карточку передового района" и отправил раненого в медсанбат, где он получит полную хирургическую обработку. Как говорят, "лиха беда начало", через день-другой я уже спокойно принимал любого раненого. Особенно много мне приходилось иммобилизировать (накладывать шину) при ранении с повреждением кости бедра, или плеча, или других костей конечности. Для меня, войскового врача, это было важным приобретением навыка. Позже, в Великую Отечественную войну, мне приходилось учить, показывать, как правильно наложить шину при том или ином ранении, больше того, уже в мирное время, работая в системе гражданской обороны, во время занятий хирургов с врачами, мне приходилось поправлять хирургов, показывая правильное наложение шины, особенно ее моделирование перед наложением. Неправильно смоделированная шина является причиной мучительной боли иммобилизированной конечности.
Пребывание на финском фронте совпало с только что прошедшими занятиями по судебной медицине, на которых было показано членовредительство молодых людей с целью избежать службы в армии или по другим причинам. Еще не забыты муляжи с характерным видом (ожогом) ран самострела. Как правило, с ладонной стороны левой руки у самострела можно увидеть эту картину. Самострелов я стал определять сразу, еще не глядя на рану. Его беспокойство, бегающие глазки, виновато-трусливое поведение и локализация раны уже заставляли предполагать что-то неладное, а характерное пороховое кольцо вокруг входного отверствия дополняли предположение. Самострелов судили военно-полевым судом. Присуждали искупление вины (до первой крови) в штрафной роте, действующей на самом опасном участке фронта. Но не все самострелы передавались мною командованию. Иных было жалко, во имя их детей (так они просили) тщательно обрабатывал рану, чтобы скрыть следы порохового ожога.
Лишь однажды пожалел, что упустил двух самострелов. Была ночь, в предперевязочной накопилось много раненых, я работал уже много часов, а количество раненых не убавлялось. Слышу сердитые голоса вновь пришедших двух раненых, они возмущались, что воюют, кровь проливают, а тут спрятались от обстрела, берегут свои шкуры и не могут вовремя оказать помощь. Я велел санитару взять их на перевязку, у них действительно раны кровоточили. Еще когда санитар вводил их в перевязочную, я обратил внимание на ранение левых рук, повязки у обоих промокли. Открыв рану увидел явные признаки членовредительства. Тут я не выдержал, стал их ругать, мало того, что они самострелы, а они еще будоражат честных раненых и обвиняют медиков, которые, не зная сна и отдыха, работают, чтоб обеспечить им выздоровление. Отослав их в общую палатку для ожидающих, велел санитару позвать "особистов". Но самострелы, видимо, не были простаками, они сбежали. Уже через много лет, когда я вижу инвалида с красной книжечкой, уверенно расталкивающего очередь и, если инвалидность определяется ранением левой руки в области кисти, я отношусь к нему со скрытым недоверием. Кроме самострелов были солдаты, которые "голосовали", выставит руку из окопа и ждет, когда немец ее прострелит. Конечно, были и действительные ранения левой кисти, но их вероятность слишком мала.
Я уже упоминал, что основным освещением ночью у нас был керосиновый фонарь "летучая мышь", но вместо керосина, за которым нужно куда-то ездить, где-то получать, мы вместо керосина пользовались бензином. Однажды ночью, в перевязочной, как обычно я обрабатывал раненого, и, окончив обработку раны, пошел в другую палатку, вплотную тамбурами прилегавшую к первой, чтоб взять следующего раненого. Только вошел в тамбур, вижу, крутится человек, как огненный волчок, и на нем горит одежда. Обычно я не отличаюсь мгновенной реакцией, но тут, нисколько не раздумывая, действия были механическими, накрыл горящего (им оказался санитар) свободно свисающим брезентом, вбежал в палатку, белый намет ее местами уже горел. Раненые, и откуда взялась прыть, приподняв нижний край палатки спешно выползали. Убедившись, что все раненые покинули обе палатки, мы все, кто мог помогать, свалили палатки наземь и затоптали снегом. Потери были небольшие, изрядно сгорел намет, местами прогорел брезент, но если на сгоревшие места наложить заплаты, палаткой можно будет пользоваться. Санитар практически не пострадал, местами прогорела лишь одежда.
Все мы вместе с ранеными оказались ночью в лесу. Нас, как говорят, Бог миловал, мы благополучно добрались до медсанбата, находиться в лесу, родном доме для финнов, было небезопасно. Финны искусные лыжники, иногда проникали в наши тылы, сеяли панику, уничтожали беспечных. Большие неприятности приносили "кукушки", это финские автоматчики, искусно прятавшиеся в густой хвое больших аллей и оттуда поражавшие наших зазевавшихся вояк. Кругом густой лис, большие деревья и невозможно определить, откуда прозвучал выстрел.
Местность Финляндии очень образно описал в своем письме к родным боец с Орловщины: "Место мое Финляндия, лесу нет, одна сосна, земли нет, один песок". Да, сосна и песок, а страна богатейшая. Мы восторгались ее высоким жизненным уровнем. Большие неприятности нам приносили дороги, вернее, их недостаточное (для нас) развитие. В моей памяти запечатлелся сплошной лес и просеки, по которым продвигались войска, а за ними войсковые тылы, в том числе и наши медицинские подразделения. То ли отсутствовало четкое регулирование на ВАД (военно-автомобильных дорогах), то ли слишком много было войск и их тылов, но все дороги были забиты транспортом, образовывались "пробки" машин длиной на километры. Порой в "пробках" машины стояли по суткам. Для нас, здоровых людей, ладно, мы часто вылезали из машин, прогревались у костра или бежали за меленно продвигавшимся транспортом. Но каково было раненым, лежавшим в кузове машин. Правда, машины с ранеными пропускали, где можно, в первую очедь. Были крытые машины (санитарные) с печками, но их было недостаточно, были и просто грузовые, на которых вынуждено везли раненых. В одной из таких пробок, когда медсанбат перемещался в новое место, мы долго стояли в заторе, и я, проголодавшись, стал кусать мерзлый хлеб (он промерзал так, что его или рубили или пилили, отрезать было невозможно), да так остервенело, что сломал зуб. Острый осколок больно царапал слизистую щеки. Вначале я старался терпеть, приспособиться, но тщетно, зуб просто резал щеку. В соседней машине ехала наша зубной врач, я пересел к ней в машину и попросил принять меры. Она развела руками, что она могла сделать без инстументов? Выход из положения нашел я сам: взял у шофера плоскогубцы и вручил их врачу. Так, обычными плоскогубцами, врач удалила острый осколок зуба и тем самым облегчила мои страдания.
Медсанбат обычно развертывался в палатках, их было достаточное количество для работы хирургического, терапевтического и других подразделений, но были случаи, когда медсанбат занимал какой-либо хутор. Хутора, в нашем понимании, были зажиточные, имели добротные надворные постройки, зацементированные полы, водопровод, электропроводку. На многих хуторах были ветряки, образующие электроэнергию для питания хутора.
Финны отступали организованно, не оставляя ничего, ни живого, ни ценного, что могло бы пригодиться для армии. Ни одного финна мне не пришлось видеть, ни одной скотины или птицы они не оставляли, единственно, что оставалось целым, это наземные постройки. Лишь однажды санитар обнаружил, в качестве трофея, бочку с моченой брусникой. Раньше мне не приходилось ее есть, после соответствующей проверки мы с удовольствием ее употребляли в качестве приправы к армейскому обеду. Вторым трофеем в ходе войны была стопка журналов, добытая на чердаке вездесущим санитаром. Ведь в нашей жизни, за "железным занавесом", никакой иностранной литературы не приходилось видеть, поэтому найденные журналы представляли определенный интерес. Журналы на финском языке, на великолепной бумаге, но, не зная языка, оставалось только смотреть картинки.
А картинки говорили о многом: Ленина финны, видимо, почитали, были журналы с портретом Ленина во всю обложку журнала, а на последних страницах журнала карикатуры на Сталина, он, как правило, изображался боровом с красными поперечными нашивками, как это было в Красной Армии в первые годы ее организации. Много карикатур было на русского мужика, он изображался тощим бедняком с чугунком похлебки, а против него за столом - толстый еврей с жареной курицей в одной руке и крынкой молока в другой. Были и другие рисунки антисемитского содержания. Видимо, в Финляндии процветал антисемитизм. Некоторые статьи журнала сопровождались портретами Блюхера, Тухачевского и других советских деятелей, но что о них написано неизвестно и спросить некого. Об этих журналах я никому не говорил, одного того, что я смотрел иностранные журналы с карикатурой на Сталина было достаточно, чтобы меня признали врагом народа, я внутренне чувствовал, что все процессы над "врагами народа" были неестественны, не могли настоящие революционеры, делавшие революцию, стать врагами народа.
В середине марта война закончилась. Согласно официальным данным, объявленным в газетах, наши потери составили 250 тыс. человек. Конечно, эта цифра не отражала действительности. Ведь нужно же иметь такую твердолобость, чтобы на гранитные ДОТы и надолбы посылать солдат с винтовкой. Линия Маннергейма действительно неприступна, а лезли в лоб и не думали ее обойти, вот и положили сотни тысяч русских солдат. Недаром эту бесславную войну сейчас замалчивают и не упоминают о ней. Финны превосходили нас в вооружении, особенно в автоматах и минометах, чего у нас еще не было, разве только единичные у разведчиков и командиров. Невольно возникает вопрос: ну почему в войнах нашего столетия Россия (СССР) не была подготовлена и выходила из положения только кровью солдат?
В Ленинград я вернулся где-то в апреле месяце. Встреча однокурсников была радостной, у каждого было что рассказать о военных эпизодах, о пережитом. Но вернулись не все. Пять наших товарищей пали смертью храбрых, один лежал в госпитале с тяжелым ранением груди, один пришел с пожизненной повязкой на глазу.
Прежде чем преступить к занятиям у нас отобрали все, что было выдано для поездки на фронт, все мы сдали без колебаний, но с большим сожалением сняли с петлиц "шпалы" (прямоугольники, обозначающие принадлежность к старшему командному составу) и снова одели "кубари" (квадраты, обозначающий средний комсостав). Занятия пошли ускоренным темпом, нужно было наверстать упущенное время, целых пять месяцев выбыло из учебного года. Гражданские институты уже готовились к завершению учебного года, а мы только втягивались в программу пятого курса. Но закончить нормально пятый курс нам было не суждено.
Литва
Где-то в конце июня или начале июля, т.е. через два месяца после начала занятий, наш курс снова собрали по тревоге ночью, а утром мы уже были на Витебском вокзале, имея при себе смену белья и туалетные принадлежности. Как и перед финской войной приказано было снять с петлиц "кубари" и нацепить "шпалу". Уже то, что мы переменили знаки различия, говорило о том, что мы едем не на прогулку. Так, в полном неведении мы доехали до Орши.
В Орше объявили, что остановка будет длительной, мы не замедлили разбежаться по городу, главным образом, по ресторанам. Предчувствие было такое, что мы уезжаем надолго, в академию, возможно, не вернемся, и нам позволительно проявлять некоторые вольности, которые не допускаются в обычное время.
До Орши нас сопровождал начальник курса, военврач 3-го ранга (одна шпала в петлицах, т.е. то же, что одели и мы) Пресняков. Человек он мало культурный, уважения у нас, слушателей, не имел и не старался его завоевать, сознавая свое начальственное положение. Это был типичный солдафон. Его обычная "речь" перед нами была примерно такой: "Мишь безобразие, на лекциях мишь спять, в общежитии спять, а вечером мишь гуляють..". На перроне вокзала в ожидании поезда мы, будучи навеселе, перебрасывались шутками, смеялись и вообще не старались вести себя как мальчики-паиньки, чем вызвали неудовольствие начальника курса, он начал одергивать нас, делать замечания, подчас и не совсем уместные. Большинство из нас просто не замечали его, но некоторых он стал раздражать, между ним и слушателями возник спор, и один из них не сдержался, в ответ на резкий окрик ударил начальника. Окружающие бросились их разнимать, как бы невзначай стараясь ткнуть начальника, его увели в здание вокзала, а тем временем подали поезд, мы расположились в вагонах, а начальника своего больше не видели.
Вскоре мы узнали, что едем в распоряжение Белорусского Военного округа. Уже в пути нас распределили по войскам на должности батальонных врачей, т.е. так же, как и в финскую войну. Разница была лишь в том, что пока не чувствовалось дыхания войны, хотя все были предупреждены о том, чтобы быть в боевой готовности.
Утром (к сожалению, не помню места и даты), в хорошую ясную погоду, наш батальон пересек литовскую границу, и мы маршем двинулись по многолюдным улицам населенных пунктов. Население принимало нас дружелюбно, иногда бросали цветы. Угрюмых, пасмурных лиц я не видел.
Во второй половине дня батальон остановился на отдых на берегу небольшой речки, нас тут же окружило любопытствующее население. Им, конечно, было интересно видеть живых "красноармейцев". Ко мне подошел интеллигентного вида мужчина средних лет и что-то спросил. Я не понял и отрицательно замотал головой, он опять спросил, и я опять отрицательно покачал головой. Тогда он заговорил по-русски: "Господин капитан может со мной говорить по-русски". Не удивительно, что он свободно говорит по-русски, ведь прибалтийские страны были в составе царской России и господствующим языком был русский. Но зачем он интересовался моими знаниями иностранных языков, я не мог понять. Я не подал вида, но внутренне горел от стыда, как это русский "господин капитан" (шпала на моих петлицах была равнозначна званию капитана) не знает ни одного иностранного языка. Мне было очень стыдно и за себя, и за наше военно-академическое образование, я тут же дал себе обещание во что бы то ни стало изучить хотя бы один иностранный язык. Забегая вперед скажу, что я был полон решимости выполнить данное себе обещание, но отчасти недостаточно было воли, а вернее не способствовала военная обстановка. Вначале набрал ворох литературы, самоучителей, словарей и т. д. Но война прервала мои старания. Во время войны, после контузии, хотя и не тяжелой, я стал хуже слышать, потерял способность различать нюансы звуков, а иностранные слова содержат незнакомые мне звуки, и на слух я их плохо различал. Это и послужило одной из причин незнания других языков.
Наш батальон расположился в районе Кайшиодорис, все обошлось без военных действий, мы не сделали ни единого выстрела и по нам тоже не стреляли, но все же мы находились на чужой территории, поэтому строго соблюдали осторожность, не допуская общения с местными жителями. Я выполнял обязанности по санитарному обеспечению жизни батальона и по долгу службы иногда ходил в городскую больницу, по дороге встречались военнослужащие литовской армии, и все они с особой почтительностью отдавали мне честь и, что меня удивляло, отдавали честь, даже находясь на противоположной стороне улицы, я для них был "господин капитан".
Наше вступление в Литву и пребывание на ее территории означало оказание братской помощи в выборе государственного строя, повсюду в населенных пунктах и городах Литвы проводились митинги, на которых выносились решения о присоединении государства к Советскому Союзу в качестве Союзной Республики. Инициаторами таких митингов были передовые рабочие и вышедшая из подполья коммунистическая партия Литвы.
Пребывание в Литве не обошлось без ЧП в нашем батальоне. С большой горечью вспоминаю, как мне пришлось присутствовать на заседании военного трибунала. Судили одного красноармейца, который хотел дезертировать из батальона. Он ушел в близлежавшую деревню, где его настигла патрульная служба, когда он переодевался в гражданскую одежду. Трибунал приговорил его к расстрелу за измену Родины. Приговор был приведен в исполнение перед строем батальона.
Еще приговорили к расстрелу одного майора, политработника (к счастью не из нашей части), он эмигрировать не собирался, а потерял честь советского офицера, связался с женщинами легкого поведения, пьянствовал, дошло до того, что одна девица раздела его, одела его форму, ее задержали на улице наши патрули. Мне тоже пришлось испытать свою стойкость перед женским соблазном. Это было в конце моего прибывания в Литве. Я получил приказ вернуться в Ленинград для продолжения занятий в академии. В Кайшиодорисе сел в пригородный поезд, состоящий всего из 4-х вагончиков с мягкими креслами и отправился в Каунас, чтобы оттуда прямым поездом выехать в Ленинград. Уже подъезжая к Каунасу поезд вдруг остановился от какого-то удара, и от резкой остановки и от удара все пассажиры, сидящие лицом по ходу поезда, влетели во впереди стоящие кресла и оказались на коленях сидящих пассажиров. Я тоже оказался на коленях полной дамы, сидевшей напротив меня. Послышались стоны, визг, но вскоре все опомнились, стали вылезать из вагона. Оказалось, наш поезд влетел в хвост товарного поезда, разбил товарный вагон и разбилось машинное отделение нашего поезда. Непонятно как, но очень быстро на месте происшествия появились представители железнодорожной администрации и стали выявлять пострадавших. Особое внимание уделили мне, как иностранному офицеру, я их успокоил, сказав, что не пострадал, ушибов нет, т.к. был отброшен в мягкое кресло да еще в объятия дамы. Серьезных повреждений ни у кого не было, и все пассажиры в сопровождении железнодорожной администрации отправились к станции Каунас. Уладив свои дела с военным комендантом, я пошел пройтись по городу. Был теплый, летний вечер. Каунас типичный городок капиталистического мира. Ярко освещены витрины магазинов, а их больше, чем домов, так что на улицах светло, как днем. По улице неторопливо шли нарядно одетые люди, разговаривали, улыбались. Они гуляли. Рабочий день давно закончился, но народ не спешил, а, прогуливаясь, приятно проводил время. Царила благожелательная атмосфера, располагающая к отдыху. Было много женщин, и все они приятно выглядели, некоторые улыбались мне и что-то говорили, как бы приглашая. Одна миловидная женщина подошла ко мне и на чистом русском языке сказала: "Господин капитан, вы не обращаете внимание на приглашения дам. Вы такой молодой и ходите в одиночку, составьте мне компанию в кафе или пойдемте со мной". Женщина была элегантной, от нее так и веяло манящей женственностью, женской теплотой, тонкий аромат ее духов дополнял видение прекрасного, казалось, если бы она обняла, у меня не было бы сил оторваться от нее. Вероятно, внешне я не выказал своего внутреннего состояния, вежливо поблагодарив, сказал, что тороплюсь на поезд. Позже, анализируя этот эпизод, понял, что я типичный советский стереотип, напичканный антибуржуазной пропагандой, что буржуазный образ жизни нам не к лицу.
Где-то в конце июня я возвратился в Ленинград, снял с петлиц "шпалу", одел "кубари" и превратился опять в слушателя. Постепенно съезжались и другие слушатели из Молдавии, Латвии, Эстонии, Литвы. Наши слушатели были во всех местах, где оказывалась помощь братским народам. К счастью, везде обошлось мирно, без вооруженного конфликта.
Окончание академии
Занятия начались где-то в августе. Во всех учебных заведениях давно закончился учебный год, сданы госэкзамены, а мы опять только начали заниматься. Да и кому была охота заниматься, если уже два раза (а некоторые три) побыли врачами, испытали войну, лечили раненых и больных и сами подвергались опасности. Но закон есть закон, для получения диплома нужно сдать государственный экзамен. А тут еще "не вовремя" вышло постановление правительства о повышении требовательности в высших учебных заведениях на госэкзаменах.
В течение что-то около двух месяцев мы галопом закончили программу пятого курса и в октябре приступили к подготовке и сдаче госэкзаменов. Требования на госэкзаменах были жесткие. Независимо от того, что мы могли выполнить требования экзаменационного билета практически, необходимо было подробно объяснить теоретически, а теоретическая подготовка у многих из нас была слабовата. Единственно добрым экзаменатором для нас оказался "гроза всех слушателей" профессор Аринкин, он не столько спрашивал, сколько помогал экзаменующемуся слушателю разобраться в истории болезни на экзамене. Он говорил: "Со слушателя нужно требовать жестко в процессе учебы, а на экзаменах уже поздно учить". К сожалению, не все экзаменаторы так рассуждали, все требовали согласно новому постановлению правительства. В результате после сдачи первого предмета по всему курсу было получено более ста двоек. Естественно, это было чрезвычайным происшествием. Ни в одном высшем учебном заведении за всю историю не было столь массовых провалов на государственных экзаменах. Получил двойку и я, по истории партии. Всю жизнь марксистко-ленинская подготовка не держалась у меня в голове. Я внутренне протестовал против заучивания дат съездов, конференций, стоявших на них вопросов, высказываний и т. д. и т. п. Я никогда не стремился быть мастером жонглирования общими фразами, что необходимо в этой науке.
Как бы то ни было, но двойка на госэкзамене не дает права на сдачу других предметов. Однако в связи с чрезвычайным положением нашего курса сверху поступило распоряжение: при наличии одной двойки предоставить возможность ее пересдать и только после этого можно продолжить экзамен. На пересдачу отводилось время, но оно выкраивалось за счет подготовки к другим дисциплинам, короче говоря, первая двойка могла потянуть за собой и другие. Проклиная про себя эту "историю", я с отчаянной решимостью взялся за ее изучение и сдал. Остальные специальные предметы готовить и сдавать было легче, они материально ощутимы, это не "общие" рассуждения. Видимо, я недооценивал общественных наук. Не всем повезло с пересдачей первой двойки, 26 слушателей получили по второй двойке, были отстранены от госэкзамена и не получили диплома. Двое из них снова сдавали госэкзамен ровно через десять лет, я их встретил, когда приехал в академию на командно-медицинский факультет. Таков был нерадостный итог наших практических командировок на пятом курсе. Фактически, пятого курса и не было, а спрос был строже, чем обычно. Даже ранение, полученное на фронте, нисколько не послужило послаблением на экзамене.
Итак, 27 ноября 1940 года приказом Наркома Обороны К.Е.Ворошилова, я получил воинское звание военврач 3-го ранга и в третий раз, но уже законно, нацепил на петлицы "шпалу".
ВОЙНА
Назначение в Забайкальский Военный Округ; Начало войны; Соловьева переправа; Окружение; Выход из окружения, тюрьма, "проверка" в тифозных бараках
Назначение в Забайкальский Военный Округ
Вместе с дипломом об окончании Военно-Медицинской академии я получил назначение в Забайкальский Военный Округ на должность младшего врача запасного полка, расположенного не в самой отдаленной местности, но все же далековато, в Нижне-Удинске Бурят-Монгольской Автономной республики. Некоторые товарищи получили назначение в Европейскую часть: в Киевский или Белорусский Военный Округ, но то были солидные люди, ранее служившие в армии, имеющие высокие воинские звания и старше меня по возрасту. Я же не блистал ни высокими академическими показателями, ни имел стажа воинской службы, да и возраст у меня далеко не солидный, мне в самый раз познать службу в "самых низах". Настроен я был оптимистически, дальняя дорога не смущала, к разъездам в поездах я привык, но когда узнал, что поезд от Ленинграда до Забайкалья идет восемь суток, призадумался.
К счастью, в Забайкальский Военный Округ ехали еще два наших выпускника, и все мы попали в один вагон, и нужно сказать, мы совершенно не заметили продолжительности пути. У нас было веселое застолье, картишки, анекдоты, рассказы. Это было похоже на отдых на колесах, в моей памяти осталась не нудная дорога, а веселое путешествие.
Наш путь пролегал через такие крупные станции, как Вологда, Пермь, Свердловск, Омск, Новосибирск, Красноярск, но мы их не видели, хотя стоянка поезда (по современным понятиям) была длительная, что-то по 20-30 минут. Электровозов еще не было, составы тянули мощные паровозы, отапливаемые углем. На узловых станциях, расположенных примерно в трехстах километрах одна от другой, менялись паровозы, бригады запасались топливом, водой, обходчики осматривали колеса, буксы и т. д., все это требовало значительного времени, вполне достаточного для пассажиров, чтобы побывать на привокзальном рынке или пообедать в ресторане.
Наш Запасной полк, куда я приехал, располагался в казармах за городом. Рядом с казармами были дома барачного типа для офицеров и их семей. В одной из комнат барака отгородили каморку простыми нестроганными досками, обозначив ее "квартирой врача". В конце коридора было помещение под названием "кухня", куда жены офицеров бегали с примусами и керосинками готовить пищу своим мужьям - доблестным офицерам. Самым примитивным сооружением был туалет, сколоченный из необрезных и нестроганных досок сзади барака, причем дверь туалета, сорванная с одной петли, криво висела, не прикрывая внутреннего вида уборной.
Пробыв пять лет в Ленинграде, в благоустроенных помещениях, я оказался опять в примитивных условиях. Удовольствия мало, но я был молод, не задумывался о неудобствах и все воспринимал, как должное. Кроме того была пережита война с финнами, где условия были более суровые, так что ни сибирские морозы, ни холодный туалет меня не испугали.
На следующий день после приезда я представился старшему врачу полка, военврачу 2-го ранга Ягоде, он направил меня в медпункт, объяснив мои обязанности. Работа в медпункте полка не была для меня новой, эту работу я усвоил, будучи еще слушателем, да и война с финнами многому научила.
Днем в медпункте мы, медицинский персонал, коротали время за разговорами или за чтением интересной книги, зато во второй половине дня, в часы приема, работы было много. На прием к врачу (это значит ко мне) приходило много солдат с заболеваниями, вызванными простудой. Наиболее частым заболеванием среди солдат был бронхит и фурункулез.
При бронхитах молодым солдатам прописывал термопсис, при сильном кашле - кодеин или назначал банки. При начальной стадии фурункулеза прижигал крепким раствором марганцовки, а при его "созревании" использовал ихтиоловую мазь. При массовых фурункулах, а они чаще высыпают на шее, делал аутогемотерапию. В то время аутогемотерапия только что получила признание в медицине и, как все новое, получила широкое распространение среди врачей. Нас, выпускников академии, напутствовали всем новым, что появлялось в медицине. Однако не все новое было полезным. До сих пор я содрогаюсь при воспоминании о новом методе обезболивания при операциях, получившем широкое распространение во многих клиниках Ленинграда. Я имею в виду спинномозговую анестезию, при которой новокаин вводят в спинномозговой канал. Молодые хирурги так увлеклись этим новшеством, что аппендицит и даже грыжу оперировали с применением этого варварского обезболивания до тех пор, пока не стали проявляться отдаленные результаты: неврозы, параличи и другие неприятные реакции со стороны центральной нервной системы. Травмы в моей врачебной практике в полку были чрезвычайно редким явлением, я с ними справлялся легко и уверенно, благодаря навыку лечения раненых во время финской войны.
Мало доставляло удовольствия ходить по вызовам на дом мне, врачу, еще не имеющему опыта и не осведомленному по многим разделам медицины, а случаи могут быть самые неожиданные. Так однажды я был вызван к больному ребенку, ему было всего 2-3 месяца, состояние больного тяжелое, не помню точно отдельных симптомов, помню, что диагностировал двустороннее воспаление легких. Как я мог помочь такому малышу? Сделал ему укол камфоры, дал родителям несколько общих советов и обещал придти на следующий день. Спасти ребенка не удалось, он умер. Меня долго не покидало чувство вины, родители надеялись на помощь врача, а врач не предотвратил смерти. Но что меня несколько озадачило, это относительное спокойствие родителей - молодых супругов. Или они не показывали вида, что убиты горем, или ребенок был не особенно желанный для еще совсем молодых родителей.
Как я уже говорил, полк наш был запасной, в него направлялись солдаты с какими-нибудь ограничениями физического, психического или социального порядка, в нем не чувствовался строевой порядок, не было подтянутости у солдат, а чувствовалось стремление освободиться от службы, она их тяготила. Довольно частой причиной обращения солдат-новичков в медпункт были жалобы на ночное недержание мочи. При явных признаках этого заболевания солдат комиссовали и освобождали от службы. К медицинской службе от командования были претензии, почему мы не лечим, а комиссуем. Старший врач дал мне задание изыскать эффективный метод лечения таких больных. В академии этому заболеванию не придавалось особого значения и никаких методов лечения я не знал. Но приказ есть приказ, и метод лечения нужно изыскивать. Мне помог старшина, которому эти больные досаждали, он попросил присоединиться к лечению этих больных. Процесс лечения мы с ним разделили: я давал больным общеукрепляющие средства и рекомендовал строго соблюдать питьевой режим, а старшина размещал их на втором ярусе двухъярусной койки, а на первом ярусе размещались нормальные, здоровые солдаты. Такой комплексный метод помог значительному количеству больных, многие из них вылечились.
Однажды я был возмущен, и неприятный осадок остался на многие годы. Я получил вызов от молодого офицера к больной жене. Была зима, ветер поднимал снег и с силой бросал его на прохожих. Мне в моей офицерской шинельке было не очень уютно, но надо идти к больной. Идти оказалось неблизко, офицер снимал комнатку в частном домике в стороне от расположения полка. Придя по указанному адресу, застал "больную" за стиркой белья. Спрашиваю, зачем вызывали врача? Она, мило улыбаясь, говорит, что муж ее очень любит и беспокоится о ней. Утром что-то кольнуло в боку (в каком? что-то не припомнит), муж забеспокоился и побежал в медпункт. Мне оставалось только распрощаться и уйти в объятия пурги. С тех пор я всегда, сколько мог, защищал своих врачей от необоснованных вызовов.
Не был я в восторге и от таких обязанностей, как снятие пробы приготовленной пищи. За 30 минут до раздачи пищи врач должен был опробовать ее и дать разрешение на раздачу личному составу. Основная цель врачебной пробы - определение доброкачественности пищи, т.е. врач являлся "подопытным кроликом", на котором испытывалась доброкачественность пищи. Если через 30 минут врач не "окочурится", значит пища не отравлена, ее можно давать солдатам. 30 минут - это биологическое время, через которое проявляется действие отравляющего вещества, если оно попало в пищу. Во все времена крупные деятели имели при себе слуг, в обязанности которых входило опробывание пищи, приготовленной для господина. Но удивительным было и то, что с врача требовали заключение не только о доброкачественности пищи, но и о качестве приготовления. Если каша подгорела, или борщ пересолен, или вложен некачественный продукт - виноват врач. Не с повара спрос, а с врача. Эта тенденция крепко засела в сознание командования и политических органов, которые, как правило, брали "шефство" над санитарной службой.
Не могу не вспомнить несколько поистине каверзных случаев "вины" санитарной службы. Однажды в котелок офицеру, питавшемуся из общего котла, попала повязка, соскочившая с пальца повара. И кто же был виноват? Конечно, врач. И куда смотрит врач? Или вот: вышестоящий командир при инспектировании части сделал замечание за мусор, валявшийся на территории. Инспектируемый командир, недовольный, что получил замечание, закричал: "И куда смотрит медицина, где ходит врач, не видя мусора?" Вероятно, у командира не было высшего академического образования, если он сам не мог определить наличие мусора, а требовал это от врача. Конечно, врач должен участвовать в оздоровлении быта военнослужащих, но не быть ответчиком за бездеятельность других, непосредственно отвечающих за порядок и чистоту.
Там, в запасном полку, я впервые приобщился к преподаванию. Тогда и не думал, что преподавание будет моей специальностью на многие годы. Когда возникла необходимость обучать санитарных инструкторов вопросам военной гигиены и оказанию первой медицинской помощи при ранениях и несчастных случаях, кому поручать обучение, сомнений не было, конечно, молодому врачу, приехавшему с багажом знаний не откуда-нибудь, а из военной академии, да еще имеющего практические навыки, полученные на войне. За преподавание я взялся с удовольствием, хотя оно и не освобождало меня от обязанностей в полку, но все же вносило какое-то разнообразие и отвлекало от пищеблока.
Младшим врачом в запасном полку я пробыл всего месяца два. Вскоре получил предписание прибыть в распоряжение командира артиллерийского полка, дислоцируемого в районе станции Бырка, на должность старшего врача полка, он же начальник медицинской службы полка.
Станция Бырка находится за Иркутском, за Читой, на Читинской ветке, недалеко от станции Оловянная, это пограничная станция с Китаем. Вот это действительно место "куда Макар телят не гонял". На маршруте к Бырке интересным местом была часть пути, которая огибает озеро Байкал. Красоту озера Байкал оценить через окно вагона трудно, но каждый раз, когда проезжаешь это место, невольно как бы прилипаешь к окну и неотрывно смотришь на прекрасное творение природы. Самым удобным местом наблюдения было место у окна за столиком вагона-ресторана. Бывалые люди заранее занимали места и, потягивая пиво, сидели у окна до закрытия ресторана. А еще лучше пить пиво и закусывать омулем свежего посола. Не помню названия станции, но именно на ней нужно покупать омуль. Кондуктор, если он добродушный, предупреждает пассажиров, когда поезд подходит к этой станции, и нужно покупать именно на ней. Омуль есть и на других станциях, но настоящий, типично-байкальский, особого посола, только на этой станции.
Оказалось, что станция Бырка - не конечная цель моего путешествия, до полка нужно добираться попутным транспортом еще 60 км по голой степи. Станция Бырка (это поистине "дырка") называлась станцией потому, что была необходимой остановкой железнодорожного транспорта, подвозившего грузы для воинских частей, а по оборудованию это хороший разъезд, имеющий помещение для пассажиров (вокзал), комнату в 25-30 кв.м. Но, несмотря на отдаленность от центра России, меня здесь ожидал сюрприз. Поистине, "мир тесен". На этой станции, в лице начальника станции, я встретил одноклассника по Воронежской школе Васю Комолова, мы вместе учились в 6-7 классе. Я хорошо помню его белесое, широкое лицо с крупными чертами, сильно оттопыренные большие уши и сочный басовитый голос. Он пригласил к себе, мы мило поболтали, у него я скоротал время до приезда машины из полка. Машина, знаменитая "полуторка", была полностью загружена каким-то грузом, а сверху покрыта брезентом. Сверху, на брезенте, разместился я. Мне казалось, что я сижу на крыше куполообразного дома, а т.к. груз возвышался над бортами машины, чтобы меня не сдуло ветром, мне пришлось распластаться на брезенте, покрывавшем груз. Зато мне была предоставлена редкая возможность обозревать местность со всех сторон. Ничто не мешало мне смотреть во все стороны, местность, насколько позволял видеть глаз, была открытая, с невысокими сопками. То была Монгольская степь.
Через два часа пути машина остановилась возле какого-то стойбища. По некоторым признакам здесь обитало что-то живое, т.к. кое-где из-под земли торчали небольшие трубы, возле них бегали ребятишки, заглядывали в трубы и, смеясь, бросали что-то в них. Возле сопки, в загородке из слег, стояли лошади, а немного дальше, за сопкой, виднелись неясные контуры машин. Каково же было мое удивление, когда мне сказали, что это и есть расположение артиллерийского полка. Ни одной наземной постройки, все размещались в землянках. В землянках размещались и личный состав, и столовая, и кухня, и прочие подсобные помещения. В некоторых землянках, с возвышающимися над землей крышами, были окошки (именно окошки, а не окна). Офицерский состав размещался тоже в землянках, вблизи расположения полка. На каждую семью была землянка, построенная самим офицером, конечно, с помощью солдат. Мне была предоставлена уже готовая землянка, принадлежавшая старшему врачу, не выдержавшему "вольной" степной жизни. Запасной полк в Нижне-Удинске, по сравнению с этим полком, размещался в человеческих условиях. Точно в таких же степных условиях распологались другие полки дивизии. Штаб дивизии находился в 3-х километрах от нашего полка, тоже в землянках, но несколько улучшенных. Там были столы, скамейки, а стены обшиты тесом.
Вскоре мне пришлось присутствовать на совещании в штабе дивизии, там я познакомился с дивизионным врачом, от которого получил руководящие указания общего характера. Это посещение штаба мне запомнилось надолго. Возвращались с совещания, когда уже стемнело и поднялась вьюга. Вьюга в степи принеприятнейшая вещь. Те небольшие ориентиры, заметные днем, совершенно неразличимы вечером, да еще при вьюге. След идущего тотчас же заметается. Когда останавливаешься, чтобы оглядеться по сторонам, твой след моментально заметается, и ты не видишь, откуда идешь, кругом белая пелена. И только благодаря опытности товарищей, с которыми я шел, мы, хотя и без абсолютной уверенности, все же добрались до своего расположения. Я настолько устал, что ввалился в землянку и, не раздеваясь, повалился на "кровать". Ранее в полку были случаи, когда солдаты, застигнутые в пургу в степи, запутавшись, не находили своего расположения и погибали. Так, до моего приезда погибло 5 человек.
В землянке одного из дивизионов обосновался медпункт. Состав медпункта артиллерийского полка значительно меньше стрелкового. В штат медпункта входили: врач, фельдшер, санинструктор и три фельдшера (по числу дивизионов). Врач был рядовым солдатом, проходившим срочную службу, в медпункте он находился только в определенное время, а в остальное - в подразделении, где он числился рядовым. Фельдшер - офицер медицинской службы, молодая женщина, жена офицера. На должности санинструктора был военнослужащий сержантского состава. Хорошо запомнил только этих троих, потому что больше всех сталкивался с ними по работе не только в медпункте, но и в первые дни войны.
Жили и работали мы дружно. Я не могу припомнить ни одного случая каких-либо недоразумений, нарушений дисциплины, малейшего неповиновения и т. д. Может потому, что я просто не замечал. Характер у меня покладистый, я не был солдафоном, никогда не подчеркивал, что отношусь к старшему офицерскому составу, и со всеми был на равных. Жизнь в такой отдаленности от цивилизованного мира не отличалась весельем, но молодость никогда не унывает. Не унывали и мы, стариков в полку не было. Служба шла ежедневно и неукоснительно регулярно, но не 24 часа в сутки, а столько, сколько положено по распорядку дня. Остальное время мы проводили в обществе самих себя, в той или иной землянке, играли в карты и частенько за рюмкой, вернее, за стаканом. Сервировка стола была самой примитивной, ведь условия жизни были самые суровые. Никаких магазинов или лавчонок, конечно, не было, питались пайком, выдаваемым с полкового склада, многие офицеры были на котловом довольствии и питались с общей кухни. Для вечернего чаепития офицеры брали на руки причитающийся им доп-паек (дополнительный паек): сахар, печенье, колбасу. В отношении вина, без которого жизнь офицера, тем более в "глухих местах", немыслима, обходились очень просто. Периодически кто-то из офицеров ехал в командировку в Читу или в Иркутск и привозил чемодан с бутылками спирта. Между прочим, в продаже водки не было, был только спирт. Это много экономичнее в отношении объема. Бутылка спирта разбавлялась почти в три раза. Общение с внешним миром осуществлялось через газеты, поступавшие с недельным опозданием. Так и жили без радио, телевидения и кино.
В полной мере я познал местность весной, когда сошел снег. Видимость вокруг была на много километров, но когда дует ветер, нужно одевать очки, иначе глаза моментально засоряются песком, а когда ветер посильнее, то в воздух поднимаются мелкие камешки и больно бьют по лицу. Человеку с нежной кожей нужно одевать маску.
Полк был гаубично-артиллерийский. Гаубицы 152-го калибра были на механической тяге: тракторной. Но были и лошади для офицерского состава - верховые и для хозяйственных нужд ездовые. В медпункте была санитарная повозка. По рангу верховая лошадь была положена и мне, но что с ней делать, я не знал. Однажды я решил попробовать себя в верховой езде, пришел в расположение, где стояли лошади, и велел дать мне самую смирную. Старшина, ведающий лошадьми, подвел неказистую лошадку, на вид спокойную, одел сбрую, седло и помог мне на нее взобраться. Собственно говоря, сесть на оседланную лошадь ничего нет трудного, но когда к лошади подходишь впервые, конечно, нужна помощь, совет. Он придержал стремя, я легко прыгнул в седло, взял уздечку и поехал. Старшина что-то говорил, но я, увлеченный тем, что сижу в седле, не слышал его. Не помню, то ли я отпустил уздечку, то ли, наоборот, натянул ее, но лошадь вдруг поскакала. Хотел было остановить ее, но она пустилась еще быстрее, потом перешла в галоп. Управлять ею я не мог, и, чтобы не выпасть из седла, бросил уздечку, уцепился двумя руками уже не помню за что, пригнулся (вернее, лег) и предоставил лошади полную свободу. Мысль была одна: не свалиться. Вдруг лошадь повернула и поскакала к своему стойлу. Тут же стоял смеющийся старшина и еще кто-то. Я не сразу отцепился от лошади. Кататься на лошади желание пропало.
В трех километрах от расположения нашего полка, сразу за сопкой, стоял стрелковый полк нашей дивизии, где старшим врачом был мой однокашник по академии Миша Оладков. Мы с ним не были друзьями в академии, но здесь отдаленность и аналогичная работа сблизила нас. Мы часто ходили друг к другу по поводу и без повода, пройти три километра по степи не составляло труда, конечно, в хорошую погоду. Однажды рано утром вдруг прибежал запыхавшийся Миша, говоря: "Боря, выручай, у меня ревизия, а спирта нет, обнаружат недостачу - будет большая неприятность". В частях иногда практировались проверки расхода медимущества. Проверяющими были, как правило, политработники. Проверялся, как правило, расход спирта. Ни минуты не колеблясь, я отдал ему 3-х литровую бутыль со спиртом, ничуть не сомневаясь в своевременном ее возврате и не думая, что проверка может быть и у меня. Но жизнь бывает коварной, проверка была назначена и у меня. Меня спасли неожиданно назначенные боевые стрельбы. Артиллеристов подняли по тревоге, и дивизионы выступили в полной боевой готовности. На боевых стрельбах я был впервые. Было интересно и необычно. Главное, нужно беречь свои барабанные перепонки и своевременно раскрывать рот, когда стоишь вблизи орудия. Все же по непривычке меня оглушил гром выстрелов, и некоторое время я ходил с "заложенными ушами".
Стрельбы инспектировал начальник артиллерии дивизии полковник Пылин. Я хорошо запомнил его интеллигентное лицо, высокую стройную фигуру и корректное обращение с офицерами. Наши артиллеристы стреляли хорошо, это было видно по настроению начальника артиллерии. Мое медицинское обеспечение стрельб ничем не было примечательным, все обошлось благополучно, никому медицинская помощь не понадобилась.
Жизнь шла однообразно. В первую половину дня я занимался вопросами военной гигиены. Территория, пищеблок, размещение личного состава. Во вторую половину дня, в землянке, именуемой медпунктом, вел прием. Больных было относительно мало, видимо, в артиллерию отбирались наиболее крепкие парни. Это стало заметно по сравнению с личным составом запасного полка. Строго установленное время было только для приема больных в медпункте. Остальное время я распределял по своему усмотрению и, естественно, если было нужно, свободного времени мог иметь предостаточно, но поскольку его заполнять было нечем, оно отдавалось работе.
Из общественных мероприятий в полку мне почему-то запомнился доклад о международном положении, было зачитано заявление ТАСС, в котором опровергались слухи об оборонительных мероприятиях на западных границах и передвижениях наших войск. После доклада в душе осталась какая-то тревога, долго не покидавшая людей.
Случай, который произошел в этот период, мог иметь крупные неприятности для многих и для меня в частности, особенно в тот период крутых репрессий. Второго Мая 1941 года у всех было праздничное настроение, меня что-то толкнуло пойти на пищеблок и самому снять пробу. Попробовал борщ, попробовал второе, особенно не вникая в качество, а больше формально. Да и что можно определить, когда пища горячая. Затем очередь дошла до третьего блюда, мне дали кисель, тоже очень горячий, я даже не мог сделать глотка, поставил стакан на подоконник, а сам продолжал разговор с дежурным по кухне на праздничную тему. За разговором было забыл про кисель, он совсем остыл, но когда набрал в рот остывшего киселя, то сразу почувствовал, как всю слизистую рта "связало", у киселя был сильный привкус металла. Произошло окисление: кисель сварили в металлическом баке. Кисель тут же выбросили и вместо него приготовили чай. Я не доложил ни командиру, ни в Особый Отдел. А что было бы, если бы произошло отравление личного состава в праздник, да накануне войны - страшно подумать. Не знаю, оценили ли лица, непосредственно отвечающие за качество пищи, мое молчание.
На второй день, кажется, 3 мая, настроение всего личного состава резко повысилось, когда на закрытом совещании объявили о передислокации нашего полка на запад. Причем на совещании строго-настрого предупредили эту новость держать в строжайшей секретности, писем ни родным, ни знакомым не писать.
Начались большие хлопоты по подготовке к переезду. Хотя на совещании присутствовали руководство полка и командиры подразделений, но радовались все от солдата до командира. Такую весть в секрете не удержишь, ведь все работы выполнялись солдатами. Радость от предстоящего переезда была неописуемая. Наконец можно было вырваться из объятий дикой степи и служить в цивилизованном мире, иметь квартиру, завести обстановку, сидеть на стульях, а не на скамейках, спать на кровати, а не на топчане, ходить в театр, кино, баню и т. д. и т. п. На фоне всеобщей радости среди семейных начался переполох. А как же семьи? Командованием этот вопрос был предусмотрен. Решено было все семьи организованно отправить в г. Бийск на побережье Азовского моря. Разрешалось уехать в любое место, где есть родители или родственники, но с условием не разглашать переезд полка.
При любом переезде возникает суматоха, долгие сборы, раздумья о барахлишке, которое накопилось. Хотя жили в полевых условиях, а кое-какое барахлишко накопилось, ведь после каждого отпуска, каждой командировки привозилось что-либо, могущее украсить неприглядную землянку. Командование разрешило все личное имущество офицеров упаковать в ящики и погрузить в два вагона, специально выделенные для имущества. Эти вагоны будут прицеплены к одному из эшелонов и будут следовать вместе с полком. Все офицеры оставили семьям только самое необходимое в дороге, а все вещи, чтоб не утруждать семью в их пути, взяли с собой.
Оказалось, что к переезду готовился и соседний полк нашей дивизии, а потом мы узнали, что переезжает не только наша дивизия, но и вся 16-я армия. Сборы были долгими, даты отъезда не были известны, и жизнь в полку продолжалась. Неожиданно я получил приказ прибыть в Иркутск на 10-ти дневные сборы врачей. Поездка отвлекла от хлопот в полку. На сборы были собраны войсковые врачи из разных уголков необъятного забайкальского военного округа. Тогда мы не обратили внимания на скрытый смысл этих сборов. Лишь много позже дошло, что, несмотря на опровержение ТАСС, все же ожидалась война, и нас, войсковых врачей, необходимо было подготовить к оказанию помощи при поражении химическими веществами и, главным образом, познакомить с новым ОВ (отравляющим веществом) под названием "Табун". Занятия на сборах я воспринимал как должное, но молодого, энергичного человека, вырвавшегося из пустынных степей с солидным запасом денег, попавшего в приличный город с массой соблазнов, конечно, не удержать в вечернее время в четырех стенах казармы. У нас сложилась большая веселая компания, и мы сделались завсегдатаями двух-трех ресторанов Иркутска. Рестораны работали до трех часов утра и нам маловато оставалось времени для сна, приходилось досыпать на занятиях. Старшим на сборах был сотрудник медицинского управления военврач Фишер, крупного телосложения, с большой головой и громким голосом. Главное, он не вмешивался в наш распорядок дня и тем заслужил наше уважение.
Завершив программу, с большим сожалением я возвратился в полк. В полку завершались сборы к отъезду. Санинструктор соорудил мне хороший ящик, куда я сложил все имущество, оставив себе, как и многие офицеры, только смену белья. Самым ценным и незаменимым среди вещей был выпускной альбом с фотографиями всех слушателей и некоторых учителей. Свой ящик я сдал на склад.
Наконец полк двинулся на станцию Борзя для погрузки в эшелоны. Мне для медицинской службы выделили два крытых вагона, в одном я оборудовал изолятор, в другом разместил имущество, главным образом НЗ (неприкосновенный запас). В составе медпункта была женщина военфельдшер и нужно же было, перед самым выездом она родила. Это накладывало определенное беспокойство не только на командование полка, но прежде всего на меня. Поскольку она являлась офицером, оставлять ее с семьями нельзя, она на военной службе. Пришлось оборудовать ей место в изоляторе, там она могла находиться с ребенком и, при необходимости, выполнять назначения врача в пути следования.
Перед отправкой командир полка провел совещание, в котором сообщил, что полк едет на запад, место прибытия он не знает, эшелоны едут по указаниям ВОСО (службы военных сообщений) железной дороги, нам будет известна только ближайшая узловая станция. Он особо подчеркнул, чтобы старшие вагонов ни в коем случае не открывали в пути следования дверей и люков (окон), т.к. мы едем под видом товарного состава. Эшелон будет останавливаться только на маленьких разъездах для питания и приведения в порядок вагонов, наше перемещение является строжайшим секретом.
Начало войны
Так мы и ехали, на крупных станциях не останавливались, проехали Читу, Иркутск, Новосибирск, затем резко повернули на юг, проехали Барнаул, Семипалатинск и остановились в Алма-Ате. Наверное, хотели запутать свой след. В Алма-Ате я смог немного побродить по городу недалеко от вокзала. Запомнился резко-теплый воздух, охвативший меня всего, как будто я попал в громадную печь. Мы уже начали предпологать, что из одной окраины попали в другую, вместо запада попадем в Среднюю Азию. Но поехали дальше, проехали Джамбул, обошли стороной Ташкент и остановились на станции Арысь. Нас всех помыли в санпропускнике. У меня надолго осталось приятное ощущение от теплого сильного душа. Наши опасения не подтвердились, дальше двигались на северо-запад по "Турксибу", вдоль реки Сыр-Дарья и после Актюбинска узнали о начале войны. Стало ясно: мы едем прямо в жерло войны. Больше не соблюдали секретности, стало ясно: наши секреты никому не нужны. Проезжая Саратов, мы почувствовали дыхание войны: везде воинские эшелоны, мобилизованное население, военная техника, все устремлено на запад. Подъехали к Воронежу. Боже мой, что творилось в моей душе. Родной город. Родные и знакомые здесь, рядом, сестра живет в привокзальном поселке, но не знает, что я тут, на вокзале, по пути на фронт. Я вышел на привокзальную площадь, знакомые, родные места: вот тут я ходил через пути много-много раз к сестре, вот за вокзалом Брикманский сад, который наводил страх на меня, мальчишку, если приходилось идти вечером. После того как мы узнали, что началась война и нам отведена в ней определенная роль, распорядок в эшелоне резко изменился. Все подразделения начали готовиться к боевым действиям. В первую очередь, в боевую готовность привели зенитную батарею, а я подготовил медпункт к приему раненых. Приказ о неприкосновенности НЗ стал недействительным, и я вскрыл его. Никто не знал содержимого НЗ. Вскрывались укладки, изучалось их содержимое, учились ими пользоваться. Никто из медперсонала не умел пользоваться медоборудованием в полевых условиях: как подготовить шину Дитерихса для иммобилизации нижней конечности, как моделировать "лестничную" шину и др. Мне, прошедшему практику во время финской войны, все это было хорошо знакомо, пришлось обучать весь коллектив медпункта. Было очевидно, что НЗ нужно хорошо знать, иначе в нужный момент он не принесет никакой пользы. Так и было с некоторыми частями, в которых не было опытного человека, который бы смог обучить как им пользоваться, и НЗ пропадало. При неожиданном нападении противника в частях, близко расположенных к границе, много имущества пропало из-за неумения им пользоваться. Мне приходилось видеть медимущество, брошенное в лесу, еще новое, не распакованное .
Мы продолжали двигаться эшелоном вперед на запад, в сторону Смоленска или Орши. На платформах нашего эшелона установили зенитные батареи нашего полка. Они должны были обеспечить защиту от самолетов противника. Интересно, что зенитчиками были немцы с Поволжья. Война с Германией для них была не безразличной. Я наблюдал, как они озабоченно разговаривали между собой, собравшись вместе на платформе у зенитных орудий. Когда пролетали немецкие самолеты, а с приближением к Смоленску появление самолетов было все чаще и чаще, наши зенитчики вели интенсивный огонь, но насколько их огонь был эффективным, трудно сказать, во всяком случае, ни одного попадания не было. Дальнейшая судьба наших немцев мне неизвестна, приближение к фронту, хлопоты, напряжение отвлекли внимание от них.
Весть о войне была главной темой разговоров в эшелоне. Нашлись офицеры, которые, сравнивая территорию нашей страны и численность нашего населения с немецкими, голословно заявляли о безусловной скорой нашей победе. Я не разделял их взглядов. Мне припомнилась война с Японией в 1904 году, когда многие наши кричали, что Японию мы "шапками забросаем". Как известно, это "шапкозабросательство" нам дорого обошлось. Я не занимался политикой, не интересовался международной обстановкой, но мне было совершенно ясно, что Германия, начав войну, не рассчитывала проиграть ее, тем более, что почти вся Европа была уже завоевана ею, и что война будет очень тяжелой и продолжительной. Своих мыслей я не высказывал, чтоб не посчитали меня паникером, сеющим неуверенность в войсках, а что еще хуже, могли обвинить врагом народа.
Стал вопрос о личных вещах, следовавших в нашем эшелоне, два крытых вагона, полностью набитых вещами офицерского состава. Все офицеры забрали с собой все, что могли, оставив семьям только то, во что они были одеты. Все надеялись, что семьи приедут к ним, когда они устроятся на новом месте, в квартирах, и ехать семьям будет легко, они не будут обременены вещами. На запрос командования получили указание: два вагона с вещами отправить на Центральный склад Наркомата Обороны. Так и сделали и больше их никто не видел.
Время шло, а мы все двигались в западном направлении, правда, не с такой скоростью. Прошел слух, что один из эшелонов нашей дивизии при следовании к Орше попал к немцам. Немцы стремительно наступали и многие "шапкобросатели" сникли. Не помню даты начала наших боевых действий, но нас выгрузили из эшелона, вероятно когда противник подошел и начал преодолевать нашу старую границу.
Походным маршем мы двигались к фронту, а навстречу, нескончаемым потоком шли люди, запыленные, кое-как одетые, с узлами и узелочками, хмурые, печальные, уже познавшие ужас войны. Вместе с населением шли и военные, не знающие, где их часть и что с нею. Все говорили, что их часть уничтожена, и только они остались живы. Картина была удручающей, но армия есть армия, и мы продолжали двигаться на запад, чтобы занять оборону на заданном рубеже и остановить наступление противника.
Наконец, после многих переходов, остановок, выяснений обстановки и задач, поставленных перед дивизией и нашим полком, мы остановились где-то под Смоленском и в который раз начали окапываться, рыть траншеи, ячейки, аппарели, все это мы делали не один раз и на непродолжительное время.
На второй день, когда оборона была готова, я пошел осматривать позиции с тем, чтобы определить пути выноса раненых, места их возможного скопления и условия для оказания медицинской помощи. Одет был, как положено на войне: каска, противогаз, плащнакидка. Помню, погода стояла теплая, солнечная. Кругом была тишина. Вдруг где-то недалеко раздался взрыв, потом еще, затем что-то меня ударило, отбросило наземь, в воздухе образовался как бы вихрь, запахло гарью, было такое впечатление, что меня бросили в костер, вокруг поднялись пепел и черная гарь. Такая мгновенная картина запечатлелась в моем сознании, мне представилось, что я напоролся на мину. Кругом раздавались взрывы, я попал под минометный огонь, и одна мина небольшого калибра угодила в то место, где я стоял. Сообразив, что жив, отполз в сторону, поднялся, осмотрелся. Каска валялась в стороне, коробка противогаза разорвана осколком, плащнакидка изрешечена мелкими осколками, сгоряча я не заметил, что болит левая рука: два осколка попали в нижнюю треть левого плеча. Только тут сообразил, что меня спасли каска и противогаз от крупных осколков. Так для меня началась война. Первое ранение в полку пало на меня, старшего врача полка.
Рука болела, пришлось идти в медсанбат, он размещался близко. Там ввели противостолбнячную сыворотку, перевязали рану и повесили руку на косынку. Предложили остаться, но поскольку я вполне "ходячий", я вернулся в полк. Лет через 20, в 1960 или в 1961 году место ранения воспалилось, и в Казанском гарнизонном госпитале из места ранения извлеки два небольших осколка, хирург дал их мне на память. Сам я великолепно помню о ранении и без вещественных доказательств, но, говоря о нем, кто в наше время поверит на словах? Разве многие из нас, медиков, думали тогда о том, что нужно иметь справку? Легко отделался и ладно, радуйся, что остался жив.
С моей "легкой руки" пошли ранения в полку. После оказания им медицинской помощи мы отправляли раненых в близ расположенные медицинские учреждения, независимо от их принадлежности к той или иной дивизии, армии.
После тяжелых боев под Смоленском и под Ярцевым, где впервые немцы получили ощутимый для них отпор, на соседнем участке фронта немцы прорвали оборону и мы, чтобы не оказаться в окружении, начали отходить, но отход был поспешным, главное, никто ничего определенного не знал. Нас постоянно обгоняли беженцы и отдельные группы военнослужащих из разбитых частей. Немецкие самолеты постоянно, без вмешательства наших самолетов, висели над нашими головами, то обстреливая, то бомбя. Опытные товарищи научили бежать от самолета перпендикулярно к направлению его движения, т.е. в сторону, что, возможно, спасло меня. В разгар боев немецкие самолеты бомбили не только позиции или колонны наших войск, а буквально охотились за каждым человеком, обнаруженным на дороге или в поле. Особенно неприятно, когда немецкий самолет обнаружит тебя на открытой местности, где некуда спрятаться, вот и начинаешь бегать зигзагом, как только он начинает пикировать и строчить из пулемета вдоль своего движения, а ты бежишь в другую сторону. Конечно, было страшно, инстинкт самосохранения преобладал, и гонимый бегал от самолета с расчетом не попасть под строчивший пулемет.
Однажды я бежал от самолета и неожиданно увидел индивидуальный окопчик, диаметром менее метра, так что поместился в него еле-еле, пригнувшись, еле спрятал голову, но самолет не хотел упускать жертву и пролетал несколько раз, но так и улетел, не попав в меня. А, может, посчитал, что убил, ведь я бегал - бегал и вдруг пропал.
Но не всегда я пассивно прятался от самолетов, были случаи, когда бежать было некуда, и, пристроившись к брустверу окопа, я стрелял из карабина, как и все солдаты, не мог же я прятать голову, когда такие же люди рядом со мной стреляют, стрелял и я. Мне очень хотелось сбить самолет, когда он, пикируя, снижался так низко, что отчетливо было видно пилота, казалось, я точно прицеливался в кабину или мотор, но, вероятно, ни разу не попал. Специально стрелять по самолетам я не стремился, просто складывалась такая обстановка, когда нужно что-то делать, а не лежать пассивно, уткнувшись лицом в землю.
Лето 1941 года мы все время отступали, неся потери в людях и технике. Иногда отступление носило характер бегства. Вообще летом 1941 года была сплошная неразбериха, связь все время нарушалась, командиры не знали, что делают соседи и где в данный момент противник, все стремились уйти подальше от противника, пока какой-нибудь наиболее инициативный командир не останавливался, организовывал оборону и распределял рубежи обороны. Чаще такими командирами были офицеры или генералы из штаба армии или фронта. Тогда положение временно стабилизировалось до первого мощного удара немцев, чаще всего танкового удара, и тогда начиналось снова отступление. В полосе нашего отступления оказался фронтовой продовольственный склад НЗ. Немцы его разбомбили, часть имущества горело, а большая часть досталась отступающим солдатам, уж они (в том числе и я) полакомились вкусными вещами: солдаты несли с собой печенье, сахар, котелки, наполненные сгущеным молоком, а некоторые "счастливчики" находили шоколад. По рассказам опытных военных, чуть ли не в прифронтовой полосе размещались склады НЗ, вещевые (полушубки, валенки и др.), продовольственные и др., и все это погибло в первые же дни войны. Видимо мы, без учета реальных возможностей, действительно собирались воевать на чужой территории.
Соловьева переправа
Точно установить дату я уже не могу, но это произошло в конце июля или в августе, когда немецкие войска прижали нас к Днепру. Вначале мы отходили организованно. В один из дней отхода на дороге мне повстречался Сладков, он шел со своим пехотным полком, был энергичен и даже (мне показалось) весел, сказал что-то ободряющее, и мы расстались. Это была последняя наша встреча.
Наш организованный отход был вскоре нарушен бесконечными налетами самолетов, затем распространилось известие, что немцы высадили десант, и мы оказались не то в "клещах", не то в окружении. Единственным местом, где нет немцев, была понтонная переправа через Днепр в районе деревни Соловьево. Вот на эту переправу устремились все. Это уже не было организованным отходом, это было бегство. Вперед, т.е. назад, рвались, обгоняя друг друга, машины, повозки, верховые, пешие. Среди машин и повозок много санитарных, с ранеными. Подгоняемые страхом, уже никто не уступал им дорогу, все рвались к переправе. Когда мы подъехали на своей повозке к переправе, то увидели море людей и всевозможного транспорта. Самой переправы не было видно, к ней не подступиться. Образовалась пробка, пропустить которую "ниточка" понтонного моста была не в состоянии. Немецкие самолеты безнаказанно бомбили и обстреливали скопище возле переправы. Это был кошмар. Вой сирен, взрывы бомб, крики раненых и людей, обезумевших от страха. Люди бегут, раненые ползут, таща за собой окровавленные лоскуты одежды, длинные полосы бинтов с соскочивших повязок. Я не полез в гущу толпы к переправе и к моменту налета авиации был на краю скопления. С налетом авиации я упал в небольшое углубление, напоминающее отлогий окоп, и там увидел знакомого врача, Фишера, он был старшим нашей группы на сборах в Иркутске. Встреча не принесла нам радости, каждый из нас высматривал, куда бы отползти подальше от этой жуткой картины, безнаказанного избиения людей.
Поток людей двинулся в сторону от переправы, притягивающей к себе внимание противника. Я шел в общей массе людей, неизвестно к каким полкам принадлежавшим, но знал, что и наш полк в таком же положении, так же ищет спасения на противоположном берегу Днепра. Это было не только бегство, это была паника, и я не был исключением, я тоже бежал, но оглядывался по сторонам. Видел, как сбоку от нашей бегущей толпы была позиция немецкого орудия, и расчет методически стрелял из небольшой пушки по нам. Видели это многие, но бежали, не останавливались.
Видно было, как несколько немецких автоматчиков стреляли по нам, но расстояние было значительным, и стрельба из автоматов не приносила вреда. Пробежав некоторое время, я почувствовал, как что-то толкнуло меня в правое ухо, мелькнуло в виде искры, и впереди бегущий упал ничком с разорванной спиной в области лопаток. Видимо, немцы стреляли по нам из противотанковой пушки болванками. Добежав до берега, с ходу все бросались в воду. Но вода спасала не всех. Начался минометный обстрел по Днепру, опять шум выстрелов, крики раненых, крики барахтающихся в воде, но масса людей, несмотря ни на что, с расширенными от ужаса глазами, старалась как можно быстрей добраться до противоположного берега. Я плохо помню, как доплыл до спасительного берега и уже там свободно вздохнул. Здесь быдо тихо, обстрела не было, люди стали группироваться, разыскивать свои части. То тут, то там разводили костры и обсушивались. Да, Соловьева переправа - это одна из огромных трагедий начала войны.
Не помню, кто был инициатором, как-то само собой из нас, нескольких медиков, образовался медпункт в хате недалеко от берега, туда потянулись раненые, перебравшиеся с "того" берега. Им мы оказывали помощь в объеме общей врачебной помощи и эвакуировали дальше в тыл. Эвакуировали на попутном транспорте. Поскольку это была самодеятельность, естественно, транспорта у нас не было, мы останавливали проезжавшие мимо машины и загружали их ранеными, но далеко не все машины останавливались. Тогда на дороге возле нашей хаты мы соорудили шлагбаум, поставили двух автоматчиков, из числа добровольцев-легкораненых, которых бродило вокруг предостаточно, они останавливали проезжавшую машину, мы, не спрашивая разрешения и не взирая на протесты, загружали ее ранеными и отправляли в тыл. Куда? Сами не знали куда, до первого полевого госпиталя. Некоторые сопровождающие, сидевшие в кабине, воспринимали эвакуацию раненых как должное, не сопротивлялись. Но были случаи, когда с машиной ехали два-три вооруженных солдата, тогда дело чуть не доходило до перестрелки. Однажды, сидящий в кабине стал резко возражать и громко кричать на наших солдат, на шум я вышел из хаты, вскочил на подножку машины, хотел угомонить крикуна, а он наставил на меня пистолет и потребовал, чтобы я тотчас же убрался, иначе он меня пристрелит. Мне ничего не оставалось, как уйти. В этом медпункте я пробыл недолго. Узнал, что в этом районе в прибрежных кустах собираются части, в том числе и наш полк, именно "собираются", потому что через Днепр переправлялись, кто как мог и кто когда мог. Собирались только люди, вся техника, машины, имущество, орудия, боеприпасы, все было брошено на том берегу. Постепенно сосредотачивались в определенных местах полки, дивизии и их штабы. В этом отступлении были части не только нашей армии, но и других армий.
Придя в свой полк, узнал, что получено распоряжение достать брошенную технику и имущество любыми средствами. Оказывается, немцы были остановлены недалеко от Днепра. Вся брошенная техника и имущество находились как бы в нейтральной зоне между нашей и немецкой линией фронта. Нейтральная полоса простреливалась немцами, поэтому решили днем отсыпаться, а ночью наводить переправу и отправляться на "охоту". Каждый отправляется за своим имуществом: артиллеристы - за орудиями, арт-снабженцы - за боеприпасами, хозяйственники - за хозимуществом, медики - за медимуществом и т. д. И так каждую ночь, причем нужно использовать только темное время, ну немного прихватывали сумерки или рассвет, пока не проснется немец.
Не помню, сколько времени мы простояли у Днепра, занимаясь "охотой". Наши артиллеристы притащили пушки, но своих гаубиц и тракторов к ним достать не смогли. Стало известно, что исходя из наличия боевой техники, из двух существовавших в дивизии артполков формируется один. Командный состав в этом полку будет сборный из двух полков. Меня вызвал дивизионный врач к себе в "кабинет" под кустом у берега Днепра, накоротке побеседовал со мной, больше для формальности, и назначил старшим врачом вновь сформированного артиллерийского полка. Командиры дивизионов остались прежние, какие были в нашем полку, а командир полка был назначен новый.
Ночные "охоты" мы продолжали, но уже в интересах нового полка. Мои ребята из вновь сформированного медпункта постарались и притащили санитарный автомобиль. Теперь вместо повозки у меня появился автомобиль. Медицинского имущества мы достали больше, чем было у нас раньше. Брошенного имущества было много, стоит только удивляться, как немцы допустили, что из-под их носа выбирали столько добра. Видимо, сил у них было мало, и наше отступление можно было объяснить только паникой, а паника, как известно, очень мощная сила. Охота за имуществом не для всех кончалась благополучно. Мой товарищ, однокашник Сладков, вошел в раж, хотел перекрыть рекорд по доставанию имущества и как-то в одну из ночей заполз слишком далеко, видите ли ему захотелось достать резиновую емкость для воды и за это был наказан: автоматная очередь его прострочила, он тут же скончался.
Дальнейшие бои были связаны с частыми и продолжительными переходами. Тактика боев изменилась, наш артиллерийский полк, состоявший из трех дивизионов, был придан по-дивизионно трем пехотным полкам нашей дивизии. Я, с частью медпункта, был придан пехотному полку. Моя инициатива по обеспечению раненых была сведена к нулю. Но работы по оказанию помощи раненым было много, надо было оказывать помощь и пехотинцам, а их потери во много раз больше, чем у артиллеристов. Я автоматически влился в медпункт пехотного полка.
К обстрелам и бомбежкам наша реакция заметно притупела, привыкнуть нельзя, но реакция уже не была такой бурной, как в начале войны. После очередного перехода свой медпункт решили развернуть на краю села, в доме над оврагом. Переход был утомительным, двигались всю ночь и, заняв хату, предвкушали предстоящий безмятежный отдых. Медпункт решили пока не развертывать, а укладки, не раскрывая, сложили в хате и, уставшие и проголодавшиеся, сели завтракать. Неожиданно на деревню налетели немецкие самолеты и начали бомбить. Но все так надоело, так хотелось есть, что мы решили не обращать внимания, рассчитывая, что дом на окраине села не возбудит любопытства у немцев. Но мы просчитались. Только выпили положенные 100 грамм, (порция была немного увеличена), не успели закусить, как сильный взрыв потряс всю хату и ее угол, примыкающий к двери, отвалился. Но ужаса, как мне казалось, не было. Была досада, что нам помешали. Относительно спокойно выбили оконную раму, побросали в окно наиболее ценные вещи и, главное, медицинские укладки, а сами укрылись в овраге, благо что окно находилось над оврагом. После бомбежки все аккуратно собрали, так и не перекусив, двинулись вместе с полком дальше. Двигались мы беспорядочно, то влево, то вправо, то вперед. Пошли слухи, что мы окружены, в пути стали встречаться другие части нашей дивизии и даже другой дивизии. Так в пути я встретил свой полк и присоединился к нему. Стало известно, что под городом Вязьма противник прорвал оборону наших войск и крупными силами двинулся на Восток. Как бы подтверждением тому были частые налеты немецкой авиации, причем бомбить они стали реже, но зато воздействовали на психику, пикируя и включая сирену, стараясь рассеять войска и превратить их в бродячую неорганизованную толпу, вместо бомб они иногда сбрасывали с самолета все, что попало: куски рельсов, бочки и др., и все это под вой сирены. Но чаще, что самое неприятное, они, пикируя на наше скопление, обстреливали из пулеметов.
Потери от таких налетов были незначительные, но страху нагоняли много, а, главное, чего они добились, так это превратили войска в неуправляемую толпу. Больше всего страдали лошади. Лошадей побили много, много повредили техники. Затем немцы стали сбрасывать листовки, из которых мы узнали, что немцы окружили две армии: нашу 20-ю и 16-ю. В листовках указывалось на наше безвыходное положение и предлагалось сдаваться в плен. Одна из листовок была с фотографией сына Сталина - Якова: он стоит в расстегнутой шинели с подвешенной на повязке рукой.
Окружение
Окружение - это страшная вещь, если нет организованности, порядка и жесткой дисциплины. Вначале мы шли организованно во главе с командиром дивизии полковником Чернышевым. Во главе полков шли их командиры. Шли ночью, больших привалов не делали, иначе люди засыпали тут же на обочине дороги. Во время такого движения я встретил своего дивизионного врача, мне запомнилась его согбенная фигура, укрытая плащнакидкой, он часто кашлял, был угрюм и производил мрачное впечатление.
Выхода из окружения не было. Куда бы ни направлялись, натыкались на немцев. Днем, после ожесточенной бомбежки, большая группа во главе с комдивом пошла в другом направлении. Командира нашего полка убило осколком снаряда. Оставшиеся три командира полков сели на лошадей, взяли с собой роту автоматчиков и уехали в неизвестном направлении. Народ кричал: "Не бросайте войско, организуйте выход из окружения!". Но они приказали не следовать за ними и уехали. Я был в числе толпы и тоже кричал им вслед. Одного командира полка я хорошо запомнил, это майор Лопатин. У нас с ним была встреча в академии Тыла.
Среди оставшихся началось брожение. Никто не знал, что делать, куда идти. Кто-то организовал группу и решил вести на прорыв. За ними потянулись многие, пошел и я с офицерами нашего полка. Но вскоре налетела авиация противника, затем застрочили пулеметы и автоматы: мы напоролись на немцев. Боя наша группа, хотя и большая, но неорганизованная, не приняла и все разбежались кто куда. Вероятно, это было уже в начале октября, так как выпал снег, и вода покрылась льдом, был небольшой морозец. Я побежал вместе с другими, но, видимо, отклонился в сторону, попал в небольшое озеро, покрытое льдом, еще не крепким, и провалился в воду. Воды было выше пояса в том месте, где я провалился, но, потеряв равновесие, я весь оказался в воде. Холода я не ощущал, поскольку был сильно возбужден. Выбравшись из воды, добежал до опушки леса и нашел там небольшую группу своих. Обсушиться и хотя бы выжать одежду не было времени, все двинулись дальше, я не рискнул остаться один, тем более, что стало смеркаться. Немцы пускали осветительные ракеты, показывая, что они не спят и не собираются нас пропускать. Шинель у меня замерзла, превратилась в ледяной колокол и при движении издавала звон, за что на меня начали шикать, чтобы я не нарушал тишины. Идти было трудно, мокрая одежда внутри и обледенелая снаружи затрудняла движение, я стал отставать, но рядом шедший командир дивизиона нашего полка капитан Сумин Иван Елисеевич взял меня за руку и тащил, не давая отставать.
Наконец мы пришли на небольшую поляну и решили сделать большой привал. Здесь оказались ротные землянки, жарко топилась печь, и я, полностью раздевшись, смог в какой-то мере просушиться и отдохнуть. Наутро пошли разговоры о необходимости пробираться к своим небольшими группами.
Стало совершенно очевидным, что мы полностью окружены, все дороги перекрыты немцами, и двигаться организованной колонной стало невозможно. Части, у которых сохранилась какая-то техника, уничтожали ее или просто бросали. В этот критический момент я впервые увидел нашу, потом прославленную, "Катюшу". Совершенно случайно я оказался вблизи каких-то ранее не виданных машин с рядом "рельс" сверху. Машины новенькие, около них хлопотал расчет. Нас попросили отойти метров на 20 и вдруг раздался оглушительный шум, с "рельсов" стали вылетать с огнем и дымом продолговатые снаряды, от неожиданности некоторые стоявшие рядом соглядатаи попадали на землю. То были последние залпы после чего машины взорвали, они не должны были попасть в руки противнику.
Несмотря на большую массу людей никакого руководства не было. Не проявляли решительности и офицеры, которых было в достаточном количестве. Я попал в небольшую группу вместе с капитаном Суминым, мы с ним старались держаться вместе, меня тянуло к нему, как к старшему по возрасту и опытному кадровому офицеру с большой выслугой лет, а я его привлекал как врач, который, по его мнению, окажет нужную помощь в экстремальных условиях.
В группе собралось человек 10, все офицеры. Шли ночами, а в дневное время отдыхали, грелись у костра, обсушивались и кое-чем питались. С пищей было очень туго. Обычно один или два офицера пробирались к деревушке, узнавали, нет ли немцев и просили у сельчан продуктов. Первое время удавалось доставать хлеб, картофель, соль. Затем этот вид снабжения иссяк, т.к. шло очень много групп окруженцев, шли тысячи и, естественно, деревни не могли их прокормить. Тогда мы находили на полях, а поля стояли с неубранным урожаем, картофель, рожь и многое другое. Но поскольку мы передвигались больше лесом, то и эта пища попадалась редко. Тогда мы были вынуждены, именно вынуждены, находясь в безвыходном положении, приступить к использованию в пищу валявшихся убитых лошадей. Перочинными ножичками вырезали, на наш взгляд, здоровые куски мяса, еще не подверженные гниению, поджаривали их на огне костра и ели. Соли не было, а без соли очень и очень невкусно, но ели. На всю жизнь сохранился у меня неприятный вкус несоленого мяса.
По какому маршруту шли не помню, я всецело доверял товарищам, считая их более компетентными в тактическом отношении. Вскоре мы отказались от ночных переходов, ночью трудно ориентироваться, да еще в незнакомой местности. Очень часто встречали группки блуждающих окруженцев вроде нас, делились впечатлениями, интересовались, куда лучше идти. Некоторые советовали пробираться в Брянские леса, другие доказывали необходимость идти на Алексин, третьи рассказывали о своих попытках прорваться к своим, но после неудачных попыток они искали другие места, где было бы меньше войск противника.
Соотношение встречных, двигающихся на восток, чтобы пробиться к своим, со встречными, шедшими на запад к своим домам, уже занятым немцами, стало меняться в сторону преобладания тех, кто шел домой, на Украину.
Сколько раз, лежа в кустах на обочине шоссе, я видел наших, сдавшихся в плен, бредущих большими группами под конвоем из 3-5 немцев. Безусловно, были и такие, которые в плен попали, находясь в безвыходном положении, но вот мое твердое убеждение, основанное на том, что я видел собственными глазами: многие шли в плен добровольно, а из плена и не пытались убежать. Окружение, хотя и сложная ситуация, но из него можно выйти, в конце концов можно пойти в партизанский отряд, о чем и мы думали, имея в виду как шанс, если не удастся пробиться к своим.
Осуждая тех, кто шел на запад, по домам, а их мы встречали, повторяю, много, мы поставили себе целью идти хоть до Урала, но в плен не сдаваться. В то время сдача в плен считалась равносильной измене Родине. Конечно, это несправедливо для многих, попавших в плен не по своей воле, но и реабилитация всех, бывших в плену все четыре года войны, тоже неверное решение, особенно для тех, кто с первых дней войны испугался ее трудностей и пошел в плен. А теперь все на равных правах: те, кто воевал, внес свой вклад в Победу, и те, кто пассивно сидел в плену и ждал, когда другие, рискуя жизнью, освободят его.
Много раз издали или с довольно близкого расстояния, укрывшись в кустах, я видел немцев на марше или на посту какого-либо объекта. Это бывало, когда нам нужно было пересекать шоссе или в поисках переправы мы подходили к мосту, а он охранялся немцем. Когда стали наступать холода, вот тогда я увидел, как пока еще слабые морозцы неприятны немцам. Стоит "бедняга" на посту повязанный платком, чтоб не обморозить уши, а на ногах соломенные "калоши", одетые на сапоги. Мы по очереди подползали ближе, чтобы лучше разглядеть, конечно, не столько из-за любопытства, сколько чтобы оценить возможность и выбрать место перехода.
Наша маленькая группа вскоре распалась. Ходить группой стало труднее, а главное, добывать пищу. Перед тем, как разойтись в разные стороны, мы сидели на опушке леса, недалеко от деревни. Был осенний теплый день, мы грелись на солнышке и разговаривали о наших проблемах. Зашел разговор о возможном пленении нас. Ведь может же случиться неожиданность во время сна или при каких-либо других обстоятельствах, все может случиться, вплоть до предательства со стороны некоторых жителей деревни, куда заходить заставляет необходимость. Политрук как бы невзначай сказал: "Вам-то, беспартийным, еще есть шанс выжить, хоть и попадете в плен, а что касается нас, коммунистов, да еще политработников, наше дело швах". Раньше мы как-то не задумывались о том, что нас ожидает, если случится попасть в руки немцев. Но после таких разговоров пришлось призадуматься. Не помню, кто подал мысль, но коммунисты решили спрятать свои партийные документы прямо здесь же, в лесу. Один из них выбрал наиболее заметное дерево, вырыл под ним ямку, взял с перевязочного пакета прорезиненную оболочку, упаковал в нее партийный билет и зарыл. Дерево обозначил насечкой, сделал насечки и на других близстоящих деревьях, сориентировался по отношению к деревне. То же самое сделал и еще один. Другие решили пока воздержаться, но свои документы стали прятать кто под подкладку шинели, кто в голенище сапога, я свое удостоверение засунул под подкладку сзади шинели.
Еще немного посидели, помолчали и разошлись, кто куда. Я остался с капитаном Суминым. Затрудняюсь сказать, сколько мы с ним шли вместе. Мне очень запомнились некоторые эпизоды совместного пути. Нам очень досаждали ручейки и речушки, встречавшиеся на нашем пути. Мы старались их обходить, но это не всегда возможно, чаще приходилось преодолевать их вброд. У Сумина были добротные яловые сапоги, а я был в своих офицерских хромовых сапожках, к тому же не очень просторных. Часто ноги мои были мокры, хром сапог не выдерживал болотной сырости. В некоторых случаях при преодолении ручья Сумин переносил меня на другой берег на своем горбу. Однажды, после длительного перехода, в период наступивших холодов, я почувствовал, что ноги у меня окоченели. Мы сделали привал, решили погреться у костра. С большим трудом Сумин снял с меня сапоги, большие пальцы ног оказались подмороженными, они походили на большие синие култышки. Одеть снова сапоги было невозможно. Что делать? Сумин предложил обменять сапоги на какие-либо "опорки", в которых можно было бы ходить. Он взялся это сделать. Сапоги я привел, как мог, в божеский вид, почистил их полой шинели и отдал Сумину. Он их взял и ушел. Я остался сидеть босиком в полном одиночестве, в лесу, со своими скорбными мыслями. Мне вдруг пришла в голову дурная мысль: а что если Сумин обменяет мои сапоги на хлеб и сало и уйдет? Ведь мы очень голодны. Но нет, этого не может быть, он очень порядочный человек. Трудно сказать, сколько я просидел, обуреваемый грустными мыслями, наконец появился он, неся в руках старые армейские, времен первой Мировой войны, "австрийские" ботинки с обмотками. К счастью, ботинки оказались большого размера, он положил в них еще сена и мои натруженные ноги почти сносно вместились. Совместными усилиями приладили обмотки, и я стал похож на "вояку" времен гражданской войны. А главное, он получил впридачу по куску хлеба с маленьким кусочком сала. Это было как нельзя кстати.
С Суминым мы оказались, видимо, уже в Калужской области, пройдя из района Вязьмы, места окружения, более ста-ста пятидесяти километров, а может, и значительно больше, учитывая зигзаги.
Хорошо запомнилась местность Тихонова Пустынь. Первые морозы спали, снег растаял, и лес выглядел совершенно мирным, напоминающим золотую осень под Воронежем. Где-то в стороне была Таруса. Была близка Москва по расстоянию, но бесконечно далека по возможности добраться до нее. Обстановки на фронте мы не знали, ходили слухи, что Москва пала, что немцы беспрепятственно занимают города. Но однажды в одной деревне нам показали газету "Правда", в ней был снимок парада войск на Красной Площади 7 ноября. Слухи о поражении Москвы оказались ложными и, скорей, паническими. Газеты были сброшены с самолета, чтобы показать населению, что Москва держится и не сдается. Это сообщение нас воодушевило, и мы вновь обрели надежду.
Как мы ни старались с Суминым идти осмотрительно, все же напоролись на немцев, когда выходили из леса. Это было так неожиданно, что мы не успели что-либо предпринять и оказались лицом к лицу с группой немцев. К счастью, это было какое-то тыловое подразделение, мы это поняли значительно позже, а вначале крепко перетрусили, особенно я. Немцы нас моментально окружили, начали что-то говорить, я в свою очередь впопад или невпопад повторял: "Я врач, врач", потом вспомнил слово по-немецки: "Arzt, Аrzt!". Мой товарищ кричит мне: "Скажи, что я твой повозочный, санитар!", и показывает руками, как бы тянет вожжи и произносит :"ТПРУ, ТПРУ!" И действительно, он был похож на повозочного, я только теперь обратил внимание: шинель солдатская, без знаков различия, подпоясан ремешком, как у ямщика, на голове старая пилотка, на ногах простые сапоги. На то, что я врач, указывала моя офицерская шинель и врачебные петлицы. Вдруг один немец подошел ко мне с ножом в руке, поднял нож на уровень горла, я обомлел, но остался стоять неподвижно, двое взяли меня за руки, а он поднес нож еще ближе и ... Я хотел кричать, но не мог, а он, смеясь и что-то говоря, стал спарывать петлицы, на которых ярко блестел знак Эскулапа (чаша со змеей). Только тогда я заметил, что общий гул и смех немцев носил не злобный характер. Затем нас усадили в свое общество, вскоре подъехала кухня, нас угостили кофе из общего котла и дали по небольшой буханке хлеба. Не помню, каким образом объяснялись, но мы поняли, что завтра нас отправят в комендатуру. День клонился к концу. Мы с Суминым договорились бежать в рядом расположенный лес, но сделать это нужно было, не вызывая подозрений. Как только стемнело, Сумин взялся за живот и пошел в кусты. Никто не обратил особого внимания. Через какое-то время отполз в сторону и я, а затем, пригнувшись, перебежал в лес. Но Сумина там не нашел. Так я остался один. Это было ужасно. Остаться одному в лесу, в незнакомой местности, полной немцев, ужасно.
Будь что будет, но идти я решил только днем. Шел только леcoм и только к ночи подходил к деревне и просил переночевать. Были деревни, в которых стояли немцы, я держался от них подальше. Сведения о таких деревнях удавалось узнавать от встречных или от крестьян. Были деревни, где председатель колхоза, а некоторые так и оставались на своих местах, распределял нас, окруженцев, по хатам; нас, одиночек, было много. Что удивительно, немцы не разгоняли колхозы, а оставляли так, как они были. Были дворы, где не пускали переночевать и попросту гнали прочь, но таких было мало. В подавляющем большинстве народ сочувствовал и помогал, чем мог. Мне запомнилась ночевка в одной хате, в ней жил старик, участник еще Первой Мировой войны. Мы с ним долго беседовали о создавшемся положении, он был твердо убежден, что немец не выдержит войны, что его успехи временные. Подобные рассуждения, как этого старого крестьянина, были очень редки, но во мне он укрепил надежду на благоприятный исход войны. Но как дожить до этого конца?
Проходя лесом, мне иногда встречались места бывших боев, попадались убитые солдаты, мне опять стало страшно, страшно не потому, что убьют, страшно вот так в неизвестности валяться где-нибудь в лесу или канаве, мародеры сдергивают одежду, вороны выклевывают глаза, а дикие собаки или волки выгрызают участки тела, как мы вырезали у погибшей лошади еще съедобные куски мяса. Да, все это ужасно. Нужно на что-то решаться.
В одной деревне я видел двух парней, уже не похожих на солдат, организовавших в баньке мастерскую по валке валенок. Посидел с ними, поговорили, в помощниках они не нуждаются, и я пошел дальше. Проходя вдоль опушки леса, встретил одного такого же окруженца, с перевязанной щекой. Я осмотрел рану, рана в хорошем состоянии и в дополнительных мероприятиях не нуждалась. Он рассказал: шел по направлению к дому, шел открыто, смело. Навстречу ехал верхом на лошади немец, немец стал что-то спрашивать, я, говорит парень, показываю на пальцах решетку, мол из заключения, из тюрьмы иду домой. Немец выхватил пистолет и выстрелил прямо в висок. Но по счастью пуля прошла ниже скуловой дуги, чуть поцарапала язык и прострелила только щеки. Этот случай меня насторожил, нужно быть осторожней.
Во второй половине дня решил пробираться к деревне. Вышел из леса и стал было переходить поле, чтобы войти в деревню со стороны огородов, но услышал яростный лай собак, крики людей, визг поросят, понял, что в деревне орудуют немцы, они стали частыми "гостями", требуя у крестьян "млеко" и "яйки", не брезгуя курами, поросятами и телятами. Пришлось пригнуться и быстрее спрятаться в лес.
В этот раз в деревню не попал, забрел в какой-то хутор, забрался на сеновал, поглубже зарылся в сено, согрелся и уснул. Проснулся ночью, чувствую, что заболел. Знобит, болит голова. Утром вставать не хотелось, продолжал лежать. Вдруг услышал немецкую речь. По двору ходят немцы, что-то лопочут. Чувствую, что кто-то поднимается на сеновал, чем-то начинает тыкать в сено, я застыл, боюсь дышать, если обнаружат, будет капут, но самое страшное, начнут пытать, выведывая про партизан. Партизаны уже начали их существенно беспокоить. Но, слава Богу, меня не обнаружили и через некоторое время все стихло, видимо, ушли. Усилием воли поднялся и побрел без всякой цели. Нужно двигаться, чтоб окончательно не расслабиться, нужно искать что-то съестное, чтоб подкрепить организм. Вначале идти было трудно, но потом, как бы подгоняемый опасностью остаться ночью в лесу, разошелся, размял свои члены и к концу дня набрел на небольшую деревушку, попросился в первую попавшуюся избу. Мне повезло. Старушка, видя мой измученный вид, сжалилась, угостила горячей картошкой в мундире (я, кажется, так и съел ее в мундире), горячей водой (так называемый "чай") и разрешила переночевать. В разговоре выяснилось, что я могу обменять шинель и шерстяные галифе на гражданскую одежду. Она посоветовала это сделать на случай встречи с немцами, чтобы не возбуждать у них подозрения. Куда-то сходив, она принесла мне хлопчатобумажные брюки, сильно бывшие в употреблении, и старую-престарую, латаную-перелатаную овчинную шубейку (слово "шубейка" даже не подходит к столь дряхлой вещи), но, главное, впридачу она дала кусок хлеба. На голову, вместо пилотки, я одел что-то напоминающее фуражку. Таким образом, наутро от нее я вышел по виду заурядным батраком. Да, она еще посоветовала найти семью, у которой мужик на фронте, предложить свои услуги и вести крестьянское хозяйство. Стать так называемым "примаком". В этом селе осело несколько человек у молодых хозяек, да и во многих селах из числа нашего брата берут в "примаки". Кто жил в деревне и знает сельское хозяйство, тому это с руки, но я совершенно не занимался земледелием и вряд ли меня будет держать хозяйка. Для меня более подходящим занятием была бы медицинская работа.
В одной деревне я встретил "осевших" врача и медсестру, они организовали медпункт, врач им не нужен, но они посоветовали идти в местечко Полотняный Завод, по слухам там, из числа медиков-окруженцев, организован госпиталь для раненых, оставленных после ухода наших войск. При моих темпах передвижения я могу добраться до Полотняного Завода за пару дней. Я решил там попытать счастья.
Добравшись до Полотняного Завода, я действительно нашел самовозникшую больницу, в которой были собраны все раненые, оказавшиеся в близлежащих деревнях. Весь обслуживающий персонал собрался из медсанбатов и медпунктов воинских частей, рассеянных противником. Меня приняли любезно, прежде всего накормили и по-товарищески объяснили, что присоединиться к ним нельзя. Все они учтены немцами и все изменения в штате и среди больных идут через немецкую комендатуру. Иметь дело с немцами я не решился, да и мне не посоветовали врачи, то ли действительно было опасно с ними связываться, то ли из боязни, что их и так много, во всяком случае мне посоветовали уходить, что я и сделал. Чтобы уйти из Полотняного Завода, нужно по тропинке спуститься в овраг и вновь подняться на горку, где после нескольких изб начинается окраина и далее перелесок.
Только начал спускаться в овраг, вдруг увидел идущих навстречу двух немцев. Местность открытая, все как на ладони. Что делать? Продолжать идти спокойно вперед, другого выхода нет, в крайнем случае скажу, что я санитар из "той" больницы. Легко сказать, идти спокойно, а ноги дрожат. Преодолев нервозность, продолжаю идти, вот они уже близко, о чем-то громко беседуют. Вот поравнялись, секунды кажутся вечностью, проходят мимо, стараюсь не смотреть в их сторону, а только прямо перед собой. Краем глаза вижу, как один повернул голову в мою сторону, но тут же отвернулся. Пронесло. Эта картина запечатлелась в мозгу навечно. Видимо, мой маскарад сыграл положительную роль. А между тем смена формы одежды военнослужащего, а тем более старшего офицера, приравнивалась в то время к измене Родине. Были случаи в начале войны, когда за снятие военного мундира людей передавали Военному Трибуналу. Но мне в то время было уже все равно, иного выхода у меня не было. Голод, неприкаянность, холод толкали вперед в поисках пристанища.
Выпал снег, фронт стабилизировался, пробиться через линию фронта стало невозможно. Идя по проселочной дороге вдоль леса, увидел в стороне от дороги хуторок, вернее, дом с надворными постройками. Зашел попросить поесть. Пожилая женщина поставила на стол стакан молока и кусок хлеба. Я уже забыл вкус молока. Только протянул руку, как женщина закричала: "Немцы!" и выпроводила меня в другую дверь, выходящую во двор. Вижу сарай, почти пустой, в углу стоит лошадь около яслей, наполненных сеном. Ясли - это угол сарая, огороженный досками и заполненный сеном. Не знаю, как у меня получилось, но я, не мешкая, подбежал к яслям, схватил большую охапку сена, прыгнул в ясли и накрыл себя сеном. Вскоре услышал шаги и немецкую речь. Вижу в щелку двух немцев, они осмотрели сарай, подошли к лошади, видимо, она им не понравилась, немного постояли и ушли. Через некоторое время в сарай пришел старик и позвал меня: "Эй, служивый, где ты? Выходи, немцы ушли". Я не сразу мог вылезти. То ли ноги затекли, то ли испугался, но вылезал я медленно. Меня пригласили в дом, накормили, расспросили, кто я и куда иду и т.д. Сидя за столом, я обратил внимание, что из окна, у которого стоял стол, хорошо видна дорожка, ведущая от дома на дорогу. Вот почему женщина сразу увидела немцев, направившихся к дому.
Когда я рассказывал о себе, присутствовало несколько домашних, кто-то из них сказал, что по внешнему виду я мало соответствую тому, за кого себя выдаю, но это было сказано как бы в шутку и без подозрительности и тут же добавлено, что на артиста я не похож, чтобы играть какую-либо роль. Я хотел было попросить переночевать, но было еще рано и после некоторой подозрительности, пусть это было и в шутку, просить постеснялся. Поблагодарил за угощение, вышел из дома, медленно, опустив голову, побрел, не зная куда. Не прошел я и сотни шагов, слышу, догоняет меня старик и приглашает вернуться. Оказалось, что этот дом является фельдшерско-акушерским пунктом, обслуживающим близко расположенные деревни. Ближайшая деревня Лоторево стоит в 35км от Калуги. Хозяйка - опытная акушерка, старик, ее муж, выполняет роль завхоза, две дочери, обеим за 20 лет, проживали в Калуге, но в результате войны гостят у матери, еще была внучка, дочка старшей дочери, всего пять человек. Хозяйка, усвоив в моем рассказе, что я врач, уже отчаявшийся выбраться к своим, предложила остаться и быть ее помощником в медпункте, в одной из комнат этого же дома. Но это лишь тогда, когда она уезжает по вызову, а вызывают ее не так часто.
Семья очень приветливая, добрая, культурная. В семье царил полный матриархат, но совершенно справедливый и порядочный. Сразу заметно, что в семье полное согласие. Жили они не бедно, дом полная чаша, как и подобает хорошему медику на селе. Непростительная, неблагодарная моя голова, война выветрила имена этих благородных, добрых людей. Старик мне сразу понравился, я с ним обосновался на кухне, он на печи, а я на лавке. Иногда мы долго задушевно беседовали, покуривая табачок-самосад. Мне часто вспоминаются дни, проведенные в этом доме, особенно вечерний чай всей семьей. Освещение - керосиновая лампа, самовар на столе, молоко вместо заварки и сахар небольшими кусочками. Ко всему этому неторопливый, доброжелательный разговор. Это был уют 19 века, как его описывают русские писатели.
Но первое, что они мне сделали, это организовали баньку и полностью переодели в более приличное белье и одежду, благо что комплекция старика была примерно такая же, как у меня. На ноги дали старенькие валенки, и дед показал, как их отремонтировать. Я целый вечер подшивал их, ставил напяточники, носки, подошву. Я был одет, хотя и не модно, но тепло.
Я все время старался быть полезным, научился запрягать лошадь, ездил в лес за дровами, носил из колодца воду и выполнял другую домашнюю работу. А когда хозяйка уезжала по вызову, я одевал халат и был "хозяином" в отдельной комнате-медпункте. Однажды, когда не было хозяйки и я был в комнате-медпункте, неожиданно приехали немцы. Прятаться было уже поздно, да и некуда. Немцы обошли весь дом, вошли в медпункт, тщательно все осмотрели, спросили, кто есть кто, меня хозяин представил как мужа его дочери, для убедительности я взял на руки девочку. Немцы уселись в большой комнате около топившейся печки, стали греть руки, ноги, видимо, наша русская зима была им не по нутру. Расспросили про дороги и как бы нехотя ушли.
Приехала хозяйка и сообщила, что немцы стали злобствовать, в соседних селах собрали людей армейского возраста и расстреляли. Оставаться стало опасно. После такого тяжелого, опасного бродяжничества, жизнь в этом доме мне казалась раем, я отдыхал физически и морально и мне хотелось еще продолжить безмятежный отдых, но чувствовался накал обстановки, начали проникать слухи, что наши войска сильно беспокоят немцев, что тыловые части немецкой армии отходят. Сведения приносила хозяйка, она, как известный и всеми уважаемый медик, пользовалась правом бывать во всех деревнях этого района.
Вечером, на общем совете с участием всей семьи, было решено считать целесообразным мне уйти и переждать некоторое время в лесу. Утром, когда я был во дворе с противоположной стороны дома, со стороны подъехали верхом три немца. Мне вовремя дали знать, я спустился к колодцу, спрятался за ним и спасся от встречи. Оказалось, немцы интересовались дорогами, но уже не на восток, а на запад. Мы решили, что это хорошее предзнаменование. Вечером мне устроили теплые проводы. Старик достал откуда-то бутылочку настойки, мы все выпили за удачу в переходе к своим, а им я пожелал здоровья и всяческого благополучия.
Рано утром я покинул их гостеприимный дом. Держался недалеко от дороги, чтобы было видно, кто куда движется. Я шел на Алексин, именно оттуда, как мне сказали, начали отходить немцы. Конечно, после теплого дома опять оказаться в лесу было не очень приятно, но что поделаешь?
Через пару дней я заметил интенсивное движение немцев на запад. Отступают, причем их отступление походило на наше отступление в июне-июле. Но их отступление имело жалкий вид. Иногда шли солдаты, укутанные во что попало, и мало походящие на солдат, но таких я видел всего раз. Стали попадаться одиночки, вроде меня, жаждущие попасть к своим. Вскоре прибежал с дороги наш дозорный и сообщил, что видел передовые части наших войск. Наши действительно наступали и гнали немцев от Москвы. Мы (нас собралась небольшая группа) вышли на дорогу и смело пошли навстречу наступающим войскам.
Выход из окружения, тюрьма, "проверка" в тифозных бараках
Шли сибиряки, в полушубках, валенках, сытые, здоровые ребята. По мере приближения к Алексину к нам стали примыкать все больше и больше окруженцев. Регулировщики на дорогах направляли нас в Алексин, где был организован сборный пункт освобождаемых.
На сборном пункте шла регистрация прибывающих и беседа с сотрудником Особого Отдела. Со мной беседовал "особист" с двумя шпалами. Выслушав меня и проверив мои документы, а документы у меня все сохранились, что доказывало, что я не был в плену (о моем пребывании несколько часов у немцев я умолчал), он спросил: "Раз вы оказались в безвыходном положении, почему не застрелились, ведь могли попасть в плен и дискредитировать армию?" Я ответил: "В плен вполне мог попасть, но старался не попадать, а стреляться не хотел, хочу жить".
Затем начались этапные переходы с одного места на другое, сколько их было, уже не помню. Запомнился лишь этапный переход в холодную вьюжную ночь из Владимира в Суздаль. Все мы страшно промерзли, я старался проникнуть внутрь колонны, чтобы хоть как-то прикрыться соседями от снежной вьюги.
В Суздали нас разместили по камерам в крепости, превращенной в тюрьму. Обычный тюремный режим. Дежурные приносили бачок с баландой, но вполне съедобной. Питание далеко не санаторное, но много лучше, нежели когда я бродил в окружении. Были короткие прогулки во дворе крепости, они меня мало интересовали, свежего воздуха я надышался вполне достаточно при бродяжничестве по лесам. Целыми днями сидели мы на нарах и делились впечатлениями. Из числа сокамерников запомнился врач Соловьев, он три дня пробыл в плену, его освободили наступающие части, а трибунал присудил его к расстрелу за измену Родине, затем высшую меру заменили десятью годами тюрьмы, дальнейшая его судьба мне неизвестна.
В Суздале я пробыл недолго. Из общего числа окруженцев отобрали четырех врачей (в том числе и меня) и несколько фельдшеров и в машине НКВД доставили нас на свежий воздух: в лагерь, за колючую проволоку, в лес в районе Южа (Владимирская область). Там стояло несколько бараков, в которых содержалось несколько тысяч окруженцев. Они работали на лесоповале и одновременно шла их проверка. Среди окруженцев вспыхнула эпидемия сыпного тифа, протекающая тяжело, со смертельными случаями. Вот на ликвидацию эпидемии и одновременно для проверки нас и привезли.
Для размещения заболевших было выделено и оборудовано несколько бараков, каждый из них представлял как бы больничку, возглавляемую врачом. В один из таких бараков назначили меня врачом. Обслуживающий персонал назначался из числа лагерников, но старшей медсестрой была фельдшер из лагерного персонала. Со всеми вопросами обеспечения своей "больнички" я обращался к ней и всегда находил у нее полное понимание. С самого начала она объявила, что ее общение с нами, лагерниками, должно быть ограничено только сугубо служебными вопросами, за вольное обращение с нами их преследуют, но в то же время, как бы сглаживая свое особое положение, со мной она была очень внимательна. Нужно сказать, что мне везло на хороших людей.
Весь обслуживающий персонал "больнички" после работы располагался в бараках-казармах, а нам, врачам, разрешено было размещаться в каморках при своей "больничке". Небольшая часть барака была отделена от общей площади и составляла приемную, где я принимал больных, прибывающих из казарм, решая вопрос о госпитализации, если он оказывался тифозным больным, или давал справку о необходимости временного освобождения от работы. А работу лагерники делали тяжелую: в любую погоду, в морозы, они вели лесозаготовку. Как всегда при большом скоплении народа, находились люди, умеющие организовать "бизнес". Сзади одного из бараков, около колючей проволоки, после ужина всегда толпились люди обо всем сведущие и что-то на что-то обменивающие, вобщем "черный рынок". Основным товаром была махорка и различные новости, интересующие нас. Прослышав про рынок, я пошел ради любопытства и... встретил там моего дорогого попутчика по окружению капитана Сумина. Оба мы обрадовались встрече. Он тоже не смог пробиться к своим и застрял в одной из деревушек Калужской области. Он скромно просил подтвердить его показания о сложной обстановке, в которой мы оказались, и что в самый критический момент он был болен. На беседе с особистом я так и сделал.
Жизнь в лагере у меня была полностью заполнена приемом и лечением больных. Эпидемия сыпного тифа охватила все бараки. Больных было много. Болезнь протекала тяжело, оно и понятно, организм у многих ослаблен, к тому же процветала большая завшивленность среди лагерников. Когда я осматривал пришедших на прием больных, приходилось удивляться их завшивленности. У некоторых брючный ремень, а он брезентовый, и швы рубашки под мышками были сплошь покрыты гнидами, целыми гроздями гнид. Поскольку в казармах спали вповалку, вши гуляли по всем телам и переносили заразу от одного к другому. После общения с больными обнаруживались вши у всех медработников, были вши и у меня. Но бороться с ними мы могли только самым примитивным способом, сидя вечерами у горячей печки. Некоторые медработники заболели, а самый опытный, уже немолодой врач Абакумов, умер от сыпного тифа. Вообще смертность была высокой. Я просто удивляюсь, как не заболел сам.
Тогда я не обратил внимания на процедуру захоронения. Где хоронили, как оформляли, не знаю. А ведь могло быть, что многие из окруженцев-лагерников так и остались числиться без вести пропавшими. Все, кто попал в окружение, кто погиб в окружении, все числятся пропавшими без вести, в том числе и обо мне было сообщено, что я пропал без вести.
Наконец эпидемия пошла на убыль. Больные из моей "больнички" кто умер, кто начал поправляться, некоторые выздоровели, а поступления новых стали единичными. У меня стало появляться свободное время, мы с Суминым часто встречались, вели беседу на общие темы. Все медики иногда собирались вечерком, чаще у меня в каморке. Раза два моя "попечительница", старшая медсестра, давала мне пузырек со спиртом, и мы с товарищами смаковали маленькими дозами, отдавая должное ее доброте.
Весь период моего пребывания в лагере Особый Отдел усиленно работал над проверкой лагерников, вызывая на допрос-беседу, в зависимости от того, какие данные имелись о человеке. В один из вечеров вручили и мне повестку о явке на беседу. Помню, беседа состоялась в 10 часов вечера. Это была действительно беседа, а не допрос. Видимо, никаких компрометирующих материалов на меня не было. Я подробно начал излагать обстановку окружения, но особист быстро прервал меня. Ему сотни раз уже говорили об этом, и он был вполне в курсе событий, разыгравшихся на фронте в октябре. Его интересовали люди, встречавшиеся мне, интересовали изменники Родины, люди, сами сдававшиеся в плен, поступавшие на службу к немцам, полицаи и т. д. Таких примеров у меня не было. Я мог сообщить только о капитане Сумине и только положительное. Особист отнесся ко мне с доверием и обещал мне скорое освобождение.
В феврале 1942 года меня освободили из лагеря. Вернули мои документы и дали справку о пребывании на проверке. Справка была размером в четверть тетрадного листа, на простой бумаге, долго она не могла просуществовать в кармане гимнастерки. Когда пропотеешь, когда промокнешь до нитки, когда вывозишься в грязи во время бомбежки или артобстрела, могла ли такая бумажка уцелеть? Я так и не помню, когда и где она прекратила свое существование.
Но я отвлекся. Освобождение из лагеря событие важное, и оно должно быть отмечено. Прибежал капитан Сумин с радостным сообщением, что и его освобождают в тот же день, что и меня. Не рада была лишь старшая медсестра, она сказала, что ей со мной было работать приятно. В знак признательности она дала мне на дорогу бутылочку спирта и немного закуски, ведь дорога предстояла дальняя, нужно пешком пройти до станции много километров.
И вот в солнечный морозный день мы с Суминым опять вдвоем вышли за проволоку и пошли навстречу новой жизни.
СНОВА БОИ
Возвращение на фронт; Назначение бригадным врачом в 113-ю бригаду 3-ей танковой армии; Бои в районе Козельска; Острогожско-Россошанская операция и дальнейшее продвижение; Бои за Харьков; Назначение корпусным врачом; Орловская операция; Освобождение Киева; Дальнейшее наступление; Проскуровская операция и бои в районе Староконстантиновка; Львовская операция; "Колтувский коридор"; Отпуск; Сандомирско-Силезская операция, назначение корпусным врачом 71-го корпуса 31-й армии
Возвращение на фронт
Случилось же так, что мы опять вдвоем с Суминым идем по проселочным дорогам, но уже не таясь, не прячась в перелеске, идем в хорошем настроении. Казалось, погода благоприятствовала нам. Легкий морозец, ясный солнечный день, белизна искристого снега бодрит и улучшает настроение. Трудно сейчас сказать, сколько мы прошли за день. К вечеру остановились переночевать в одной деревеньке, встретившейся на нашем пути. Поужинали припасами, любезно предоставленными мне старшей медсестрой. Я долго не мог уснуть, ноги, согревшись, стали ныть из-за большой нагрузки, а может из-за ослабления мышц в результате недостаточно калорийного питания в лагере, да и беспокойство о будущем мешало спать, как еще отнесутся в кадрах ко мне, "выпускнику" из лагерей? Повозившись на жесткой "постели", разосланном на полу ватнике, все же уснул и проснулся лишь утром, когда Сумин уже встал.
Второй день пути был менее утомительным, вскоре пришли на железнодорожную станцию и оттуда пригородным поездом приехали в Москву. Здесь наши пути с Суминым разошлись. Ему нужно было идти в Главное Артиллерийское управление, а мне в Главное Военно-Медицинское управление. Больше с Суминым мы не встречались, война разбросала нас.
Прежде чем идти в отдел кадров, я зашел в парикмахерскую, чтобы придать своему лицу благообразный вид, а то заросшее усами и жиденькой бороденкой лицо придавало мне вид монаха или молодого старичка, давшего обет не бриться. С таким видом мне давали лет за 40. Посещение парикмахерской уж не столь важное событие, которое можно помнить, но меня поразил разговор, услышанный, пока я сидел в кресле. Парикмахерша, пока обрабатывала меня, без умолку разговаривала с другим мастером, она рассказывала о только что прошедшей свадьбе: что было на торжественном обеде, как невеста выглядела, как она была рада, что подцепила еще сравнительно молодого военного, который служит в тыловой части. Для меня, испытавшего войну 41-го года, отступление, окружение, Соловьеву переправу и только что возвратившемуся из лагеря, где, как и на фронте, гибли люди, такие разговоры вызвали недоумение. Как можно в этот тяжелый период не только жениться, но и думать о женитьбе, веселье? Мне это было очень странно. Я не мог понять этого военного жениха, мне он представлялся чудовищным злодеем, прячущимся под юбкой жены от войны, от защиты Родины.
Назначение бригадным врачом в 113-ю танковую бригаду 3-ей танковой армии
Но вот я в отделе кадров и молодой военврач 1-го ранга (три шпалы), не вникая в беседу, очень быстро определил, что меня нужно назначить в танковую бригаду. Я было попробовал попросить направить меня в госпиталь на лечебную работу, мотивируя, что физически и морально устал и хотел бы продолжить лечебную практику, начатую в лагере, но уже как полноправный врач. На мою робкую просьбу кадровик ответил категорическим отказом, заявив, что врач, окончивший Военно-Медицинскую академию, именно сейчас чрезвычайно необходим в войсках. Идет формирование новых частей и их необходимо укомплектовать опытными военнослужащими. Я получил назначение бригадным врачом (начальником медслужбы) в 113-ю танковую бригаду, формирующуюся в Ярославле.
В Ярославле меня приняли без распростертых объятий. Во-первых, вид у меня был лагерника: в ватнике не первой свежести, на голове тряпочная шапка, вид далеко не офицерский. Во-вторых, там был претендент на это место: молодой, стройный, с командирской выправкой, весельчак и плясун военврач 3-го ранга Никишин. Об этом мне сказал зам. командира бригады (сам командир бригады еще не был назначен) подполковник Михайличенко. Никишин назначен командиром медсанвзвода, но поскольку бригадного врача еще не было, он энергично взялся за исполнение этой должности. Кроме того, врачом мотострелкового батальона был врач выше меня по званию: военврач 2-го ранга (две шпалы) Реутов. Естественно, мое появление не вызвало радости. Собственно говоря, обстановка, сложившаяся при моем появлении, мало меня беспокоила. Главное, мне нужно было поесть. Я обходил кухни, снимал пробу, съедал все, что давали на пробу, и долго не мог наесться досыта.
Вскоре я поехал в Москву по вопросам укомплектования бригады медперсоналом и медимуществом. Все тот же кадровик, который давал мне назначение, сказал, что получена бумага за подписью зам. командира бригады с просьбой о назначении Никишина на должность бригадного врача и поинтересовался, почему подпись не командира, а заместителя. Я ответил, что командир бригады еще не прибыл, и командование бригадой временно исполняет заместитель. Кадровик ответил, что менять он ничего не собирается, еще неизвестно, как посмотрит на это командир. Моя заявка об укомплектовании была во многом удовлетворена, о чем я с удовольствием доложил по возвращении в бригаду, но о разговоре по поводу письма в кадры я умолчал. Лагерная жизнь немного научила молчанию, в последующем, я, пожалуй, стал слишком молчаливым.
Приехал командир бригады полковник Свиридов. Высокий, стройный, в моих глазах уже немолодой, с интеллигентным лицом, и, как и подтвердил его общий вид, культурный командир, что в армии вообще и на войне в частности было очень редкое явление. Свиридов был строгий, но справедливый, мне с ним легко было работать, он полностью доверял мне, а я старался не обмануть его доверия.
Полностью укомплектовавшись, из Ярославля мы выехали, вероятно, во второй половине апреля и направились под Тулу, где в лесах формировались танковые корпуса и в целом 3-я танковая армия. Наша 113-я танковая бригада вошла в состав 15-го танкового корпуса под командованием генерала Копцова. Управление корпуса разместилось в землянках близ совхоза "Диктатура", а наша бригада в километре от него. Для размещения бригады место выбрано удачно, в лощине, покрытой лесом, по обе стороны лощины вырыли землянки для личного состава и служб, а техника находилась на дне неглубокой лощины с выходом на дорогу. Наша землянка, или как ее называли "медпункт", была расположена в центре размещения бригады, в ней мы, медики, жили, в ней и принимали больных, а чаще ходили в расположение батальонов и там при необходимости оказывали медпомощь. Больных практически не было, ведь бригада только формировалась, а на укомплектование танковых частей направлялись наиболее крепкие, здоровые парни; предполагалось, что на танковые части будут возложены особо важные боевые задачи.
Довольно продолжительное время, почти все лето, бригада занималась боевой подготовкой, сколачиванием подразделений. Работы было много, поскольку личный состав, в своем большинстве, в боях еще не участвовал. Моей задачей, как начальника медицинской службы, была организация и проведение боевой подготовки медперсонала и санитарный надзор за размещением бригады и питанием личного состава. Кроме всех прочих занятий по боевой подготовке было введено обучение всего личного состава, в том числе и медицинского, бросанию боевых гранат (лимонок). Наиболее сложным оказалось занятие по бросанию противотанковых гранат с большой силой взрыва. Занятием руководил сам начальник артвооружения бригады старший техник-лейтенант Герасименок. Случилось, что одна противотанковая граната не взорвалась, что-то в ней не сработало, но вылезать из окопа нельзя, а вдруг она сработает. Начали расстреливать ее из карабинов, но не то не попали, не то пуля не растревожила гранату. Герасименок не выдержал, и сам пошел к гранате, а она неизвестно почему взорвалась, и... погиб наш начальник артвооружения. Все это было на моих глазах, поскольку я сам участвовал в занятиях. Мы, медики, сделать ничего не могли, ранение тяжелое, взрыв гранаты был сильным. Прискорбно терять товарища, да еще так глупо.
Бои в районе Козельска
В августе 1942 года бригада впервые вступила в бой в районе Козельска, откуда немцы намеревались наступать на Москву. Бои носили позиционный характер, и продвижения вперед практически не было, что для нас, медиков, было важно, так как позволяло стабильно работать на одном месте.
К сожалению, я не вел дневника и теперь не помню, где развертывался наш бригадный медсанвзвод. Да если бы и вел дневник, едва ли бы он сохранился, никаких вещей у меня не было, да и хранить их было негде. Все, что я имел, было на мне. Медики медсанвзвода всегда были при своем подразделении и имели возможность держать свой вещевой мешок вместе с имуществом взвода, я же был "бродячим" между штабом бригады и медсанвзводом; хоть и числился в штате штаба, как и все начальники служб, но находился там, где требовала обстановка.
Самое сложное в медицинском обеспечении танкистов в период быстрого продвижения вперед, это когда на развертывание медпункта и его работы на одном месте нет времени, раненые поступают, а медпункту нужно передвигаться вперед вслед за своей частью. Но в этих боях продвижения войск на какое-либо значительное расстояние не было, и мы работали относительно спокойно. Сбор раненых танковых подразделений организовывался в районе СПАМ (сборного пункта аварийных машин), куда сосредотачивались поврежденные в бою машины подчас вместе с ранеными танкистами, а для раненых из мотострелковых подразделений, а их значительно больше, развертывали медпункт на пути наиболее вероятного движения раненых.
Бои под Козельском длились недолго, и в середине сентября, изрядно потеряв личного состава и танков, бригаду вывели из боя и сосредоточили для доукомплектования где-то под Калугой. Приведение в порядок бригады длилось долго. Это диктовалось, в первую очередь, обстановкой, сложившейся на фронте. Летнее наступление немцев было сорвано, прорваться к Москве им не удалось, а подготовка к зимним наступательным операциям еще не закончилась.
Командир корпуса генерал Копцов строго следил за тщательностью подготовки к будущим боям. Запомнился один эпизод. В один из ясных осенних дней в бригаду прибыл командир корпуса и объявил, что будет проводить инспекторский смотр бригады. На опушке леса, близ расположения, выстроилась вся бригада, кроме танкистов, смотр их генерал проводил у танков. Как и положено в строевых частях, с правого фланга стоит командование, затем штаб, начальники служб, далее командование батальонов, а за ними тылы. С правого фланга тылов выстроился медсанвзвод. Все носимое имущество было при личном составе. В медсанвззоде таким имуществом были носилки и санитарные сумки. Я был при штабе вместе с другими начальниками служб. Генерал Копцов в сопровождении своей свиты и командира бригады медленно обходил строй, давая те или иные замечания, которые брались на заметку его свитой. Все замечания он делал спокойным голосом. Когда он прошел почти все подразделения, вдруг мы услышали негодование генерала, он громко кого-то отчитывал, видимо, нашел серьезный непорядок. Когда генерал сел в машину и прозвучала команда "вольно", мы побежали к тому месту, где был замечен "беспорядок". Оказывается, генерал остался недовольным медсанвзводом. На носилках, что держали санитары (как ружья, приставленные к ноге), он заметил кровь на полотне носилок. Кровь плохо была смыта и явно проявлялась на брезенте. Командир бригады укоризненно посмотрел на меня. Распекать меня не надо. Его укоризненного взгяда для меня достаточно.
Кроме боевой подготовки выпадали и свободные дни, в бригаду приезжали артисты (это у них называлось выезд на фронт) и давали концерт. Таких дней было мало, но они надолго запоминались, поднимали настроение и вносили разнообразие в армейскую жизнь.
Небольшая поляна среди березовой рощи. Полукругом расположились танкисты, артиллеристы, автоматчики и др. Расположились амфитеатром, никто их не рассаживал, сами разместились, как удобнее: передние полулежа на траве, далее сидели, потом стояли на коленях, последние стояли на небольшом возвышении, а в центре образовавшегося полукруга пела певица. Она исполняла "Синий платочек". Песня как бы парила над поляной, звуки легко и свободно как бы улетали далеко-далеко за поляну, за рощу, в бесконечность. Исполнялись и другие номера, но запомнилась эта песня.
В числе немногих "гостей" из недалеко расположенного штаба корпуса наведывалась к нам молодая фельдшер. Через несколько дней она пришла ко мне, отрекомендовалась: Тася и попросила проконсультировать больного в штабе корпуса. Затем мне передали распоряжение начальника штаба корпуса, чтобы я периодически консультировал больных. Так я стал иногда бывать в штабе корпуса и встречаться с лейтенантом медслужбы Бубновой по прозвищу Тася. Это именно прозвище, настоящее ее имя, как я узнал позже, Анастасия.
Острогожско-Россошанская операция и дальнейшее продвижение
Наступила осень, мы все еще стояли в районе расположения. Известие о начавшемся Сталинградском сражении восприняли несколько с удивлением. Как же так, наши войска еле-еле сдерживают немцев под Сталинградом, а мы, мощная танковая армия, в том числе и наша бригада, стоим на месте без признаков выхода в бой. Больше всего на эту тему вели разговоры командиры. Мы же, медики, все воспринимали так, как есть, и не рвались в бой, так как любой бой - это раненые, убитые, обмороженные. И не потому, что трудно оказывать помощь, а потому, что жаль молодые человеческие жизни, погибшие или покалеченные.
Наконец, где-то во второй половине декабря, нас погрузили в железнодорожные эшелоны и мы отбыли на юго-запад. Выгрузились в районе Бутурлиновка и cвоим ходом направились в район Кантемировки. Примерно в первой половине января вступили в бои с "ходу", как бы наращивая удар после Сталинграда. Вели наступление в направлении Россошь-Острогожск. Зима в полном разгаре. Снежные заносы затрудняли движение колесного транспорта, ездить возможно только по дорогам, а танковые части стремительно продвигались вперед, громя разрозненные части противника. Для танков особой преграды нет, а вот для нас, медиков, да и для подразделений, обеспечивающих войска продовольствием, боеприпасами и горючим, очень сложной становится задача не отстать от войск.
В один из дней обильного снегопада колонна машин нашей бригады, в том числе и машины медсанвзвода, оказались застрявшими в снегу. Ночью кое-как продвигались, а к утру выбились из сил вовсе и остановились среди поля. Появились самолеты противника, мы рассыпались по снежному полю, прятаться было некуда, зарывались в снег в надежде, что, может, снег защитит от пуль и взрывающихся бомб. Но снег защищал только симвалически, и можно было только укрыть лицо, уткнувшись в снег, и не видеть пикирующих самолетов.
И так прошел целый день в напряжении, в игре в прятки от самолетов. Не знаю, чем это можно объяснить, но потерь среди людей, да и среди машин было относительно мало. Только вечером пришли тягачи и вытащили колонну из снежного плена. Этому помогали прибывшие откуда-то люди, расчищавшие дорогу. Немалую помощь в преодолении нервного напряжения и голода оказала заветная водка. Она согревала и успокаивала. Находясь в эйфорическом состоянии, спокойнее воспринимаешь окружающий ужас.
За 16 дней Острогожско-Россошанской операции, как сказали в штабе, наша танковая бригада прошла с боями около 300 км. Медсанвзвод весь период работал "с ходу", т.е. не останавливаясь и не развертываясь на длительное время на одном месте, он был вынужден ежедневно по несколько раз менять место, продвигаясь вперед вслед за бригадой. Остановки были кратковременными, около скопления раненых. Оказав самую экстренную помощь, раненые эвакуировались на машинах, возвращающихся после подвоза материальных средств. Обратный порожняк транспорта подвоза был единственным средством эвакуации раненых. Армейский эвакуационный транспорт до нас не доходил. Он не успевал подбирать оставшиеся скопления раненых. Армейские ППТ (полевые подвижные госпитали), хотя и назывались "подвижными", но своего транспорта для перемещения не имели. Они перемещались транспортом, выделяемым начальником тыла армии. Однако добиться получения от него транспорта чрезвычайно трудно, особенно при таких быстрых темпах наступления как в этой операции. Коммуникации катострофически растягивались, и подвоз материальных средств войскам затруднялся. Естественно, что начальник тыла направлял транспорт в первую очередь для подвоза боеприпасов и горючего, чтобы обеспечить боевые действия частей.
Вот в таких условиях в районе Алексеевка скопилось много раненых из многих частей, эвакуировать их было не на чем. От начмедарма было получено указание собрать всех раненых воедино и организовать как бы госпиталь на базе местных средств. К выполнению этого распоряжения я и приступил вместе с врачом из другой части. Раненых мы разместили в помещении школы. Привлекли население для приведения помещений в соответствующий вид, пригодный для госпитальных условий. Легко был решен вопрос с питанием. В Алексеевке были взяты, в качестве трофеев, фронтовые продовольственные склады немцев, продуктов было много, особенно много лимонов, что совсе неплохо для витаминизации пищи раненым. Труднее было с медоборудованием, опять же пришлось выискивать его в местной системе здравоохранения.
Задерживаться на месте мне было нельзя. За сутки, проведенные в работе по организации госпиталя, бригада ушла далеко вперед, нужно догонять. Весь следующий день я на санитарной машине двигался вперед, догоняя бригаду, и в какое-то время, видимо, отклонился от маршрута. Подъезжая к одной маленькой деревушке, почувствовал какое-то беспокойство, хотя было видно, что деревня не пуста. Подъехав ближе, мы с шофером увидели около хат двигающихся людей, не похожих на гражданских и, тем более, на наших военных. Это были и не немцы, т.к. они более расторопны, чем эти, да и форма одежды не немецкая. Пока мы на ходу их разглядывали, нами заинтересовались, послышались крики, махали руками, требуя остановиться. Я вжался в сиденье, кричу шоферу: "Жми быстрее!". Он и без моего требования пустил машину на полную скорость, на какую только возможно. Сзади послышались выстрелы, но мы уже выскочили за пределы деревни и продолжали нестись на полной скорости. Потом выяснилось, что мы напоролись на итальянцев. Против нашей бригады в этом районе действовала итальянская дивизия.
В последующем мы встречали разбитые итальянские машины и другие характерные предметы, указывающие на их принадлежность итальянцам. И еще, что было характерным для Италии, среди трофеев было много мулов, ранее мне их не приходилось видеть. Знаю лошадь, знаю осла, но мула не видел.
В один из ясных январских дней Медсанвзвод остановился вместе со штабом бригады в небольшой деревне. Раненых, поступающих из батальонов, разместили в доме по соседству. Располагаться надолго не расcчитывали и медимущество полностью не развертывали из-за нестабильности обстановки. Хорошо помню, что деревня была расположена на возвышенности. С одной стороны, за дорогой виднелся лес, а с другой - голая низменность, уходившая за горизонт. Вся местность покрыта снегом. Раненых готовились отправить на машинах, возвращающихся после подвоза материальных средств. Но машины нужно еще найти. В медсанвзводе было всего две машины: одна с медимуществом, другая - санитарная, на ней размещался персонал, и иногда пользовался я для связи со штабом и батальонами. Обстановка была спокойной, кругом тишина, создавалось впечатление общего уюта. Вдруг кто-то заметил как со стороны низменности, на горизонте, появилась темная полоса, которая все больше и больше увеличивалась. Сначала в бинокль, а потом и невооруженным глазом стала видна стройная колонна немцев в несколько тысяч человек. Конец колонны так и не был виден, он терялся за горизонтом. Немцы двигались прямо по направлению к нашей деревне.
Средств для боя с многотысячной, организованной массой солдат, идущих на прорыв из окружения, в штабе не было. Единственный выход - уходить. Все же столкновение с противником не исключалось, поэтому эвакуация раненых была обязательной, и это было только моей заботой. Выбрасывать имущество, и загружать машины ранеными было мало целесообразным, ибо мы бы взяли всего половину раненых и лишились имущества. Что делать?
Мною было принято решение мобилизовать у населения лошадей и сани и отправить раненых прямым путем через лес, что было менее опасно, так как немцы двигались дорогой. Население отнеслось с пониманием, уговаривать никого не пришлось, тем более, что с каждой подводой отправлялся и хозяин, его заверили, что после доставки раненых в госпиталь он со своей подводой возвращается домой. Использование подвод с хозяином было как нелья кстати, ведь местное население знало все тропинки в своем лесу и могло беспрепятственно вывезти раненых к месту назначения. Кроме того, население боялось прихода немцев, они могли отобрать лошадей для нужд своей колонны. Это подгоняло их к выполнению нашего решения.
Старшим импровизированной колонны был назначен фельдшер-лейтенант медслужбы Сайфутдинов, молодой, энергичный, жаждавший совершить подвиг. Когда ему поручалось какое-либо задание, связанное с риском, как, например, вынос раненых с поля боя, он без колебаний выполнял, говоря: "Или грудь в крестах, или голова в кустах". Колонна подвод с ранеными была доставлена к месту назначения, и все раненые переданы в госпиталь. Конечно, Сайфутдинов выполнил ответственное задание, сопровождая раненых, находясь в кругу неизвестных ему людей, неизвестно как они настроены, ведь эта местность и люди были в оккупации, а вдруг среди них были полицаи, тем более, что ехать нужно в ночь. Вобщем, масса "неизвестно". Но, слава Богу, все обошлось. За это Сайфутдинову причиталась награда, но он поступил глупо. Во-первых, после передачи раненых он несколько дней пропадал, где-то пристроился, его кто-то поманил, и он без приказа, без оформления, "решил" перейти на другую работу. Во-вторых, все одеяла (меховые, ватные), которыми были укрыты раненые, бесследно исчезли. После этого он заслуживал не только награды, а и наказания. Но плюс на минус дает ноль: я только поругал его.
Без оперативной паузы, что бывает крайне редко, буквально на ходу пополнились танками и экипажами, и бригада резко повернула на Юго-Запад и пошла с боями в направлении Харькова. Опять действия бригады стали мобильными, то и дело мы передвигались с места на место, иногда приходилось стоять в составе колонны, но разгружаться и развертываться медсанвзводу приходилось редко.
Однажды мы продолжительное время стояли в колонне, сидеть в машине не было смысла, и я, как и многие другие, топтался около машин. Изредка колонну откуда-то обстреливали немцы минами и болванками. Мы с капитаном медслужбы Пономаревым прохаживались вдоль машин в ожидании движения, разговор, естественно, шел о войне. Помню его лицо: простое, открытое, с правильными чертами лица, он постоянно улыбался, его улыбка, как бы стеснительная, была доброй. Проголодавшись, я сказал, что сбегаю, поищу что-либо съестное и ушел. Возвратившись, Пономарева не нашел, он был убит прямым попаданием болванки в грудь. Мне было жаль его.
Бои за Харьков
Преодолевая упорные бои, мы подошли к Харькову к середине января 1943 года. Штаб бригады остановился в крайних хатах небольшого населенного пункта. Далее шла открытая местность и вдали в бинокль просматривался ХТЗ (Харьковский тракторный завод). Немцы закрепились в ХТЗ и препятствовали дальнейшему продвижению бригады. Вечером 15 февраля, (мне эта дата запомнилась), из штаба корпуса возвратился командир бригады полковник Свиридов. Он был хмур, недоволен полученным в корпусе распоряжением. Я явственно слышал, как он сказал начальнику штаба: "Идем на аферу". Вскоре был снаряжен десант: рота автоматчиков на четырех танках. Мне приказано выделить в десант санинструктора. Выбор пал на санинструктора Сазонова. Это был боевой санинструктор, имел медаль и орден за вынос раненых с поля боя с оружием, внешне несколько грузный, мешковатый, с простым крестьянским лицом, его улыбающееся, совершенно круглое лицо дышало добродушием. Автоматчики разместились на броне танков, и среди них Сазонов тоже с автоматом и с санитарной сумкой. В ночь на 15 февраля танки с десантом скрылись в темноте. Но "афера" не удалась. Немцев врасплох не застали, танки были подбиты, а десант расстрелян на самых подступах к ХТЗ. Сафонов оказывал помощь раненым и отстреливался вместе с автоматчиками. Шоссе, по которому двигались танки к ХТЗ, было на насыпи, и в одном месте под шоссе проложена бетонированная труба для протока воды. Вот в этой трубе и сосредотачивал Сазонов раненых. Немцы уничтожили всех.
Хотя наш десант и не смог выполнить задачу по захвату ХТЗ, но к утру Харьков был взят нашими войсками. Мы вошли в Харьков и застопорились на Холодной Горе. Бои носили ожесточенный характер, эвакуация раненых затруднена из-за отставания наших госпиталей. Пришлось, как и в Алексеевке, передавать раненых в импровизированный госпиталь, организованный на базе местной больницы и с привлечением местных медиков. Вот в такой импровизированный госпиталь и был помещен наш батальонный комиссар Пухов, получивший осколочное ранение в живот. Ему потребовалась кровь для переливания, но крови не было, я предложил свою, хотели уже приступить к переливанию, но лечащий врач, еще раз осмотревший Пухова, сказал, что кровь ему уже не нужна. Пухов как бы оправдывал фамилию своим видом: лицо с правильными чертами было нежным и как бы пухленьким. Был он тихим, спокойным, не в пример многим политработникам.
Пребывание на Холодной Горе оставило грустное впечатление. Тяжелые бои, пасмурная погода, неприкаянность бригадной медицины из-за отставания армейских госпиталей и неясность обстановки, все вместе взятое оставило неприятное впечатление о Холодной Горе.
Через некоторое время сопротивление немцев было сломлено, и наши войска снова устремились вперед, продвигаясь быстрыми темпами. Наша бригада, как и весь танковый корпус, вела наступление по направлению к Полтаве и Краснограду. Мне нужно было догонять бригаду. За четыре года войны было много характерных дней, отличающихся от других. Вообще-то на войне каждый день чем-либо отличался от других. Совершенно одинаковых дней не было. И этот день, когда я догонял бригаду в районе Краснограда, хотя вначале он ничем не был примечательным, но он мне запомнился. Передав раненых в импровизированный госпиталь, свернув медсанвзвод, мы на трех машинах направились по маршруту, полученному в штабе бригады. Выехали из Харькова в хорошем настроении, да и как не быть в хорошем настроении, если войска успешно продвигаются вперед, стоит хорошая погода, кругом чистый, искрящийся cнег, дороги расчищены, легкий морозец, кругом тишина, ничто не напоминает войну. Догнали бригаду мы быстро. Штаб бригады находился в хате небольшой деревушки. Там я нашел командира полковника Свиридова и доложил ему о своем прибытии вместе с медсанвзодом. Вид Свиридова меня несколько озадачил. Обычно спокойный, сейчас он был явно встревожен. Не дослушав до конца моего доклада, он коротко, но строго приказал мне: "Сейчас же, немедленно, вместе со своим медсанвзводом присоединиться к машинам политотдела и технической части и уезжать подальше. Медлить нельзя". Что-либо уточнять было бесполезно, он тут же отвернулся к начальнику штаба и дал понять, что разговор исчерпан. Я все же оставил одну санитарную машину с санинструктором, а сам с двумя машинами присоединился к политотделу, уже отъезжающему из расположения бригады. Маршрута движения не помню, но ехать нужно было на Северо-Восток через Харьков в небольшой населенный пункт, где были остатки тылов бригады, оставленные в ходе наступления.
Как только мы отъехали от штаба на несколько километров, царившая до этого тишина была нарушена шумом боя, возникшего позади нас. По мере увеличения расстояния от места выезда шум боя не только не утихал, а возрастал где-то правее нашего движения. Было ясно, что бой нарастает правее нашей дороги и движется с не меньшей скоростью, чем движемся мы. Наши машины двигались не с такой скоростью, как нам хотелось бы, но дороги не были укатанными, а с рыхлым снегом, и развить большую скорость не удавалось.
Справа от нашего пути была возвышенность, по гребню которой тоже шла дорога, на ней невооруженным глазом было видно, как временами на фоне горизонта показывались машины противника, следовавшие параллельно нашему движению. Временами они давали залпы в нашу сторону. Вдруг нашу машину повело в сторону, водитель сказал, что пробит скат. Что делать? Решили не останавливаться и двигаться дальше. Останавливаться нельзя, мы на глазах у противника. Вскоре что-то хлопнуло, водитель сказал, что лопнул второй скат, машина пошла с напряжением, но ровнее. Наконец мы оторвались от противника и можно было остановиться. Оказывается, мы ехали на дисках, лопнувшие камеры были "изжеваны". Уже не знаю как, но Швец, (водитель) где-то раздобыл два колеса, поставил на машину, и мы снова могли двигаться дальше. Провозившись с машиной, мы отстали от других машин. Воспользовавшись небольшой передышкой, мы поели всухомятку, что было в запасе, и тронулись дальше.
Когда проезжали Харьков, был уже вечер. Двигались осторожно, чтоб не сбиться с маршрута. Меняя колеса, от остальных машин мы отстали, но были уверены, что едем в нужном направлении. Все же, чтобы не сбиться с пути и не запутаться в улицах города, решили спросить кого-либо из населения. Улицы были пустынны. На одной из улиц увидали двух девушек, решили у них уточнить дорогу. Они показали направление и в тоже время стали слезно просить взять их с собой. Рассказали нам, что из города все бегут, а им некуда деваться. Не знаю почему, но я решил взять их с собой. Так у меня оказалось пополнение.
Когда мы прибыли к месту, где размещались тылы нашей бригады, я обратился в "СМЕРШ" за советом, могу ли оставить этих девушек в медсанвзводе. После беседы с работниками СМЕРШ, возвратилась одна из девушек, это была Ната Шевлякова, впоследствии оказавшаяся отличным работником и хорошим товарищем в коллективе бригады и медсанвзвода. Вторую СМЕРШ не утвердил, ее отправили за пределы бригады, и я ничего не знаю о ней, не знаю даже, как ее звали.
Что же произошло? Почему командир бригады так решительно и так быстро выпроводил нас, приказав немедленно отправиться в тыл? При себе он оставил только боевые подразделения и оперативный отдел штаба, всех остальных, не связанных непосредственно с ведением боя, он отправил. Далеко не все командиры так поступали и заставляли делить с ними участь неравного боя с противником. Оказывается, боевые ресурсы бригады, да и корпуса в целом, были израсходованы в ходе Россошанской операции, и в Харьковскую операцию мы вступили без оперативной паузы и без необходимой подготовки. То пополнение, которое бригада получила на ходу, было недостаточным и не слаженным. После Харьковской операции в бригаде оставалось что-то около 4-х танков, значительно поредели и мотострелковые подразделения и, главное, как мне помнится, от Харькова к Краснограду мы шли вдоль фронта, правый фланг наших войск был крепко "охраняем" противником. Он как бы "приглашал" наши войска продвигаться вдоль фронта, готовя силы для нанесения нам удара во фланг и последующего окружения. Так оно и произошло. Свиридов, как опытный командир, предвидел это, но сам сделать ничего не мог. Противник ударил нам во фланг, окружил части корпуса и беспрепятственно стал наступать на Восток, занял Харьков и много других населенных пунктов. Практически была разгромлена вся 3-я танковая армия, о чем незамедлительно сообщило немецкое радио. Лишь одна танковая бригада нашего корпуса, бывшая в резерве армии, уцелела и вела бои по удержанию немцев от дальнейшего продвижения. Командир этой бригады, полковник Рудкин, получил "Героя", звание генерала и в последующем назначен командиром корпуса.
Штаб корпуса, штаб бригады и подразделения оказались в окружении, немецкие танки "утюжили" рассыпавшийся по снежному полю личный состав корпуса. Много погибло людей, погиб и наш командир корпуса генерал Капцов. В окружении со штабом корпуса оказалась и фельдшер Тася Бубнова. Всем, кто попал в окружение, пришлось тяжело. Немногим удалось с оружием в руках пробиться сквозь немецкие подразделения, сомкнувшие кольцо окружения. Прорывались, как правило, ночью. Вместе со всеми, кому повезло, вышла из окружения и Тася. Ей, молодой девушке, преодолеть прорыв с автоматом и санитарной сумкой было много тяжелее, нежели боевым командирам. След окружения остался у нее на всю жизнь. Под влиянием психического перенапряжения у нее появился тремор головы, вначале мало заметный, но потом, после небольшой контузии от взрыва авиабомбы, стал более заметным.
В расположение бригады постепенно стали приходить вышедшие из окружения люди. Прибыл и командир бригады. Чувствовалось приближение весны. Снег таял, а мы все в зимнем обмундировании, в валенках хлюпаем по талой воде. До базы нового формирования нужно добираться железной дорогой, нужен бензин для машин. Дороги на территории нашей матушки-России развезло и не только машине, танку трудно преодолевать густую грязь. За бензином мы отправились пешком, каждый нес на плече канистру. Шли ночью, я шел со своими сотрудниками медсанвзвода. Дорогой произошел небольшой инцидент, пустяшный по существу, но он мог обернуться трагедией.
Шли молча, проклиная про себя эту ночную "прогулку" по грязи, параллельно нашему движению появилась группа, превосходящая нас в несколько раз. Ночь темная, но силуэты людей видны. С той стороны спросили: "Кто идет?". Я ответил: "Свои". Оттуда опять: "Кто свои? Пароль?" Я не знал пароля, в штабе никто не предупредил меня о пароле. Пошли препирательства, они потребовали, чтобы мы подошли к ним, мы ответили, что если им нужно, пусть идут сами к нам и т. д. Но сила была на их стороне, у них было оружие, и они пригрозили применить его, если мы не подчинимся. Чтобы перебраться к ним, нужно было преодолеть "целину" с большей грязью, нежели на дорожке, по которой мы шли. Но пришлось подчиниться. Это оказались люди другой, не нашей части, патрулирующие территорию своей части. Так благополучно закончился этот маленький эпизод. Они нам сказали, что по данным штаба в этом районе бродит банда, вот они нас и приняли за людей из банды. Что в войну не бывает. Бензином заправились, погрузились в эшелоны и двинулись к месту формирования.
Выполняя функции врача и проводя санитарные мероприятия в эшелоне, я обнаружил вшивость у личного состава. Что такое вшивость я испытал на себе в окружении и, особенно, в лагере. Обнаружив в эшелоне четырех температурящих больных, помня об опасности возникновения сыпного тифа среди людей, размещенных скученно в вагонах, я на одной из станций во время остановки эшелона зашел на телеграф и дал телеграмму в Москву в Главное Военно-медининское управление о единичных случаях инфекционного заболевания при наличии вшивости у солдат. Просил провести санитарную обработку.
К моему удивлению, моя телеграмма возымела действие в Москве. Для всех было неожиданностью, когда нас вдруг доставили на станцию Мичуринск, загнали эшелон в тупик и начали проводить тщательную санитарную обработку личного состава и дезинфицировать вагоны. Все мы были очень довольны, тело так истосковалось по воде и мылу, не мылись по полгода, да и помывка-то до этого была только одно название. Кроме обработки, на нас наложили карантин.
В тупике, (в карантине), мы находились больше двух недель. Выход в город был категорически запрещен, но руководство бригады, во главе со Свиридовым, организовали прогулки вне города. На платформе в эшелоне стояла трофейная автомашина "амфибия". Это малолитражный автомобиль, способный двигаться по суше и по воде. Дюжина здоровых солдат на руках сняли машину с платформы, и мы катались по окрестностям Мичуринска. Однажды кто-то подал мысль побродить пешком по лугам и полям в надежде, не попадется ли заяц или еще какая-нибудь живность. У каждого имелся пистолет, и он мог считать себя охотником. Сказано-сделано, машину оставили на обочине дороги, а сами разбрелись по лугу, шли на большом расстоянии друг от друга. Неожиданно у меня из-под ног вылетела утка и, тяжело махая крыльями, полетела. Я было начал стрелять по ней, но безрезультатно. Осмотрев внимательно местность, откуда вылетела утка, обнаружил гнездо, а в нем десятка полтора яиц. Был март месяц, следовательно, яйца еще не насижены. Конечно, я их забрал и к общему удовольствию мы организовали яичницу. Она всем показалась такой вкусной, (это на фоне котлового довольствия), что в последующем сколько я ни пробовал яичниц, такой вкусной не едал. Долгие дни карантина мы коротали за выполнением служебных обязанностей, но много времени оставалось свободным. В нашем эшелоне находилась не только наша бригада, но и остатки других бригад, вышедших из окружения в районе нашей бригады. К нам в вагон пришел командир 52-й мотострелковой бригады морской пехоты, Головачев, тогда он был еще подполковником. У нас образовалась компания в четыре человека: Свиридов, его помощник Квасов, Головачев и я. Свиридов организовал "пульку", вот там я научился играть в преферанс. Вначале я было хотел отказаться, мотивируя, что не умею, но Свиридов сказал: "Что за офицер русской армии, не умеющий играть в преферанс". Ко мне отнеслись благосклонно, я немного научился этой распространенной среди офицерства игре, но азарта не испытывал.
Назначение корпусным врачом
По завершении карантина и отсутствии среди личного состава новых случаев заболеваний наш эшелон быстро доставили к месту формирования, опять под Тулу в район колхоза "Диктатура". По сути дела, после разгрома нашей армии в районе Краснограда это было новое формирование танковой армии. Прежняя танковая армия почти не существовала. Были разрозненные части и отдельные подразделения. Некоторые офицеры получили новые назначения, как, например, наш начмедарм получил назначение в 57-ю армию на ту же должность. Но поступил приказ восстановить 3-ю танковую армию, и офицеры, разъехавшиеся по новым назначениям, были возвращены на прежние должности в 3-ю танковую. Я развернул кипучую деятельность по санитарно-профилактическим мероприятиям, предупреждающим распространение сыпного тифа, так как отдельные случаи заболеваний появлялись. И не удивительно, ведь много людей возвращалось из окружения, они бродили по деревням, спали, где попало, была вшивость, хотя и не в массовом масштабе, но все же она могла послужить причиной возникновения эпидемии. Моя работа не ограничивалась только своей бригадой, а распространялась на весь корпус. По моему донесению из медуправления фронта прибыло противоэпидемическое отделение санэпидотряда с автодушевыми и дезинфекционными установками, и работа у нас закипела. Пока я проводил профилактические мероприятия, шло формирование корпуса по новым штатам. В штат управления корпуса введена должность корпусного врача, (он же начальник медицинской службы), на эту должность назначили меня. Должность бригадного врача я передал Казбаеву. Кроме бригад, в корпусе появилось много частей корпусного подчинения. Корпус стал боевым соединением, имеющим возможность вести бои самостоятельно. В числе тыловых частей в состав корпуса был введен медсанвзвод, по возможностям равный медсанвзводу мотострелковой бригады, но больше медсанвзвода танковой бригады по своим возможностям.
Корпусный медсанвзвод прибыл полностью укомплектованный личным составом и имуществом. Командир медсанвзвода, капитан медслужбы Авербух, сразу стал проявлять бОльшую самостоятельность, чем требовалось, пытался доказать, что он подчинен не корпусному врачу, а начальнику штаба корпуса. Я не придал этому большого значения, поскольку кроме разговоров не было каких-либо действий.
С прибытием в корпус медсанвзвода должность фельдшера корпуса упразднялась, и лейтенант медслужбы Бубнова осталась за штатом. Отправлять ее в какую-либо часть не хотелось, поскольку она хорошо знала управление корпуса, зарекомендовала себя смелым, хорошим работником, не раз ездила с санитарной сумкой на броне танка, в сложных боевых условиях оказывала медицинскую помощь раненым. За ее смелые действия в бою ее прозвали "гвардии Тася". Да мне и не позволило б командование корпуса отправить Тасю за пределы корпуса.
Бои под Харьковом, окружение и выход с боем из окружения повлияли на ее состояние. Она несколько сникла, помрачнела, ее искрящийся смех стал редким, появился тремор головы, правда, со стороны мало заметный, но ее это угнетало. По существу, ее нужно было бы отправить в госпиталь, чтобы там продолжать службу, но мы, маленькие и большие начальники, не задумываемся о моральном состоянии человека, пережившего трагедию на фронте, остался жив и ладно, можешь продолжать служить. И получается, что одни на передовой постоянно подвергаются опасности, а другие, в тылу, вообще не участвуют в бою. Во вновь прибывшем медсанвзводе оказалась вакантная должность начальника аптеки, на эту должность и была назначена "гвардии Тася".
Питание личного состава в период формирования не отличалось разнообразием, и хозяйственники старались что-либо раздобыть, хотя бы для офицерского состава. Интересную выдумку проявили в медсанвзводе. Они организовали охоту на грачей. Их в лесу много. В отличие от ворон, мясо грачей почти такое же нежное, как у голубей. Меня угощали жареным грачом с гарниром из риса. То ли я был голоден, то ли блюдо было действительно вкусное, но оно мне очень понравилось.
Орловская операция
Тем временем корпус готовился к проведению Орловской операции. Передо мной стояла задача: с максимальной пользой организовать работу медсанвзводов бригад и, главным образом, корпусного медсанвзвода. Период подготовки к новой операции был длительным, и у меня было время тщательно обдумать ее медицинское обеспечение. Я никак не мог понять, зачем в штат корпуса был введен медсанззвод. Он никак не укладывался в классическую систему этапного лечения. С каждым этапом медпомощь должна расширяться. Если в батальоне оказывается доврачебная помощь, в бригаде (медсанвзводе) - врачебная, то следующим этапом должна быть квалифицированная медпомощь (в медсанбате или в госпитале), а возможности корпусного медсанвзвода ограничиваются врачебной помощью, то есть такой же, как в бригадных медсанвзводах. Тогда зачем из бригад эвакуировать раненых в корпус, если он не в состоянии наращивать объем медпомощи? Это только бесцельная перевалка. Каждую эвакуацию раненый переносит болезненно, и наша задача, задача военной медицины, максимально сократить количество эвакуаций. После некоторых раздумий, я решил построить медицинское обеспечение в предстоящей Орловской операции не по штату, а сообразуясь с системой этапного лечения.
В штабе корпуса меня ориентировали, что после первых двух дней упорных боев ожидается стремительное продвижение войск вперед. Отсюда следует, что всю нагрузку в начальный период боев придется возложить на корпусный медсанвзвод, бригадные медсанвзводы не развертывать, а держать их в готовности к продвижению вперед за бригадами. Сотрудников же, чтоб не скучали, а помогали, забрать в корпус, возложив на них обязанности функциональных подразделений медсанбата: приемо-сортировочного, госпитального, эвакуационного (функции операционно-перевязочные возложить на корпусной). С наступлением момента продвижения вперед корпусной медсанвзвод возьмет весь поток раненых на себя, а бригадные, не обремененные ранеными, уйдут со своими бригадами. Тем самым резко сокращается эвакуация, раненые останутся на месте до подхода госпиталей.
Для выполнения моего замысла необходимо было, чтобы медсанвзводы бригад на начальный период операции перешли в мое оперативное подчинение. Командиры бригад полковники Драгунский и Головачев сразу дали свое согласие, а полковник Сергеев вначале наотрез отказал, но после настойчивой просьбы и доказательств о целесообразности объединения усилий медиков в период наибольшего количества поступления раненых согласился с явной неохотой.
Местом развертывания сводного медсанбата было избрано село Победное, в 3-4 км от переднего края. Конечно, это был риск, и большо риск для медицины. В случае неудачного наступления и контратаки противника все наши медсанвзводы окажутся под ударом и если, не дай Бог, будут разбиты, то весь корпус останется без медицинской помощи в зоне боев. Накануне наступления я проследил выдвижение бригадных медсанвзводов в назначенное место и отправился в корпусной медсанвзвод, чтобы убедиться в выполнении поставленной им задачи. Каково было мое удивление, когда я застал медсанвзвод пребывающим в мирном благоденствии, они и не думают выдвигаться вперед. На мой вопрос командир медсанвзвода капитан медслужбы Авербух ответил, что здесь в относительном тылу работать спокойнее и безопаснее, пусть раненых везут сюда, и им будет здесь оказана та же врачебная помощь. Мне стало ясно, что успех медицинского обеспечения, своевременность оказания медпомощи (этого главнейшего элемента в благополучии лечения) зависит от безопасности его, Авербуха.
Не знаю, откуда у меня взялась такая решимость, но я, зная, что превышаю свою власть, тут же объявил, что отстраняю командира медсанвзвода от должности и назначаю на эту должность... кого же назначить? Время клонилось к вечеру, завтра рано утром начнется наступление, и если медсанвзвод к утру не прибудет и не развернется в селе Победное, то вся система медицинского обеспечения будет сорвана, тем более, что в бригадах и в отдельных частях известно: раненых направлять в село Победное.
Должность командира медсанвзвода - врачебная. Среди сотрудников медсанвзвода были врачи, но они, (как, например, Кропотов), хороши как врачи, а командирских качеств у них совершенно нет. На должность командира медсанвзвода я решил назначить фельдшера, старшего лейтенанта медслужбы Пригоду С.И. Я его давно приметил среди других, он выделялся командирскими качествами. Это стройный, подтянутый офицер, разбирающийся в тактике, хорошо читающий топографическую карту, что очень важно для командира на дорогах войны. Свое решение я тут же объявил и приказал немедленно передислоцироваться в село Победное, куда уже направились медсанвзводы бригад. Пригода действовал четко, командой: "В ружье!" поднял медсанвзвод и двинулся с ним к месту назначения. Капитана Авербуха я направил врачом отдельного саперного батальона.
Конечно, я поступил неверно. Снять с должности одного и назначить другого можно только приказом по корпусу, хотя бы и по моему представлению, но то была война, нужно решать немедленно, а оформление приказа требовало значительного времени, а времени не было, поэтому я взял ответственность на себя и сделал правильно, командование безоговорочно утвердило мое решение.
Второе, что не укладывалось в рамки обычного, это назначение фельдшера на должность, где по штату положены врачи, но опять же была война и для достижения цели ни звании, ни ранги значения не имели.
За короткую летнюю ночь Пригода привел медсанвзвод в назначенное место, а утром медсанвзвод еще не успел полностью развернуться, как стали поступать раненые. Когда я приехал в Победное, там уже шла интенсивная работа по оказанию медпомощи раненым и ликвидация последствий воздушного налета на село, в том числе и на наш сводный медсанбат. Одна бомба попала вблизи аптеки, частично разбросало аптечное имущество, контузило и легко ранило начальника аптеки Тасю Бубнову.
Налет авиации не помешал слаженной работе сотрудников сводного медсанбата. Большую помощь в общей организации работы оказывал бригадный врач Никишин, его медсанвзвод выполнял функции операционно-перевязочного отделения (вместе с корпусным). Эта операция была боевым крещением для корпусного медсанвзвода, и он с достоинством его выдержал. Показал свою способность в организации медобеспечения и его командир Пригода. На второй день сопротивление противника было сломлено, и войска стали продвигаться вперед. На рассвете следующего дня медсанвзводы бригад, облегченные отсутствием у себя раненых, двинулись за своими бригадами, а корпусной медсанвзвод принял всех раненых на себя. Таким образом, идея сводного медсанбата оправдала себя. В корпусе должен быть не медсанвзвод, а медсанбат, о чем и было изложено мной в отчете после окончания операции.
Бои за овладение городом Орел носили ожесточенный характер. Противник никак не хотел уступать стратегически важные позиции. Его авиация постоянно висела над расположением наших войск и не безрезультатно. В разгар боев я поехал на санитарной машине на КП корпуса, и нужно же так случиться, когда мы подъехали к перелеску, где располагалось КП, налетели фашистские "Юнкерсы" и стали бомбить. Мы с водителем выскочили из машины и, отбежав немного в сторону, залегли в чуть заметную выемку. Как всегда, я уткнулся лицом в землю, не люблю смотреть на пикирующие бомбардировщики. Кругом стояла такая круговерть, такой грохот, земля то и дело вздрагивала от рвущихся бомб. Вдруг резкий взрыв потряс то место, где мы лежали, что-то навалилось на меня. С усилием я приподнялся на руках и стряхнул с себя землю, оказывается, меня засыпало землей. Услышав стон, увидел раненого водителя. Вблизи оказалась траншея, в ней я увидел обезглавленного майора из отдела "СМЕРШ", останки его головы висели клочьями на кустарнике. Пришел я в себя быстро, но некоторое время плохо слышал, ходил как бы с заложенными ушами.
После боев, во время отдыха, произошел небольшой эпизод, связанный с фамилией. Однажды мне нужно было что-то доложить командиру корпуса генералу Сулейкову. Это было во второй половине дня. Подходя к палатке Сулейкова, я встретил его, выходящего из палатки со словами: "Добрый вечер!" Я отвечаю: "Добрый вечер, товарищ генерал!" Он опять: "Добрый вечер!" Я опять отвечаю: "Добрый вечер!". К моему удивлению, он уже громче и не глядя на меня, а куда-то в сторону опять кричит: "Добрый вечер!" Я опешил, стою, ничего не понимая, и вдруг подбегает его водитель и говорит: "Я здесь, товарищ генерал!". Оказывается, фамилия водителя была Добрыйвечер. Потом мне называли много украинских фамилий подобного рода.
Освобождение Киева
Во второй половине сентября 1943 года части корпуса подошли к Днепру. Передовым частям была поставлена задача с ходу переправиться через Днепр и захватить плацдарм. Когда две трети войск корпуса переправились на захваченный плацдарм в районе села Букрино, на плацдарм переправился и корпусный медсанвзвод уже по наведенной понтонной переправе. Берег в этом месте обрывистый и под прикрытием обрывистого берега, на небольшом расстоянии от края воды, и был развернут медсанвзвод, в надежде, что при продвижении войск и расширении плацдарма можно будет продвинуть медсанвзвод вперед и развернуть его не в палатках, как на берегу, а в строениях населенного пункта. Войсковые медицинские подразделения хоть и предназначены работать в палатках, но в строениях все же лучше. Поэтому при каждом удобном случае развертывание медсанвзвода производилось в хатах.
Наступил октябрь, а войска так и не смогли расширить плацдарм и продвинуться вперед, и медсанвзвод продолжал работать в палатках на самом берегу Днепра. Наступили пасмурные, дождливые дни, слякоть, работать стало все труднее и труднее эвакуировать раненых на противоположный берег.
Не добившись успехов на Букринском плацдарме, в конце октября наш корпус вывели из боя, и по совершении марша он был направлен на другой, более обширный плацдарм в районе Лютеж, что севернее Киева. С этого плацдарма 6 ноября и было осуществлено наступление на Киев и его освобождение.
Освобождение Киева было необычным. Позиции противника были сильно укреплены и, чтобы их преодолеть, нужны необычные действия. И эти необычные действия предложил командующий нашей 3-ей танковой армией генерал-полковник Рыбалко П.С. Наступление началось в полночь. Танки пошли в атаку с включенными фарами, были включены все имеющиеся сирены и все прожекторы. Противник был ослеплен прожекторами и оглушен воем сирен, грохотом короткой, но мощной артподготовки и неожиданным наступлением. Киев был взят с минимальными потерями с нашей стороны. Вообще при успешном продвижении войск вперед потери, как правило, бывают небольшие, но все равно нужно оказывать помощь раненым и эвакуировать их в тыл. По положению, армия должна эвакуировать раненых "на себя", то есть вывозить своим транспортом из корпуса, но поскольку стабильности фронта не было, а танковые части мобильны, то армейские тылы и, в частности, госпитали, отставали, то приходилось самим корпусам организовывать эвакуацию на попутном транспорте, главным образом, на транспорте подвоза материальных средств.
После освобождения Киева части корпуса были направлены на освобождение Фастова, эти бои запомнились упорным сопротивлением немцев. А вот освобождение Василькова было настолько стремительным, что при появлении наших танков в городе некоторые учреждения продолжали работать, не ожидая наших войск.
Дальнейшее наступление
Дальнейшее наступление наших войск было остановлено упорным сопротивлением власовцев. Армия РОА, (Русская Освободительная Армия), сформированная генералом Власовым из пленных наших солдат, прочно удерживала позиции, власовцы находились в безвыходном положении, предав Родину и выступая против своих соотечественников с оружием, они не ждали поблажек с нашей стороны, и, конечно же, их ждала суровая кара. Вот там, в районе Василькова, и погиб хороший человек, командир мотострелковой бригады полковник Головачев (его именем названа улица в Москве).
Запомнился горестный эпизод, связанный с Головачевым. Не помню, после какой это было операции. Было лето, мы ехали к месту сбора. Ехали на машине Головачева, он рядом с водителем, а я, с его бригадным врачом, сзади. При ночном передвижении, естественно, соблюдается светомаскировка. Навстречу нам двигалась какая-то часть, и водитель одной из машин включил фары. Головачев кричит: "Выключай свет! Не демаскируй!". Ответа не последовало, и фары не выключены. Водитель нашей машины остановил свой Виллис, вылез из него и, держа за дуло немецкий автомат, со всего размаха ударил им по фарам встречной машины. Раздался выстрел, и водитель повалился, раненый в живот. Головачев выскочил из машины, бросился на землю рядом с водителем, причитая: "Коля, Коленька, да как же это!!!" Оказывается, водитель был его младшим родным братом, а выстрел произошел в результате отдачи затвора автомата при ударе. Головачев обратился к нам, как к врачам, чтобы мы помогли что-либо сделать для спасения брата. Случилось так, что рядом в колонне ехал корпусной медсанвзвод, я приказал поставить здесь же, на месте ранения, в 5-10 метрах от дороги палатку, развернуть в ней операционную и прооперировать раненого. Головачев остался при раненом. Нетранспортабельность после полостной операции на животе - 10 суток, и все это время Головачев был намерен сидеть возле брата. Боевых действий в ближайшие дни не предпологалось и ему разрешили ухаживать за раненым братом. К сожалению, его брат не выжил, на шестой или восьмой день после операции он скончался. В одно из моих посещений Головачев подарил мне фото, что хранится у меня, как единственная память моего пребывания на фронте, в танковом корпусе.
Шли дни, недели, корпус вел ожесточенные бои почти без перерыва. Если и были перерывы между боями, они были краткими. Новый 1944 год встретили, но, собственно говоря, никакой "встречи" не было. Кто-то напомнил, что наступает Новый Год, буквально на ходу поздравили друг друга, пожелали скорой победы и здоровья на весь период войны. В этот период мы были где-то под Житомиром, помню, зима была мягкой, и начальник автохлебозавода корпуса Шляхман преподнес нам торт. Это было неслыханным событием: на фронте съесть кусок торта. Сюрприз был исключительный.
Проскуровская операция и бои в районе Староконстантиновка
Проскуровская операция и бои в районе Староконстантиновка в марте-апреле запомнились непролазной грязью. Танки с трудом ползли на "брюхе", преодолевая грязь, колесный транспорт надрывался и продвигался еле-еле и то с помощью людей, толкающих его вперед. Единственные из колесного транспорта, кто самостоятельно, с трудом, но все же двигались, были "Студебеккеры". Что было делать нам, медикам, для эвакуации раненых? Выход один: изыскивали подводы и на лошадях организовывали эвакуацию. А медсанвзвод мотострелковой бригады для своего перемещения раздобыл где-то волов и на волах следовал за своей бригадой. Жаль, что не сфотографировали эту картину.
В один из дней этой операции я был в штабе, расположившемся в доме у самой дороги. Это не был населенный пункт, это был отдельный дом на значительном расстоянии от населенного пункта. Проезжей частью была только дорога, а справа и слева от нее земля еще не просохла, была мягкой. Слева, метрах в ста, стоял редкий, мелкий лес, а прямо справа от дороги местность шла под уклон, и метрах в стапятидесяти уклон завершался неглубоким овражком, по его дну протекал весенний ручей. В штабе было мало народу, все занимались обычной штабной работой. Вдруг кто-то закричал: "Немецкие танки!" Мы выбежали из дома. Действительно, по дороге к нашему дома ползли три немецких танка. Я хорошо рассмотрел их тупорылые короткие пушки, направленные в нашу сторону. Все бросились врассыпную, противотанковых средств при штабе нет, никто никак не ожидал встретить танки противника у штаба, и противопоставить танкам мы ничего не могли. Я побежал вправо по открытому месту, под уклон. Земля была мягкой, но благодаря тому, что был уклон, земля удерживала вес человека, хотя ноги слегка и увязали. Танки повернули пушки в нашу сторону и стали обстреливать. Еще никогда я не бежал так быстро, добежав до овражка, буквально скатился в него. Танки не рискнули покинуть дорогу и преследовать нас, они бы застряли в мягкой почве.
В мае 1944 года поступил приказ о введении в штат танкового корпуса медсанбата (медико-санитарного батальона, по медицинским возможностям равного полевому госпитаю, а по санитарным и эвакуационным возможностям значительно превышающего госпиталь). Я не тешу себя надеждой, что причиной введения в штат корпуса послужил мой отчет об обеспечении Орловской операции, в котором я доказывал необходимость в танковых корпусах иметь не медсанвзвод, а медсанбат, что и было мною осуществлено на практике в самом начале операции. Однако не исключаю возможность, что мой отчет был прочитан. Во всяком случае, медсанбат был введен в штат и его нужно было формировать. На должность командира медсанбата я решил назначить бригадного врача мотострелковой бригады майора медслужбы Никишина, ранее бывшего командиром медсанвзвода 113-й танковой бригады, где я был бригадным врачом. Да и сам Никишин хотел этого, однажды он мне говорил об этом.
Основой формирования медсанбата стал корпусный медсанвзвод, усиленный прибывшим пополнением. Кроме того, в медсанбат были переведены и некоторые сотрудники бригадных медсанвзводов, как например: Оля Труш, Полина Болыко, Ната Шевлякова и другие, заслужившие доверия сотрудники. В медсанбат я хотел перевести и Тасю Бубнову, но придирки к ней начальника политотдела Новикова стали нас беспокоить. Нужно сказать, что мои отношения к Тасе стали перерастать товарищеские, а чувства к ней становились все более теплыми. Я не красавец, но и далеко не урод, и, находясь постоянно в женском окружении, иногда сталкивался со слишком большим вниманием некоторых женщин. Но, не будучи бабником, на их внимание не реагировал. Но своих теплых чувств к Тасе не скрывал. Не знаю почему, но Новикову это не нравилось, не потому, что он был целомудрен, при нем была "личный секретарь", и он не скрывал своих отношений с ней.
Однажды в штабе корпуса проводилось какое-то мероприятие, это не служебное совещание, а что-то вроде товарищеского ужина. Я пришел с Тасей. Новиков стал говорить что-то не в ее пользу. Я демонстративно встал, взял Тасю за руку и удалился с ней. Стало ясно, что оставаться ей в корпусе нельзя. Переговорил с начмедармом, полковником медслужбы Васильевым, и он решил перевести Тасю в терапевтический госпиталь. Но и там она не нашла покоя, к ней стал придираться начальник госпиталя майор медслужбы Срулевич. Перевод Таси в госпиталь не означал, что мы с ней расстались, когда удавалось выбрать свободное время, я навещал ее.
Львовская операция
Перед Львовской операцией мы продолжительное время стояли где-то в Галиции, доукомплектовывались, изучали места предстоящих боев и готовились к решительным наступательным действиям. Однажды вечером я уже готовился ко сну, как прибежал нарочный из нашего нового медсанбата и доложил, что в медсанбате случилось ЧП (чрезвычайное происшествие). Я жил в хате в центре села, а медсанбат находился в этом же селе, на его окраине, так что на месте оказался быстро. Мне доложили, что работники кухни получили отравление и лежат в госпитальном отделении, им проводятся активные мероприятия по противоядию. А случилось вот что: согласно инструкции, всем работникам пищеблока необходимо было провести анализ на яйца глист. Накануне взятия материала для анализа всем дается для приема вовнутрь по З0 граммов слабительной соли. Начальник аптеки, лейтенант медслужбы Досычев, ошибочно дал всем по З0 граммов новокаина, по виду такая же соль. Это явно суперсмертельная доза для человека. Но хорошо, что быстро спохватились и стали усиленно промывать желудки. К тому же большая доза вызвала "оглушение" организма, всасывание отравляющего вещества еще не началось из-за резкого сопротивления организма. Меньшая доза сделала бы больше вреда. Все обошлось относительно благополучно, но сам по себе факт требовал судебного разбирательства. Досычева я знал как добросовестного работника и совсем не хотел допустить до суда, я наказал его полной властью, которой раслолагал: арестовал на10 суток с удержанием 50% от заработной платы.
За период войны столько раз приходилось располагаться в той или иной хате, что и не сосчитать, но эта хатка в Галиции, где мы стояли перед Львовской операцией, мне запомнилась. Хозяев в хате не было, и вообще в деревнях, где располагался штаб, местного населения, как правило, не было. Домик чистенький, очень уютный небольшой дворик с большими черешнями по периметру двора. Вспоминается забавная картина: Тася, как мальчишка, лезет на дерево и с наслаждением ест еще не совсем дозревшую черешню. Любовь к черешне осталась у нее на всю жизнь. И вообще, она подчас вела себя, как мальчишка: смело, безрассудно садилась верхом на лошадь, та ее сбрасывала, а она опять лезла. Или, не умея кататься, садится на велосипед и, не справившись с управлением, летит по ступенькам вниз, в погреб. Она по ошибке родилась девчонкой, ей, по ее характеру, нужно бы быть парнем.
Из медотдела армии пришла бумага с извещением, что нам на корпус выделяется одно место для направления фельдшера на учебу в Военно-Медицинскую академию в Ленинград. Конечно, командировать на учебу нужно достойного человека, кандидатов на такую командировку было несколько. Фельдшеры были в бригадах, частях корпусного подчинения, в медсанбате. Но среди всех выделялся своей военно-медицинской подготовкой Пригода С.И. При введении в штат корпуса медсанбата и ликвидации корпусного медсанвзвода Пригода числился в штате медсанбата, но, фактически, был при корпусном враче нештатным офицером связи, контролировал выполнение распоряжений корпусного врача, участвовал в планировании медицинского обеспечения корпуса и в составлении отчетов за проведенную операцию. Расставаться с Пригодой мне не хотелось. Он был хорошим помощником. Да и общались мы с ним не как командир с подчиненным, а как товарищи по работе. Все же благоразумие взяло верх. Нельзя из-за своего удобства лишать человека возможности встать на новую дорогу жизни. Впоследствии я убедился в правильности выбора кандидата в академию. Пригода блестяще окончил медицинскую академию, затем Военно-Химическую академию, стал заниматься наукой, стал профессором, лауреатом государственной премии, возглавил крупное биологическое учреждение и вырос в звании до генерал-лейтенанта.
Я уже упоминал, что при совместной работе мы и общались с Пригодой, как товарищи, это отразилось и на проводах его на учебу. Проводы были скромными, но товарищескими. Видимо, наши личные вещи хранились в общем месте, это обнаружилось после, когда Пригода приехал в Ленинград и захотел нарядиться в хромовые сапожки. Оказалось, что оба сапога на одну ногу. Помимо воли мы с ним оказались "два сапога пара". На место Пригоды я взял в помощники фельдшера Виктора Прудника. Очень хороший товарищ, трудолюбивый помощник, но деловые качества уже не те.
Подготовка к следующей операции шла полным ходом. Было очевидным, что наступать будем в направлении Золочев, конечная цель - освобождение города Львова. На полянке, перед оперативным отделом, топографы построили макет местности, на нем проводились занятия с командованием бригад и службами обеспечения. Но как бы тщательно ни готовились планы ведения боевых действий, бои в действительности шли иначе, так как противник вносит свои коррективы.
"Колтувский коридор"
В середине июля начались боевые действия. Наш корпус занял выжидательный район. После двух или трех упорных боев какая-то общевойсковая армия в районе местечка Колтув прорвала небольшой участок фронта в обороне немцев, всего 3 - 4 км по фронту, и, углубившись на 16 - 18км, по сути на всю тактическую глубину обороны противника, образовала коридор (в историю этот прорыв вошел как "колтувский коридор"). Вот в этот Колтувский коридор, по бездорожью, и вошел наш корпус. Танки прошли без особого труда, правда, в одном месте, на подъеме, по вязкой после дождя почве и им было нелегко, а для колесного транспорта тем более. Для облегчения движения колесного транспорта у подъема в гору дежурил тягач, вытягивая застрявшую машину. У меня была машина "Виллис", с двумя ведущими осями, маневренная и высокопроходимая машина, она очень и очень мне помогла.
Для обеспечения, в медицинском отношении, ввода корпуса в прорыв, я поставил медсанбат у самого входа в прорыв, на самом боевом участке, и раненые сразу стали поступать в медсанбат не только из частей нашего корпуса, но и из других частей; наш медсанбат оказался в центре путей движения раненых не только из нашего корпуса. Когда мы прошли "коридор" и вышли на оперативный простор в глубине обороны противника, мне стало ясно, что эвакуировать раненых через "коридор" невозможно, тем более, что он простреливался противником. Части корпуса сразу вступили в бой с подходившими резервами противника. Раненые стали накапливаться в медсанвзводах бригад, сковывая их маневренность. Я решил немедленно ввести медсанбат в прорыв, ближе к войскам. Благодаря своему "Виллису", быстро вернулся через "коридор" к месту развертывания медсанбата. Там застал переполох: в перевязочную попал снаряд, кого-то убило, кого-то ранило, и сотрудники были в смятении. Они даже обрадовались, когда я объявил о свертывании медсанбата и продвижении в прорыв ближе к войскам. Всех раненых передали полевому госпиталю и медсанбату по еще удерживаемому войсками "коридору". Преодолели "коридор" без особых трудностей и в районе станции Куткож, где скопилось много раненых, развернули медсанбат. Как только медсанбат прибыл к войскам, противник закрыл "коридор", и все войска оказались отрезанными от своих тылов, то есть оказались в окружении. Но части корпуса, как и вся танковая армия, продолжали вести ожесточенные бои, и наш медсанбат оказался очень кстати, он принимал на себя раненых из медсанвзводов бригад, создавая им возможность следовать за своими бригадами.
Нужно сказать, что из всех корпусов танковой армии наш медсанбат был единственный, вошедший в прорыв вместе с войсками, поэтому поступление раненых в наш медсанбат было очень большим. Количество раненых, поступивших в медсанбат, исчислялось сотнями, войска продолжали наступление, бригадные медсанвзводы нужно было освобождать, а медсанбат переполнен, эвакуации из него нет, мы воюем в окружении. Тогда я принял решение всех раненых с некоторым количеством обслуживающего персонала оставить в районе Куткож, а большую часть медсанбата переместить к месту нового скопления раненых, в район местечка Княжны. Положение усугублялось тем, что в медсанбате не хватало питания, медикаментов, перевязочного материала, ведь мы в окружении, и все тылы находились где-то далеко. Кроме оказания помощи раненым, нужно организовывать охрану и оборону раненых и обеспечивать медсанбат всем необходимым. В доставке питания, как ни странно, нам очень помогли священнослужители костела, особенно активен был один ксендз, он через население организовал доставку продуктов. Это была очень существенная помощь. Медикаментами мы частично пополнялись за счет местных аптек, иногда брошенных при отступлении немцев. Перевязочный материал получали за счет стирки бинтов, снятых у раненых при перевязке. Обычно бинты срезают при перевязке и выбрасывают, но здесь всем медработникам было дано указание бинты не срезать, а тщательно снимать и складывать в определенное место, затем они подвергались обработке, стирались и вновь использовались.
Тем временем раненые накапливались в третьем месте. Опять пришлось делить медсанбат и уже третью его часть направлять в новое место. Находясь в изоляции от тылов, в окружении противника, но под защитой войск, которые не оглядываются назад, а смотрят только вперед, работать медикам сложно и далеко небезопасно. Как-то в операционную, когда хирург Буробин оперировал, угодил небольшой снаряд. Буробина оглушило, кого-то ранило, оперируемый остался жив, но последствий его состояния не знаю. В этих боях досталось и мне. Однажды шел я к командиру корпуса, было прохладно, а я в одной гимнастерке, догоняет меня открытая трофейная машина. В ней сидят на заднем сиденье заместитель начальника политотдела и еще кто-то, оба в шинелях. Спереди, рядом с водителем, офицер из отдела ГСМ (горюче-смазочных материалов). Они пригласили меня, я сел на заднее сиденье между двумя, одетыми в шинели, так было теплее. Машина свернула с шоссе, (слева был объезд), проехала метров триста, и когда она поравнялась с палисадником отдельно стоявшего домика, вдруг, почти в упор, раздалась автоматная очередь, и рядом сидевшие со мной повалились на меня, сраженные пулями. Впереди сидящий со мной офицер сник. Водитель нагнулся и продолжал одной рукой вести машину. Мне из-под трупов было видно, как на дорогу выскочили два немца и продолжали стрелять в нас. Я четко видел направленное на меня дуло автомата и ждал, что вот-вот пули сразят и меня. Проехав небольшое расстояние, машина влетела в посев, (кажется, в рожь), и перевернулась. Три трупа остались лежать, а мы с водителем стали отползать в сторону, боясь, что к месту остановки машины придут немцы.
Мы оказались в расположении немцев и нужно было как-то выбираться к своим. Опять я попал в такую сложную ситуацию, когда опасность попасть к немцам казалась неминуемой, еще не забыто пребывание в окружении и вот тебе, снова в расположении немцев. Эти скорбные мысли проносились в голове, но надо во что бы то ни стало как-то выбираться. Время приближалось к вечеру. Водитель посоветовал переждать до утра, но это было бы ошибкой. Мы поползли медленно и осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Совсем рядом по шоссе двигались наши части, а мы прячемся, находясь близко от наших боевых частей, но среди немцев. Когда совсем стемнело, стала ясно слышна немецкая речь, приглушенное звяканье котелков и другие звуки. Рядом были расположены окопы и нам нужно их преодолеть. По счастью, окопы немцев шли не сплошной линией, и нам удалось проползти между ними, к рассвету мы добрались до дороги. И надо же, на дороге я встретил машины медсанбата. Они подобрали меня. Конечно, я был потрясен происшедшим, и вместо того, чтобы идти немедленно к командиру корпуса и доложить о случившемся, я после горячего чая и стакана водки, поднесенного мне для успокоения, уснул. Когда проснулся, обстановка изменилась, командир корпуса уехал в какую-то часть, а потом он получил ранение, и я его так и не видел.
На следующий день к месту засады были направлены солдаты, они "прочесали" местность, нашли брошенную машину, два трупа и третьего, офицера из ГСМ, раненого в грудь. Он получил сквозное пулевое ранение груди, и я не мог распознать, жив он или мертв. Видимо, он был в глубоком шоке и не подавал признаков жизни, а я находился в таком потрясении, что не мог разобраться. Я всю жизнь чувствую за собой вину, но виноват ли? Находясь в таких экстремальных условиях, любой не разобрался бы, в этом я уверен. До сих пор я слышу лай собаки, когда отползал от машины, но это, видимо, была не овчарка, иначе нас нашли бы немцы. Потом стало известно, что немцы нашли машину, осматривали трупы, срезали с гимнастерок ордена, видели раненого, забрали у него документы и ордена, но не тронули. Задержись я около машины, я бы несомненно попал к немцам. Некоторое время я находился в состоянии потрясения, но продолжал работать. Никому и в голову не приходило дать мне некоторое время, чтобы прийти в себя.
Наше окружение продолжалось шесть дней. На седьмой день войска соседнего фронта прорвали оборону противника в районе Броды и вышли в район боевых действий наших войск. Вот теперь, когда линия фронта отодвинулась далеко вперед, к нам нахлынули и госпитали, и армейские и фронтовые начальники. Госпитали приняли наших раненых на месте их скопления во всех трех точках, и медсанбат, освободившись от раненых, воссоединился в одно целое. Начмедарм Васильев был очень недоволен мной за то, что я держал его в неведении обстановки. Ведь донесения - это "хлеб", которым питается начальство, без донесений от подчиненных они, как слепцы, не знают, что им делать. Находясь в окружении, мне, откровенно говоря, было не до донесений, да и как я мог ему послать их? Рация на КП перегружена информацией о ходе боевых действий, передавать открытым текстом нельзя, а кодировщикам было не до нас. Во всяком случае, он сказал, что за отсутствие от меня донесений он отстранил мое награждение орденом "ВОВ".
Вообще к званиям и награждениям я относился равнодушно, но уже после войны, через несколько лет, я почувствовал, что мне не хватает этого ордена. Когда уже в мирное время я увидел, как некоторые, даже не слышавшие выстрела, щеголяли с орденами и, особенно, такие, как работники Военторга, мне стало обидно. Правда, во многом я сам виноват, я всегда показывал себя с невыгодной стороны, никогда не говорил о том, что я хорошего сделал, а окружающие и не думали выискивать хорошее у других, стараясь показать свои дела в лучшем свете. Я ни разу не воспользовался благоприятным моментом, чтобы поднять свой авторитет и свое достоинство. И так из-за своего дурного характера было всегда. Отчасти этому способствовало то, что я был долго в окружении, а плен и окружение в то время считались подозрительными. Нет, держаться в тени все же является свойством моего характера.
Корпус, передав свой участок фронта подошедшим войскам, совершил марш, обошли Львов и уже с севера прорвались и заняли город, а к концу июля наши войска подошли к реке Висла. После Львовской операции наступила длительная оперативная пауза. Она использовалась для подготовки к новым решительным боям. Кроме начальника тыла корпуса полковника Очкань, я был в хороших взаимоотношениях с интендантом корпуса майором Масловым. Федя Маслов был небольшого роста, несколько полноватый, как и положено интенданту, шутник, всегда в веселом настроении, что делало его приятным в обществе. В то же время он был какой-то "масляный", как скользкий угорь, его никак не схватишь. Мы частенько, когда выпадало спокойное и свободное время, сиживали с ним за обедом или ужином, намного увеличивая "Ворошиловскую норму". Недостатка в продуктах и водке у него не было. Я относился к нему, как к хорошему товарищу, казалось, и он отвечал мне тем же.
Однажды рано утром приходит ко мне Маслов, как всегда в веселом настроении, в одной руке держит бутылку водки, в другой - закуску и предлагает позавтракать. "Но еще так рано", - пытался я возразить. "Потом будет некогда",- сказал он. Завтрак проходил у нас, как всегда, весело. Но вдруг он перестал смеяться и сказал, что у него неприятность: была ревизия, обнаружила недостачу бочки вина и еще каких-то продуктов. Нужны срочно деньги, чтобы оплатить недостачу. Он попросил у меня позволения снять с моего счета деньги. Мне не нужно беспокоиться с оформлением, он договорился с начфином и тот сам оформит. Свою просьбу он мотивировал тем, что я одинок и никому деньги не высылаю, а ему деньги необходимы. Я во всем поверил и дал свое согласие. Вот такой я доверчивый. Но он обманул меня, зачем ему понадобилось много денег, я до сих пор не знаю. Вскоре Маслов был назначен комендантом небольшого немецкого города, у него было много ценностей, имущества, а обо мне он и не вспомнил. Это не послужило мне уроком. В последующем я много раз терял по большому счету, отсутствие меркантильности в моем характере не позволяло мне "разбогатеть" там, где была возможность.
Продолжительная оперативная пауза после взятия Львова несколько ослабила напряженность в режиме работы, и я решил отправиться на 2-3 дня в Львов, посмотреть на этот красивый город. В "путешествие" мы с Тасей отправились на санитарной машине, взятой мною в медсанбате. Хотя прошло очень мало времени после боев, но город жил мирной жизнью и "дышал" Западом. Много было частного предпринимательства, этим Тася воспользовалась и заказала себе габардиновое платье военного покроя. Город красив, мы бегло, без туристического маршрута, осмотрели некоторые красивые здания, большое впечатление на нас произвело львовское кладбище: каждое надгробие, памятник - произведение искусства. На обратном пути мы почему-то задержались, и вечер нас застал в местечке Рава-Русская. Продолжать путь ночью не решились и заночевали в каком-то полупустом доме. Утром, ничего не подозревая, уехали. Оказалось, что Рава-Русская была центром сосредоточения Бендеровцев, в ней погибло много наших товарищей, в их числе замкомандира корпуса полковник Захаров, зампотех (заместитель командира по технической части) бригады майор Леонтьев, техник-лейтенант (бригадный силач, он приподнимал передок полуторки) и другие. Говорят, что нас не тронули Бендеровцы потому, что я был доктор, мы были на санитарной машине.
Отпуск
Затишье затянулось, активных боев не было по всему фронту, командование стало отпускать офицеров в отпуск. В конце ноября меня перевели в медицинский отдел армии на должность помощника начальника первого отдела (ПНО-1), таким образом, в этой армии я прошел весь путь: бригада, корпус, аппарат армии. Воспользовавшись переводом, я попросил дать мне отпуск на две недели. Итак, впервые за три с половиной года войны я оказался отпускником. Получил отпуск и мой начальник по корпусу полковник Очкань М.А. Мы вместе с ним на машине доехали до Киева, там, по рекомендации Оли Труш (врача медсанбата) остановились на ночлег у ее матери. Вечером, чтоб зря не пропадало отпускное время, мы сходили в театр. Как фронтовики, билеты в театр мы получили без разговоров. Разница между фронтом и вечером, проведенным в театре, настолько разительна, что и без вина мы были в эйфорическом состоянии. Запомнился эпизод, когда мы ехали на машине, не помню, в каком это было месте, дорога была пустынна, ни попутного, ни встречного транспорта на этом участке пути не было. Вдруг дорогу нам преградили какие-то конники, одежда гражданская, парни крепкие, здоровые, лица пышат здоровьем и отвагой, кони сытые, гладкие, так и пляшут под седоком. Конечно, это не партизаны, что им делать в нашем тылу. Очкань украинец, я слышал, как он по-украински что-то говорил с одним из остановивших машину. Мне так и осталось неясным, кто это был. В Киеве мы с Очканем расстались. Он поехал к себе в город Бахмач, а я в Мурманск к старшему брату Сереже.
Путь в Мурманск лежит через Ленинград, об этом все знают, поэтому перед отъездом в отпуск армейский хирург Кац поручил мне передать в Ленинграде небольшую посылку его родственникам. Посылка была пустяшная: пара брезентовых сапог и два куска мыла хозяйственного. Каково же было мое огорчение, когда мне по приезде в Москву не дали билета в Ленинград, въезд в него был закрыт, и в Мурманск нужно было ехать окружным путем. Посылку потом через знакомого железнодорожника из Мурманска переслали в Ленинград. Не знаю, дошла ли она до адресата, но Кац, когда я ему все рассказал о сложившейся ситуации, очень сокрушался, что я доверил посылку незнакомому человеку. Я по простоте своего характера ничего не видел особенного: подумаешь, два куска хозяйственного мыла и брезентовые сапоги, кто на них может позариться? Но после, когда я рассказывал этот эпизод товарищам, они мне говорили, что мыло является хорошим средством для упаковки некоторых ценных вещей. Ну мог ли я об этом думать? Встреча с Сережей была теплой и радостной. Все время пребывания моего в Мурманске он посвятил мне. Десять дней отпуска пролетели как миг, и я возвратился, но уже не в корпус, а в армию.
Сандомирско-Силезская операция, назначение корпусным врачом 71-го корпуса 31-й армии
Работа ПНО-1 оперативная. Связь с медсанбатами корпусов, госпиталями армии, направление потоков раненых в тот или иной госпиталь, руководство перемещением госпиталей и многое другое. В этой должности я провел Сандомирско-Силезскую операцию с января по март 1945 года. В этой операции произошел небольшой интересный эпизод. На второй день после взятия нашей армией города Бунцлау мы, сотрудники медотдела, находясь в нем, решали вопрос о перемещении госпиталей ближе к войскам. Для удобства работы над картами и чтобы пообедать, не стоя на улице, а сидя за приличным столом, мы расположились в очень приличном, на наш взгляд, доме. Уже выходя из дома, мы обратили внимание на обелиск, возвышавшийся на небольшой площади против дома. Оказалось, что обелиск возведен еще в прошлом веке в честь нашего соотечественника М.И. Кутузова. Через несколько дней мне опять случилось быть в Бунцлау. В доме, где мы останавливались в прошлый раз, развертывался музей Кутузова, в этом доме он провел последние часы жизни. Устанавливалась кровать, на которой он якобы умер. При выезде из Бунцлау есть могила, в которой лежит его прах. Эти места с первых же дней после взятия Бунцлау были взяты под охрану подразделениями наших войск.
В конце марта, после окончания Сандомирско-Силезской операции, меня вызвал к себе начмедарм и познакомил с начмедармом 31-й армии, полковником медслужбы Талановым (как потом стало известно, это был зять М.И. Калинина). Васильев сообщил, что по решению Военно-Медицинского управления фронта я назначен корпусным врачом 71-го корпуса 31-й армии. Помню слова Таланова: "Вы должны гордиться, ведь общевойсковой корпус по объему работы равен чуть ли не танковой армии". И действительно, по количеству медперсонала и медицинских подразделений общевойсковой корпус в три раза больше танкового. В корпусе три дивизии, в каждой дивизии медсанбат и много еще корпусных частей, в которых есть медицинские подразделения. Таким образом, в конце войны я оказался в другой армии. Но прерывать связь с танковой армией и тем более с Тасей, я не собирался.
СЛУЖБА В 71-ом КОРПУСЕ
Назначение корпусным врачом 71 корпуса 31-й армии; Судеты, Чехословакия; Победа; Начало мирной жизни
Назначение корпусным врачом 71 корпуса 31-й армии
В один из солнечных дней последних чисел марта, собрав свои небольшие пожитки, заполнившие половину вещевого мешка, я отправился к новому месту назначения: в 71-й стрелковый корпус.
В Германии весна началась рано. В марте уже все покрылось зеленью. Идти была легко и по-весеннему радостно. Жалеть мне было нечего, служба в армии никогда не была оседлой и свой перевод я воспринял, как должное. Единственное, что меня беспокоило, это состояние Таси, она осталась в "положении", и хотя я заверял ее, что буду навещать, сообщу ей свой новый адрес, ни в коем случае не оставлю ее, но ведь шла война и мало ли, что может случиться со мной, ведь я оставался войсковым врачом, хотя и корпусным, но обязан был бывать в войсках. Я гнал от себя невеселые мысли и шел бодро, стараясь ни о чем не думать. Эти несколько часов, пока я в пути, я совершенно свободен, ничто надо мной не довлело. Мое настроение улучшилось, когда я увидел (для меня это было впервые) большое дерево, совершенно лишенное листьев, но густо покрытое большими белыми цветами, крупные лепестки цветка синеватые у основания. Это была магнолия. Я был очарован красотой этого дерева.
Идти мне пришлось недолго, до полосы действия 31-й армии меня довезли на попутной машине, а далее, когда увидел указатель "хозяйство Таланова", найти место назначения было совсем просто. Без каких-либо происшествий прибыл в штаб тыла корпуса, расположившегося в доме небольшого местечка. Сразу обратил внимание на место расположения штаба тыла, в отличие от штаба тыла танкового корпуса он был много дальше от линии фронта, и его расположение напоминало мне штаб тыла танковой армии. Тут все дышало спокойствием и мало напоминало боевую суматоху. Сотрудники штаба определялись их назначением. Начальник тыла, подполковник интендантской службы Трубицын, истинный хозяйственник, бывший председатель колхоза. Это было видно по его отношению к разным сотрудникам штаба. Не знающий вооружения и техники, он хорошо разбирался в лошадях, поэтому ему больше было по душе разговаривать с начальником ветеринарной службы.
Начальник штаба тыла майор Алиев - полная противоположность. Трубицын говорит спокойно, обстоятельно, со всеми доброжелателен, но требователен. Простые товарищеские отношения у меня сразу же сложились с автомобилистом майором Головачевым, майором Ивановым и ветеринаром (к сожалению, забыл его фамилию), да, собственно говоря, со всеми сотрудниками штаба. Свою деятельность я начал со знакомства с медсанбатами (в корпусе их три) и некоторыми медпунктами полков. Для знакомства со всеми медицинскими подразделениями потребовалось бы много времени, а его нет, вскоре ожидались боевые действия.
В одном из медсанбатов познакомился с ведущим хирургом, очень симпатичным, уже немолодым человеком. Он окончил Военно-Медицинскую академию еще в 1912 году. На мой вопрос, почему он со своим большим опытом и знаниями "прозябает" в незначительном для серьезной хирургической работы учреждении, где нужна только простая физически тяжелая работа в объеме квалифицированной медицинской помощи, а ему нужно было бы заниматься оказанием специализированной медпомощи в специализированном госпитале, он как бы снисходительно улыбнулся и ответил, что работа в медсанбате его удовлетворяет, тем более, что здесь тоже врачом работает его дочь, и он хотел бы остаться при ней и просил меня не поднимать вопроса о его переводе.
Любая моя отлучка должна быть согласована с начальником тыла или, в крайнем случае, с начальником штаба. Я был полностью скован таким порядком. Я привык самостоятельно решать вопросы медицинского обеспечения, как это было в полку, танковой бригаде, танковом корпусе, формально я подчинялся начальнику тыла, но действовал по обстановка. Когда требовало дело, мог обратиться к начальнику боевого штаба или непосредственно к командиру, а начальника тыла я видел только после боев, во время отдыха или переформирования и пополнения частей личным составом и имуществом. Здесь же я попал в полную зависимость от начальника тыла. Такая система лишила меня инициативы и самостоятельности. Пока объясняешь неграмотному в медицинском отношении бывшему колхозному воротиле, пройдет время, пройдет острота момента и отпадет необходимость нужного мероприятия. А обращаться непосредственно к командиру корпуса не положено. Если раньше командование мне доверяло, я действовал так, как нужно, и чувствовал ответственность за все медицинское обеспечение, то в этом корпусе я действовал по указанию начальника тыла, а, следовательно, полной ответственности не нес.
Начались бои. Сведения о потерях, о своевременности выноса раненых с поля боя и полноты оказания медицинской помощи были скупые. Я был прикован к штабу тыла, своим транспортом не располагал и не мог влиять на работу медицинских подразделений. Иногда начальник тыла снаряжал машину с начальниками служб для поездки в тыл какой-либо дивизии, вот тогда-то и я отправлялся для решения своих медицинских проблем. В таких случаях получалось по басне Крылова: "Лебедь, Щука и Рак". Мне нужно вперед, к войскам, к медсанбату или даже в медпункт полка. Ветеринару нужно в тыл к животным, а продовольственнику нужно на кухню. Вот так порой и руководили мы службами, с наскоку, обстоятельно разобраться не было времени, каждый начальник службы тянул в свою сторону. Зато шума боя почти не слышали, не то, что в танковых частях. Но все же бой шел, и наш тыл продвигался за войсками. В этот последний месяц войны было заметно, что немец ослаб, хотя и оказывал местами упорное сопротивление. Его авиация, эта гроза воздуха в первые годы войны, полностью потеряла господство в небе.
Наша армия, завершив бои на собственно немецкой территории, продолжала теснить немцев на территории Судетской области. Характер моей работы резко изменился, основой моей заботы стала помощь в эвакуации раненых из медсанбатов в госпитали, используя для этого обратный порожняк транспорта подвоза. Это удавалось делать более организованно, нежели в танковом корпусе. В стрелковом корпусе все части располагались в одну линию (за исключением резервных, продвигавшихся во втором эшелоне), медсанбаты развертывались на большем удалении от передней линии войск, и их продвижение не было столь стремительным и поспешным. Все обуславливалось равномерным продвижением наступающих частей, причем здесь не было разрыва между наступающими войсками, каждый полк, продвигаясь вперед, "чувствовал локоть" соседа. Конечно, в такой обстановке работать было легче.
Судеты, Чехословакия
Но вот мы вступили в Судеты, издавна принадлежавшие Чехословакии, но захваченные и присвоенные немцами. Появилась какая-то настороженность, она как бы окружала нас, хотя особых внешних признаков не было, но была скрытая от нас внутренняя борьба, об этом можно было судить по нескольким только что расстрелянным гражданам, валявшимся на дороге, по которой мы ехали. Проезжая по улицам, было впечатление, что это мертвый город. Однако внимательный взляд может уловить легкое движение занавески на окнах, казалось бы, пустующего дома. Чувствовалось, что за тобой следят, что где-то прячутся люди.
Штаб тыла расположился в богатом особняке. Владельцы этого дома, видимо, не успели эвакуироваться, а, может, им было уже некуда бежать, впереди были недружественные им чехи, они сидели посреди просторной залы на чемоданах. Мне казалось, что это была семья фабриканта. Он - типичный буржуа. Холеное, сытое лицо, короткие усики, из-под распахнутого шикарного пальто видна черная тройка, белая рубашка и галстук-бабочка. К довершению, в зубах трубка, издающая нежный, приятный запах дорогого табака. Мне это запомнилось потому, что мы курили немецкие эрзац-сигареты, в которых вместо табака была мелко нарезанная папиросная бумага, пропитанная никотином. Супруга буржуа, еще молодая, стройная дама, в строгом черном костюме, держалась с достоинством. В руках у нее был небольшой саквояж, прикрытый меховой пелериной. Они явно нервничали, то вставали, то садились на чемоданы. Двое пожилых, с виду скромных, мужчина и женщина, казалось, безучастно смотрели вокруг, не выказывая своего волнения. Я с любопытством смотрел на эту группу людей, было что-то любопытное в них, но потом, оторвавшись по своим делам, забыл о них, а вернувшись в дом, уже не застал их там.
В Судетах наш штаб задержался, продвижение войск было медленное не столько из-за сопротивления немцев, сколько из-за сопротивления власовцев, оказавшихся в полосе наступления нашего корпуса. Но вот противника вышибли из Судет, и войска вышли на территорию Чехословакии. Мы, сотрудники штаба тыла, вслед за войсками спустились с Судетской возвышенности на Чехословацкую равнину и то, что мы увидели, поразило меня. Впервые за всю войну я видел ликование жителей по поводу их освобождения от немцев. К сожалению, не помню названия местечка, народу в нем было много. Все жители вышли на улицу и восторженно встречали проходившие войска и также нас. Народ ликовал, бросал цветы, подходили к войскам с приношениями, кто что мог. Угощали вином, пирожками, кто чем. Но особенно много было с кувшинами, бутылями, тут же на ходу предлагали выпить за их освобождение. На небольшой площади возник митинг, откуда-то появился импровизированный оркестр и зазвучал чехословацкий гимн. У стоявших рядом гражданских пожилых людей появились слезы, видимо, много лет гимн был под запретом. Некоторые смеялись и плакали. Такого ликования я больше никогда не видел.
Но не все одинаково "радовались". Когда заиграла музыка, когда зазвучал национальный гимн, несколько пар наших военных женщин в шинелях, в сапогах стали танцевать фокстрот. Такая бестактность возмутила меня и многих окружающих. Мне было стыдно за наше бескультурье. К счастью, этот позорный танец длился недолго. Музыка замолкла, и горе-танцоры поспешили в свой обоз. Многие жители выносили портреты своего президента Бенеша и его помощника Массарика. Портрет Бенеша несли с благоговением, видно, они любили своего президента, еще находившегося в Лондоне в эмиграции.
Война еще продолжалась. Весть о падении Берлина была воспринята нами, как предвестник окончания войны, чувствовалось, что она скоро закончится. Но как бы ни был конец близок, а раненые продолжали поступать в медпункты, и им нужно оказывать медпомощь и отправлять в госпитали. Я уже реже бывал в медпунктах войсковых частей и медсанбатах, а когда бывал, мало давал каких-либо указаний. Я много встречал начальников и лиц любого ранга и в любой отрасли, уполномоченных инспектировать, которые очень любили давать указания, чтобы подчеркнуть свое начальствующее положение. Иногда эти указания примитивны, показывают малую компетентность начальника в данном деле, но он говорит с апломбом и Боже упаси возразить ему. Я это видел и сам неоднократно испытал на своей шкуре, когда лицо, наделенное властью проверять и указывать, найдя какую-либо несущественную оплошность, а ее всегда можно найти, тем более на фронте, начинало с умным видом распекать, превращая пустяк чуть ли не в упущение государственной важности. Чтоб не казаться подобным пустозвоном, мои посещения всегда носили мирный характер, конечно, если не было каких-либо грубых нарушений. Были случаи, когда врач явно делал что-то неправильно в ущерб раненому, в таких случаях я был более, чем строг. Однажды пришло пополнение медицинских работников, а мне в бригаду нужно было направить опытного врача с хирургическим уклоном, и один из вновь прибывших, капитан медслужбы Мамедов, отрекомендовался как опытный хирург. Я направил его в бригаду. Во время моего посещения медпункта бригады, в ходе боев было много раненых, я хотел посмотреть, как работает рекомендовавший себя хирургом Мамедов. То, что я увидел, меня поразило. Он совершенно не знал элементарных правил иммобилизации при переломах и массивных ранениях конечностей. Святое правило: при переломе костей иммобилизировать конечность, захватив два прилегающих сустава. Он же при переломе плечевой кости иммобилизировал только локтевой сустав, а плечевой сустав остался свободным. Он раненого обрекал на мучительные боли при малейшем движении, тряске при эвакуации, а, главное, могло произойти повреждение жизненно-важных сосудов. Я не выдержал, снял неправильно наложенную шину и этой шиной с размаху несколько раз ударил его, но потом показал, как нужно делать. Меня всегда возмущало, когда иные врачи, используя военную ситуацию, набивают себе руку на раненых. Наступили дни относительного затишья от боев. Все чаще и чаще говорили о скором окончании войны. В штабах и войсках второго эшелона стали проводить мероприятия, характерные для мирного времени. Так 1 мая по всем подразделениям, не участвовавшим в боях, проводились беседы, создавалось как бы праздничное настроение. 5 и 7 мая в штабе корпуса проводились лекции - беседы, посвященные Дню Печати и Дню Радио, лектором был начальник связи корпуса. Все мы, офицеры, соскучились по словам на мирную тему и слушали лектора со вниманием: как-то было странно, на фоне еще продолжавшейся войны слышать мирный разговор о газете, о телеграфной связи, о Попове - изобретателе беспроволочной связи.
Победа
8 Мая, вечером, начальник штаба тыла сообщил нам, начальникам служб, что подписан акт о безоговорочной капитуляции немцев. Бои должны закончиться завтра, 9 мая. Все имеющиеся боеприпасы необходимо выдать войскам, не думая о запасах, чтоб они их израсходовали до 12:00 9 мая. Нашей всеобщей радости не было предела, но из штаба армии было получено строгое указание не расхолаживаться, на нашем участке фронта обстановка остается напряженной, хотя немцы и отходят, но части власовской армии остаются и готовы стоять насмерть.
Я со смешанным чувством радости и досады отправился в ближайшие медицинские подразделения. Проходя мимо перекрестка дорог, увидел в самом центре перекрестка воронку от взрыва и горевшую машину. Здесь подорвалась на мине грузовая машина. Вот так, за несколько часов до окончания войны кто-то погиб. Мною овладело неприятное чувство, вот сейчас, всего через 2-3 часа наступит желанный мир, а смерть еще ходит по дорогам и косит зазевавшихся. Преодолев неприятное ощущение, я зашагал вперед, постоянно оглядываясь кругом, остерегаясь наткнуться на какую-нибудь непредвиденную неприятность.
В медсанбате, куда я благополучно добрался, царила радостная обстановка, некоторые уже пытались отметить победу за праздничным столом, но в подтверждении моих слов о том, что до победы еще неизвестно сколько времени ждать, пришла из войск машина, нагруженная ранеными. Они рассказали, что против них стоят русские, слышна их брань и ругань, что в плен они сдаваться не будут, они знают, что их ждет расстрел за измену. Победное настроение было охлаждено, бои продолжались и закончились лишь 11 мая. На других участках фронта уже полным ходом шло ликование, а мы еще не знали, можно ли нам радоваться.
Но всему бывает конец. Наступил конец войне и на нашем участке фронта. Было радостно и нам, но такой восторженной, безудержной радости, какая готова была вспыхнуть 9 мая, уже не было. Было деловое обсуждение, обдумывание вопросов по подведению итогов, вернее, перестройка работы по ликвидации последствий, устранению ущерба, нанесенного войной. Первым делом я сообщил Тасе, что война для меня закончилась благополучно и мое местопребывание на неопределенное время остается в Судетах. Только собрался отправить письмо, как узнал, что наш корпус передислоцируется в небольшой немецкий городок Грайфенберг, где войска должны привести себя в порядок, отпраздновать Победу и перейти на мирную жизнь. Хорошо, что не успел отправить письмо, иначе мог бы сообщить неверный адрес, нужно быть внимательным, а то Тася, в ее положении, могла подумать Бог знает что.
В Грайфенберге расположился штаб корпуса, службы и штаб тыла. Мне, совместно с начальником ветеринарной службы, отвели отдельный коттедж. Видимо, эмблема в петлицах (чаша со змеей у медиков золотистая, а у ветеринаров серебристая) для начальства мало отличается друг от друга, да и для некоторых командиров из кавалерии и артиллерии на конной тяге лошадь имеет не меньшее значение, чем солдат.
Грайфенберг - небольшой, чистенький городок, сплошь застроенный коттеджами. В нашей российской действительности нет таких аккуратных домиков, с такой тщательностью ухоженных участков с массой цветов. Я немного позавидовал немцам, как прекрасно они организовали свой быт: прекрасный климат, хорошие дома, много зелени, цветов, ягодных кустов и декоративной растительности. Этот домик мне показался раем, особенно после стольких лет кочевой и окопной жизни. И чего немцам не хватало? Чего они полезли на нашу соломенную деревню, пробираясь по бездорожью по колено в грязи и только для того, чтобы найти свой конец.
Узнав в штабе, что мы расположились надолго, я сообщил адрес Тасе, соответственно попросив ее сообщить мне свой. Адресов, как мы представляем сейчас, во время войны не было. Нельзя же было писать, что такая-то часть размещена там-то. Это будет разглашением военной тайны. В каждой воинской части был свой номер полевой почты, а военная корреспонденция знала, где располагается воинская часть с таким-то номером полевой почты. Важно было в письме умело сообщить тот или иной заметный ориентир, откуда идут указки к расположению нужного пункта. Письмами со скрытым описанием местанахождения мы и обменялись с Тасей.
Напротив нашего домика, в просторном доме с обширной верандой, организовали офицерскую столовую, и теперь мне опять, как в бытность в полку, предстояло обеспечить санитарный контроль и снимать пробу с приготовленной пищи. О, как я ненавидел эту процедуру, ведь это пустая, никчемная обязанность. Врач не химическая лаборатория и на вкус горячей пищи не может определить ее доброкачественности, а что касается недосола или пересола, так на это есть повар, он готовит, он и должен отвечать. Так нет же, со всеми претензиями к пище обращаются к врачу. Какой-нибудь вновь испеченный лейтенантик заявляет: "Доктор, каша подгорела, разве так можно?" Бывает, что не сдержишься и резко ответишь, но в душе остается осадок. В дополнение к санитарному контролю за пищей на меня навалилась обязанность санитарного контроля за работниками кухни, столовой и продовольственным складом. В период боев все упрощалось, но поскольку наступила мирная жизнь, вопросы санитарного контроля выдвинулись чуть ли не на первое место. Все было бы ничего, сотрудники были постоянные и не один раз проверенные, но зав.столовой, по разрешению начальства, набрал где-то женщин на кухню и смазливых официанток. Прихожу как-то обедать, мне подает девица в мини юбке, легкой кофточке без рукавов и с открытым вырезом, ну точь в точь как показывают в кинофильмах девиц из кабаре. Оказывается, зав.столовой набрал себе сотрудников из числа советских граждан, работавших в Германии и подлежавших репатриации в Россию. Но кем они работали в Германии, его, видимо, мало интересовало. Я потребовал, чтобы все набранные им лица прошли тщательное медицинское обследование. Зав.столовой подчинился моим требованиям, и вот на следующий день приходит ко мне одна из девиц, и, мило улыбаясь, говорит, что пришла, чтобы я ее "обследовал". Расспросив ее, откуда она и кем работала в Германии, оказалось, как я и предпологал, что она работала в столовой местного немецкого гарнизона, а обследование проходила в кабинете у военного врача. Мне было понятно, что это было за обследование. Конечно, я ее выпроводил, но мне пришлось побегать, чтобы наладить систематический контроль за всеми сотрудниками продовольственной службы. Через начальника медслужбы армии в одном из ближайших госпиталей была организована лаборатория, где проводились нужные анализы, особенно у женщин. Вскоре я освободился от контроля над столовой и всей продовольственной службой. Из медсанбата назначил врача, он возглавил медпункт при штабе корпуса и осуществлял санитарный контроль. Сам я целиком погрузился в организацию медицинского обеспечения войск и подведению итогов работы медицинской службы во время войны. Наиболее кропотливым делом была организация "научных" конференций в медсанбатах. На конференциях мне хотелось активизировать старших врачей полков, чтобы они в своих докладах проанализировали порядок выноса раненых с поля боя и сроки поступления их в полковые медицинские пункты. К сожалению, тон на конференциях задавали врачи медсанбата, представляя доклады о наиболее сложных хирургических операциях, осуществленных в полевых условиях. Но в целом подобные конференции были полезны, они помогали мне, в частности, составлять отчет, а, главное, вносили определенную лепту в развитие военной медицины. Жизнь быстро набирала мирные темпы. В Грайфенберге начал работать кинотеатр, пивной бар, танцевальные площадки, и наши молодые офицеры стали активными их посетителями. Но удивительно, меня почему-то не интересовали эти развлечения. Офицеры рассказывали, как весело они проводили вечера, какие изумительные партнерши в танцах, какие интересные фильмы, а я считал неудобным посещение молодежных клубов, как было глупо с моей стороны считать себя солидным в неполные тридцать лет, да еще имея мальчишескую фигуру. Я всегда старался выглядеть серьезнее, хотя в душе оставался таким же веселым парнем, как в студенческие годы.
Однажды прибежал посыльный из штаба тыла и передал приказ срочно выехать в воинскую часть вместе с начальником тыла. Мы приехали прямо к полевой кухне, около нее толпились солдаты и офицеры, все они были возбуждены и ругали повара. Выяснилось, что сваренную на завтрак манную кашу нельзя было есть не только из-за вкуса, а от нее на расстоянии так и несло кислятиной. Показали нам мешок с крупой, вид у крупы очень приятный, слегка кремового оттенка, чисто крупа. Взяли у солдата алюминиевую кружку, насыпали в нее крупу, заварили кипятком и убедились, что это не крупа, а что-то другое. Недалеко оказались жители, привели пожилого немца и показали ему крупу. Он, слегка улыбаясь, сообщил, что это не крупа, а авиационный клей.
Неподалеку был авиационный завод, его разбомбили, а помещение, где хранился клей, наши продовольственники приняли за продуктовый склад, и на радостях, не разобравшись, выдали "крупу" в часть. Да еще хотели большую часть найденного отправить в госпитали для питания раненых. Мне, как врачу, нужно было подтвердить, что это не крупа, что я и сделал. Каких-либо последствий не было, никто не пострадал и не отравился, о чем я заверил командира части, поэтому продовольственник отделался условным арестом на 5 суток с вычетом 50% денежного содержания.
Дошли до нас слухи, что некоторые офицеры дивизий ездили посмотреть на поверженный Берлин, были около Рейхстага, Бранденбургских ворот и многих других достопримечательностей. Мы, офицеры штаба тыла, тоже решили посмотреть на Берлин, но для этого нужно разрешение начальника тыла и командира корпуса. Для разговора с начальником тыла Трубициным офицеры штаба "делегировали" меня. Я не заметил их коварства и, не задумываясь, пошел к начальнику в кабинет. Не успел я изложить нашей просьбы, как он вскочил, начал орать, именно орать во всю колхозную глотку, махать руками, а, может, и кулаками. Многих слов я не расслышал из-за громкого крика, понял лишь смысл: "Как это можно думать о каких-то экскурсиях, когда находитесь на вражеской территории, когда на каждом шагу можно нарваться на мину, вы что, хотите сделать мне ЧП?" и. т. д., и т. п. Как ни странно, но я совершенно не испугался его крика, а спокойно уселся на стул и с безраличным видом ожидал, когда он кончит кричать. Видимо, его неожиданная бурная реакция настолько удивила меня, что я не успел ее воспринять как выговор. Подобная ситуация бывает, когда человек примет очень большую дозу вредного вещества, тогда в организме срабатывает защитная реакция, и если сразу принять меры, то можно нейтрализовать поражение организма. Наверное, у меня возник психологический шок, возникла защитная реакция, и я не воспринял его взрыв негодования. Когда я вышел из кабинета, товарищи со смехом спросили: "Ну как, теперь полностью познакомился с начальником?" Так из-за этого дурака, а иначе его назвать нельзя, мы, офицеры штаба, не побывали в Берлине. А ведь такая поездка была бы интересной и символической. Рядом с нашим коттеджем был коттедж с местными жителями. Из всех домов, прилегающих к расположению штаба корпуса, население было выселено, а в этом доме хозяева остались. Хозяйка дома, молодая, бойкая (чего нельзя сказать о других) женщина представилась нам, как "иудейка", почему-то бравируя этим. Она пригласила нас к себе, мы, несколько офицеров штаба тыла, побывали у нее в гостях несколько раз и, нужно сказать, неплохо проводили время за чашкой кофе или за бокалом виноградного вина. Разговаривать с ней и другими "членами" семьи (а, может, они вовсе не были членами семьи) я и еще двое не могли, совсем не знали немецкого языка, все разговоры вел один из нас, он был еврей и нашел с ними общий язык. Все же я хорошо усвоил одну фразу на немецком яыке: "Тринкен алле" (пьют все) .
Несмотря на незнание языка, вечера проходили в оживленной "беседе", старались объясняться на общие темы, известные и нам, и им. Мы набрались смелости и заводили разговор о немецкой культуре, упоминая немецких великих писателей, поэтов, ученых. Конечно, ни я, ни мои друзья не могли похвастаться эрудицией, но назвав Гете, Гейне или Шиллера давали понять, что знакомы с немецкой культурой, а углубляться в детали не могли, прикрываясь незнанием немецкого языка. Немцы поступали примерно так же, когда заводили речь о русской культуре, но о Пушкине, Толстом, они говорили смело. Наше знакомство было непродолжительным и не оставило значительного места в моей памяти.
Как-то обследуя коттедж, в котором мы жили с ветврачом, мы обнаружили в подвале запас вин. То были виноградные вина домашнего изготовления. На каждой бутылке стояла маленькая наклейка с указанием даты изготовления, встречались бутылки с вином, изготовленным еще в тридцатых годах. Все бутылки мы перетащили наверх и заполнили ими целый шкаф. Договорились, что будем пить вместе, эта добыча на двоих. Частенько, возвращаясь домой, я заставал ветврача "под шафе". Я же люблю выпить только в компании, но дома у нас компания не собиралась, к вину я не прикасался, и в результате винный запас постепенно исчез, зато ветврач был постоянно навеселе.
Характерной чертой в мирной жизни для управления войсками, особенно после длительных боев, это частые инспекторские поездки в войска. Нужно контролировать и помогать войскам приводить себя в порядок, привести в порядок технику и, главное, чтобы войска на радостях победы не потеряли боеспособность. В такие поездки командование включило и меня, гарнизонного врача. Я оставался в должности корпусного врача, но на меня еще возлагалась обязанность гарнизонного врача в Грайфенберге. Я тоже привел себя в порядок: пользуясь возможностью, пошил у гарнизонного портного серый габардиновый костюм военного покроя (гимнастерку и галифе). Костюм пошили удачно, я в нем выглядел как на торжественном собрании. К очередной поездке мы, офицеры штаба (генеральская свита) собрались у штаба корпуса. К штабу подъехала машина командира корпуса. Эта машина - гордость начальника автомобильной службы, он только недавно где-то "достал" ее для генерала. Машина Оппель-Олимпия, почти совершенно новенькая, блестит никелированной отделкой, ослепляя глаза, верх откидной, мотор мощный. Выходит генерал, поздоровался с нами, окинул всех внимательным взглядом, дал команду садиться в машины, а мне говорит: "Вы, доктор, садитесь в мою машину рядом с водителем, а мы с начальником штаба сядем сзади". Я в первую минуту не понял, что он обращается ко мне, но вижу, он ждет, кто-то подтолкнул меня, и я мигом влетел в машину. Ехать в такой шикарной машине было приятно. Погода стояла хорошая, теплый ветер обдувал, приятно освежая лицо. Я долго был в недоумении, да не только я, а окружающие нас офицеры тоже недоумевали, почему генерал посадил меня на свое место? Тогда я не придал этому особого значения, но после предположил, что у генерала были соображения о своей безопасности. Бои только что закончились, мы на вражеской территории, машина генеральская, рядом с водителем сидит кто-то в парадной форме, наверное, главное лицо? А вдруг найдется террорист и откроет огонь, целясь в "командира", сидящего, как правило, рядом с водителем. Может это не так, но в последующем я старался не выпячиваться в своей "парадной" форме.
Однажды, во время очередной проверки воинской части, к счастью расположенной недалеко от Грайфенберга, к месту, где стояли наши машины, подъехал небольшой трофейный фордик, и из него вылезает лейтенант медслужбы. Боже мой, кто бы мог подумать, это моя дорогая Тася. Как она нашла меня? Как она решилась отправиться так далеко, не имея командировочного предписания, на машине, не зарегистрированной и без номера. Я был рад ее видеть, но был занят и до конца проверки определил ее в медпункт полка до моего прихода. Когда я освободился и пришел за ней, она совсем не скучала, окруженная заботой медиков, сидела с ними за столом, накрытым по-праздничному и даже со стаканами, наполненными далеко не чаем, но у нее был чай, она никогда не отступает от своего антиалкогольного принципа.
Поблагодарив гостеприимных медиков, мы с Тасей пошли к машине, нам с ней нужно о многом поговорить. К сожалению, время было ограничено, а у нас накопилось много вопросов, требующих согласованных действий. Свидание было коротким, Тасе нужно было засветло возвращаться в госпиталь, да и водитель не мог долго задерживаться. Я долго не мог успокоиться, волнуясь за Тасю, и успокоился только по получении письма от нее. Кстати о машине, на которой приехала Тася. Когда я работал в медотделе танковой армии, во время перемещения хирургического госпиталя я в заброшенном сарае нашел плохо замаскированную (иначе не нашел бы) машину-фордик старого образца, но хорошо сохранившуюся. Это была малолитражка, очень миниатюрная, казалось, ее можно было везти, как тележку. Мне удалось упросить начальника колонны, перевозившего госпиталь, взять машину на буксир, а за рулем сел сам, мне наскоро объяснили, как крутить баранку и как нажимать на тормоз в нужном случае. Так "моя" машина оказалась в хирургическом госпитале, где начальником был мой приятель Саша Прокудин. Когда встал вопрос о моем переводе в другую армию, нужно было решать, что делать с машиной. После серии переговоров с начальниками, решил перевезти машину в терапевтический госпиталь, где работала Тася, и передать машину в ее распоряжение. Легко сказать, а как практически сделать? Просить водителя перевезти машину, а как ему возвращаться обратно, и опять же ему нужно иметь командировочное удостоверение, но, главное, машину без номера могут задержать на КПП и отобрать. Неожиданно был найден выход. Случилось, что в нужную сторону шли ЗИСы за боеприпасами, я опять договорился с начальником автоколонны перевезти машину, но уже не на буксире, а погрузить ее в кузов ЗИСа и тщательно закрыть брезентом, иначе ее могли отобрать на КПП. Таким образом, машина оказалась в Тасином распоряжении. Но пользоваться ею было нельзя. И вот на этой машине Тася приехала, так рисковать может только она. Машину мы больше не видели, мы просто не хотели, да и не сумели ею воспользоваться, оставили ее в госпитале.
В ходе проверок и личного общения с медперсоналом корпуса я встретил старшего врача полка, провоевавшего всю войну с самого начала до конца и ничем не отмеченного, не имеющего даже самой "маленькой" медали. Он не выражал обиды, но было видно, что огорчен. Приказа по войскам не было, но указания командования были о внимательном отношении командиров к своим подчиненным, чтобы ни один солдат не остался без награды, а тут старший врач полка случайно или с намерением выпал из поля зрения командира.Ни к командиру полка, ни к начальнику тыла я не стал обращаться, зная, что волокита затянется, полк расформируется и дела не будет. Я решил идти прямо к командиру корпуса генералу Горячеву. Я у него ни разу не был с докладом, все решалось через начальника тыла.
Генерал занимал большой, красивый особняк, обставленный богатой мебелью и различными украшениями, точно так, как бывает у старо-немецкой знати. Но я заинтересовался не богатой обстановкой, а зеленью, растущей вокруг особняка. Вдоль стены были посажены яблони, они плотно прилегали к стене в одной плоскости, ни одна веточка не вылезала наружу, все веточки как бы прилепились к стене. Все деревца строго одинаковы, напоминали трезубец. От основного ствола на одной высоте вправо и влево, под прямым углом отходят сучки, которые, в свою очередь, строго на одинаковом расстоянии, опять под прямым углом загнуты вверх, получается трезубец с геометрически правильными "зубцами". Каждый зубец - это ветка, простирающаяся кверху вдоль стены. Все деревья настолько одинаковы и симметричны, что производят впечатление искусственных. Видимо, садовник был гениальным специалистом, заставив деревья расти по строго определенной схеме, с точностью до одного сантиметра. Я шел к генералу по делу, но это чудо природы меня заинтересовало. Полюбовавшись, прошел вдоль стены и убедился, что это настоящие деревья.
К генералу я попал без задержки, адъютант тут же предложил пройти в кабинет. Изложив просьбу, я ожидал какие-либо возражения, боялся что он отошлет меня к начальнику отдела кадров или еще к кому-нибудь, но он отнесся благосклонно и подписал поданный мною наградной лист на орден Отечественной войны 2-й степени. Хорошо, что я заранее заготовил наградной лист, иначе не избежал бы волокиты.
Воспоминания прислала Elena Koudinova