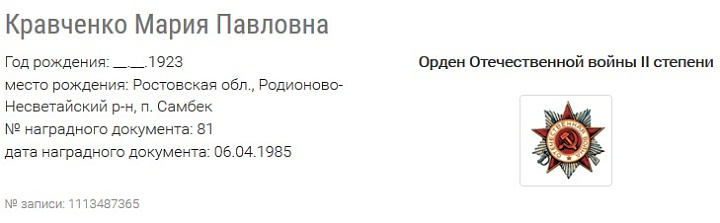Я родилась 23 февраля 1925 года. Но у меня два года рождения. Дело в том, что, когда началась Великая Отечественная война, я очень хотела уйти на фронт, просто годы не позволяли, тогда я пошла в военкомат и записалась по документам брата, т.е. прибавила себе два года. Была я на тот момент студенткой третьего курса фельдшерско-акушерского пункта г. Шахты Ростовской области. По призыву Ростовского обкома комсомола «Молодежь, все на защиту Родины!» мы решили всем курсом добровольно подать заявления в военкомат и пойти на фронт. При этом из 18 человек были призваны все, только у двоих произошли трудности. Одного мальчика не взяли по состоянию здоровья, а у меня не подходили годы, потому что я пошла в школу рано, с 6 лет. Поэтому мне и пришлось пойти на хитрость и прибавить себе годы.
- Как Вы узнали о том, что началась война?
- Как я уже говорила, я как раз была студенткой, в июне занятия уже завершились, у нас шел период сессии, поэтому я в то воскресенье, 22 июня 1941 года, была в селе. Дело в том, что я родилась в большой крестьянской семье и на выходные всегда приезжала к своим родственникам. И когда по радио было передано сообщение о том, что немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину, то я сразу все бросила и уехала в город Шахты. Там на площади собрался, наверное, весь город, в том числе и мы – студенты. Все заворожено слушали объявление о начале войны.
- Как люди на площади воспринимали информацию о начале войны, что говорили?
- Знаете, я не знаю, как передать это состояние словами, но у нас, молодежи был настолько сильный настрой сразу же идти на фронт, что он буквально ощущался в воздухе. Я совершенно уверена, что на это очень сильно влияло наше патриотическое воспитание и любовь к Родине. Вы знаете, спустя уже много лет меня стали часто приглашать в школы для проведения уроков по военно-патриотическому воспитанию. И я всегда подчеркивала тот факт, что на сегодняшний день благодаря недостаточной работе со школьниками и студентами со стороны наших властей у молодежи нет той любви к Родине, которая была у нас. Поймите, это не просто красивые слова. Так, мы, учась в школе, проходили и знали на зубок гражданскую оборону. По сути, практически каждый из нас имел такие значки как ГТО (готов к труду и обороне), ГСО (готов к санитарной обороне), ОС АВИАХИМ (общество содействия авиахимической обороне). Среди комсомольцев особо ценился значок «Ворошиловский стрелок». Так что такие курсы все проходили, и все были настроены очень решительно, в основе пропаганды лежала идея защиты Родины, она была в основе основ. Нам не нужно было больше никаких слов, все и так уже было сказано в одной фразе - «Защита Родины».
После того, когда нас призвали, никто не отменял сессию. Поэтому курсовые мы уже даже не ходили, а прямо-таки бегали сдавать из военкомата. Приходилось отпрашиваться из военкомата, к счастью, наши командиры шли на встречу в этом вопросе. Как видите, несмотря на то, что началась война, образование оставалось для всех приоритетным. В итоге, после сдачи всех экзаменов и зачетов, защиты курсовых работ, 28 июня 1941 года я была направлена первоначально в танковую бригаду, но по прибытии на место оказалось, что здесь формировались не танковые, а кавалерийские части, и я была приписана к 188-му кавалерийскому полку 66-й кавалерийской дивизии. Данная часть формировалась в г. Армавире Ростовской области. Меня определили в первый эскадрон на должность санинструктора в звании «ст. сержант медицинской службы». Причем вертели-крутили очень долго, брать или не брать, ведь я ни разу не ездила верхом на лошади. И тогда командование поставило одно принципиальное условие перед главным врачом полка, о том, что он должен заняться моей подготовкой. Дело в том, что часть уже завершила формирование и готовилась к отправке на фронт, так что врач был очень заинтересован во мне как в санинструкторе, у него их не хватало. Так ему поставили условие, что если за 24 часа он научит меня ездить верхом на лошади, то меня зачислят в часть. Как понимаете, врач с этой задачей справился
- Вы помните Ваш первый бой?
- Конечно же помню, причем очень хорошо помню. Это был конец октября 1941 года. Наш полк был уже выведен на боевые позиции, в районе Ростова, потом он стал называться «Миусский фронт». Бои начались очень тяжелые, хотя этот период борьбы с немцами не так известен в истории, как надо бы. 22 ноября 1941 года Ростов был сдан, но немедленно последовал приказ Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина: «Любыми путями возвратить Ростов!» Ведь это была дорога для немцев к нефти и Кавказу, поэтому 29 ноября 1941 Ростов был возвращен, фашисты были выбиты и понесли тяжелые потери. И вот здесь, 2 декабря в районе сел Донское и Николаевка (между Миусом и Ростовом) я получила свое первое ранение, будучи на передовой. Говорить о впечатлениях о фронте сейчас сложно, ведь тогда, на фронте, ты воспринимал все как свой долг, обязанность, где-то даже как некую работу, которую нужно выполнить во чтобы-то ни стало. По-другому не воспринималось. Ранение у меня было не самое сложное – сквозное пулевое, поэтому в медсанбате я пробыла всего недели две, после чего снова вернулась в свой полк, и до трагедии, Харьковского котла, служила там.
- Вы помните Вами первого увиденного немца?
- Конечно, это событие осталось в моей памяти на всю жизнь. Я тогда на себе испытала, насколько ненавистно относились немцы к нашему народу. И как бы не убеждали меня потом, что, дескать, вроде разные немцы были, я-то убедилась, что все они одним миром мазаны. Коль они пришли к нам и напали на нашу Родину, они в первый год были буквально заражены духом захватчиков. Теперь рассказываю по существу. Первым немцем, с которым мне пришлось столкнуться, оказался одним из раненных немцев в звании подполковника или полковника. Мне пришлось оказывать ему первую медицинскую помощь как санинструктору. У него было тяжелое ранение и перелом бедра. Наши красноармейцы положили его на бруствер, я встала на четвереньки, чтобы наложить ему шину, а в это время как раз началась бомбежка, это было 28-29 ноября 1941 года. И один из немецких самолетов спикировал настолько низко, что, когда я отвернулась, чтобы глянуть, куда мне, в случае чего, укрыться от пулеметного обстрела, меня в это время тот раненный немец, которого я перевязывала, схватил за горло и стал кричать летчику: «Хайль Гитлер!» Если бы не те два наших красноармейца, которые стояли и охраняли нас, то я не знаю, чем бы все это дело закончилось. К счастью, один из этих красноармейцев ударил немца прикладом, и его рука разжалась. Я в первое время долго не могла отойти от этого случая, а потом уже внутренне, для себя поняла, что уж если захватчики на чужой земле способны на такие действия, то нам – защитникам своей Родины нужно быть еще более самоотверженными.
- Как поступали с пленными немцами?
- То, что прошло через мои глаза – вот тому раненому офицеру была оказана медицинская помощь, и его отправили в штаб на допрос. Что с ним было дальше, я, естественно, не знаю. Что же касается простых рядовых, то я не могу сказать, что им устраивали какие-то поблажки или привилегии, но обращение было достаточно человечное и спокойное.
- У вас было личное оружие?
- Да, был пистолет. Когда я служила в кавалерийском полку, то его выдали примерно через неделю после того, как меня зачислили. А в медицинской эвакочасти оружия не было. Слава богу, применять во время войны его не пришлось, но в руках пистолет успела подержать.
- Было ли в Вашем кавалерийском полку известно о гигантских потерях в Красной армии?
- Ну, в общем-то, конечно, информация у нас была независимо от сводок. Судить о потерях мы могли непосредственно по тому, что сами видели. Кроме того, ведь я как санинструктор эскадрона должна была ежесуточно сдавать боевое донесение о потерях личного состава. Поэтому в первую очередь судили с позиций того, насколько наши ряды редели, и это было для меня очень и очень страшновато. Ведь просто представьте себе, что такое кавалерия, которую бросали, в том числе против танков. Потери были очень большими, особенно в конце 1941-го и весной 1942-го годов.
- Сохранялся ли боевой дух среди солдат в это тяжелое время, особенно когда часть несла большие потери?
- Дух сохранялся независимо от потерь. Несмотря ни на что, он оставался крепким. У всех было одно желание – отстоять свою землю и победить. Могу судить по себе, по своему внутреннему состоянию, а ведь меня в полку называли ребенком. Еще бы, мне же было всего-навсего шестнадцать лет. Но все равно, никогда дух наших бойцов не падал, и мы не доходили до панических настроений. Такого на моей памяти никогда не было. Хотя я лично держала в руках листовки, в которых говорилось о том, что сын Сталина попал в плен. Причем немцы разбрасывали листовки, где была фотография сына Сталина, а также почему-то еще и сына Молотова, хотя позже я не слышала о том, чтобы он был в плену. И везде указывалось, что они самостоятельно сдались в плен. Кроме того, были листовки «Бей жида!», «Бей политрука!». Несмотря ни на какие листовки, даже где говорилось о том, что советская балерина Уланова, которая находится в тылу, получает большие премии, а вы, мол, гниете на передовой, плохо одетые и обмундированы и накормлены, дух бойцов оставался высоким. Но хотела бы подчеркнуть, что в плане сохранения внутреннего духа солдат главным переломным моментом стала Сталинградская битва – после нее никто уже не сомневался в нашей Победе. У кого-то, как говорится, все люди разные, где-то потаенно, конечно, растерянность и оставалась, но этого никто и никогда не показывал, так что в целом дух всегда был высоким.
- Ваше личное отношение к непосредственным командирам?
- Меня окружали одни мужчины, и, конечно же, они меня боготворили. Что уж говорить, и опекали, и берегли, и ограждали от очень и очень многого. Я, в свою очередь, их очень уважала. И когда после госпиталя я снова вернулась в полк, то среди командиров и солдат было очень много радости.
- Какое отношение было к Сталину?
- Не могу сразу даже слов подобрать. Но сначала могу сказать одно, что я коммунист с 60-летним стажем и советский человек, поэтому воспринимала и воспринимаю войну через призму своих убеждений, через все то, во имя чего я сражалась, во имя чего погибали мои боевые товарищи и друзья. Некоторых устраивают мои суждения, некоторых нет, но это мое мнение. И когда было развенчание культа личности Сталина предателем и подонком Хрущевым, мой послевоенный начальник по работе, сказал, что, мол, он ведь чувствовал, что не нужно кричать «За Родину! За Сталина!». Тогда я не выдержала и ответила: «Естественно, вы не кричали, так как отсиделись в войну в Ташкенте, а я находилась на передовой, и я кричала!». Уважение к Сталину было высочайшее, да и к Жукову тоже, и вообще к командующим фронтами тоже очень трепетно относились, к высшему руководству было только самое доверительное отношение. И когда сейчас находятся горе-историки, которые пытаются доказать, что это было не так, и уважение к Сталину формировалось под страхом расстрела, то я могу с уверенностью заявить – мое личное уважение не было навязано, оно исходило из внутреннего духа, из воспитания, из миропонимания и ощущения.
- Не было ли антисоветчины, малодушия на фронте?
- Нет, но могу рассказать о случаях, с которыми сталкивалась лично. Были самострелы. Это были, конечно, единичные случаи, но это случалось даже в нашем первом эскадроне. Как правило, это были совсем юные парни, в первом же бою их настигал страх, чаще всего они боялись попасть в плен к немцам или быть убитыми в первом же бою. Самострелы быстро раскрывались, их забирали, как нам говорили, в госпиталь и что с ними было дальше, я уже не знаю.
После госпиталя самое тяжелое состояние для меня на передовой произошло весной 1942-го года, когда мы отступили к Волге. На мою долю как раз выпало очень тяжелое время. После Ростова нашу 66-ю кавалерийскую дивизию перебросили под Харьков. Сейчас я считаю, что Харьковская трагедия во многом произошла из-за нераспорядительности и даже преступных действий того же Хрущева, ведь он был членом военного совета фронта. Но тогда я была маленьким винтиком, и ничего не знала о масштабах и причинах трагедии. Вся наша дивизия оказалась в котле, кстати, мы долгое время не знали о том, что немцы нас окружили, поэтому питались всякими слухами. Кроме того, совсем недавно я прочла информацию в газете о том, что операциями, где наши войска понесли самые большие потери, стали Харьковский котел и наша Керченско-Феодосийская операция. Оттуда, из котла, я выбралась чудом, ведь меня как ребенка практически выпихнули из части, и я чудом не попала в это окружение. Как было дело: меня отправили с обозом раненных, хотя тогда я очень обиделась, и в принципе верно, ведь думала, что меня отправили в тыл только потому, что я девчонка. Причем тогда я очень болезненно это восприняла. На самом деле, как я уже узнала потом, политрук, который дал это распоряжение о моем сопровождении обоза, объяснил свое решение так: «Мы здесь все мужики, и нам так и так погибать, а она, может, даже живой выберется!». Я вышла из окружения благополучно, и только спустя несколько лет случайно узнала о том, как принималось это решение.
Сколько было раненных, никто толком не знал, я не могла и не должна была знать, что у меня в эскадроне очень большие потери. И когда командование дивизии осознало, что выхода никакого нет, впереди окружение, то была дана команда погрузить раненных на повозки и постараться вывезти их из окружения. И начальник санитарной службы полка принял решение о том, что раненных нужно срочно вывезти, а сопровождать обоз должен был фельдшер Саша Коновалов, грамотный медик, он из Ленинграда был направлен в полк. И за каких-то пять минут до отправки обоза, Саша уже приготовился его сопровождать – о том, что кольцо было уже сомкнуто, никто еще не знал, в это время в полку появился старший политрук Алборов, который спросил у врача: «Кто сопровождает обоз?». Тот отвечает: «Саша Коновалов». Тогда Алборов, под свою ответственность отменил это распоряжение, хотя и не имел права этого делать, и распорядился, чтобы с ранеными отправили Машу Цибренко, т.е. меня. А мне было сказано, что нужно держаться только сельских дорог, и ни в коем случае не выходить на главные дороги. Причем вывоз тяжелораненных проходил в глухую ночь. Я сопровождала этот обоз из 16 повозок, несмотря на то, что стояла темень, выстрелы и очереди слышались отовсюду. Как видите, осталась жива. Как я узнала об этой истории с отправкой? В 1944 году я уже находилась в другой части, и там случайно пересеклась с одним из командиров эскадрона при освобождении Павлограда в Днепропетровской области. Мы встретились с ним как со старым знакомым, как раз наши части замкнули кольцо, и он рассказал мне эту историю. Мне долгие годы не давало покоя чувство долга и признательности к политруку Алборову. Я задалась целью непременно найти его, низко ему поклониться и поблагодарить за то, что он своим решением фактически сохранил мне жизнь. Ведь если бы я осталась там, то моя судьба бы сложилась по-другому. И представьте себе, только в этом, 2011-м году мне удалось найти его трех дочерей. Он сам уже умер, к моему сожалению, мне не удалось застать его живым. Сейчас я веду переписку с его детьми, перезваниваюсь, и они мне многое рассказали из жизни отца. Оказалось, что многие из наших солдат и офицеров тогда в Харькове попали в плен, в том числе этот политрук, который был очень тяжело контужен, и, несмотря на его тяжелую контузию, его сразу же отправили на допрос. Находясь в немецком лагере, после допросов «с пристрастием», ему удалось собраться с силами и сбежать из плена. Более того, под руководством Алборова сбежали из плена 20 человек. Кстати, им очень помог наш человек, служивший при немецком лагере переводчиком. Перебравшись через фронт, всеми правдами и неправдами добравшись к своим, Алборов попал в фильтрационный лагерь. Знаете, были такие специальные советские фильтрационные лагеря для освобожденных пленных. Находясь в этом лагере, он не имел право на переписку, его родителям даже пришло извещение о том, что политрук погиб. После того, как он прошел все проверки, он попал под Сталинград, продолжил воевать и дошел до Победы. Очень героический был человек.
- Как проходило сопровождение обоза?
- Обоз был очень слабо вооружен, т.к. старались оставить больше оружия и боеприпасов оставшимся в Харькове солдатам. И когда я с обозом прошла последние немецкие позиции, то мы все вздохнули с большим облегчением. Добрались до медсанбата 58-й кавалерийской дивизии, куда я и сдала вверенных мне раненых солдат, кроме одного, который умер по дороге. Мне пришлось его хоронить, а это было нелегко, земля была мерзлая. С тех пор я старалась по возможности периодически навещать эту могилу. Спустя несколько лет она стала братской, к концу войны на том месте было захоронено еще много других солдат. После войны я много занималась патриотическим воспитанием молодежи, даже в честь 30-летия Великой Победы я была награждена медалью и почетным знаком Советского комитета ветеранов войны, и вручал мне их Герой Советского Союза Маресьев. По положению, к этим наградам представлялись люди, внесшие существенный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Я в то время жила на Камчатке, и была единственной из этого региона на награждении. Так что мне приходилось много бывать не только в школах, но и в воинских частях, часто беседовать с молодыми людьми. В итоге, на торжественном мероприятии у могилы солдата я встретила сына и трех его дочерей. Оказалось, что конюх, приписанный к эскадронной санслужбе, который меня везде сопровождал, в том числе и с обозом ехал, после войны поехал в тот район, где жил этот солдат и, передав информацию о его гибели, упомянул обо мне, и о том, что я его хоронила. Его дети давно хотели со мной встретиться, а получилось только спустя 30 лет. У меня даже фотография с того памятного вечера осталась. Я и по сегодняшний веду переписку с его сыном, который единственный из их семьи сегодня еще жив.
После Харьковского котла наша дивизия была расформирована, и я попала в 56-й головной полевой эвакоприемник (ГОПЭП). Это медицинское подразделение, которое шло за передовой во втором эшелоне. Потом меня ждал Сталинград, здесь мы стояли вместе с резервом 62-й армии, располагались на территории тракторного завода, затем нас в декабре месяце перебросили на Кавказ в состав 58-й армии. Очень долго стояли в обороне на Моздоке. После «стояния» пошли в наступление в составе этой же 58-й армии на Ставрополье, и снова меня ожидал район Ростова, потом Ворошиловоград (Луганск). Затем была Одесса, где нас посадили на теплоход и мы прибыли в Румынию, разгрузились в порту Констанца. Опять мы находились в резерве, в подчинении 41-й армии. Вскоре мы вошли в Болгарию, Румынию и Венгрию. Конец войны я застала как раз в Венгрии.

- Тяжело ли было возвращаться с войны?
- По-всякому. Но дух был необычайно высоким, ведь мы победили врага. Вот хочу Вам еще кое-что рассказать, к вопросу о патриотическом воспитании своего поколения. Это письма моего мужа, с которым я познакомилась во время войны. Дело в том, что нас вывели из Венгрии раньше его части, перебросили в Харьков, мы стояли на Холодной горе, и я демобилизовалась в октябре 1945-го года, а муж позже, в 1946-м году. Еще в сентябре 1945-го его часть не выводили из Румынии. Он был помощником начальника штаба, офицер, с высшим образованием. Пусть меня, молодую, можно было бы убедить в чем угодно и заморочить, как сейчас говорят, голову «советской пропагандой», но ведь он был состоявшимся человеком, взрослым. И в этих строчках четко видно, насколько сильная любовь была к Родине, насколько искренняя, настолько беззаветная. Он писал мне из Румынии в 1945-м: «Я нахожусь у самой родной земли, возле самого Советского Союза. Только 20 метров водной преграды отделяет меня от родной земли. Завтра в 9.00 я буду переходить этот рубеж. Там нас встретит наш родной советский народ, наше родное советское правительство, представители великой партии Ленина-Сталина». 15.09.1945 в другом письме пишет: «Письмецо пишу на маленьком привале, и мы уже на родной земле. Мы в 9.00 перешли Государственную границу СССР и нас встречали с плакатом: «Привет победителям от Родины-Матери!». У меня была кипа таких писем, многие из них сохранились и по сей день. Разве это было насаждение чуждых мыслей человеку? Это исходило из внутреннего состояния каждого человека.
А вот еще могу показать другой, дорогой своему сердцу документ. Это сохранившаяся рекомендация в партию, датированная октябрем 1944-го года. Раньше был кандидатский стаж, я карточку кандидата в члены партии получила еще в 1943-м году, выдал её мне политотдел 58-й армии. Даже во время войны был кандидатский стаж год, не месяц, не два. А за год нужно было оправдать доверие партии и тех трех человек, которые меня рекомендовали. Вот одна из рекомендаций у меня и сохранилась. Это рекомендация хирурга Каменецкого, члена партии с 1938-го года, хирурга от бога, спасшего многим людям жизни. Эта рекомендация была написана в окопе. Она для меня очень дорога.
- Какое было отношение к воинам-освободителям в отбитых у вражеских захватчиков населенных пунктах?
- Самое что ни на есть замечательное. Даже когда наши части отступали к Дону в 1942 году, то мы зачастую выживали только благодаря местному населению, т.к. обозы с продовольствием не всегда могли к нам добраться. Это было настолько искренне и к нам относились как к самым родным, дорогим людям, ведь мы боролись за правое дело. На Дону мы стояли на Николаевской переправе, чуть западнее Ростова. Мы простояли неделю в очереди, чтобы переправиться на специальном понтоне. У нас было две санитарных машины, которые были оборудованы под операционные и перевязочные. Я уже была там не одна девчонка, нас было пятеро в этом ГОПЭПЕ. Мы так и не попали на переправу, и нам пришлось оставить машины и перебираться через Дон вплавь. Оказавшись на том берегу, мы договаривались с местными жителями, которые с искренним энтузиазмом шли нам на встречу, и за ночь по несколько раз переплывали Дон, чтобы найти наши машины и постараться их как-то переправить. При этом река кипела кровью. Налеты были такие…. Немецкие самолеты кольцом заходили над Доном. Одно звено пробомбило – улетает, а следующее ему уже в хвост залетает. Понтонные мосты пока наводили, если успевали одну, две машины переправят на ту сторону. В первую очередь старались переправить орудия, «КАТЮШИ». И потом уже от Дона по Калмыкии, по Ростовской области до Сталинграда питались, мылись, стирались, сушились все за счет мирного населения. Я лично не помню ни одного случая, чтобы нас встретили с какой-то неприязнью или каким-либо способом игнорировали бы нас. Наоборот, куда бы мы не пришли, отношение к нам было самое трепетное.
- Сталкивались ли Вы на освобожденных землях со случаями мародерства, воровства, убийств?
- Нет. Такого не было нигде, кроме Западной Украины, но это уже было после войны. Для меня это оказалась вторая война. Я тогда уже вышла замуж. А так на всей территории Украины я ни об одном таком случае не слышала и сама лично не сталкивалась.
Я демобилизовалась в октябре 1945, муж в марте 1946. Мой муж еще в 1940-ом году находился в Западной Украине, его война там застала, в теперешнем Ивано-Франковске, а тогда это был Станислав, как его называли западенцы. Он после окончания института был туда направлен. И после войны ему поставили условие, что могут направить только в Западную Украину. И мы попали в Дрогобычский район, в город Самбор, теперешняя Львовская область. Мой муж туда попал в апреле, а я где-то в мае-июне добралась туда, пока прошла всю пропускную систему. Самбор на тот момент называли Бандеровской столицей. Этот город находился на границе Австрии и Польши и славился самыми насыщенными и агрессивными бандами УПА. И мы там жили с 1946 по 1952 год. У меня там родились оба сына, и для меня это был самый страшный период в моей жизни. Если во время войны я очень переживала, мне зачастую было страшно, но я четко знала, кто мой враг и кого я должна остерегаться, и знала, как себя вести, то на западной Украине я не знала кто именно мой враг. Ложась спать, никто не был уверен, проснется ли он завтра и что будет с его родными и близкими. Не было ни одного дня, чтобы не было ни нападений, ни убийств. Сейчас они доказывают с пеной у рта, что они боролись за «самостийнисть», но я-то все четко помню, это были самые настоящие банды. И когда они сегодня позволяют себе прогуливаться по улицам городов Украины в форме и гитлеровских побрякушках, мне становится плохо, вплоть до того, что приходится вызывать скорую. Я не считаю их побрякушки на груди медалями. Кто их мог наградить? Откуда они у них взялись? Наше, советское правительство ни за что бы их не наградило, своего правительства у них, как такового, не было, т.к. у банды не может быть правительства, а может быть только главарь.
Когда президент Украины Виктор Ющенко дал звание «Герой Украины» Бандере и Шухевичу, я написала ему письмо с протестом и в конверт положила все свои боевые ордена. Причем я написала, что не могу принять его решения: «Так как я считаю неприемлемым приравнивать нечеловеческое, жестокое отношение последователей Бандеры к советским орденам, орденам, которые я, как и многие другие, получила за то, что в окопах скиталась, которые являются в первую очередь знаком отличия воинской доблести, славы, смелости, стойкости духа». И на этом вся эта история заглохла. О моем поступке были статьи в газетах. Я знаю, что еще несколько ветеранов поддержали мой порыв и тоже вернули свои ордена. Наш народ, к сожалению еще не настолько дружен и сплочен, чтобы вс6е как один ответили на такие бессовестные действия.
Надо отметить, что кладбище в Самборе за те 6 лет пока мы там жили, стало в 2-3 раза больше, чем за те сотни лет, сколько там вообще жили люди. Я до сих пор не понимаю зачем, если вы ведете борьбу за «самостийну Украину», убивать мирное население? А мирное население страдало больше всего. На моих глазах, как сейчас помню, был зверски убит председатель горисполкома Кульчинский. Он был коренной житель Самбора из мирного населения и проработал всего два месяца. Ровным счетом ничего плохого не сделал для жителей города, мы жили в одном доме, но входы были разные. На моих глазах была расстреляна женщина-врач, у которой на руках был малолетний ребенок 2 года. Они (бандеровцы) приехали и пытались забрать ее куда-то. Они ведь имели свои схроны, где размещались собственные больницы, а эта врач категорически отказалась им помогать. Тогда они в упор, на глазах у мужа и старшей дочери, расстреляли эту бедную женщину. Я могу приводить тысячи примеров, в том числе и гибель начальника милиции, который проработал полгода и нашел много настоящих преступников, обворовывающих горожан. Такова же была благодарность. Я не знаю, что еще говорить, просто так спокойно даже разговаривать не могу. Учительницу одну сами хоронили, потому что она по-соседству жила. Моего мужа задерживали два раза, точнее, вызывали в органы КГБ и объясняли, что нужно кровать переставить, потому что у нас были большие окна, через которые нас могли застрелить в любую минуту. Оказывается, сотрудники КГБ на тот момент задержали одного из бандеровцев, у которого обнаружили список, в котором вторым номером на ликвидацию стоял мой муж. И, зачастую, план в том и заключался, чтобы либо выстрелить через окно, либо кинуть гранату.
В 1947 году в городе Самбор наши сотрудники КГБ узнали, что в Самбор на явочную квартиру идет специально посланный гонец с рождественским поздравлением от самого Бандеры. А наши органы за этим очень аккуратно следили. Но, как всегда у нас бывает, не все учли. Они проводили четырех человек на эту явочную квартиру, но не учли, что на этой явочной квартире оказались и пулеметы, и другое оружие. А эти четверо шли без оружия. И когда сотрудники наших органов предложили им сдаться, то оттуда и гранаты полетели, и раздались пулеметные очереди. В итоге шестеро сотрудников КГБ были ранены, одного из них мне пришлось тащить и оказывать первую медицинскую помощь, потому что он истекал кровью. Такова была послевоенная жизнь в Западной Украине.
В Борисполе стоял гарнизон, я работала в райкоме комсомола, и нас в 1949-м году посылали в организованные артели и колхозы на заготовку хлеба. Например, если прошла уборка, то зерно подвергалось большой опасности. Если его оставить в селе на ночь, обязательно забирали бандеровцы, либо просто сжигали, если не могли унести. Поэтому мы как активисты старались сразу же после уборки прибыть, поскольку зернохранилищ не было. Команды от горкома и горисполкома во главе с членами партии старались вывезти все возможное зерно. А поскольку мест хранения остро не хватало, то мы свозили все в город Ивано-Франковск на центральную улицу, дорога на которой была более плотно асфальтирована, чем в других населенных пунктах, расположенных поблизости. Зерно привозилось и высыпалось прямо на улице и оставалось до просушки. Для меня те годы были очень тяжелые, там я потеряла одного своего ребенка, но мне не хотелось бы об этом говорить.
- Вы поддерживали связь с родителями?
- На фронте весь денежный аттестат я высылала родителям. Пусть он был небольшой, но в тылу каждый рубль чего-то да стоил. У нас в селе была даже небольшая оккупация. А так как в нашей семье в армию призвали меня, двух братьев и двух мужей моих сестер ситуация дома была не легкой. С фронта вернулись только я и один муж сестры. Братья погибли, папа, кстати, тоже погиб. Он был назначен старшим по обозу, и его отправили сопровождать колхозный скот, так как он числился в колхозе ветеринаром, хотя нигде не учился и был самоучкой. Он как раз эвакуировал скот из Крыма, когда немецкие самолеты догнали его обоз около Керчи, и здесь отец получил тяжелое ранение во время сильной бомбежки. В общем, его привезли домой, и на второй день он умер. А так с младшим братом и мамой я на войне переписывалась, почта, надо отдать должное, четко работала, как говорится, несмотря на военное положение. О судьбе одного брата мы очень долго ничего не знали. Уже умерла наша мама, жена брата, даже его дочь, а брат все время числился пропавшим без вести. И даже когда в нашем селе ставили обелиск с указанием фамилий погибших из этого села, то там не было имени брата. Его не вносили в этот список потому, что у мамы и его жены не было документов, что он погиб. Он был призван на второй день войны, 23 июня 1941 года, из нашего села забрали 50 человек. Кстати, из 50 с фронта вернулись только трое. И только в прошлом году я узнала, благодаря моему старшему сыну, который сейчас живет в Москве, что сохранился документ мая 1942 года в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, расположенном в г. Подольске. Я вам покажу его сейчас. Тут стоят подписи руководства 404-й стрелковой дивизии, несмотря на сложности военного времени, всех людей скрупулезно переписывали. Это приказ с приложением на 11 листах. Надо отметить, что из 435 человек, указанных в приложениях - 398 человек считаются пропавшими без вести. И дальше тут идет перечисление, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, воинского звания, места призыва и дат и причин выбытия из рядов красной армии. И в этом списке я с помощью своего сына, нашла фамилию своего брата Дмитрия Павловича Цибренко, и по всему этому мне удалось узнать его судьбу. Он, вероятно, погиб в Крыму. Кстати, так я нашла еще троих родственников для своих знакомых ветеранов. В 2008 году мы сделали запрос от Комоедова, депутата Государственной Думы РФ, и только тогда нам ответили более подробно. После этого я объездила весь Крым – Кировский, Феодосийский районы, и, наконец, я нашла ту могилу, где был похоронен мой брат. Феодосийский городской военкомат, а также Приморский поселковый совет подтвердили, что в этой могиле захоронен мой брат и еще три человека из списка. Позже их фамилии внесли на мемориальную табличку, которая и по сей день висит на памятном монументе этой братской могилы. Для этого мне, конечно, пришлось долго оббивать пороги кабинетов наших властей. Особо мне было приятно, что на открытии этого монумента присутствовали представители близлежащей воинской части военно-морских сил.
- Как кормили на фронте?
- Я всегда говорю, что очень разделяю трагедию и тяжесть людей, которые трудились на фабриках, заводах и я уверена, что им было намного тяжелее в этом отношении, потому что они жили по принципу «Все для фронта». Мы же в армии худо-бедно, но всегда четко знали, что хотя бы раз в сутки, но нас покормят. А в целом кормили достаточно хорошо и мы, во всяком случае, не страдали. Единственно, были сложности, когда мы с Северного Кавказа пошли на Тамань и попали в плавни, то там было несколько сложней, потому что зачастую не было подвоза продуктов и продукты нам доставляли на «кукурузнике». Бывало, что и на сухих пайках сидели.
- А что входило в сухой паек?
- В сухой паек входили в основном консервы и пачки концентратов. Были такие специальные концентраты – пшенные, гречневые. Сахар обязательно давали. Вот, например, мне, да и многим другим женщинам, в тех частях, где я служила, поскольку я не курила, то вместо табака выдавали двойную норму сахара.
- Были ли у вас на фронте какие-либо приметы, предчувствия?
- Я вам могу сказать, что в душе каждый имеет свои приметы и у всех они разные. Вот у меня был один случай, когда мы стояли на Миусе, во время обстрела я и один фельдшер прятались за стеной дома, который нам был выделен местными жителями для раненых. Мы с ним прислонились к стенке, бомбежка была страшная. У меня была привычка – я скрещивала три пальца (большой, указательный и средний). Я осталась жива, а этому фельдшеру просто полностью снесло голову. Две стены этого дома обвалились, а у нас внутри было около 40 раненых, из которых никто не пострадал, что самое интересное. Вот и не знаю, примета или привычка и, вообще, каким чудом я сама спаслась. А вообще, не знаю как у мужчин, а у нас, у девушек, были приметы, когда менять одежду, белье.
- Бывали ли случай неуставных взаимоотношений?
- Нет. Очень негативно сейчас вся эта ситуация показывается в наших современных сериалах и фильмах. Сегодня столько говорят о штрафных батальонах. Да, они были, но я никогда не встречалась с тем, что показывают в фильмах. Например, то, как показали армию в фильме «9 рота» - это просто позор. У нас взаимоотношения были самые нормальные, рукоприкладства за все время войны я ни разу не видела, вот матерные выражения могли быть, если кто-то заслужил.
- За ранение давали привилегии?
- Мой муж ушел из жизни 11 лет назад, ему ампутировали обе ноги, и ранение сказалось, и жизнь. И когда он лежал в больнице Семашко, его оперировал известнейший крымский хирург Казарян, который, как я с большим сожалением недавно узнала, также ушел из жизни. Мой муж перенес эту страшную операцию уже будучи в 80-летнем возрасте. Через две недели приглашает меня этот Казарян в больницу и говорит, что выписывает моего мужа. Я ему единственное что сказала: «Знаете, о войне я знаю не понаслышке, она прошла у меня перед глазами. И если бы хоть один хирург раненному во время войны через две недели сказал, что мы тебя выписываем после ампутации, кроме пули, он бы ничего не заслужил». Если у нас на фронте был инвалид, который перенес тяжелое ранение или операцию, то мы в обязательном порядке старались списаться с его родственниками, чтобы за раненным кто-то приехал или, наоборот, чтобы инвалида ждали на месте, дома. Ведь человек с ампутированной ногой или рукой – это была для нас большая ответственность, и мы всегда оберегали их.
- Что помогало выжить на фронте?
- Главное, это любовь к Родине. Пусть кто хочет и что хочет говорит, но самым главным стимулом на передовой было чувство любви к Родине. Боль за все случившееся, что немцы вот так на нас напали, и мы вынуждены были отступать, оставлять свою землю – и, естественно, надежда на Победу грела каждого. У меня лично другого больше ничего не было.
- Самоволка случалась?
- Конечно, были разные случаи. После ранения, когда я выписалась, у нас был сформирован маршевый эскадрон во главе с командиром. И мы должны были проследовать в полк. Я узнала о том, что мы будем проходить в 20 километрах от моего села, где живут родители. Я буквально на коленях упрашивала коновода, который ухаживал за моей лошадью, самовольно уехать вперед, чтобы хоть какой-то час побывать дома, повидать родных, но он на это не согласился. Тогда я обратилась к командиру этого маршевого эскадрона и попросила, пока эскадрон стал на ночевку, выехать вперед и утром нагнать эскадрон. Командир меня отпустил, и в четыре часа утра я уже была дома. Побыла там часов до восьми, а это был январь месяц 1942 года, и отправилась туда, где маршем проходил эскадрон. А так конечно со стороны офицеров, да и некоторых солдат вольность происходила… ну, сами понимаете, молодость оставалась молодостью.
- Как наказывали попавшихся на самовольной отлучке из расположения?
- В принципе ничего, кроме гауптвахты. «Губа», конечно, гарантированно, но никаких более сильных наказаний не было.
- Сталкивались ли с загранотрядами?
- Нет, я лично никогда с загранотрядами не сталкивалась. Ни под Сталинградом, ни на Кавказе, даже когда в 1942 году, когда отступали, я не видела таких отрядов.
- Какое было отношение к особистам?
- Особисты были необходимы. Понимаете, на тот момент с их стороны очень сильно контролировался боевой дух и настроение среди солдат. У меня был один солдат, который явно разыгрывал симуляцию в полном смысле этого слова, вот им наш особист занимался. А если не было оснований, то они просто делали свою работу, в наши дела не лезли.
- Какие ранения были самыми частыми?
- В 1941-м и 1942-м году основным и самым страшным типом ранений, независимо от того, что сейчас пишут, это были осколочные ранения от бомбежек и артиллерийского огня. Нас очень часто бомбила авиация. А уже к концу войны и поток раненых был намного меньше, чем в те годы.
- Чем обрабатывали раны?
- Обрабатывали таким образом, что ни у кого и никогда, в том числе и во время моего ранения, не было мысли, что это фиктивное лекарство, о которых сейчас столько пишут. Это были мазь Вишневского, мазь Попова, пакеты первой медицинской помощи и дезинфицирующие вещества. Получали мы лекарства очень четко, и в большом количестве, у меня всегда была сумка, набитая лекарственными препаратами. Недостатка я никогда не ощущала.
- Со вшами как боролись?
- Особенно мне врезалось в память, что очень заедали вши в Чечне. Но должна отметить, что, начиная от полка, мы имели дезинфицирующие камеры. И даже я была в такой камере после первого ранения. А когда я служила в головном полевом эвакоприемнике, раненых раздевали и сразу все обмундирование туда клали, в такую камеру. А вшей у нас на передовой было столько, что приходилось сгребать с себя. Опять-таки, смотрите, повального заболевания сыпного или брюшного тифов как таковых у нас не было. А вот когда пленили армию Паулюса под Сталинградом, оказалось, что немцы очень страдали от тифа, у них было очень много больных. Когда нас переплавляли на Северный Кавказ, то перед этим мы в течение месяца были отправлены на борьбу с сыпным тифом среди военнопленных. Там были организованы специальные палатки, где нас размещали, и у них было очень много больных. А у нас таких массовых случаев не наблюдалось. Кстати, я свое первое взыскание получила за сыпной тиф. Дело в том, что информация о таких заболеваниях должна была идти шифровкой. А у меня получилось так, что я раз в сутки должна была заходить к начальнику санитарной службы полка и докладывать о том, есть ли случаи инфекционных заболеваний. И вот раз я зашла, а там присутствовал представитель сануправления армии. Я же зашла и по-простому сказала, мол, в моем эскадроне случаев сыпного тифа нет, а по правилам должна была отрапортовать так: «В моей части нет случаев формы 44!» Получила взыскание, он мне погрозил гауптвахтой. Правда, в итоге не отправил, но я, конечно же, испугалась.
- Скажите, пожалуйста, существовали ли в эвакопункте палаты для безнадежно раненых?
- Нет, но для тяжелораненных существовали отдельные палаты. И вот когда я лежала с первым ранением, рядом со мной лежала еще одна девочка. Там я впервые узнала, что самыми тяжелыми в госпитале считались либо ранения в череп, либо в брюшную полость. Они всегда лежали отдельно.
- Как осуществлялась охрана эвакопункта?
- Никак. У нас никогда не было никакой охраны.
- Ожоги как лечили?
- Как положено. В основном мазью Вишневского. Но с ожогами как таковыми я редко сталкивалась, ведь ожоги чаще всего случались в танковых войсках, во время тяжелых битв, таких, как Курская дуга, в которой наш эвакопункт не принимал участия. А в кавалерии случаи ожогов были единичны.
- Что входило в сумку санинструктора?
- В основном перевязочные пакеты первой необходимости. Также лангеты на случай перелома, бинты, йод. В принципе все.
- Были ли случаи, когда бинты употреблялись повторно?
- Да, но в таком случае они кипятились и проходили специальную дезинфекцию. Так что инфекция была исключена.
- Основные причины смертности в госпиталях?
- В основном это гангрена. Если вовремя не оказана помощь, и она развилась, то раненого было очень трудно спасти. Также были страшными ранения брюшной полости. Здесь опасность заключалась во внутреннем кровотечении, ведь если не вовремя оказывалась помощь, то пациент мог умереть. В основном в таких ранениях и заключалась главная опасность для наших солдат и командиров. Но все-таки самой опасной была гангрена.
- Какими лошадьми вы пользовались?
- К стыду своему, я не люблю кошек и собак, но обожаю лошадей. Если бы позволяли размеры, я бы даже у себя в квартире держала лошадь. Самое понимающее человека животное. Может быть, я находилась во время войны в стрессовом состоянии, но лошадь понимала меня по первому взгляду. И лошади меня не только спасали, но и согревали. Это страшно даже вспоминать, как было холодно, и согревалась только тем, что обнимала лошадей. Они у нас всякие были, но поставляли боеспособных лошадей, а не хромых кляч, это точно.
- Тачанки использовались?
- Очень мало. К примеру, командир полка меня первое время держал в обозе на тачанке, не давал согласие на приписывание. И говорил врачу: «Я же ей не буду отдельную тачанку выписывать, если научишь ее ездить верхом, то заберем». А так, по-моему, только пулеметный взвод имел тачанки, точнее, не тачанки, а брички.
- Была ли организована ветеринарная служба?
- В дивизии и в каждом полку были ветврачи в обязательном порядке.
- Откуда чаще всего поступали лошади?
- Даже не могу сказать, но к нам в полк отправляли очень красивых и холеных лошадей. Мне было их очень жалко, потому что многие из них погибали на войне. Потери среди лошадей были даже еще больше, чем среди красноармейцев.
- Какие возраста преимущественно служили в кавалерии?
- В эскадроне у меня был коновод, я его считала стариком. А потом оказалось, что ему всего-навсего 39 лет. Дело в том, что корпус, в котором я служила, состоял в основном из донских казаков. Большинство ребят было с усами. Это сейчас молодежь бреет верхнюю губу, а тогда считалось шиком, особенно среди казаков, носить усы. И специально волосы брили. Во всяком случае, в большинстве случаев возраст определить было сложно. Первоначально полк был сформирован на базе Новочеркасского кавалерийского училища. Так что стариков не было.
- Как кормили лошадей?
- Очень хорошо. Даже в первую очередь подумаешь о лошади, чем ее накормить, а потом уже о себе. А уж сахаром, так обязательно делилась с лошадью.
- Какой самый протяженный марш на лошадях Вам довелось пройти?
- Когда нас из Армавира перебрасывали под Ростов, мы сделали всего два привала на 15-20 минут. Есть такая команда в кавалерии: «Спешиться. До ветру!» Так что мы проехали 80 километров только с двумя остановками. И когда я первый раз прибыла на место назначения, то я встала на ноги и сразу упала. Не могла удержаться на ногах.
- Что делали в случае нехватки лошадей?
- Конная часть тут же пополнялась. Когда проходили маршем через села или хутора, забирали в колхозах лошадей, да и свой запас был. Конечно, местное население воспринимало реквизицию лошадей неоднозначно, но все-таки прямого сопротивления не было. И если отставала кухня, то в селах устраивали кормежки, расквартировывали по домам. Примерно по 10 человек на один дом.
- Если сравнить потери в пехоте и в кавалерии, где больше?
- В кавалерии было больше, мы же всегда находились на острие наступления. И со стороны солдат, и со стороны лошадей. Приходилось по трупам шагать.
- Где находились лошади?
- Обязательно выбиралась позиция для лошадей – если косогор, то лошади внизу.
- Отрывались ли окопы для лошадей?
- Для солдат обязательно. А так лошадей уводил специальный человек в укрытие, примерно по 5-10 лошадей на коновода.
Интервью и лит. обработка: А. Гарькавец