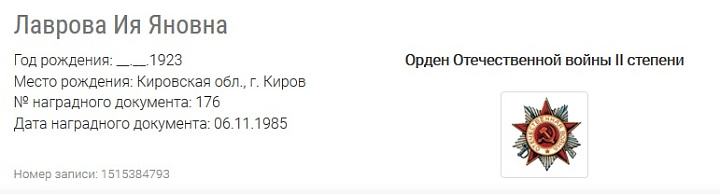Я Лаврова (Иванчук) Ия Яновна. Дед по отцу украинец, мама русская, бабка по отцу полька, вот почему у меня польское отчество. Крестили меня в православии, имя в переводе с греческого значит- фиалка. Родилась я в 1923 году в городе Вятке - нынешний Киров. Был у меня брат, но он умер в 1953 году. Мой отец - Иванчук Ян Харитонович был крупным инженером строителем, мама - Валентина Михайловна работала преподавателем. Когда мне было 6 или 7 лет родители развелись. Вскоре мама снова вышла замуж. Отчем был инженером землеустроителем, геодезистом. Он выполнял разные государственные задания, и его наркомат направлял туда-сюда, поэтому где мы только не жили. Подобно детям военнослужащих, я училась во многих школах. Десятый класс окончила в Курске. В то время в воздухе носились разговоры о войне, на комсомольских собраниях об этом никто ничего не говорил, это обсуждалось среди взрослых людей, прошедших хорошую жизненную школу. Знаете, мы были не такими, как современная молодёжь, были склонны к детским таким размышлениям, некоторые девчонки ещё в куклы играли. У меня у самой куклы были в этом возрасте, я в них не играла, а только обшивала, красивые шила наряды, шляпы сооружала. О чём говорить - сейчас совершенно другие дети, они более развиты чем мы, одно только телевидение и интернет им всё выложит. Мы же ничего этого не видели и не знали. Родители тоже с нами не носились, они очень много работали. В основном меня воспитывала бабушка. Она у нас была очень строгая - бабушка сказала и бабушкино слово- закон.
Мой муж - Лавров Николай Петрович в войну служил хирургом на Ленинградском фронте. В 1943 году мы поженились и уже воевали вместе в одной дивизии. После войны он занялся нейрохирургией. Не преувеличивая скажу - он был первоклассным специалистом в хирургии и нейрохирургии. Он даже говорил: «Я в грудной клетке и животе другого человека - как дома». Но о нейрохирургии он такого не утверждал, говорил: «Мозг это такое дело, туда войдёшь и не знаешь, выйдешь ли».
Не люблю давать интервью. В одну из годовщин, меня попросили выступить на могиле нашего владыченьки митрополита Иоанна. Ко мне подходят из нашего питерского телевидения и просят сказать несколько слов, я согласилась, и там выступала не только я. К следующей годовщине был создан целый фильм, показанный на большом экране, в кинотеатре «Свет». И то что я говорила - всё искажено. Я употребляла эпитет - «Великий Пастырь, Великий богослов» и закончила даже тем, что он и великий писатель, но этого пока не оценили, а придёт время когда и это поймут, потому, что каждое слово написанное им доходит до сердца и души. Ну, в общем, в таком духе, он у меня всё великий был - великий патриот. (смеётся). Эпитет всё время там звучал. И вот нигде это слово не прозвучало, что великий, и даже целые фразы были вычеркнуты. И сложилось впечатление, что какой-то там сельский батюшка, ничего не значащий. Представляете, вот такая подлость.
Я очень хотела стать искусствоведом. Поступила в нашу Художественную Академию имени Репина, на факультет теории истории искусства. Туда был очень большой конкурс, но у меня были поклонники. Два товарища постарше меня, они уже окончили и один даже работал окончив два факультета - архитектурный и искусствоведческий, на двух факультетах парень учился, очень талантливый. Они оба за мной ухаживали, всё ждали кого же я выберу. А я на них смотрела, как на школьных товарищей, всё посмеивалась. Они меня очень хорошо подготовили, потому что там кроме общих экзаменов было специальное собеседование по теории истории искусства и по истории архитектуры Ленинграда. Я была очень хорошо подготовлена и прошла по конкурсу. Тут война, учиться мне практически не пришлось, только начала, и война. 21-го июня факультет, на котором учились мои знакомые сдал экзамен, и должен был получить дипломы. Вечером мы пошли гулять по городу: по набережным, по Дворцовой площади, тогда и школьники гуляли. День был тёплый, гуляли, пели, веселились, кто-то с гитарой там… Такое настроение было мирное, весёлое, мажорное. Разошлись поздно, поэтому и проснулась я поздно, вдруг слышу по радио речь Молотова. Сразу вскочила, поняла, что ой-ой-ой, какая же гроза нагрянула. Так страшно стало, не страшно, а тревожно как-то. И вы знаете, какой патриотизм был среди молодёжи, я сразу решила, что надо на фронт. Как же так, все воюют, борются за Родину, какая тут учёба.
Я и мои две подруги - Муся Чехова и Люба Васильева решили, что мы на фронт и никуда больше. Из Ленинграда решили не эвакуироваться. Академия и институт имени Репина уехали в Самарканд и там некоторые факультеты продолжали учится, а мы пошли на фронт. Нас не брали, говорили: «Девчонки, кому вы там нужны, вы же ничего не умеете, да и вы ещё малы, подрастите, до вас очередь может и дойдёт, а может и война кончится». И нас не брали, и знаете, мы такие юные нашли выход. Мы втроём пошли на курсы медсестёр. Это РОККовские курсы медсестёр. (РОКК- Росийское Общество Красного Креста) Нас, без двух недель пол года учили, и второго декабря 1941 года мы получили направления, вот тогда нам уже никто не говорил- «вы не нужны, вам там делать нечего». Мы попросили и так сложилось, что втроём попали в одну часть, в сотый медсанбат 189-й стрелковой дивизии, ещё раньше это была Восьмая Дивизия Народного Ополчения. Потом она получила звание Краснознамённой и Кингисеппской. А в то время дивизия держала оборону на Пулковских высотах. И мы так втроём и воевали. Мы были девчонками грамотными и поэтому очень быстро осваивали весь медицинский материал. У нас в медсанбате были очень хорошие хирурги, тогда ещё воевало много старых хирургов, опытных. И нас так научили, что я до сих пор, когда вижу как работают современные медсёстры, внутри просто «переворачивает». Мы на фронте строго соблюдали стерильность, антисептику, всё это мы знали. Мы, как операционные сёстры, даже рецепты на медикаменты, которые требовались, выписывали на латыни. Сейчас кто так делает? Так нас обучили и мы активно помогали, на маленьких операциях приходилось ассистировать, потому что не хватало хирургов во время наступления. Конечно сразу операционными сёстрами назначить невозможно, это очень ответственная работа, надо ещё практику приобрести - поучиться практически. В начале мы работали в шоковой палате, где нужно было делать очень много уколов и других срочных процедур. Когда мы уже чему-то научились, нас перевели в послеоперационную палату. В послеоперационной палате нужно было уметь переливать кровь, хотя это считалось очень серьёзной процедурой, но это делали не только врачи, но и хирургические сёстры. Стерильность мы соблюдали жестко, очень жестко, у нас такие преподаватели были, что научили нас правильно работать. И только потом нас перевели в операционную, потому, что мы научились переливать кровь, изучили операционные инструменты, умели выписывать медикаменты, и так учились, учились. Даже когда не хватало ассистентов, мы на каких-то несложных операциях ассистировали хирургу. Я думаю в общей сложности нас допустили к операционному столу, через пол года или немного раньше, операционных сестёр не хватало. Штаты может быть и были укомплектованы, но всё равно не хватало, потому что если много поступало раненых развёртывали дополнительные палатки и операционные столы. С хирургами тоже иногда было трудно. А когда наступало затишье, всё равно была работа, нужно было заготавливать операционные материалы, если не хватало перевязочного материала, то его стирали, но стирали не сёстры, а санитарки. Сёстрам не очень-то разрешалось - важна была стерильность рук. Удивительно, хотя столько требовалось перевязочного материала белья для раненых, приходилось часто перестилать, менять бельё и в основном этим более или менее были обеспечены. Хуже было с электричеством, когда сломался наш движок обеспечивавший нас автономным электричеством, стали пользоваться свечами. Свечи быстро сгорают, когда оперируют сутками, то сколько их надо. Свечи кончились, а раненые поступают, стали оперировать при коптилках. Наши хирурги были такие вежливые, это же старый персонал - воспитанный, но как же они ругались - не дышите! Не кашляйте! Не чихайте, гаснут коптилки! Что значит - гаснет коптилка, когда сосуд ещё не пережат и фонтанирует кровь. Несколько дней мы так оперировали, но потом привезли новый движок и появилось электричество. Вот в таких условиях работали, а раненых всё везут и везут, другого грузят - он ещё жив, а привозят он уже мёртвый. В доме, где была операционная, таких складывали при входе, в чулане, где раньше у хозяев хранились дрова. И ночью встаёшь, тебе надо в туалет выйти, и вот идёшь, особенно при свете луны, покойники лежат штабелем и ноги их сверкают при свете луны, так страшно. Кто-то может и не боялся, а мне страшно было. Ещё, где была сортировка, носилки ставили на пол и сортировали раненых, кого в первую очередь в операционную, кто подождёт, а кому помощь уже не нужна. Тут же отгорожена комнатушка, где также на полу можно было чуть-чуть поспать. Ночью, если надо выйти, то вот так в темноте выползаешь, и в поисках прохода ощупываешь этих покойников лежащих на носилках.
В первую блокадную зиму на фронте было очень тяжело, не хватало обмундирования, кормили Бог знает как, но всё-таки чуть-чуть лучше чем гражданских, а так всё конечно было очень скудно. Постоянно шли бои местного значения, помню всё время мы брали высотку 15. Столько людей положили за эту высотку. Оттуда сильно обстреливали город и нужно было немцев с неё выбить. Очень хорошо помню, как эту высотку брали и везли к нам столько раненых. Ой. (произносит со вздохом) А раненые то всё истощенные, на них посмотришь и думаешь - Боже мой. Один парень был такой истощенный, его помню ранило в бедро. Я спрашиваю: «Как же ты шел в атаку, как тебя ранило?» Он говорит: «Да вот шел бой, мы бежали, я конечно бежать не мог, еле шагал и волочил винтовку за собой держа за мушку». Представляете, какая была армия. Высотку эту не взяли, но боролись за неё. То отвоёвывали какой-то «аппендицит», выступавший на территорию в глубину немцев, который надо было обязательно отвоевать, этот кусочек имел по-видимому какое-то стратегическое значение. Бои местного значения всё время шли, поэтому раненых везли и везли и везли... Мы располагались в районе Средней Рогатки, в ветхих домиках, жители которых были эвакуированы, и вы знаете нас там так обстреливали минами, что наши домики дрожали. Раненый человек очень боится звука падающего снаряда, так они у нас соскакивали с операционного стола и пытались убежать, даже приходилось привязывать. Им почему то казалось, что у нас страшней чем непосредственно на передовой. Они говорили - «Там хоть пригнёшься или на дно окопа ляжешь, а тут лежишь голый. Лучше бы сразу на передовую отправили помирать, чем тут у вас лежать». Были и самострелы, их судили, заседал трибунал. Однажды я сама присутствовала на заседании трибунала, у прокурора такой тяжелый взгляд был, смотрел исподлобья. Приговаривали к расстрелу, но кого-как, там разбирались конечно. Мы знали командиров полков, батальонов и рот и других соединений. Если их не тяжело ранило - оперировали и быстро выписывали, и мы сёстры иногда ходили их перевязывать, контакт был. И я должна сказать, что никогда ни от кого не слышала каких-то сомнений в том что мы победим, наоборот. Я сама даже не представляла, что мы не победим, хотя казалось бы вот, немцы уже прорывались к Кировскому заводу, в Стрельно вышли к кольцу городского трамвая, враг в городе. Хотя я жила в умирающем городе, видно было, что народ угасает, трупы на улице тем не менее, у меня никаких сомнений не было. После войны мы общались, нас ещё много было и вспоминали, и все говорили только об одном - надо же, мы ведь не сомневались что победим. До сих пор учёные головы ломают как так, почему Ленинград выстоял, а я считаю - выстоял по тому что Господь спас. Вот не дал Господь, не попустил (сдачи города). Правда я после войны к такому выводу пришла, даже не сразу после войны, уже много лет прошло, вдруг мне пришло в голову, что это же город святого Петра, вот наверное, святой Пётр помолился Господу: «Господи спаси». У меня семья была православная. Бабушка, дедушка, были верующие, в доме висели иконы, справляли основные православные праздники. В раннем детстве меня водили в храм, но не часто. Дома меня звали Ирой, хотя крещёная я Ией. И мне бабушка, в письмах, писала - Ирочка ты молись святому Николаю Чудотворцу. Даже в Ленинград на фронт она мне это писала. Но я не могу сказать, что тогда была такой уж верующей. Но сказано, что каждая душа человека – христианка. Вот в душе всё же жила у меня вера. Знаете, когда обстрел начинался так все начинали говорить: «Господи помоги». Уже многие становились верующими. Разорвался снаряд рядом, тебя не достало, а следующий не знаешь, может в тебя пойдёт. Люди сразу вспоминали и о Господе, и о маме. Некоторые только так матерились, а потом об этом забывали начисто, и Боженьку вспоминали. Кто-то стал очень верующим, особенно кто действительно умирал на фронте - да выжил, или вот тут должен был погибнуть, но остался жив, такие случаи были. И я попадала в такую ситуацию, когда мы сидели и не знали, в следующий момент достанет нас или нет, потому что , нас так обстреливали, в день рождения Гитлера, под Нарвой. Зимой 1944 года мы шли, шли, а под Нарвой немцы нас остановили и мы засели в оборону. Недалеко от нас расположились «катюши» и артиллеристы. Эти ребята сильные, быстро вырыли себе землянки, а мы в палатках. И вот двадцатого апреля немцы нам такое устроили, такой «концерт весёлый», что как мы выжили, трудно сейчас понять. Между нами и артиллеристами было большое поле, на котором паслись их лошади, так мы сидели на срубах палаток, раненых не было, и мы всё время видели, как разрываются снаряды и лошади разлетаются на куски, а мы вот тут - совсем близко. И не знали, а может быть следующий снаряд в нас шарахнет. Но вот, остались живы, нас не тронуло, хотя разрывы очень близко были. А 22-го апреля день рождения Ленина - тогда уже наши немцам дали шороху. (рассказывает улыбаясь) Так эти катюши дали, что у нас тоже всё дрожало. Знаете, как дадут залп, потом второй, третий и без передышки. Тогда немцам тоже было весело.
А в бытовом плане - зимой нагреем воды в тазах, ведрах на буржуйках, стоявших в палатках. В палатках два входа - второй, как правило законсервирован, так там в тамбуре набросаем лапника, чтобы не стоять на земле, поставим табуретку, натаскаем воды, и в любой мороз моемся. И что интересно, до войны я часто болела ангиной, а на фронте за всю войну заболела один раз. Тогда было много раненых, мы развернули для них палатки, операционную, а самим пришлось спать на снегу. Застудила ухо, которое потом долго болело, а так ничем не болела. Хотя уставали, с ног валились: стоишь около операционного стола, тебя никто сменить не может, операции, одного уносят другого приносят. Раненого приносят без рук, другого без ног, у кого то уже кишки наружу. Ой-ой, вы знаете, море крови, море стонов, море страданий. Были случаи когда одной сестре приходилось двум хирургам помогать, на одном столе тяжелая операция на другом какая-нибудь полегче. Это было очень сложно, не перепутать ничего, напряжение страшное. И вот так работали на износ. Даже не так мучил голод, как отсутствие сна. Не высыпались потому, что когда большое наступление - не хватало персонала, часто бессменно работали сутками и более. И наконец, когда тебя сменят, где попало приткнёшься и спишь. Иногда просто не успевали развернуть палатки для персонала. Я один раз с ног валюсь и мне старшая операционная сестра говорит: «Сейчас в шоковой палатке никого нет, раненых пока нет и когда они поступят неизвестно, там уже всё застлано, приготовлено, ложись и поспи немножко». Я пошла, легла и так заснула, что когда проснулась оказалось, что я лежу между двумя покойниками. Пока я спала поступили раненые, шоковые, тяжелые, их ещё живыми положили, но не успели до операционной донести, они умерли. Проснулась, смотрю - с одной стороны рука висит безжизненная, с другой стороны - голова с открытыми глазами, так я как вскочила, как я вылетела из этой палатки и стала операционной сестре выговаривать: «Ну, что не разбудили-то меня!» Она говорит: «Да не до тебя тут было».
На фронте разные люди были, разные женщины, разные девушки. Мои однокурсницы, мои одноклассницы, все были девчонки скромные, все мы вылетели из под маминого крылышка строго воспитанными. Так получалось, что действительно девочки были молоденькие, симпатичные, действительно было много поклонников. Не знаю чем это объяснить, но начинают ухаживать и быстро так- «выходи за меня замуж», на полном серьёзе. Так что никто не лапал, не цапал, как сейчас- «пошли в любовь поиграем», мне бы такое сказали, так я сразу глаза бы выцарапала. Вы знаете, ведь как раньше ухаживали на фронте за девушкой. Вот человек который мне нравился, для меня, на нейтральной полосе, под огнём противника букеты мне собирал. Там такие цветы цвели, которые в болотистых местах растут. Ещё командир полка говорил: «Покажите мне эту девчонку, я её выпорю. Парень погибнет. Что делается? Убьют же капитана».
В полевых условиях работали в огромных палатках, палатка на четыре операционных стола - дивизионная, палатка на два операционных стола - полковая. Сегодня спали в палатке, а завтра может на снегу, потому что раненых столько поступит, что для персонала и мест нет. Но, несмотря на это, не унывали. У нас была организована великолепная самодеятельность, потому что наш главный хирург - Золотухин Николай Прокопьевич, кроме медицинского института окончил ещё и театральный, и какое-то время работал в театре режиссером.
В наступлении приходилось не легче, чем в обороне. Операционные и все эти медицинские пожитки грузили на полуторки, тогда в основном машины были полуторки. Операционная очень тяжелая, всё же там металлическое. Были случаи, раза два, когда нас выбрасывали вперёд частей дивизии. Вот выгрузили где-то в поле или в лесочке каком-нибудь, а комбат да и вообще никто, не знает, где мы и где наши части. Ничего не знаем - то-ли немцы сейчас придут и заберут нас, то-ли наши где-то отстали, то-ли мы сами отстали. Были такие случаи, очень тревожно было это для руководства части. Связь плохая, часто нарушалась, ни с кем не связаться. Это сейчас кажется по фильмам, всё честь по чести, команда отдана и выполняют. Ничего подобного, столько было неразберихи, кошмар. Мы-то мало знали, а те кто руководил частями, прочувствовали будь здоров как. Противоречивые приказы, сейчас в мирное время и то, например, закон республиканский не корреспондируется с законом местным, и всё идёт наперекосяк, так и тогда с приказами было. Даже большие начальники не сразу могли разобраться, что делать и как делать, и как срочно. То-ли отступать, то-ли наступать, очень много было такого. Из-за этих перекосов жертв тоже было больше. Но война - есть война, тем более война такого масштаба, о чём говорить, да и дисциплина видимо хромала. Но вообще, народ наш героический, очень жертвенный, готовы были, если надо, броситься головой в любое пекло, только бы разбить врага. Патриотизм был потрясающий, сейчас в мирное время в армии служить не заставить, а тогда рвались в бой. Я вам не рассказала, как в первые дни войны мне пришлось разносить повестки призывникам. На это бросили студентов. Нас, несколько человек «мобилизовали». В основном этим занимались девчонки, потому что ребят самих вызывали в Военкомат. Как правило разносили вечером, после десяти часов. Это считалось уже ночное время, нас снабдили фонариками-жужжалками, потому что было уже введено затемнение. Правда были ещё белые ночи, на улице более-менее светло, но в дом входишь, освещения нигде нет - ни в подъезде, ни на лестницах. А в Ленинграде такая архитектура, там и винтовые лестницы, дома многоэтажные без лифтов, длинные коридоры… Так столько я повесток принесла и только один случай был. Наверное, это молодожены были, только что поженились, видимо очень влюблённые друг в друга. Жена бросилась к мужу, прижалась к его груди, заревела, закричала во весь голос: «Не пущу, никогда, ни за что! На фронт - ни за что! Убьют!…» А так, куда не придёшь, как-будто на прогулку приглашают. Молодые мужчины, парни просто радовались: «О-о , вот мы ужо пойдём, вот мы уже немцу пока-ажем». Радовались, что призывают на фронт, что не забыли о нём. И члены семьи всё понимали, не радовались конечно, но никто не бросался, не уговаривал не ходить, не было такого. Вот какой подъём был среди народа. Это такая была демонстрация патриотизма, желания всего себя отдать, только бы скорей победить, сломать врага. «Как это так, как он посмел?!» Помню один такой красивый паренёк был и он своей сестрёнке-подростку говорит: «Светка, где моя майка?» «Сейчас найду, сейчас». А он - «Светка, ну что ты копаешься, ты что не понимаешь, что враг не ждёт». Он уже заранее начал собираться, хоть в повестке было написано - явиться к девяти часам.(рассказывает улыбаясь) Видимо таких мыслей не было, что это фронт, что это опасно, что там могут убить, а надо пойти скорей, накостылять этому врагу, который посмел напасть. А сейчас в мирное время днём с огнём ищут этих призывников. Прячутся от армии. Вот как всё изменилось.
Я думаю всё же, что вам надо поговорить с теми, кто действительно в пекле был, поэтому не хочется всё это рассказывать, мы в атаку не ходили. Меня иногда просят выступать в школах, ну некому, некому. Меня председатель последний раз уговорил: «Ну, надо, понимаешь, те кто ещё живы, они уже не ходячие». Раньше, когда нас много было, ветеранов распределяли по классам, а сейчас всю школу собирают в зале. В назначенный день я очень плохо себя чувствовала, но думаю — пойду, раз уж обещала. Ветер в тот день был ужасный и холодрыга страшная, еле дошла. Я вхожу и даже здравствуйте не могу сказать, настолько тяжелое состояние было, но посидела, отдышалась, выступила, но постаралась побыстрей закончить. И я ещё на фоне других просто «герой». Правильно говорят, что наше поколение не уходящее, а ушедшее. Но вы знаете, что интересно, ученики столько задавали вопросов, и такие вопросы задают умные, трудные и каверзные иногда. Но им не всё можно рассказывать, в старших классах - там можно. А когда детки поменьше - пятый, шестой классы, нельзя всё говорить. А они дотошные: «Нет расскажите, было людоедство в городе или нет? А как это, людей ели?» Я от этих вопросов ухожу, я им ничего не говорю, как-то выкручиваюсь. Считаю что не надо их травмировать, будут взрослее - прочитают на эту тему, когда будут осмысленнее всё воспринимать. А на счёт людоедства, такие факты знаю. Когда наша дивизия была на переформировании, наш медсанбат располагался в здании роддома, во дворе детской больницы на Волковке. Был март 1942 года, снег ещё держался, но появились большие проталины. Надо было в эвакоотделении уточнить насчёт раненого одного - не передали карточку передового района, я выхожу на крыльцо, а у крыльца валяется головка примерно годовалого ребёнка, а туловища нет - куда оно делось? Наверное, съели. Потом однажды нас вызвали в штаб дивизии, на совещание передовиков, была я, врач, ещё одна медсестра и женщина-снайпер. И понесло нас, по короткому пути, через Волковское кладбище. Так слушайте, такое я увидела, что после совещания ничего съесть не смогла, только компот с трудом выпила и всё. Там такие следы людоедства были, кошмар. Человеку с нормальной психикой это пережить без последствий невозможно, у нас же, наверное, уже чувства были притуплены, но мне до сих пор не забыть. Может быть мужчины, так бы не отреагировали, у них нервы покрепче, а мы девчонки были не поражены, а просто сражены. (подробнее рассказать отказалась наотрез)
По официальным данным в строй вернулось около семидесяти процентов раненых, так что сделано было немало. У нас при поступлении раненых в первую очередь оказывалась помощь тяжелым, а у немцев, я читала, было несколько иначе. В первую очередь помощь оказывалась легкораненым, потому, что армии нужны были солдаты, а тяжелых не всегда удавалось спасти. Попадались очень тяжелые ранения, несовместимые с жизнью, а их всё равно брали на операционный стол, пытались спасти, потом выхаживали, время шло, они не выздоравливали, умирали (тяжело вздыхает). Всё как будто в пустую. С практической точки зрения немцы, конечно правы, но по христиански… Очень трудно тяжелораненого оставить без помощи, легкораненый дождётся помощи, а тяжелораненого оставить без помощи - умрёт точно, а так может быть спасёшь.
После войны в Академию я не вернулась, потому что с мужем пришлось уехать на этот дальний-предальний Восток. Жили в Южно-Сахалинске. Мужа в любой момент могли вызвать на срочную операцию. Идём, например, в театр, он администратору говорит на каком он месте, какой ряд. Помню, мы смотрели спектакль «Таня» по пьесе Арбузова. Подходят: «Николай Петрович, вас срочно вызывают в госпиталь, тяжелый нейрохирургический случай. Машина ждёт». Он мне говорит: «Быстро садись, сейчас я тебя домой закину». А я заупрямилась: «Нет, не пойду. Да что, каждый раз, из гостей вытаскивают, из театра вытаскивают. Я хочу досмотреть постановку». Он поспорил со мной, да и уехал. Спектакли тогда кончались поздно, транспорта не было, автобус уже не ходил. Ну и тогда чуть меня не раздели, или не знаю чтобы со мной сделали, если бы я не успела в соседний двор завернуть, там мне открыли двери. Это как раз был 1953 год, когда выпустили уголовников после смерти Сталина. И вот если тяжелый случай - мужа на самолёт, в какие-то дебри лететь, оперировать. Он же и на Северной Земле был, где только не был. Даже когда он уже в Ленинград вернулся, всё равно приходилось в Арктику летать, всякие тяжелые операции делать. И тогда я его упрекала, говоря, что у тебя на первом месте хирургия, нейрохирургия, твои больные. Вы знаете он так возмущался, говорил: «Запомни - у меня на первом, на пятом, на десятом на каком угодно месте, прежде всего мои больные. Ты забываешь какая у меня профессия, что в моих руках жизнь человека, поэтому слушать от тебя этого не хочу». И он очень предан был своей профессии.
Но об образовании надо было как-то думать, еще когда окончила школу, мне хотелось быть и искусствоведом, и юристом. Я как-то не могла определиться, мои ребята - поклонники склоняли меня к искусствоведению. Но я поступила на заочный факультет Московского Юридического Института, он хоть и заочный, но к нам всё время приезжал профессорско-преподавательский состав, месяцами, годами нам преподавали по вечерам. Со мной в основном учились полковники, генералы, кто до войны не успел закончить, а после войны от них требовали закончить высшее образование. Меня всё время им ставили в пример: «Вот смотрите - женщина, мать, хозяйка, она сдаёт всё вовремя, на отлично, а вы полковники …». Там я успела немного поработать адвокатом. У меня успешно дело шло, мне очень нравилось выступать в военном трибунале. Пришел срок и мужа перевели служить на материк. Мы попали в Ростов на Дону, там я уже не работала, потому что сперва была неустроенность с квартирой, дочь моя старшая уже в Ленинградском мединституте училась, а мы в Ростове были, в общем, было не до того. Когда муж демобилизовался и мы вернулись домой, всё встало на свои места. Я не пошла в адвокатуру, мне претило, что приходится защищать таких преступников, которых, казалось, сама бы удушила. Я пошла в юрисконсульты и работала старшим юрисконсультом в управлении треста который строит атомные электростанции. Работа была ответственная, но интересная. У нас был такой трест, из которого вышли три замминистра энергетики СССР. У меня было много дел в министерском арбитраже и вот приезжаешь как домой, они сразу все бумаги в сторону - как там у нас дома? В каких только театрах не была, и билетами обеспечат, и командировку продлят. (смеётся) Как и все я была пионеркой, комсомолкой. На фронте, наверное, когда стала постарше, я осознала, что это не то - много говорильни и мало дел. Перестала ходить на мероприятия и ни в каких партиях потом не состояла. Когда я заняла должность старшего юрисконсульта треста, строившего атомные станции, колоссальные предприятия, руководство на меня давило — чтобы вступила в партию. Я старший юрист и меня надо пригласить на закрытое партийное совещание, ответить на какой-то вопрос, о чем-то предупредить или отчитаться, а мне нельзя - потому что беспартийная. Это представляло для них неудобство, но должность у меня была такая, что без разрешения министерства меня не могли уволить или взыскание наложить. Работалось хорошо, но всему приходит конец, к сожалению, в 1978 году муж ушел из жизни. У нас две дочери, старшая - врач, я сама, как пациентка, ей очень доверяю, она живёт в Минске. Младшая моя дочь — инженер, химик, работала в научно-исследовательском институте. Ещё у меня есть внучка, она работает детским хирургом, что-то от деда передалось, какие-то гены. У неё двое детей, мои правнучки - Наташа и Женя-Женечка.
| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |
| Правка: | Б. Кириллов |