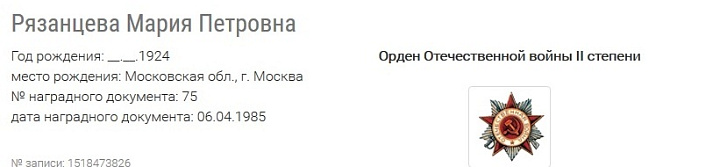— Рязанцева Мария Петровна. Родилась в 1924-м году, 18-го августа. Скоро мне будет 86 лет. Жила в Москве, училась там же. Семья у нас была рабочая. Папа в ней был самый грамотный: он когда-то гимназию окончил. При мне – он всегда был уже очень старый… когда я родилась, ему было 65 лет. Моложе меня на 3 года ещё была сестра. Брат был… от первого маминого брака. Мама… жили мы все хорошо, дружно.
— Как Вы узнали о том, что началась война?
— Это было воскресенье. Мама меня послала за хлебом. Я говорю: «Мама, мы назначили в Измайловском парке с ребятами и с девчонками из класса сделать такой себе праздник». Погулять там. А она: «Ты принеси сначала хлеб, а потом гуляй». Я иду – и там репродукторы: «Слушайте, люди города – и не говорите потом, что не слышали. Война!» А! Люди стоят, кто плачет, кто ахает, охает… Я побежала домой. Говорю: «Мама, война!» Она: «А хлеб?» А я: «Уже всё. Там люди всё разграбили»…
— «Разграбили» – это Вы имеете в виду, что раскупили всё?
— Раскупили – всё! И горчицу, и перец, и… ну всё! Пустые полки. И потом говорят: «Будет вам это… не пропадете, значит, с голоду не умрёте, карточки будут». Объявили. Ну, в общем, я тогда это не понимала: какие карточки ещё? Я бежала, плакала, потому что хлеба нет. Что делать? А знаете, как мы жили? У нас холодильников же не было. У нас рядом был магазин, мы могли купить 100 грамм, могли купить 50 грамм. И всё!
— Купили – и тут же съели всё свежее? Вы хорошо, оказывается, жили. Ну а дома – какие вещи были? Патефон, допустим, там, приёмник?
— Был патефон. «У самовара – я и моя Маша»… (Поёт и смеётся.) Был велосипед. Квартира у нас была не коммунальная, а отдельная. Вообще, было так ничего, но – не богато мы жили… Нормально! Не хуже других. Никто ни запоями не занимался, никто ничего…
А с начала войны вместе со всеми нашими ученицами из школы, девочками, мы пошли работать на военный завод. Поскольку он секретный – нас принимали очень долго. Целый месяц – и никак. Всё проверяли… но потом, наконец, приняли. И мы там начали работать, на заводе №8 в Подлипках. Это Королёв сейчас.
Нам даже ещё не было 17-ти! На заводе нашу компанию прозвали «Дунькин цех». Все эти девчонки голодные, конечно, были. Голодные, холодные. Когда мы выходили с ними домой – чтобы в неделю раз хотя бы помыться и привести себя в порядок – то видели на платформах зачехлённые пушки. Большие такие. «Всё для фронта! Всё для победы!» И мы идём и говорим: «Девчонки, а мы же тоже всё-таки пользу какую-то приносим!»
А я готовилась к тому, что пойду на фронт. Но оказывается, наши документы в это время готовили в тыл! В эвакуацию.
— Вы знали, что Вы делали?
— Не знали. А вот это вот – пушки – мы видели только на железной дороге. И когда сказали, что завод эвакуируется, я получила документы: завод имени Михаила Ивановича Калинина, ордена Ленина и там ещё что-то… Раньше назывался «8-й», под номером. Потом он назывался «88-й», а потом уж – я и не знаю. И в то время я уже осталась одна. Сирота. С сестрой. 14-летняя сестра у меня была на иждивении.
— Кто у Вас умер?
— Вот все они погибли во время войны, когда первые дни войны, в Москве, в бомбёжке. И мы остались с сестрой вдвоём. И встречались очень редко. Потому что она была на трудовом фронте, для обороны Москвы. Строили они там заграждения противотанковые… И там они и ночевали, у них палатка была, их привозили только раз в десять дней. Чтобы привести себя в порядок. Так что «встречались» только записками. Переписывались, оставляли…
Я так хотела на фронт! Дядя у меня был командир дивизии. Первый дядя. Преподавал даже в Академии имени Фрунзе – Рожнов Кузьма Прокофьевич. Город Свободный, Дальний Восток. И с Будённым когда-то воевал, и когда ещё были какие-то конфликты с Финляндией – он и там воевал, и был ранен. А второй дядя был у меня – дипломат. Больше никого у нас родных не было. Все двоюродные братья – погибли. Как раз в первые месяцы войны, под Малоярославцем. Их так взяли – и всё. Много школьников. И наши школьники, одноклассники, погибли тоже под Малоярославцем…
— Давайте вернёмся на завод, к девочкам…
— Да, когда мы с ними работали, то это выходило по 12, по 14 часов. И нам даже дали маленькую комнату, тряпки какие-то, матрасы старые там набросали. И мы в ней ночевали, чтобы не уходить с работы, потому что раньше был такой закон: если опоздаешь – судили. И мы очень этого боялись.
Я работала в токарном цеху. Токарем-револьверщиком. Ну, когда мне дали этот станок – такой он большой! Я думаю: «Боже мой, как я освою?» Так их много, этих колёсиков! И вот так же переживали и остальные девочки. Но они попали на автоматические станки. А мне почему-то дали этот.
Наверно, потому, что я была такая… – в общем, сильная. Занималась спортом. У меня и брат был чемпионом по боксу Москвы и Московской области. Вот. Ну и он поэтому меня везде с собой брал. И я посещала, значит, акробатический кружок (это при школе)… и танцевальный коллектив был у нас очень хороший... ну, в общем, я везде всегда участвовала. И даже дома занималась зарядкой. Брат, значит, грушу бьёт, висит на турнике… он занимался, и я занималась. Я была более развитая, чем сверстницы, и такая… сильная. А эти девчонки, с которыми я училась – как-то быстро стали болеть. Они недоедали. Нагрузки большие, питание плохое.
— А какое было питание буквально? Вам паёк какой-то выдавался? Что туда входило?
— Паёк нам давали – 400 граммов хлеба. И всё. Потом в столовой давали мёрзлую капусту, лук тоже мёрзлый. Когда ели – боже ты мой! Это вот такой живот делается. (Показывает.) И никакой питательности. Ни сытости никакой… Так мы это даже не кушали. Боялись. Потому что сразу – вот так, как беременная. (Показывает.)
— А «добирали», так сказать, за счёт чего? Может, что-то продавали из вещей?
— Нет! Поэтому у меня развилось малокровие. Я ходила уже по стенке. И потом это заметил мастер – и говорит: «Ну, Машенька, тебе, значит, это надо… иди, я тебе это… сто граммов оторву от своей карточки, покушаешь хоть немножечко». Я говорю: «Я же кушала». А потом у меня карточку украли. Мужчины там, наладчики, карточку украли – а это ж всё! Это уже гиблое дело! Всё! И я так вот – кто мне что даст – жила…
— Это зима 1941-1942 года?
— Да, этот год. Потому что 18 лет мне не было – и меня на фронт не брали, понимаете? «Иди, - говорят, - девчонка, подрасти». А потом меня взяли, когда я окончила курсы медсестёр в Мытищах. Добровольно! Я так хотела пойти на фронт, только на фронт! Не в тылу, чтобы только не в тылу! Мой дядя был тоже, как папа, уже старенький (который дипломат), и у него астма была. А сначала он был репрессирован. Потом дали ему в Мытищах, на окраине там, квартиру – и они жили с женой. А дети их все были на фронте, и они уже погибли. И когда я пришла прощаться, говорю: «Дядя Саша, я ухожу на фронт». Он отвечает: «Правильно ты сделала, молодец! Лучше, - говорит… как он сказал, вот его слова, - лучше на поле брани умереть, чем здесь с голоду!»
— А какова была продолжительность этих курсов – и каков объём подготовки? Что изучали и сколько?
— А Вы знаете, всё мы изучали… у нас такие были обширные занятия: как оказать помощь, все вот эти навыки первой необходимости мы проходили, и у нас всегда было хорошее такое руководство, требовательное: чётко и ответственно преподавало, как оказать бойцу первую помощь. Но, конечно, эти курсы мне мало дали по сравнению с фронтом: на фронте – дали самое главное. Практических навыков не особо получила: я же не год училась. Курсы – 6 месяцев. Но я – окончила за 3. Вот такая была способная девчонка. Понимаете, я просто очень хотела на фронт! На это очень сильно повлияло то, что мы с сестрой сначала побывали в тылу на трудовом фронте. Хотя и редко встречались, да, я уже говорила. В квартире жутко холодно стало, потом при бомбёжке у нас перекосились все эти рамы…
— А где Вы жили в Москве?
— Большой Харитоньевский переулок, дом 24. Это – Красные ворота. Ну и когда я уходила на фронт – пришла, значит, за пайком, и мне дали на мою карточку буханку хлеба и рыжие эти самые… от селёдки. Я её не стала. Ржавые прям! Ой, невозможно. Ну и я, значит, написала сестре: «Надя, я ухожу на фронт». И вот какая же я была дура! (Смеётся) «Или голова в кустах, или грудь в крестах». Ну это же надо написать такое! А дальше – «Кушай всё то, что на столе – и то, что я тебе оставила: всё можешь кушать, мне уже ничего не надо, можешь носить мои вещи, тоже ничего не надо». Я была очень аккуратная такая: не любила, когда мы друг друга вещи носили. У нас одинаковый был размер. «Носи мои вещи, но я тебе как могу, так помогу. Может быть, с фронта кто-то поедет там раненый или чего только подобное… я тебе обязательно хоть что-нибудь, да передам». Ну, так никогда и не пришлось ничего…
— А как Вы смогли избежать эвакуации и остаться в Москве, чтобы уйти на фронт?
— Когда мы с заводом эвакуировались – я уже в товарном вагоне была. Подходит мама к вагону, говорит: «Уже поехали». И мы поехали почему-то по Окружной, а потом опять на это же место приехали! И мама опять приходит. И говорит: «Доченька, кто ж меня будет хоронить? А как же я буду? Доченька, ну как это?» Ой! Я говорю: «Мама, сейчас я соберу свои эти манатки!» А что у меня там было? Ничего. Мне говорили: «Доченька, а как же ты поедешь? У тебя ж нет тёплых вещей! Ты же там замёрзнешь!» На Урал, сказали. А я говорю: «Ничего, я не замёрзну. Потому что я только и думаю, как бы попасть на фронт и как бы убежать из этого вагона». Вот. Ну и мама стоит так, я говорю: «Мама, ты только смотри, чтобы не попался столб. Я сейчас буду прыгать на ходу, брошу тебе свой узелочек». Узелочек! Понимаете? (Смеётся.) И вот этот узелочек я ей бросила, а сама стою и смотрю, чтобы не попасть мне, не упасть, не стукнуться об столб. А мама: «Вон там, доченька, - кричит мне, - доченька!» А начальник цеха: «Закрой дверь, закрой!» Мы в телятнике ехали, ну, большой пульмановский вагон. Вы извините, что я так называю, но это так называли. Ну, и я прыгнула. Прыгнула очень удачно. Иду – и мама меня обняла и говорит: «Доченька, никуда ты не езди». Я говорю: «Мама, на фронт – всё равно пойду». Она говорит: «Господи, да что же это такое?! У меня – никого»… И в общем, короче говоря, я ушла на фронт.
— А перед отправкой, наверно, Вас ещё в Москве куда-то зачислили?
— Да! Зачислили. Мы формировались на Стромынке, 32, в Москве, да. Это был институт, только не знаю, какого профиля. Большое такое здание. Я почему запомнила это на всю жизнь – потому что там был такой случай, когда в нём формировалось несколько полевых передвижных госпиталей. Я попала в госпиталь 51-60. В хирургический полевой передвижной госпиталь. Первой линии. И я была очень рада, что я – на фронт. Ой, как я была довольна! Я так ждала! Но пока – нас подготавливали: и строевой гоняли, и вообще как и что, и по специальности занятия продолжали, и мы чем только ни занимались там. И по медицине, и всё… как вдруг нам объявили: «Сегодня военный трибунал будет. Все должны явиться!» Я не знаю, это можно ли говорить?..
— Да можно, конечно.
— Да? И что мы должны быть готовы. И вот построение. Да! Военный трибунал. Мы сели на первом ряду – и вдруг приводят такого молодого красивого парня. Такой хороший! Он садится уже отдельно, как преступник. Здесь, значит, сидят эти из военного трибунала. И когда ему задали вопрос «Почему вы не пошли после ранения на фронт?» – он ответил так: «Я не мог больше видеть, как люди погибают, как здоровые делаются калеками. Да, не выдержал мой организм – и я почему-то сдрейфил; ну не могу я больше туда идти. Лучше или здесь погибну – или уж куда и как придётся»...
А как он попал-то в трибунал! У него был сынишка 5 лет, не больше. И он как-то сказал соседке: «А моя мама носит папе в подвал кушать, он там сидит». А соседка доложила «куда надо». И вот он попался на военный трибунал, и тот его судил. И его присудили. Когда он так сказал – мы сидели, прям чуть ли не плакали, смотрели, думали: «Господи, неужели его расстреляют?» И – «приговор привести в исполнение». Мы все выстроились во дворе, потому что это большое такое здание буквой «П». И ворота там были, и только в ворота можно выходить. И, значит, пришли эти стрелки. Построились. И нас буквой «П» тоже построили. Ой, и Вы знаете, это первое-первое в армии такое увидеть, как стреляют в таком… в 17 лет. Выставили, он упал – рогожкой закрыли и понесли. И мы разошлись по своим местам, и пришли мы – плакали. Девчонки, молоденькие же все мы, по 17-18 лет. У нас врачи были на 3, на 4 года старше нас. Все молодые. Вот такое это первое «крещение», как говорится.
— Стали ли Вас лучше кормить после формирования?
— Ну конечно! Нам уже давали 700 грамм хлеба. Давали 15 или 20 грамм сахара. Это утром. Хлеб весь давали, сразу. Мы в вагонах когда ехали – прямо в этом вагоне. Масло – 15 грамм. Совсем маленький кусочек. Или 20, наоборот. Масла больше или сахара – не помню…
— Обмундирование – выдали?
— Да. Мы же там присягу приняли, в этом институте. И нам дали сначала – знаете, такие из брезента сшитые сапожки? Мы в них, как эти, как балерины всё равно, ходили… но если дождь – всё. Они даже не из брезента были сделаны, а так, тряпошные… Остальное обмундирование было мужское. И ношеное. Мне попалась шапка – вся в крови: она там и внутри в крови, и сверху. Я стала смывать, застирывать. Ничего не получилось. И когда она высыхала – форму теряла, и я так ходила. До самого фронта. А потом там нам дали уже сапоги эти кирзовые, гимнастёрка, юбка там… всё то, что положено. Ну, сапоги по размеру не подходили, большие там все. Но это ничего. Мы их даже не подгоняли: если на один, на два номера – так это ничего. А если больше уже – конечно, ждали, когда где-то найдут, откуда-то привезут. Или поменяться там с кем-то...
— А не помните такого, что в начале октября 1941-го в Москве просто паника началась, и когда начали грабить магазины – милиция не могла ничего сделать?
— Нет-нет, этого я не помню. Этого не было. И паники никакой не было. Вы знаете, почему? Потому что верили в победу! Сталин сказал по радио: «Победа будет за нами!» И мы верили…
Помню про деньги. Папа нам с сестрой сказал, что «вы будете учиться, когда я умру». Ну, он уже был старенький. «И если, - говорит, - поделите деньги». 5 тысяч. Это очень большие деньги были раньше. Ну и вот… (Смеётся.) …и я, когда хлеба не стало, когда узнала, что ничего нет в магазине и что ещё карточек нет – думаю: «Как же я, как же мама? Как же мы будем жить?» Взяла книжку сберегательную – и пошла в банк. Говорю: «У меня на хлеб даже денег нет. Ничего нет – и кушать нечего!» А буханка хлеба стоила 200 рублей. А я им говорю: «Ну что ж нам – погибать?!» А этот выходит, солидный такой, и говорит: «Уходи отсюда, девчонка! Твои деньги все пошли на оборону!» Так мне сказал – и я заплакала и пошла.
И так мы голодали. И мама очень переживала… Потом у нас окна перекосились, ничего не закрывалось, и дверь тоже не закрывалась, и холодно было… как раз была зима. И печки у нас не было. Ходили мы за этим… на свалку. Ходили с железкой с крючком, собирали и жгли ветошь, которую с завода выбрасывали. А получалось – такое, знаете… дым – и всё. Тепла – мало, только дыму много в комнате. Копоть – ужас. Чаю согреем мы… какой чай?! Воду! Воду согреем – и пьём. Без сахара, без ничего. Потом мама: «Дочка, у тебя же косы, как же ты будешь их мыть?» И начала мне заваривать эту… золу. И вот этим вот мыла.
А потом, когда я ушла в армию, уже когда погрузились мы в эшелон, в вагоны – зашла я там, на вокзале, в парикмахерскую, и сказала: «Режьте мне, пожалуйста, косы». И он мне вот так их коротко отпилил… (Показывает.) У меня косы такие толстые были. И сразу стало легко так, хорошо. Думаю: «Вот и всё». Он говорит: «Девчонка, ты возьмёшь домой?» А я говорю: «Нет, я Вам даю!» И ушла. И вот так. Вот это вот я помню.
— В общем, поехали Вы на фронт…
— Это уже декабрь 1942-го был. Потому что мы сперва занимались, когда были в Москве, а потом уже подготовленные поехали. На Стромынке мы были достаточно долго: во-первых, я и на посту стояла, и стрелять учили нас, и… в общем, боевой я очень стрелок была. Хорошее зрение было… С ранеными мы тогда ещё совсем не работали. Только боевая подготовка. Потому что наша Армия – 5-я танковая…
 |
— Так у Вас госпиталь был придан 5-й танковой армии?
— Да. У нас командовал Ротмистров. Госпиталь №51-60. Я в нём всю войну прошла, до конца. И расформировались мы в Бресте. Шли, целовали землю… свою землю!
— Раз Вы были госпиталем 5-й танковой – Вам доставляли только танкистов, или и пехоту тоже?
— Наши принимали только свою армию. У нас только 5-я танковая – и ещё какая-то 5-я стрелковая. И у нас было – по профилю. Мы принимали не легкораненых. У нас – грудь, живот, голова.
— Ожоги – не Ваш профиль?
— Это – наш! Ой, а как у меня с ожогом был… это где-то под Прохоровкой: раненый, ожоговый. Лицо всё. Он не мог ни пить, ни кушать – ничего. Ой, он такой опухший, всё в волдырях. И такой хороший… но он уже был постарше: лет 40, наверно, ему было. И вот я, значит, подхожу к нему – он говорит: «Пить, пить». А рот не может открыть. Я ему нашла поильничек… ну, у нас там были такие специальные поильнички – и вот в это такое… в эту маленькую щель на месте рта я ему, значит, даю пить. Он попил немного. Ему обезболивание, конечно, дали. Потому что это невозможно – такое терпеть… Шоковый – от боли может умереть.
А Курская дуга – там раненых, конечно, было очень много. Это было что-то страшное. Знаете, чем? И с воздуха бомбят – и танки идут!
А у немцев танки – «Фердинанд», «Пантера», «Тигр» – до 70 тонн весят! А наша «Т-34» – она настолько была маневренна, подвижна! И 30 тонн только весила. Поэтому она выигрывала в бою. А кроме этих танков у немцев был потом ещё какой-то «Королевский»… этого я не видела, точно.
Так вот, раненых – очень было много. А было 35 градусов жары. Это невозможно! Дышать невозможно! Они просят пить. А пить – не каждому: кто в живот ранен – нельзя. Мы попросили уже на помощь население местное. Но только сказали, что если в живот ранен – вот видите, где забинтовано? Не давать пить, а давать только ватку смоченную. А они – от жалости – всё равно давали! Ой, как я увидела! Как я ругалась!..
Палатка у нас была – и в палатке, и около палатки – на операционный стол очередь! На самую первую помощь, значит. Кто в первую очередь – мы давали такую красную этикетку. Сюда привязывали. (Показывает.)
— Прямо сразу сортировали – и бирки вешали?
— Да. И кого-то – сразу в операционную. А кто немножечко получше по состоянию здоровья – или какое-то там чуть полегче ранение – так мы их уже во вторую очередь. И я уже напрочь вымотанная когда зашла в палатку – то перевязывала их там прямо на ходу. И когда стала перевязывать одного, где-то лет 35 ему было, а он: «Сестра, сестра». Я подхожу, смотрю – у него открытый пневмоторакс. Это, то есть, лёгкие открытые. Ранение – и здесь заткнутое просто бинтом. Значит, сделано… но – всё в крови. И я хотела подбинтовать, пока он ещё ждёт, когда до него очередь дойдёт. Чтобы кровь не шла. И вот так стала подбинтовывать, а ведь я и не спала, и не ела, и не пила, только бегала туда-сюда: этому, этому… И обняла его так – и вот этот тур так вот обвила, последний тур надо завязать… (Показывает.) …а я уже не смогла. И обняла, и на эту же рану положила голову. Ну, как-то так получилось. Не то чтоб специально. И – отключилась. А там кричат: «Сестра!», да по матушке! А он и говорит: «Ребята, нас много, а она одна, ну что вы кричите?! Пусть полежит!» А сам он уже не лежал, а сидел. Сидя – потому что ранение такое: в легкие когда – то полусидячее-полулежачее должно быть положение...
— Куда Вас направили после Курской дуги?
— К Украине. Ой, в Кировограде как страшно было! Меня послали в разведку. Меня – и ещё двух санитаров. Старых уже. Такие, что еле-еле ходили. Ну а я была как главная: старший сержант по званию. Зашли мы в деревню, называлась Аджамка. Вот видите, какая у меня память хорошая! Это километров 30 от Кировограда. Там, значит, сначала мы были, а потом нас… мы отступили. Потом опять наступили – и нам сказали, что будут раненые, и надо подготовить вот это село для их приёма. Посмотреть, что там, есть ли немцы. Мы с этими санитарами туда пришли уже к вечеру. Всё это село большое – никого не было! Вышел там из подвала один старик с девочкой маленькой такой, с внучкой. Я его спросила: «Где всё население?» А он говорит: «Немец угнал на работу, а кого в Германию отправил. А стариков – кого расстрелял… а учителей, вот смотрите – повесил там, где школа, на площади». Ну, значит, мы посмотрели – село было разорённое, все окна выбиты, всё нагажено. Ну, разве можно так принимать раненых? Мы поняли, что это непригодно. Прошли всё село – и встретили вот только одного старика, который с внучкой. Эта внучка у меня попросила: «Тётя, дайте кусочек сахарку!» Я говорю: «Да у меня нет. Вот, если хочешь, что у меня есть». Вывернула весь свой вещмешок, а у меня там – сухарик, два сухарика. «Если хочешь»…
А! Кроме старика с девочкой, мне там встретился ещё маленький мальчик. Он подошёл и говорит: «Тётя, достань моего папу». А он так высоко висел… в общем, залезла я на это дерево, спустила – и мальчик на санках повёз его домой. И так это на душе осталось… такая печаль. Такое… горе. Думаешь: «У! Паразиты немцы! Ну, всё!»
Мы где ещё были – Старый Оскол, Новый Оскол, все эти вот деревни, сёла… как заходили туда после отхода немцев – это да! Но мы больше нигде не видели такого безобразия, как видели в этой Аджамке. И дома были уже более нормальные. Но мы же в домах-то никогда не останавливались и никогда не принимали. У нас палатки были ДПМ-овские, двухмачтовые, понимаете, большие. И мы даже делали, если много раненых, нары. И у нас получалась гораздо большая вместимость, чтобы принять людей.
 |
— Каковы были Ваши штатные обязанности в госпитале?
— Обязанности мои были такие: я работала в сортировочно-приёмном отделении. Это – самое такое сложное. Именно нам надо было определить, какого характера ранения. Мы ходили с врачом…
Вот я Вам расскажу такой случай: форсировали Днепр. Это было летом. Я дежурила по кухне. И вот вдруг налетел немец – и давай бомбить, строчить из пулемёта: откуда, чего – ничего не понятно, все разбежались, кто куда. Потом стали грузить всякие носилки, перевязочный материал… И поехали на дорогу, а там же после дождя – невозможно: везде чернозём, сразу нога утопает в этой грязи – не вытащишь. И вот они, значит, все поехали, а я думаю: «Что ж я буду одна с этой кашей здесь делать?» Бомба такая попадёт ещё – и умру здесь вместе с кашей. Зачем? Так бездарно моя жизнь пройдёт. (Смеётся). Вот и я, значит, побежала тоже за ними за всеми, за остальными. Подъехали мы когда уже к Днепру – там налаживали понтонный мост. Переправа на другой берег. А тот берег назывался Левые Кишеньки. И огромная стояла церковь. Ну совсем близко. На берегу. И вот мы не могли там никуда в сторону съехать, чтобы спастись. Кругом поле – и никакого деревца даже нет. Ну абсолютно – мы как на ладони. Начал бомбить. И из пулемёта строчить. Пролетает бреющим полётом. И когда понтонный мост построили и по нему пошли танки – как раз в это время и бомбил этот немец. И они уходили у нас на глазах вместе с экипажами на дно. Мы страшно переживали все. Ну очень. А помочь – ничем не могли! Потом откуда-то наша авиация уже появилась… истребитель, другие… Но немцы потом опять собрались – и так много! И опять начали бомбить! У нас много погибло. Один танк я видела сама лично. С экипажем. Второй танк. Почему больше не видела – потому что там уже раненые появились; надо же оказать помощь этим, которые стояли в колонне в очереди на переправу!
И когда мы уже переправились по понтонному мосту в Левые Кишеньки – мы пошли в церковь. Думаем: «Раненых-то – много!» Но палатки строить – пока поставишь их, пока что… А потом ещё неизвестно: опять, может, придётся перебазироваться? И мы решили, что мы сначала раненых пристроим в церковь. Она очень большая была. По-моему, как в Троице-Сергиевой лавре. Я ездила в Загорск, знаю. И вот мы взяли солому, сено там – всё, что нам дали. Побросали так всё, накрыли – где плащ-палаткой, а где не хватило же, так много народу… ну, где на носилках – в общем, устроили всех так, чтобы не валялись на земле. И тогда мы ходили с врачом смотрели, кто в первую очередь должен кого оперировать, эвакуировать…
А у нас был такой самолёт – У-2, который помогал нам. Кровь привозил, экстренные задачи выполнял, если у нас перевязочный материал кончился или ещё чего… Снабжение у нас было очень хорошо поставлено. Я хочу сказать: благодаря тылам мы были обеспечены всем! Недостатка медикаментов и перевязочного материала не было никогда! Только у нас инструмент тупился. Точить было абсолютно нечем. И если когда укол внутривенно – так не было иголок таких хороших, чтоб сразу попасть, и я, когда делала – я сама плакала, потому что ему же больно. (Плачет). Ой, я не могу!..
— Насчёт медикаментов, кстати: от союзников поступало что-то?
— А! В 1943-м году уже к нам поступил этот… пенициллин. Ну, не в большом количестве, конечно, но был уже. У нас всё было для оказания первой помощи. Мы же не лечили их, а только оказывали первую помощь – и отправляли дальше. На том же самолете, на У-2. Я выходила в белом белье, там… или халат свой привяжу к палке какой-нибудь – и вот, хожу. Кручу, верчу на поле, на открытом месте. И У-2 снизится – и сразу быстренько всё это надо было делать! Быстро, чтобы немцы не заметили.
 |
— Ну вот, Вы говорите, церковь…
— А! Вот, мы, значит, пошли с врачом, стали осматривать, кто кому какую там первую помощь будет оказывать. Антонина Фёдоровна Демидова была у меня врач. Москвичка. Она умерла в прошлом году. Работала в кремлевской больнице. Она очень хорошая, очень! Она замечательная! Вы знаете, когда мы в Румынии были – так она делала генералу операцию. И эта операция прошла, конечно, хорошо, и он почувствовал себя здоровым. Пока два дня прожил – температуры не было, и в общем всё было благополучно. И ей орден дали: «Отечественной войны». Так, но потом-то он умер! И она принесла в штаб обратно этот орден. И сказала: «Я не могу его носить». Раз человек умер. А оказывается, тогда немцы уже применяли бактериологическое оружие. К нам приезжал профессор Еланский. Этот профессор Еланский из Москвы приехал в Румынию – и вот он всё это расследовал, всё смотрел, брал на анализ, улетал, потом опять прилетал к нам в Румынию… И вот он очень осторожно говорил: «Вы смотрите: маленькая царапина – а человек умирает».
— Заражение – и всё, да?
— Да. Сразу гангрена. Извините, я отклонилась. И когда мы проходили – назначали: кого в первую очередь надо на операцию, кого на перевязку. В перевязочные – у кого кровотечение. Мы сначала с ней вдвоём ходили, отбирали и делали тут же. Но был там и ещё персонал. А потом нам дали АрмУГ. Это армейская усилительная группа медицинская. Раненых очень много было. Мы и в церкви положили, потом уже и вокруг церкви. Понимаете? И мы никак не справлялись вдвоём. А люди могли умереть. Несколько часов надо было ждать, когда попадёшь на операцию.
И вот подошли мы к одной девушке. Военная. Сидела в шинели и пасьянс раскладывала. Я говорю: «Девушка, а вы во что ранены, где у вас ранение? Покажите». Она вот так отбросила полу шинели – и я увидела, что она без ног. Но ей сделали обезболивающее – и она сидела и ждала своей очереди, когда отправят её куда-то… Вот это вот – страшно. В общем, мы там подбинтовали всё – и её на самолете отправили. Другого транспорта – так, чтоб сказали: «Всё, будет транспорт», и он точно был – у нас не было. У нас был какой транспорт? Полуторки…
— А они именно Ваши, госпитальные были – или Вы их где-то заказывали?
— Госпитальных там было несколько машин. У нас и такие, и трофейные были, но они очень плохие. Очень неудачные. А потом нам дали – какие там трофейные… уже «Студебеккеры»! Вот это сила была! У них ведущие – и передние, и задние колёса. По этому бездорожью они проходили очень хорошо. «Доджи» давали тоже.
И вот вернусь: когда, значит, мы всех эвакуировали, всех уже устроили – кого на самолет, кого куда – всё, в церкви уже места нет. А кушать надо было им всем дать. Но наша кухня была оставлена на том берегу – и мы попросили священника, чтобы он собрал с этого села хоть по кусочку хлеба и ещё что-нибудь такое. И он, конечно, принёс целый мешок, и несколько человек потом ещё приходили, приносили. Хлеб, и уже кусочками нарезано там всё. Мы раздавали чай. Потом лошадь зарезали какую-то. Не знаю, трофейную или чего, где – не знаю, это не моё дело. И сделали котлеты. И накормили. Ну, всех, кого можно кормить. А у кого ранение в живот – нельзя. И всех эвакуировали. Вот. Это, значит, закончилось. Это как форсировали Днепр.
— А гужевой транспорт Вы использовали для госпитальных нужд?
— А как же! Машин-то – не хватало, и они в основном были плохие.
Был у нас такой санитар – Тищенко. О, помню даже фамилию! Он в первую очередь демобилизовался: с ослами и с козлами своими, то есть с этими… мулами! Две такие лошади были. Здоровые! У них, понимаете – уши так торчат… такие серьёзные обе... (Смеётся.) Вот мы с ними везли на телеге перевязочный материал. Потому что наши машины все буксовали. А мы должны перевязочный материал иметь. А гужевой транспорт при бездорожье лучше работает. Но они не любили женщин, эти лошади, женский пол не любили. И вот – что делать? Мы, значит, идём, я этому Тищенко говорю: «Интересно: ты – едешь, а я – иду. Почему?!» У меня уже сапог оторвался, оторвало эту… подошву. И совсем всё, дырища! Я, как наступлю – грязь брызжет. А одна – сухая нога. Он и говорит: «Ты завяжи бинтом». Я говорю: «Бинтом?! Ну, я завяжу, конечно». (Смеётся.) Завязала, идём. И вот он говорит: «Сейчас будет пригорок. Ты, - говорит, - на ходу ко мне прыгни!» И я так только и села. Села, думаю: «Ой, хоть отдохну немножко…» А они, лошади, как посмотрели, повернули головы – встали и ждут, когда я сойду. (Смеётся.) Я слезла – и наступила на противотанковую мину. Стою на одной ноге, кричу. А ребята идут, пехота.
- Я сейчас взорвусь, я сейчас взорвусь!
А они – раз! – в грязь легли! (Смеётся.)
- Ну, чего ты не взрываешься? Чего не взрываешься-то?..
- Да это противотанковая мина же!
Я весила всего ничего: не сработала она от моего веса. Ой, ну, Тищенко меня ещё потом звал, придумывал, как мне плащ-палаткой укрыться, чтобы лошади не поняли, что я женщина… И, Вы знаете, мы проехали не знаю сколько километров, но всё-таки привезли всё вовремя! И я подошла к лошадям – они стоят. Там всё выгружают. Я им говорю: «Ну что вы за люди? Что вы за звери такие? Ну я же, смотрите, вот!» Им ногу показываю. (Смеётся.) Нога – совсем стёрта, и бинтов сколько потратила, и чуть не взорвалась, и так устала – а вы не могли меня подвезти?!» Они посмотрели на меня – и отвернулись. Вот заразы! Ну, Вы представляете? Вот и юмор был, да. Ой! И смеялись. Потом – надо мной смеялись…
 |
— А охранение какое-то, приданное госпиталю, у Вас – было?
— Охрана? Нет, мы сами охраняли. На посту я лично даже стояла. Помню, когда мы были на Украине, первый раз меня поставили в караул. В лесу. Он был такой хороший, красивый. Мы его прозвали «Булонским». Но потом гусеницы налетели – и весь лес съели за несколько часов. И мы стали, как на ладони. А это только первый-первый наш приём раненых, да. И когда я стояла на посту – я ещё вовсе до этого леса не видела. Я же в городе родилась, да и вообще. И вдруг… (Смеётся.) …там пробежал кто-то. Я, значит – раз! – подала сигнал дежурному по части. Потом – старшине. В общем, подняла такой шум… А оказывается, это – заяц!
А ещё был такой случай: когда я отстояла на посту, там дождь был, всё промокло… Трава вот эта вот, знаете, всё это такое, воздух… И я – устала. Устала от всего этого. (Смеётся.) По четыре часа мы стояли. Особенно с двух до четырёх ночи: вот эти два часа ночью – ой, это страшное… И вот я, значит, легла в маленькую палатку на два человека. На носилки. У меня была напарница, но она работала, а я почему-то на посту стояла. Легла в мокрой шинели и так прямо в пилотке. Лежу. Заснула. Слышу, чувствую, что мне так холодно-то, что такое?! Оказывается, ужи обвили мою шею: и здесь, и здесь, и здесь… (Показывает.) Всё, они греются тоже. Ой! Я как увидела! Я же не знала, что это ужи! Ну, нам говорили, конечно, что здесь жёлтые пятна какие-то. Но я от испуга ничего там не видела и не знала: я давай кричать, там это… стрелять. Я не знаю, чего… прибежали все: «Что случилось?» Я говорю: «Вот». «Ой, господи!»…
И ещё вот про охранение! Мы стояли в Литве. Ой! Это было такое страшное! Под Каунасом дело было, палатки располагались в лесу. Раненые были, конечно. Места все заняты. И была такая палатка, это называлось «газовая гангрена». То есть – гангреновые. И туда я как вошла, так меня уже и не выпустили. Почему? Потому что одно дело – это «чистые» раненые, которые не гангреновые. А эти – должны быть отдельно, чтобы не допустить распространения инфекции. И вот я так с этими и осталась – ходила и кушать что-то приносила им, и… Это было как раз осенью, было холодно, а они же много крови потеряли, да и потом эта гангрена, температура у них высокая. И вот я, значит, и хворост собирала, и эту палатку оберегала. Замаскировала, то есть – всё. И тут мне заявляют: «Понимаешь, - говорят, - мы окружены». Потом приехал этот… как он, разведчик! И тоже говорит: «Мы окружены». И все уехали. Но сказали: «Машенька, ты, дорогая моя, останешься с этой палаткой». С этими ранеными. «Мы, - говорят, - тебя потом заберём». Ну не может быть, чтоб наша армия где-то задержалась. Где-нибудь прорвут, что-нибудь… короче, будут изменения. Видите – всякое может изменение быть. Ну, хорошо, я осталась. И вот я, значит, добывала им – раненым – воду. А воды – не было. Так вот, я ходила, значит, где немножечко снежок если выпал, там где какая канавка – я брала этот снег руками, в котелок, потом резала хвою. Резала – и туда, значит, в этот котелок. Потом у меня это кипело. Буржуйка стояла, маленькая печка, я хворост туда подкидывала. У меня она горела… а потом уже не стало ни воды и ни хвороста. И я ходила по лесу – и вдруг увидела: идут эти… собаки лают! Боже ты мой! Я посмотрела так – видно, каратели. Это в чёрных в этих… кителях. Думаю: «Ну, всё! Заметят мою палатку – и всех расстреляют»…
— А там что же, сплошной линии фронта не было?
— Нет. А понимаете, вот так вот. У нас было всякое… вот такие нюансы были непредвиденные. Почему у нас раненых много было? Потому что сначала – было наступление, а потом – отступили. И отступили – уже ночью. А утром – ещё раненых полно: наши стали бомбить, думая, что мы – это немцы, а мы же уже отступили. То есть, были свои. Под свою авиацию попали, и очень много было раненых. Война – это никогда не под линеечку. Наступай, потом отступай, потом бей там… потом, значит, отдыхай. У нас отдыха этого – не было. Отдыха… мы работали столько, сколько это потребуется, чтобы не было раненых. Самое главное. И чтобы всем была оказана помощь. Вот тогда мы только, сидя где-то, этак прикорнём. Или в тамбуре. Знаете, тамбур – это когда палатка как бы с «прихожей» получается. Мы по очереди… ну не было у нас такого, что там – ты дежурь, а потом другая смена. Нет. У нас были задействованы – все! Все работали. Хирурги – работали! До изнеможения…
— Мария Петровна, мы отвлеклись немножко.
— Ну вот, я про палатку ещё дорасскажу, да? Вот. И я как раз увидела этих немцев. И я вышла, понимаете? Один автомат у нас был на всех… Ну, думаю – всё, погибла. Но я не терялась. Я взяла этот автомат, думаю: от палатки отойду – если они меня заметят, если они меня поймают, то – вот, я одна. Ну, чтобы остальные все остались… может быть, они выживут. И я пошла. Отошла так подальше – и прислонилась к сосне. Вот Вы поверите или нет – как бьётся сердце?! Вот мне казалось, что даже они услышат, немцы. Обняла я эту самую сосну, стою и думаю: «Боже ты мой!» А ребятам сказала – не зовите меня, не кричите. То ведь им утку, то судно, то пить давать или ещё что-то там… ну без конца. Я говорю: «Ради Бога, только вы смотрите, не подводите меня». И немцы – прошли. И вот я захожу – и говорю: «Всё, тревога миновала. Нас не заметили». Они, видать, кого-то искали. Но и я хорошо замаскирована была, и палатка…
— А сколько у Вас там раненых было?
— А раненых примерно… вот как сейчас помню расположение: значит, с одной стороны было десять, там ещё пять и три. Вот сколько. 18. Да, и такие раненые были – все тяжёлые. Ходячих не было, лежачие все. И у меня там был один лейтенант, такой хороший! Ранение в плечо. Вы представляете? Осколочное ранение. Но температура такая высокая! Я не знала, что делать. А он всё: «Сестра!» Я, значит, подойду к нему, а потом стал звать маму: «Мама, мама, ну подойди! Мама, ну подойди! Мама…» Я подошла, сказала: «Ну что, сыночек?» Он же ж не видит. Он уже при смерти. И я говорю: «Что, сыночек?»… И положила ему руку на голову. Вот так положила. Вот. «Мама». И вот… я стою, я сама чуть не плакала. Ну, просто не могла. Ну такой он хороший, такой молодой, такой красивый, такой… и он с перерывами такими говорит: «Мама, прости ты меня, я тебя не слушался, вот поэтому… Мама, прости, прости ты меня». (Плачет.) И целовал мою руку. И я, как мать… ой… (Плачет.) И он – умер. Он умер у меня. Вы знаете, и я взяла – обычно в карманах нужно посмотреть… Мы документы сразу – когда поступают – сразу отдаём в штаб. Документы – самое главное: откуда, часть воинская и всё такое… А письма, фотографии вот все – остаются. Письма – они там никому не нужны. Я нашла: матери он писал и девушке. Я прочитала – и дописала, что он погиб геройски. Такой был командир хороший! Я так хорошо написала, что он отважный был, смелый, решительный: «Вы можете гордиться таким сыном». Ну, он как герой погиб. Вот так я написала. И больше ничего. И его маме и этой девушке отправила. Но не получила ответов, хотя номер своей воинской части написала. Или и они тоже погибли, или – не знаю.
— Свои за Вами вернулись туда? Скоро?
— Да, вернулись. Приехала машина, погрузили их… дали – ЗИС-5. Это более такая серьёзная машина, чем полуторка. И мы эвакуировались. Кончилась операция.
Ещё скажу – насчёт дисциплины. У нас, в нашей армии, дисциплина была очень жёсткая и очень правильная. У нас не было такого, как показывал Михалков, чтобы мы раздевались, голые где-то ходили… Да какое! У нас там и разговора такого никогда не было! У нас разговор только – как себя чувствуешь? Где у тебя ранение?! А я подошла к одному: «Где? – спрашиваю. - Ну что ты меня зовёшь? Зачем? Что, скажи, что случилось?» А он как-то сделал резкое такое движение – и у него артериальное давление прям на меня! И лицо, и халат… кровь брызнула. И я его скорей-скорей потащила в перевязочную.
— Многие же наверняка и умирали ещё у Вас. Так сказать, «похоронная команда» какая-то при госпитале была – или этим кто-то другой занимался?
— Нет, Вы знаете, умирало у нас очень мало. Потому что они не успевали умереть. Время нахождения у нас было небольшое. Мы оказывали только первую помощь – и старались эвакуировать в тыл. Не в такой далёкий, чтобы за 1000 километров. За 30-50. Это считался уже тыл для нас и для этих раненых. Умерших у нас и не было. Мы не хоронили, я такого не вспомню.
А у нас всё очень строго было, все только своим делом занимались. Был случай – одна девушка, которая работала медсестрой, мы её звали Пуговка или как-то вроде Кнопка… я забыла. Она маленькая такая была – и она полюбила майора. А этот майор был танкист. И он приехал как-то перед боем с ней проститься. Мы тогда находились, по-моему, в Прибалтике. У нас раненых не было: мы их эвакуировали – и была передышка. И вот она… он к ней прощаться приехал перед боем. Ну, что здесь такого? Они открыто сидели на возвышенности. И все видели их. Они были, как на ладони. И не целовались, и ничего такого… Они просто говорили: «Вот скоро война кончится, мы встретимся, будем учиться…» и всё такое. Ну и что? А старшина заметил – и всё. И доложил. И её – в штрафную роту. А майор уехал – и потерял свою такую любовь. Потому что её – построили, сняли с неё ремень, погоны… и – в штрафники.
— То есть, любовь на фронте – возбранялась?
— Ой, конечно! У нас и такой был случай. А Вы знаете, даже приказ у нас такой был, когда мы в Восточной Пруссии были? Один офицер получил письмо, что сожгли его хату и сожгли всех родных в этой хате. И он стал мстить. И как он мстил? Изнасиловал эту самую… немку. Всё. А его за это самое расстреляли. Это нам зачитывали на утреннем построении, а не то, чтобы мы сами видели.
— По беременности у Вас уезжали девушки?
— Одна уехала. Она и родила в День Победы. Родила – и получила от американцев посылку для новорождённого. Это – одна. Родила от своего, а американцы почему-то поздравили… она такую посылку получила – не знаю почему. День Победы потому что.
— А романы с ранеными – случались? Или со своим персоналом?
— Нет-нет-нет, и со своими – нет, конечно! И с ранеными – никаких дел… какой там! Ну какая любовь?! Грудь, живот, голова! Может быть, где-то и было, я не знаю… может быть – у легкораненых. Вот у нас был – один тип госпиталя. Там – только армейские легкораненые, госпиталь только для них. Потом – был инфекционный госпиталь. Потом – где-то ещё какой-то. Плюс эвакогоспиталь, который уже – вторая линия. Вторая линия, это который в тыл уже дальше, да… (Машет.) Я так показываю, как будто… (Как будто – на Тот Свет. Смеётся.)
 |
— Когда Вам «Студебеккеры»-то дали?
— «Студебеккеры» нам дали в 1943-м, в конце уже. И то – машин этих у нас формально не было, они числились в стройбате или где-то там наподобие… я не знаю, откуда-то нам прислали такую помощь, когда надо было раненых везти. Десять «Студебеккеров» в тыл везла! Я и водитель. Сидела в первой машине. Лес там с обеих сторон. Смотрю вперёд – перед нами стоит грузовик. Я говорю водителю: «Что такое? Давай остановимся». А раз раненых везла – останавливаться нельзя. Потому что – то пить им, то ещё что-нибудь начнут орать… Вы же не думаете так: «Они раненые, значит – вези их, куда хочешь»? Они свои требования должны выдвигать: то пить, то писать, то ещё… утку, к примеру. Но и этот водитель говорит: «Надо встать». Встали. Я пошла посмотрела: в той машине водитель сидит, баранку вот так вот держит… (Показывает.) Я обращаюсь к нему – он не отвечает. Толкнула, он сразу – раз, вот так – всё. (Показывает.) Он ехал с боеприпасами – и поляки его остановили, «лесные братья»… вся эта машина – полная была, с боеприпасами. И протоптана дорожка в лес, и видно, что по ней тащили это всё. Ну, надо было сообщить такое дело.
А этот водитель в пути потом говорит: «Я, Машенька, очень устал, я так спать хочу!», а там такая колея, в неё проваливаются колёса – и почти не вырулить в сторону. И он просит меня просто подержать руль на ходу, а когда какие-то препятствия будут – разбудить его. Я, значит, сижу, как робот, ни фига не знаю… (Смеётся.) И вот вдруг кончается дорога. Я вперёд посмотрела – там ручеёк какой-то. Я говорю: «Серёжа, ты проснись, ну проснись, ну скорей, вот смотри!» А он никак не просыпается. А где тормоз-то – я знаю. Ну, и затормозила резко. Он, конечно, проснулся: «Ой!» Как он напугался, боже ты мой! Этот ручеек был такой, что надо было его вброд переезжать. Ну, проехали все, всё благополучно кончилось.
Обратно ехали – везли уже боеприпасы. Десять «Студебеккеров» – боеприпасы! Правда, перед тем ребята меня со всеми моими носилками и матрасами высадили… (Смеётся.) Прямо на перекрёстке. А сами поехали за боеприпасами, и меня туда не взяли, в тот район. Вот я стою и думаю: «Ну когда же они приедут?» А дождь – вовсю. Какие там зонтики, ничего же! Плащ-палатки даже не было. Вообще, нам давали плащ-палатки, мы на них спать ложились, куда-то стелили. Потому что на землю же не будешь носилки ставить…
Потом они приехали, грузят мои вещи – и опаздывают уже, потому что там боеприпасов не хватает на передовой. И тут я увидела такое хорошее одеяло в доме разбитом. Пуховое, оно так лежало... Думаю: «Вот хорошо раненых эвакуировать!». Понимаете? Накрывать их. Ах! Полезла туда, в эти руины. Могла бы вообще там провалиться или взорваться. Но всё-таки достала его! Как вдруг смотрю – они, эти ребята, все уехали сразу! Думаю: «О, какая тревога-то! В каком-то населённом пункте в Восточной Пруссии осталась одна с этим одеялом – и что я буду делать?»
А оказывается, они увидели, что едет генерал! И что сейчас им от него будет за то, что они с боеприпасами тут стоят меня дожидаются. Они и умчались. А я иду в одеяле по дороге в ту сторону, куда они поехали: я ж знаю эту дорогу… И подъезжает один офицер: «Товарищ старший сержант, куда вы идёте?» Я говорю: «Колонну догоняю!»… (Смеётся.) А он засмеялся и говорит: «Давай подвезу». Я говорю: «Нет-нет. Я дойду». Ведь я ж посмотрела – ребята впереди как-то там съехали немножечко в сторону с дороги – и меня ждут… ой, и радости же потом было! (Смеётся.) Вот, значит, что про Восточную Пруссию.
— Мария Петровна, Вы упомянули «лесных братьев». Это – Прибалтика, Польша?
— Прибалтика. Мы опять стояли – и населённый пункт был далеко. Ну как «далеко»? Несколько километров. Может быть, 2-3. И мы решили, пока раненых нет и ничьего приказа нет – куда, чего двигаться – остановиться. И там ночевали. Опять меня поставили на пост. Стою смотрю ночью на дом – к нему подъезжает повозка, на этой повозке стоят какие-то ящики, ящики, ящики… Думаю: «Хозяин был вечером дома». А у них же там всё хуторами. У них же нет деревни… И вот, подъезжает кто-то к погребу, где хранят картошку, подвал там. И туда начали выгружать. Ящики. Я стою, всё это вижу. И с поста не могу уйти. А дать мне какой-нибудь сигнал, стрелять – он заметит. Так дождалась, когда придёт смена. Сказала всё-всё. И вот это были «лесные братья». Так он снабжал их. Оказывается, это когда вскрыли – там нашли столько всего! Это был целый арсенал всяких оружий и боеприпасов. А хозяин был – вообще самый такой заядлый… сволочь, короче. Ему было лет 35, может быть – 40. Не старый. И мне, значит, тогда – благодарность!
— А в Польше Вы лично не сталкивались с «лесными братьями»?
— Вот я стояла и там тоже на посту. А нам перед тем объявили, что одну нашу переводчицу поймали немцы… то есть, поляки – и, значит, отрезали ей грудь и язык! И я так и стояла на посту – и боялась. Вы не можете себе представить, что я просто прямо вся дрожала! А сапоги были мокрые. Потому что мне валенки дали, это валенки были. Они же не просыхали. Я туда и соломы, и сена, и кто его знает, чего туда… газет. Сушки и сапог-то не было… И я всё туда натолкала, а они не сохнут. И я иду, а они такие намёрзли снизу льдом – и гремят. Как на каблуках всё равно. Иду – стучу. Так я потом там на посту встала – и никуда не отходила, вот так вот смотрела во все стороны. Всё, как положено! И когда я уже отдежурила, я думаю: «Господи, это ж я такое прошла прямо испытание!» Честное слово! Так что и там тоже были «лесные братья»…
— А немцы – не попадали к Вам в госпиталь?
— Нет. Немцев у нас не было. Я только взяла в плен одного. (Смеётся.) На подступах к Берлину. Уже мы знали, когда война кончится. Девчонки мне всё время: «Маша, ты, - говорят, - снимай пробу. Пробу снимай!» Мы шли так быстро, что кухня отставала. И пришлось нам питаться, значит, тем, что после немцев там осталось. У них же знаете как – заходишь на кухню, там вот так вот нажмёшь кнопочку, раз – стенка отодвигается, а там такие полочки! А там, значит, запасы. И такие, знаете, трёхлитровые или двухлитровые банки стеклянные, и стеклянная крышка. И всё законсервировано. Утки там, индюшки... И всё прям видно, прозрачно. И желе – такое вкусное! А девчонки мне говорят: «Так, чтоб мы знали, что не отравлено». А у нас был приказ: «Все животные, которые ревут – они ревут, потому что не доенные, не кормленные, ни пить им нету… поэтому – напоить, накормить и всё такое». Ну, я, как городской человек, ни фига не понимала в этом деле. (Смеётся.) Я, значит, по подвалам. Думаю: «Может быть, в подвале немцы». Я всегда проверяла подвал и чердак. Потому что, когда я была в этом… в Восточной Пруссии, город Остероде – это эсэсовский город! Это такой, понимаете… там награблено со всего Советского… со всего мира. Там каких только нет! И я увидела комбинацию московской швейной – как его… «Большевичка», кажется? Вот, я уже забыла. Нашла батистовую: такая красивая, вышитое всё. И я её взяла. Думаю: «Надоело мне это военное». Ну, нам давали форменное, знаете? Как гейша, вот так вот – с длинным рукавом… (Показывает.) …летом – тоже знаете как. И я, значит, положила её себе. Потому что до этого нам всё время по мужскому образцу исподние рубахи давали.
А у них там пятиэтажные дома были, в этом Остероде, и обучали воевать даже старух древних. И все там эсэсовцы жили. Почему я знаю – по одежде. Когда мы заходили в помещение, то в гардеробе – всё «SS». Так вот, там старуха стреляла с чердака. А я стояла внизу. А она била из пулемёта – лишь бы кто-то шёл! То есть, не определённо в кого-то: офицера там, генерала. В любого. Я доложила старшине. Потом – дежурному по части. Полезли туда. Нашли. Такая древняя старуха! И – пулемёт стоит. И она строчит. Я не знаю, что с ней сделали. (Несколько раз повторяет.) Не помню, не помню, мне кажется… не знаю, в общем, я – сказала, указала, а остальное – ничего не помню. Не знаю. Да.
А теперь, значит, я вернусь к рассказу, когда пробу снимала с этих готовых продуктов. А клубника! Была такая, знаете, ну и там написано везде. Они ж очень аккуратные, немцы. И всё – какого числа, какого года заготовка. Всё так вот красиво. А потом думаю: «На чём сижу, интересно? Кажется, чего-то открывается». Вот я такая была, какая-то ненормальная, может быть. Вот. Чего-то открывается – открыла. А там! Такими целыми рулонами материал! Я только себе отрезала на посылку. Думаю: «Война кончится, но мы ещё будем здесь, так я, может быть, на посылку пошлю». Там как раз разрешали. Я оторвала на посылку. А остальное – всё.
Покушала, девчонки смотрят на меня – и говорят: «Ага, зрачки не расширяются, всё такое нормальное. Маша, ну скажи, что у тебя болит?» Я говорю: «Ничего у меня не болит. Голод, - говорю, - утолила». Они говорят: «Надо ещё подождать минут десять». Я говорю: «Ну, ждите. Ещё, - говорю, - пойду что-нибудь найду».
Все стали кушать. А я полезла в подвал. Иду – всё чисто, всё не то, как у нас в подвалах: ужас. Иду – лестница, всё такое чистое, всё такое открывается. Открываю дверь. Немец сидит. Здоровый такой, рыжий. Я: «Хонде хох!» Он сразу – раз! Я говорю: «Шнель, шнель!» Он за мной идёт, никаких сопротивлений, ничего. Дальше не могла уже говорить: не знала язык. Вот выступала в университете перед студентами, которые учат иностранные языки, и говорю: «Видите, какой пробел был?!» Что я не знала, что ему сказать. Спросить. Только несколько слов. Так повела я его… (Смеётся.) …в штаб. Веду с автоматом. Он здоровый такой, как горилла, понимаете? Он же мог мне ударить ногами, у него ноги такие длинные, и вообще… Он молчит. Я молчу. Привела. А надо мной начали смеяться: «Где ты его выкопала? Там уже скоро война кончится, уже к Берлину подходят, а ты немца нашла! В плен взяла!»… Ну, смеялись там. Потом говорят: «Ты сделала хорошее дело. Для немца этого. Он же не воевал! А был – это… дезертир». «Ты ему сделала, значит, добро: хорошую справку мы ему дадим, он будет жить и радоваться, а нам пленных не нужно. У нас, - говорят, - плен – всё… мы уже, - говорят, - не берём».
Потом мы больше не брали там, где уже были, немцев. А они всё сдавались. И мы к Берлину подходили – из окна, из форточки – белые тряпки висят. Ну, в смысле – то, что они сдаются. Простынь там или рубашка завязанная вот так вот. (Показывает.) Всё это было.
— Есть ли у Вас боевые награды, полученные прямо на войне?
— «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», и ещё «День Победы в Германии». Я прошла от Москвы до Берлина. Расписалась на Рейхстаге. В День Победы я была там. Спасала раненого француза, сдала кровь ему, сделали ему операцию в День Победы. А он – умер, потому что его нашли, когда очень он много крови потерял. И кровь моя… откуда француз взялся, лётчик или кто, что – не знаю. Мы не знаем, откуда он и что. Но – француз. Молодой парень. И – запомнила – у него такие плавки были! Такие красивые, что я таких красивых никогда не видела. Я сдавала кровь непосредственно от меня ему. Сколько взяли – я не знаю. Ну и кто операцию ему делал – сейчас уже этот хирург умер.
— Что Вам ещё тогда запомнилось в Берлине?
— Когда шли мы в Бранденбургские ворота – их уже ремонтировать начали. Это же надо! Ремонтировать! Потому что там отбито было много… эти ворота должны были территорию поделить. Тогда делили уже: где, кому… Зоны оккупации. Мы прошли, и я говорю: «Хочу посмотреть, какое метро у них. По сравнению с нашим». И пошла. И врача взяла с собой, чтобы подтвердил тоже, а то не поверят. (Смеётся.) И вот идёт этот врач со мной, он москвич тоже… (Смеётся.) Он и говорит: «Ты почему, - говорит, - туда? Ай, ну зачем метро? Ну его! Пойдём посмотрим лучше, как театры, как там культура…» А я говорю: «Нет-нет-нет, хочу именно метро посмотреть – и всё». «Ну иди, - говорит, - упрямая такая – иди». Я и пошла.
 |
А там, значит, подходит ко мне немец. Гражданский. Пожилой. Лет 50-60 такой. И вот он говорит: «Русские! Я Вас приветствую!» На русском языке. И сказал, что американцы и все эти союзники бомбили только населённые пункты: то есть – чтобы именно гражданских убить. А военные объекты они не бомбили. Вот так он сказал. Я говорю: «Я хочу метро!», он говорит: «Пойдемте, я Вам покажу. Вот эти две остановки затоплены и, - говорит, - здесь закрыто». Я говорю: «А кто затопил?» А он: «Приказание Гитлера было – открыть шлюзы. И всех своих он затопил». А потом, когда я дальше вошла в метро в другой вход – который действует – там чисто всё. Не затоплено. Посмотрела, думаю: «Что же это за «метро»?! Это как подвал или какой туннель». Просто побелено. Никаких красот, ничего. А я – патриот своей Родины. Я говорю: «Что это за метро?! И ещё, - говорю, - с нами воевать решили! У нас метро – такое, как музей!» (Смеётся.) Это же вообще прелесть!
Когда было 30 лет Победе, я уже с мужем ехала в Москве на метро – и вдруг подходит такой человек:
- Машенька, ты? Пятая танковая?
- Да.
- Ой, я же у Вас лежал, я же такой был больной, а помните, как я убежал от Вас? Без сознания, в лужу, а Вас за это наказали!
- Помню этот случай. Это Вы?
- Я потом выздоровел – и ещё раз был ранен, и ещё, и попал на лечение от тифа.
Ну, посмеялись…
- Я, - говорит, - Вас приглашаю сегодня в ресторан!
- Спасибо, но мы уже сегодня уезжаем с мужем из Москвы.
- А где Вы?
- В Бресте.
Ну, в общем, вот так вот было… Такие были встречи! А ещё приезжали мы как-то – и приходил наш командующий. Ротмистров! Как мы его встречали! Как он встречал! Нас было 150, а он с каждым – за руку! Спросил, как здоровье, как живёте, не обижает ли нас кто… И он так обнимался, так целовался! А потом – всё хуже, а уже 40 лет когда Победе было – он стал совсем больной. И его привёз на эту площадь брат. Мы встречались – знаете, где Большой театр? Да. И он, значит, вышел из машины – и его ведёт брат. И он на ступеньках так вот… (Показывает.) …знаете, трудно ему было стоять, но он все равно: «Дорогие мои! Мы выиграли войну! Живите! Живите долго! Живите долго и здоровья Вам!» И ушёл. И, Вы знаете, никогда он с нами не был за столом… а мы останавливались в гостинице «Россия». И там питались в ресторане. Вот так. А ещё теперь расскажу уже личное, можно?
 |
— Ну конечно!
— Было это под Прохоровкой. Я сдала кровь раненому. Я его совершенно не знала: он – танкист, но танкистов же ведь много! Я, конечно, не была с ним знакома, никаких… не переписывалась, ничего. И вот я подошла к столу в ресторане, когда уже заканчивался наш торжественный ужин.
- Ребята, - говорю, - а вы откуда?
Смотрю – а у них на столе не то, что нам подавали, а у них – икра! У них всё такое прям куском таким большим! Всё так обильно – и такой стол! И они мне:
- Мы – сибиряки. Из Красноярска.
О! Я говорю:
- Боже ты мой! Интересно, как этот человек – живёт он или нет? Ну, я не знала ни фамилии, ни имени. Понимаете? Был такой сибиряк, раненый, я ему сдала кровь, упала, когда закружилась голова. Прямое переливание было. И он запомнил, открыл глаза и посмотрел на меня. Он слышал, что меня называли «Машенька». Потом я пошла опять на дежурство – и больше его не видела.
- А, - говорят, - да, мы подумаем, кто же это такой был…
А там с ними этот же раненый сидел! Ну, он вспоминал. Потому что он был много раз ранен. А когда вспомнил – вышел, ждёт… смотрит, а меня уже нет.
А я поехала к своему брату. У меня же брат ещё был. Вот этот, который чемпион по боксу. Он был на Дальнем Востоке, с Японией воевал. А там – какая война?! Это не война, а так… Но он там воевал, радистом был. Я и поехала его поздравить.
А тот сибиряк меня стал искать, написал врачам нашим, и Липкин – замечательный человек, чудесный офтальмолог, который, к сожалению, уже умер – нас соединил… люди соединили. Год целый мы переписывались! П потом он мне прислал письмо: «Машенька, если ты меня не спасёшь второй раз, то я погибну». И как-то прям жалко стало мне его. Он имеет два ордена «Красной звезды», орден «Отечественной войны I-й степени», орден «Отечественной войны II-й степени», медали, всё… Он такой боевой! Настоящий сибиряк и настоящий танкист. Ну и я думаю: «Чего мне одной тоже жить?» И вот мы решили: он остался один, я осталась одна. И поехала я к нему туда. И полтора года там жила. Устроилась на работу, поскольку молодая была, когда 17 лет мои и пригодились. Я устроилась на работу на машиностроительный, по чертежам могла читать. Получала больше него. Он 120, а я 170. Ой, какая красота! Ой, а как в Сибири хорошо! А как Сибирь! Такая она суровая кажется! Какая она… А какая свадьба была! Тринадцать человек. И в таком хорошем зале! Вот это всё вот так вот и было. Я Вам рассказала всё без всяких прикрас. Без всяких преувеличений.
— Ясно. Большое Вам спасибо.
| Интервью: | А. Пекарш |
| Лит. обработка: | А. Рыков |