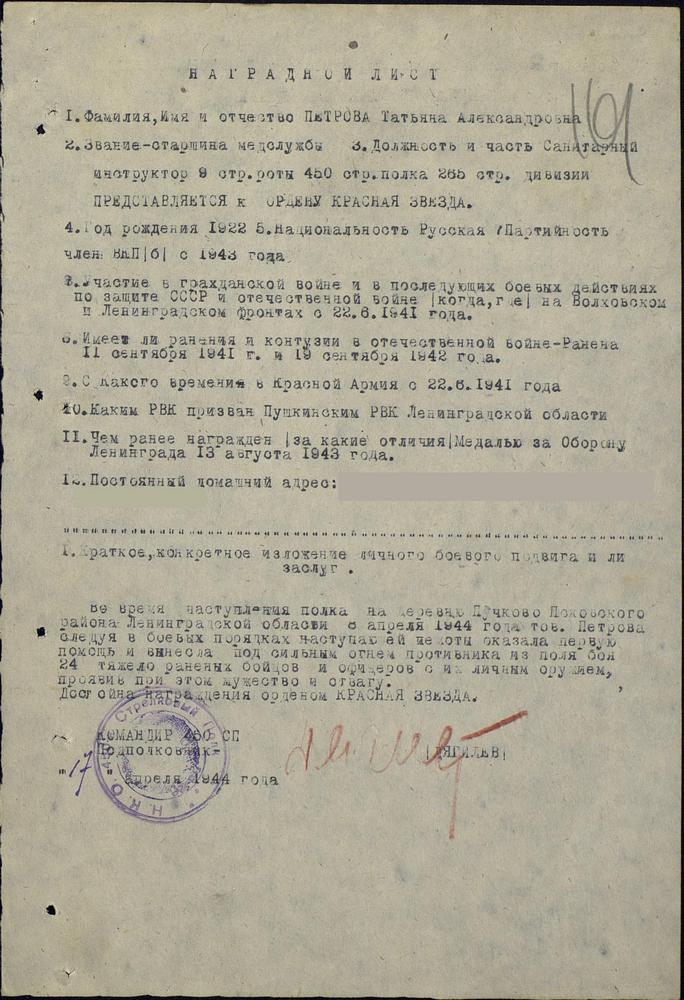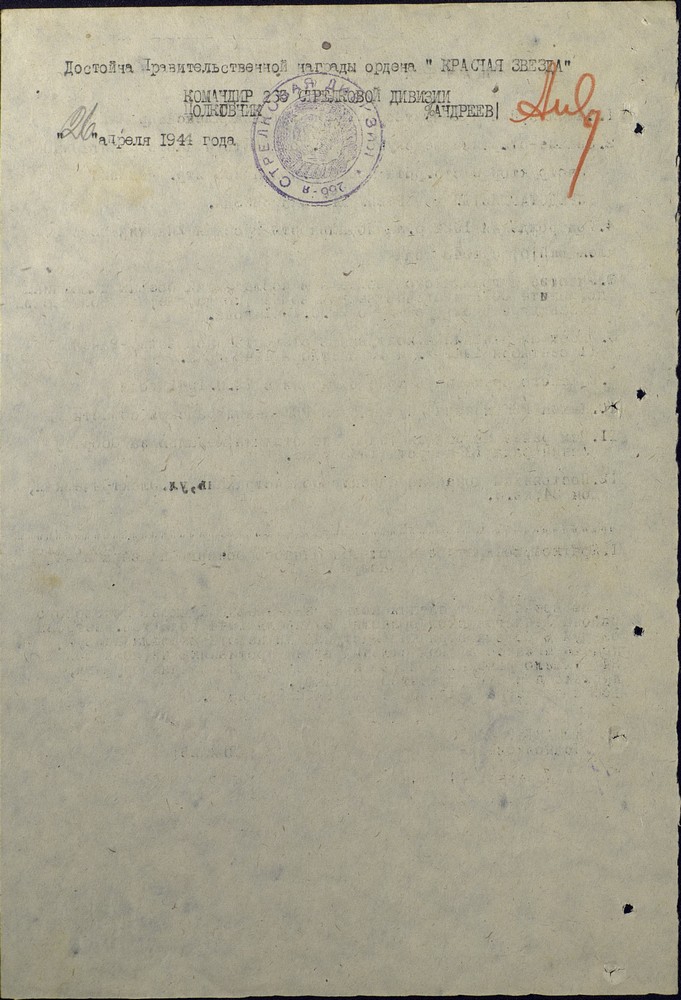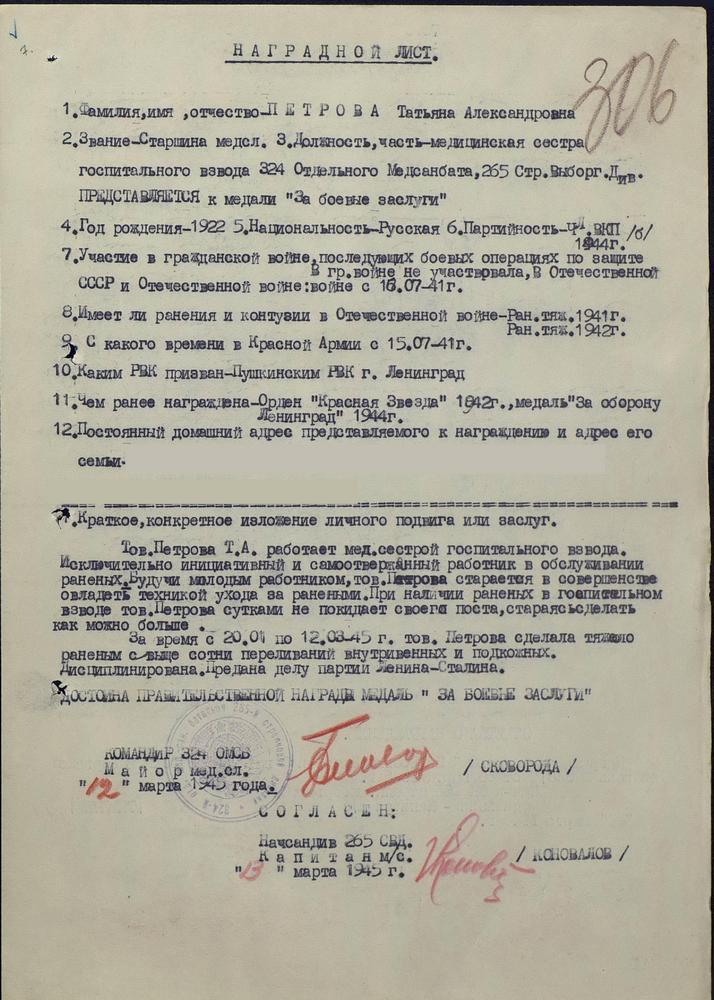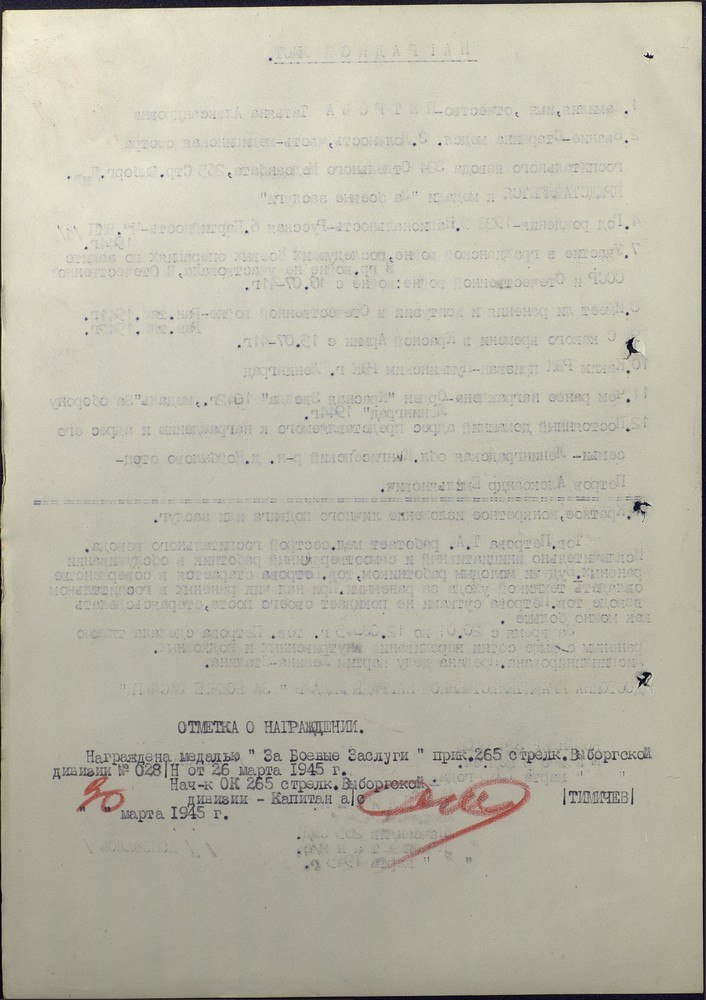Два человека независимо друг от друга взяли у Тамары Родионовны интервью. Интервью получились очень разными, и мы решили разместить оба на нашем сайте.
Интервью Баира Иринчеева
Часть первая. Ленинградский фронт
Училась я в Пушкине после девятилетки, в агрономическом техникуме. В 1940 году я кончала курсы медсестер. Это уже, по всей вероятности была подготовка Советского Союза к событиям, о которых никто из нас не знал и не думал. Курсы эти были добровольные, в местном РОКК (Районном отделе Красного Креста). Поскольку я мыслила быть медиком, пошла на эти курсы. Закончила в мае месяце сорок первого года, и училась. Май месяц, сдаем экзамены. Двадцать второго июня была подготовка к еще какому-то экзамену, и мальчишки кричат: "пойдем в Парк Победы (Александровский парк) готовиться!" Мы, девчонки, все собрались и пошли туда. Как готовились? Купались, играли в мяч, никакой подготовки не было. Я забралась в озеро, купаюсь, вдруг кричит мне эстонец, Эдвард. Кричит: "Татьяна, выходи, война!" Я подумала, что он шутит. Говорю ему: "что ты болтаешь тут?" - "Иди, сейчас буду выступать про радио". Я не поверила, но из воды вылезла. Одеваюсь, и мы побежали из парка. Все бегут как сумасшедшие из этого парка, каждый по домам. Мы - в техникум. Учителя в фойе стоят, друг другу что-то шепчут. Директор объявил: на нас напали немцы, идет война, и нас всех распускают по домам. Кто жалеет остаться здесь - тот может оставаться. Я подумала: "нет, я пойду в райком комсомола". Директор говорит: "если кто хочет, может идти в райвоенкомат, в райком комсомола, в РОКК". Таким образом, нас осталось девятнадцать человек. Пошли демонстрацией в райком комсомола, в райком партии, в РОКК, в райвоенкомат, в горвоенкомат. Везде очереди такие, что не пробраться. И все идут добровольно. Особенно мальчишек много, лет шестнадцать-семнадцать. Их сразу отправили обратно к родителям, так как у них не было призывного возраста. Споры, крики, слезы, короче, у всех желание такое было, что сейчас я вообще не понимаю: как можно было так с ума сходить, чтобы пойти на войну.
Мы остались, из горкома партии приходят три человека, и нас одиннадцать человек отбирают в подпольную организацию при Пушкине. Я, конечно, в первую очередь. За мной Галя, Валя, Таня, еще девочка была. Так мы остались как бы на казарменном положении. Нас готовили, что если немцы придут, то мы останемся при горкоме партии в подполье. Какие задачи - это потом нам должны были говорить. Войска уже продвигаются немцев, это уже конец июля. Вдруг приходят два майора, прямо в РОКК. Просят дать два-три сандружинника или сандружинницы на передний край. Я первой, Галька за мной, и Татьяна! Совершенно забыли, что мы должны остаться в подполье. И в голове не было у меня уже. Эти два майора нас сразу забирают. Оказывается, это из 10-й стрелковой дивизии, которая брала Стрельну, и т. д. Галька осталась при штабе дивизии, потому что она на машинке хорошо печатала, а меня отправили в 62-й полк, 3-й дивизион полковой артиллерии. Кадровый офицер там был Викторов. Ему было лет сорок пять, очень культурный человек.
Первые мои бои были под Стрельной и Петергофом. За эти десять пятнадцать дней Викторов научил меня кататься на лошади - тогда же была лошадиная связь, пушки только на конной тяге, поэтому все в артиллерии должны были уметь кататься на лошади. В первый раз, когда он объяснил мне, как садиться на лошадь, вдруг хлопнул вежливо по лошади, и говорит: "Маша, седок не умеет обращаться с лошадью, осторожно". И вы знаете, ехали мы и попали под обстрел. Лошадь становится на колени, ложится, меня стряхивает, и ногами - помню как сейчас - ногами меня берет под живот свой. Я боюсь, что она меня копытами порвет всю, кричать тоже боюсь, а она меня головой пригибает к земле - лежи. Это уже потом мне капитан объяснил мне, что было. Артобстрел прошел, лошадь встает, встряхивается, я тоже. Она на колени встает: мол, садись. Вот в первый раз я на лошади попала в такую ситуацию. Потом Викторов мне объяснил, что лошадь умная, обученная, и знает, как вести себя под обстрелом.
Звание мне присвоили - старшина медслужбы, поскольку я прошла десятимесячные курсы. Чтобы получить звание постарше - младший лейтенант или лейтенант, нужно было дополнительное образование. Это образование давали тем, кто техникум закончил или еще что, а у меня ничего не было закончено. Так я всю войну провоевала старшиной медслужбы.
Попала я под Стрельну в тот момент, когда моряки шли в рукопашную в лесу. Они так дрались! В двух руках были ремни, пряжками наружу, и дрались с немцами. Они все были обвешаны патронами, что за ружья у них были, я не знаю, тогда не разбиралась еще. Помню только, как они дрались пряжками ремней. Это было жуткое явление. Сколько я перевязывала, я даже и не знаю. Когда бой закончился, я даже и не боялась уже вроде ничего. Я только помню моряков, бивших немцев по головам пряжками по всему лесу. Просто непонятно, как это можно так драться. Из боя вышли, целый день дрались, по-видимому. Бой если не весь день длился, то часов пять-шесть точно. Стало смеркаться, немцы отошли. Мы стали приводить себя в порядок. Умылись, стали раненых в тыл отправлять. Я все еще перевязывала, вся в крови до локтей. Мне принесли воды, я умылась, смотрю - сумка пустая, ни бинтов, ничего нет. И я поехала по дороге на ППМ - полевой пункт, получить медикаменты. Мне сказали, где он находился, я туда прибыла, получила медикаменты, полную сумку перевязочного материала. Иду обратно, и вдруг едет повар наш. Я повара уже нашего знала тогда, за несколько недель познакомилась. Он говорит: "О, Татьянка!" На фронте меня Татьянкой прозвали, не знаю, почему, даже сейчас, когда письма получаю, все Татьянкой зовут.
Вот повар мне и говорит: "Татьянка, садись, подвезу, я как раз на передовую обед везу". Я села, и попали мы под бомбежку. Нас разбило. Меня, по сути дела, завалило землей. И хорошо, что завалило, так бы осколками убило, наверное. Провалилась под землю, и меня откапывали. Лошадь убило, повара убило. Помню, слышала: "Вот она! Вот она!". Откопали меня, положили на носилки, и сразу на ППМ. Там говорят: "так она только что тут была!". А я все слышу, но не говорю. Что они не пытаются у меня спросить, сказать не могу, но все понимаю. Короче говоря, меня перевязали и отправили. Я не знаю, откуда, но вскоре всех раненых погрузили на баржу и отправили в Ленинград. Через какое озеро нас везли - я до сих пор не знаю. Бомбили нас - только прямого попадания не было. Все шумели, кричали, особенно раненые на барже. И вдруг слышу голос раненого, что лежал около меня: "товарищи, без паники. Без паники, успокойтесь, мы доедем, спокойно. Без крика". Еще несколько раз это сказал. По-видимому, это был человек грамотный, офицер, я так определила.
В Ленинграде нас привезли на Обводный, дом 19. Разгрузили. Только меня прооперировали, сразуже стли всех выносить. Началась бомбежка Ленинграда. Врачи кричат: "выносите ее скорее! Выносите!". И только меня в тамбур бомбоубежища занесли, как бомба попала в операционную, всех там убило. Кто был в бомбоубежище, те все спаслись. А так многие погибли, и те, кто лежал, и те, кто был в операционной. С Обводного нас отправили на Васильевский, в ДК Кирова, он и сейчас Домом Культуры является. Там я лежала, там был госпиталь. Там я пролежала с 17 сентября по 25 января 1942 года. Кормили в госпитале более-менее. Три раза в день, чая сколько хочешь давали. Паек, конечно, был ограниченным. Хлеба давали два кусочка, масло, мне хватало. Вспоминаю, что мы особенно не голодали. В обморок никто не падал. Но все ограничено.
В 10-ю дивизию я не попала, как не пыталась ее найти. Никто ничего не говорит, но когда мы уезжали, кто-то послал записку: "Уезжаем на Пороховые". Я все Пороховые обошла, но так и не нашла 10-й дивизии. По направлению я попала в 36-й запасной полк. Он стоял в Политической училище имени Энгельса. Я сопровождала маршевые роты через Ладогу, Дорога Жизни уже была открыта. Так я сопровождала маршевые роты два раза. На третий раз доктор мне говорит: "знаешь, Татьянка, хватит тебе мотаться по морозу такому. Поведешь в третий раз маршевую роту, и оставайся там, за Ладогой". А я не могла остаться, потому что здесь, в блокаде, повстречала однокашника своего из моей деревни, с которым еще в восьмилетке училась. Он такой был худой, и я его подкармливала. Я ему отдавала сухари, сахар, что мне давали. Мне было жалко его бросать, он такой был худой. Поэтому я просила, чтобы меня оставили в блокаде. Но мне приказали не оставаться, не возвращаться. Между прочим, этот Виктор, после войны написал своей матери письмо, что он встретил Таню, и она, очевидно, работала в столовой, потому что я его целую неделю подкармливала. А я сама уже до такой степени дошла, что сама падала. Вот поэтому доктор меня и заставил остаться на Волховском фронте. Таким образом, я попала в 265-ю стрелковую дивизию. И там я пробыла всю войну, в этой дивизии. В этой дивизии была дважды ранена, но находила свою дивизию. Один раз целый месяц искала, но нашла.
Часть вторая. Волховский фронт
Пришли, роту сдали, и я осталась в кадровом отделе дивизии. Я говорю: "пошлите меня на фронт". Меня Тоерван спрашивает:
- А что ты там будешь делать?
- Раненых перевязывать
- А ты что, не знаешь, что это такое?
- Знаю, я уже в госпитале побывала, ранена была
- В госпитале уже побывала? Ну, милая моя! А зачем тебе на опять на фронт? Надо раненых перевязывать.
- Ну, прежде чем на фронт, пойдешь к нам в учебный батальон, у нас там санинструктора не хватает. Пойдешь к Ершову.
Я спрашиваю:
- А как Ершова зовут?
- Петр Тимофеевич
Дело в том, что я после того, как закончила школу, год работала у директора машинотракторной станции Петра Тихоновича Ершова. А когда услышала, что в учебном батальоне Петр Тимофеевич Ершов, я забыла, что того директора Тихонович звали. И сразу говорю - "О, я к Ершову тогда!".
Пришла в учебный батальон, отрапортовала по-военному - я боевая дивчина была. Ершов, командир учебного батальона, на меня смотрит, говорит:
- Вот какая боевая дивчина!
Я ему говорю:
- Мне нужен Ершов Петр Тимофеевич.
- Это я.
Я на него смотрю и говорю:
- Нет, это не Вы. Мне нужен Ершов Петр Тимофеевич, я обратно пойду.
- Я - Ершов Петр Тимофеевич.
- Я у Вас не останусь.
Он звонит в отдел кадров Тоервану и говорит: "Что вы мне за дивчину прислали? Ищет тут Ершова Петра Тимофеевича, и говорит, что это не я!". Короче говоря, я была вынуждена подчиниться приказу и остаться там. В учебном батальоне был врач и я, и один санинструктор, Красоткин.
Этот батальон принимал всех, кто направлялся в дивизию, то есть пополнение. Все они шли через этот батальон. Была стрелковая рота, минометная рота, пулеметная рота, снайперский взвод, артиллерийский взвод. Все пополнения проходили подготовку. Иногда эта подготовка занимала месяц, иногда две недели - если бои идут, то стрелков готовили неделю-две, и отправляли по полкам. Учебный батальон все время участвовал в боях, если дивизия наступала, то учебный батальон тоже наступал. То есть он выступал в роли резерва дивизии. Какому полку трудно, то выделяли двадцать, тридцать человек из учебного батальона на усиление полка. Туда, куда рота идет, я шла вместе со всеми. Вот так я пробыла в учебном батальоне. Потом, после снятия блокады, когда Волховский фронт закрылся, батальон расформировали, и я попала в 450-й полк. И с этим полком я закончила войну. Правда, после освобождения Варшавы меня перевели в 324-й медсанбат по приказу начсандива. Там я работала медсестрой в терапевтическом отделении.
Волховский фронт был самым страшным наверное, из всех. Потому что там торф. Там всегда была страшно - копать нельзя, вода. Каждый раз, как весна, везде по колено воды. Воду ведрами вычерпывают из землянок, траншей, да разве ее всю вычерпаешь! Выливали тут же, рядом, и вода шла обратно. Так что утром в землянке просыпаешься, и почти плывешь. Встать было невозможно. Зимой было страшно тем, что все замерзало, да так замерзало, что было не окопаться, скрываться было негде. Если в землянке вода замерзала, то было уже невозможно - как затопят ребята буржуйку, так все растает, и печка в воде. Потом было очень сложно держать оборону. Но продержались там весь 42й и 43й год. Наступления велись только по приказу Ставки, для того, чтобы немцы не могли перебросить войска с этого участка на другой. Задача не была продвинуться вперед, а только с тем, чтобы немец не снял войска с Волховского фронта. Это была наша общая задача 2-й Ударной Армии и 54-й Армии. Мы с дивизией занимали Синявинские болота, участвовали в обеих Синявинских операциях, там я была еще раз ранена. После ранения сумела найти свою дивизию и вернуться в нее.
Я рассказала уже, какие там были страшные болота. Хозяйство учебного батальона стояло в примерно в 1,5 - 2 километрах от переднего края, чтобы повар мог готовить пищу и потом нести ее в термосах на передний край. В конце августа 1942 года командир батальона Костюков и комиссар Кудрявцев решили пойти на передний край. Они каждый день ходили на передний край, но меня с собой брали не каждый раз. Я была на передовой только когда нужно было, когда бои шли, а так я находилась в хозяйстве. Они меня на передний край не брали. А я их всегда подкарауливала. Пропущу их метров на 100-150 вперед, потом сумку в руки, и иду. Болото было такое, что до колен проваливались. Они проваливаются, идут, небольшие кустарники вокруг, как всегда на болоте. И вот в один такой прекрасный день мы попали под бомбежку. Гудят самолеты, я голову подняла, сосчитала - 27 самолетов. Мы считали тогда, что в каждом самолете по три бомбы обязательно, и думаю "ни черта себе! Сейчас же все разнесут". А на сопке, где было наше хозяйство, были не только мы, но и КП дивизии. Я скорее бежать к ним. И только я побежала, комбат Костюков повернулся, кричит: "а ты зачем здесь?". За шиворот схватил и пригнул к земле. И тут бомбы начали падать. И представляете себе, ни одна бомба не взорвалась - такое было болото. Потом нас разбросало - после того, как комбат меня пригнул к земле, я его потеряла из виду. Я упала на землю, спряталась, и держалась за куст. Я до сих пор слышу плач земли - когда бомба уходила в землю и не взрывалась. Нас спасло только то, что не было прямого попадания. Комиссар Кудрявцев побежал вперед. После того, как все утихло, я увидела комбата - без фуражки. А он ведь был кадровый офицер, пограничник из 106-го погранотряда. Наша дивизия ведь была вся сформирована из трех погранотрядов. И когда я увидела комбата, я сама не знаю почему, я рассмеялась. Я стою как дура и хохочу. Он был как зверь - весь во мху, голова во мху, гимнастерки не видно, все во мху, даже лица не видно. Короче, я расхохоталась. А он меня гораздо старше был, лет сорок пять ему было. Он рукой утерся, и говорит мне: "ты чего смеешься? Ты думаешь, ты лучше выглядишь? Жаль, зеркала нету, а то бы я показал тебе!". Начали отряхиваться. Тут он спрашивает: "а где комиссар?" Смотрим, идет комиссар, и весь точно такой же, как мы. Они стали искать фуражки. В общем, нашли. Я была от комбата метрах в пятнадцати. Так нас разбросало. Отряхнулись, в порядок себя привели, и вдруг артобстрел. Когда мы отряхивались, комбат говорит "сейчас будет артобстрел". Я спросила: "а почему?" Он отвечает: "порядок у них такой. Если был такой налет, то немец точно начнет артобстрел". Так и вышло. И накрыли они как раз нашу сопку. КП дивизии здорово побило. А наши землянки учебного батальона вообще разбило все. Там оставалось в землянках 15 солдат хозяйственного взвода, и я бы была в их числе, если бы не ушла за командиром. И когда комбат почувствовал, что артобстрел идет по КП дивизии, он говорит: "Ну все, надо возвращаться. Сейчас пройдет артобстрел, и пойдем в хозяйство. На передний край пойдем позже, ночью". И когда мы пришли на сопку, там все было разбито. Здорово они нас тогда побили. Землянка в четыре наката, бревна толстые - сколько попаданий в нее было - неизвестно, но факт тот, что бревна были все разбросаны, и все ребята кучей лежали мертвые. Я как сейчас помню - комбат встал, помотал головой, и говорит: "что будем делать?". Мы все молчим. Постояли, постояли. Кухня разбитая, вся еда вытекла, и первая, и вторая. Потом комбат говорит: "давайте работать". Я сначала не поняла, о чем он. Оказывается, он о том, чтобы трупы из землянок вытаскивать. Они трупы вытаскивали, и складывали их ровно. Мне приказали доставать документы, и каждого записать. Я достала блокнот, забрала у всех документы и записала адреса всех. Всего их было 15 человек. Теплые тела, но все убитые. Все в крови. Страшное было дело. Потом пришли еще солдаты, всех погрузили на носилки, унесли, похоронили. Вот такие были Синявинские болота.
Когда началось окончательное снятие блокады Ленинграда, там у нас уже был сильный наступательный порыв, да и привыкли мы уже к такой войне. Только ждали, когда начнется наступление и мы наконец покинем эти болота. Дважды мы участвовали в Синявинской операции, и каждый раз было такое чувство "скорей бы, скорей бы!". Один раз был хороший успех, мы заняли Синявино, но немцы оставили в землянках и жратву, и спирт и водку. Заняли три линии немецких траншей. Наши дураки, солдаты, там и напились. И из-за этого все пострадали. И командир дивизии пострадал, и батальоны пострадали, поснимали многих. Потому что на второй день немец пошел и отбил все траншеи. Наш батальон страшно пострадал - всех поснимали, командиров рот, командира батальона. Командир дивизии Ушинский тоже был наказан, хотя его не сняли. Он был бывший офицер царской армии. Гуманнейший и культурнейший человек. Ушинский Борис Николаевич. Мы все его очень любили, прекрасный был офицер. Звание у него было всего лишь полковник, больше ему не давали, наверное, из-за того, что он был бывший царский офицер. Тогда мы об этом не знали и не думали. Это сейчас я предполагаю, что ему не давали звания из-за этого, а тогда мы этого не понимали. Сапоги у Ушинского всегда были начищены, подворотничок накрахмаленный, чистюля, всегда выбритый. От всех он этого требовал. Поэтому наша дивизия была более культурной, чем остальные. Ушинский даже такой приказ отдал: если завтра в бой, в наступление, то у всех солдат должны быть чистые подворотнички, я отдавала во взвод бинт широкий, и все подшивались. В дивизии была построена хорошая баня, мылись через 10 дней. Когда многие ветераны рассказывают, что у них в их дивизиях не было бани, я всегда говорю, что у нас баня была. По-видимому, это все зависело от командира дивизии. У нас был хороший клуб, на болоте поставленный, я помню, Шульженко приезжала молоденькая. Пела "Синий платочек". Худенькая, молоденькая, длиннолицая. И как раз во время ее выступления начался артобстрел. Мы все в клубе слушали ее стоя, а она была на сцене, так что мы ее все видели. Помню, что нас стало засыпать землей, но осколки не попали. Она не побоялась, только отряхнулась, и продолжала. Она еще много песен пела, но "Синий платочек" запомнился больше всего. Она потом еще раз приезжала к нам на Волховский фронт, и опять выступала.
Во время прорыва блокады убило в полку командира второго батальона. И Костюкова, нашего комбата, перевели туда командовать батальоном, а нам дали Середу, старшего лейтенанта. Пришел приказ комдива о назначении Середы и переводе Костюкова, а мы должны утром наступать! А я была помимо санинструктора парторгом батальона, то есть при штабе, то есть тоже слово какое-то имела. Я возмутилась.
- Почему? Завтра в наступление, а вас откомандировывают?!
- Таков приказ!
- Может быть, позвонить в политотдел?
А Середе это не понравилось. Он на меня посмотрел и говорит: "А что, я Вам не нравлюсь? А вы кто такая?". Костюков говорит: "Повремени, не ссорься с ней, она тебе еще пригодится". В общем, Костюков собрался и ушел, а мы отправились на передний край, в шесть утра. Получилось так, что в этот период боя я не участвовала. Когда мы подходили к переднему краю, попали под снайпера. Не дошли до своего батальона метров пятьсот, наверное. Середа говорит: "ну все, это снайпер. Лежите на земле и слушайте мою команду". И по его команде все стали разбегаться в разные стороны. Дошла очередь до меня, только я хотела бежать, как в меня попало и ранило.
- Ну что, Татьянка, попало?
- Попало…
- Видишь воронку?
- Вижу.
Он лежит, голова прижата к земле, и говорит мне:
- Слушай меня. Можешь, не можешь - по моей команде в воронку, и прижмись в ней к правой стороне.
И я выполнила его приказ. Когда я прыгнула в воронку, то пола моей шинели осталась на бруствере. И когда я шинель к себе подобрала, уже спрятавшись в воронке - пола ее была прострелена - 32 пули вошло. Короче говоря, расшил бы он меня полностью. В этой воронке я пролежала долго. Он сказал: "лежи до тех пор, как я приду". И я пролежала там до вечера. Середа вечером пришел. Я сама себя перевязала - пулевое ранение, но он меня еще раз перевязал. Привез он меня в штаб полка. Там был начальник штаба полка, капитан Белозуб. Тоже пограничник. Он положил меня - я могла лежать только на животе, и говорит начштаба: "вызови санитаров с носилками, пусть они ее отправят в медсанбат".
А ведь бои идут, капитан мечется - то по одной рации, то по другой рации говорит, отдает приказы, уговаривает, кричит. Никого, он один в землянке. Слышу по рации голос нашего комдива Ушинского: "взвод налево! Взвод вперед!" Они перебрасывали подразделения из одного полка в другой. Я думаю: "когда же он меня сможет перевезти в медсанбат? У него же нет времени!". Ночью часа в два-три, пришел Суханов, старший лейтенант, помощник командира нашего батальона, тоже пограничник. Он очень хорошо пел, сам он родом был с Украины. Всегда он пел для жены, и для ребенка. "Услышь меня…" и так далее. Он пришел и спрашивает:
- Ну как дела?
- Да вроде нормально…- отвечаю
- Болит?
- Да вроде нет.
- А встать сможешь?
- Не знаю
- Попробуй.
Я попробовала, и не смогла. Он меня спрашивает:
- Может, хочешь чего?
- Да нет, спасибо
- Может, чаю хочешь? Я скажу Белозубу, он чай согреет для тебя.
- Нет, ни в коем случае!
Потом я была вынуждена ему признаться, что я в туалет хочу. Он говорит:
- Ну что ж, пойдем, я помогу.
Я ни в какую. Но в результате он меня уговорил, взял на руки, помог, все сделал. Положил меня опять в землянку. Перед уходом он сказал Белозубу:
- Послушай, остановись на секунду. Сделай для этой девушки все, что бы ты сделал для меня.
Белозуб только рукой махнул, и говорит:
- Давай, вали отсюда.
Бои продолжались, страшные бои. Много наших там погибло. Костюков, командир второго батальона, оказался в немецком танке подбитом, с рацией и ординарцем - они корректировали огонь. Пришел ко мне Середа еще раз, говорит:
- Что, не отправили тебя еще? - обращаясь к Белозубу.
Белозуб в ответ: "Некому отправлять ее! Некому!". Они немного поговорили, пошептались в уголке. Потом еще раз пришел Суханов, говорит:
- Ну все, Татьянка. Похоже, некому тебя отправлять. Ты главное никуда отсюда не пытайся уползти,вкруг неизвестно что будет. Не знаю, сумеем ли мы удержать оборону. Я даже не могу сказать тебе, кто у нас остался. Шесть человек пока есть в наличии.
Я говорю:
- А что мне тогда делать?
- Ничего не надо делать. Лежи просто.
Потом он лег на пол, руки за голову закинул, и говорит мне:
- Давай я тебя сейчас поцелую - попрощаюсь с женой. Сегодня я погибну.
Я ему говорю:
- Вы что, товарищ старший лейтенант?! - а сама смотрю на него, и так жалко мне его. Всех же жалко! Он говорит:
- Успокойся. Ты просто услышишь, что меня убили, и все. Кстати, тебе все время нравилась моя шинель, (а у него действительно была шинель очень тонкого сукна голубоватого оттенка, и я каждый раз ей восхищалась), - так я скажу Середе, что если он жив останется, чтобы он мою шинель тебе передал.
Это были его последние слова, которые он мне сказал. Попрощался, поцеловал меня. Я была так удивлена! И действительно, его ранило в шею, и он захлебнулся собственной кровью. Середа тоже погиб.
Уже стало рассветать немного. Тишина какая-то. Вдруг приходят два солдата с носилками. Белозуб меня спрашивает:
- Чаю хочешь?
- Нет, нет! - мало ли, в дороге опять в туалет захочется!
Он солдатам говорит:
- Вы знаете, куда нести? Быстро пробегайте сто метров отсюда, и нигде не задерживайтесь. Возвращайтесь потом обратно, медсанбат недалеко.
Попали под минометный огонь. Меня с носилками бросили, и разбежались кто куда. К счастью, никого не убило и не ранило. Проблема была в том, что они меня в темноте начали искать, а кричать нельзя! Они меня зовут шепотом, даже не знают, как меня зовут! А мне почудилось, что это немцы! Я приготовила пистолет, чтобы когда немцы подойдут, застрелиться. Держу пистолет наготове, и прислушиваюсь. Я всегда ругала себя, что не выучила немецкий язык. Нам он был нужен, и нас даже учили ему, но я его не любила и так и не выучила. И вот все чудится мне, что это немецкая речь! Потом вдруг слышу шепот: "вот носилки!". Я сразу пистолет убирать в кобуру, чтобы они чего не подумали, как я напугалась. Принесли меня в медсанбат, сделали операцию, положили в терапевтическое отделение. На третий день вдруг комдив приказал меня на носилках принести к нему в штаб. Все удивились - почему это? А оказалось, что Костюков интересовался, вытащили меня оттуда или нет. И только меня занесли в землянку к комдиву, как я слышу по рации голос Костюкова: "Товарищи, огонь на меня! Огонь на меня! Немцы в двадцати метрах! Я с ординарцем в танке с рацией, немцы окружили меня. Мне не выбраться. Огонь на меня!" Он несколько раз повторил координаты, куда стрелять. И потом слышу: "огонь на меня! Огонь по танку!" А наши не смогли дать огонь. Его последними словами были: "Ну черт с вами! Прощайте, товарищи, прощайте! Я уничтожаю рацию, сам погибаю". И взрыв. Мы все решили, что он погиб.
Но он оказался жив, страшно разбитый, но попал в плен. Позвоночник ему в трех или четырех местах перебило. Я помню, он всегда приговаривал: "Где же ты, моя Катюша?" Я его никогда не спрашивала, кто эта Катюша - может, дочь или жена? Оказалось, что это была его жена. Когда закончилась война и мы занимались ветеранской работой, я рассказала следопытам об этой Катюше, и они ее отыскали. Она и сейчас живет в Ленинграде. Комдив дал приказ наградить его Героем Советского Союза, но Москва промолчала, потому что он же остался у немцев! Так что сколько мы не писали, ничего не вышло. Все эти документы можно найти сейчас в Подольске, в архиве. Мы ничего не знали, а когда следопыты нашли жену Костюкова, то оказалось, что немцы вытащили его из танка, радист был убит, ординарец тяжело ранен, сам Костюков был тяжело ранен. Когда немцы его вытаскивали из танка, то он боялся, что если он подаст признаки жизни, то немцы его расстреляют или возьмут в плен. Он этого боялся и поэтому даже не стонал, глаза закрыл - притворился мертвым. Их положили всех на землю, и немцев прогнали строем - показать, как умирают русские. Когда их стали закапывать, то кто-то почувствовал, что комбат жив. Немецкий офицер приказал отправить его в немецкий госпиталь. Там его как могли подлечили, а потом отправили в лагерь. Так что он очутился в плену в Германии. Когда наши войска вошли в Германию, он тоже освободился. Он сказал, кто он, и его взяли снова в армию, только в другую часть. Там он был при штабе писарем, полным инвалидом. С двумя палочками он ходил. Все это он рассказал своей жене. После войны он получил инвалидность и получал маленькое пособие, бедствовал. Он все время очень сильно хотел найти кого-то из нашей дивизии, но не смог. Умер он от ран в 1954 году. Я встречалась с его женой, Катюшей. Она старше меня, ей уже за 90 лет. У них двое детей. Жена знала меня по рассказам мужа. Я так удивилась этому! Вот такая была жизнь Костюкова.
| Интервью и лит.обработка: | Б. Иринчеев |
Интервью А.Чупрова, 2009 г.
Я, Самохвалова (Петрова) Татьяна Александровна, родилась 19 января 1921 года в деревне Кайболово Кингисеппского района Ленинградской области. Отец ,Петров Александр Емельянович ,1900 года рождения, уроженец деревни Кайболово. Мама, Петрова (Семёнова) Александра Семёновна, родилась в 1903 году в Петербурге и взята на воспитание из сиротского дома жительницей деревни Кайболово. Семья наша была большая: 8 человек детей. Четверо из нас участвовали в войне. Старший, Петров Борис Александрович ,1918 года рождения, был комиссаром и журналистом. Начал войну с её первых дней в Беларусии. В августе 1941 года был тяжело ранен, отправлен в госпиталь на Урал.Затем вернулся на фронт, и в 1944 году в Беларусии погиб в звании капитана. Ему стоит обелиск в деревне Вайханы. Там, в госпитале, от ранений он умер.
Второй брат, Никита, 1924 года рождения . Он был лётчик- штурмовик. В 1942 году был ранен, выздоровел и, выписавшись из госпиталя, в начале 1943 года написал мне последнее письмо: "Выписался из госпиталя и вылетаю на штурм города …"Название города из трёх букв, но оно было закрыто чёрным пятном, и я и никто из моих друзей не могли его прочитать. Понятно было только, что название города состояло из трёх букв. Сейчас мне кажется, что он погиб в Псковско - Новгородской области. Там есть город из трёх букв- Дно. Сообщили нам, что Никита без вести пропал. Наши поиски ни к чему не привели.
Третий брат, Феоктист ,1926 года рождения. В июле 1941 года вместе с другими ребятами рыл противотанковые рвы и окопы. Когда подошли немцы, то они отходили, бежали вместе с Красной Армией, кто как мог. Его подобрали солдаты, и вместе с ними он попал на Волховский фронт, как сын полка, воспитанник. В 1943 году три офицера из его дивизии поехали на Дальний Восток за пополнением. И командир дивизии говорит: "Давайте, заберите Феоктиста Петрова. Сдайте его там в военкомат. Пускай его готовят в танковое училище. Надо парня определить, чтобы он учился". В том месте, куда они ехали, было танковое училище. В общем, сдали его в Военкомат,который за год его подготовил к сдаче экзаменов в танковое училище. Брат закончил его, но на фронт уже не попал. Приехал домой только в 1953 году.
До 1940 года ,так же как и сейчас, Кингисепп находился на границе с Эстонией. Помню, из Нарвы приходил поезд всего в три вагончика. У паровоза и в конце третьего вагона становились пограничники, и только тогда выгружались эстонцы. Они приезжали торговать салом, мясом, творогом, молоком.
В Кингисеппском районе жило много эстонцев и немцев, которых у нас называли колонистами. У меня были две подруги -немки: Анна Китель и Ира Веберг. После войны мы встречались. Если во время оккупации всё русское население было вывезено на запад, то немцев почему-то не эвакуировали, и они спокойно дождались прихода нашей армии.
Окончив 7 классов, я поступила в агрономический техникум в городе Пушкине.
Предчувствия приближающейся войны у нас не было. Но каждый день после занятий в техникуме мы шли на курсы. Я окончила девятимесячные курсы медсестёр.
22-го июня готовились к экзаменам. Мы любили готовиться в Александровском парке. Вход в Екатерининский парк стоил 20 копеек, а Александровский парк был бесплатный. Но в тот день, ни к каким экзаменам мы не готовились. Просто болтались, купались, играли в волейбол. Я как раз купалась, и Рихард( забыла его фамилию) кричит: "Татьяна, давай выходи, война!" Он раз крикнул " война" второй раз: "Татьяна ,выходи! Побежали в техникум, там все собираются!" Я его, там, в воде, выругала: "Что ты треплешь? Дурак!" Он говорит: "Я не вру. Говорят, Молотов будет выступать". Я думаю, вот дурак -то. Ну, и выскочила, оделась. Побежали. Когда пришли в техникум, все преподаватели уже стояли в холле. Объявили нам, что такие и такие дела. После чего дали разрешение ехать по домам. Если кто желал, мог остаться в общежитии. Тут же были представители Райкома Комсомола. Выбирали группу подпольщиков. Да, да, уже в первый день войны организовывали группу. Мало того. Ещё в конце мая и начале июня комсомольцы и члены партии работали в Екатерининском дворце. Упаковывали картины, посуду, мебель. Работали кто на чём. Так что страна уже готовилась. Мы тогда ничего не понимали. Сказали нам, что реставрация. А нам- реставрация так реставрация. Машины уже стояли. Мы упаковывали всё и грузили.
В первые дни войны мы, конечно, ходили в военкомат, но в Райвоенкомате девчонок не брали. Даже мальчишек семнадцати лет не брали. Десятого июля я пришла в наше районное отделение "РОКК" (Российское Общество Красного Креста). Туда мы заходили уже не раз. Спрашивали, может кому надо. Армия отходит. Мы же слышим, что немцы вот- вот могут подойти. Ну, в общем, приходят два майора и говорят: "Нам надо сандружинниц". Я говорю: "Я пойду сандружинницей". Галя, подружка, говорит: "И я пойду с Татьяной". И эти офицеры нас забрали. Оказалось, они были из 10-й стрелковой дивизии. Она тогда стояла в Ленинграде около Технологического института. Помню. обедать ходили в Технологический институт.
Одним из майоров, приходивших за нами в Пушкин, был начальник штаба дивизии Алексеев. Галя, подружка, Ежова Галина Дмитриевна ,осталась в штабе, так как она умела печатать на машинке. Я же попросилась, чтобы меня отправили на фронт. Ну и меня направили санинструктором в 62-й полк, в 3-й артдивизион, которым командовал капитан Викторов. Это был кадровый офицер сорока или сорока пяти лет. На вооружении дивизиона находились 76 мм. полковые пушки.
Когда меня взяли в армию, то, конечно, обмундировали. Выдали "смертный медальон", красноармейскую форму, включая ботинки с обмотками. Когда я пришла в дивизион, то капитан обрадовался, сказал, что ему очень нужна сандружинница. Потом посмотрел на меня и спрашивает: "Девушка, что тебя так обмундировали?" Я говорю: "А что мне было делать?" Он вызвал ординарца и говорит: "Отправьте девушку к сапожнику. Пусть он её обует". Сняли с меня мерку, сшили сапоги.
Оружие мне не полагалось. Выдали санитарную сумку с большим запасом бинтов и ваты. Ещё в ней были ножницы, нож и йод. Впоследствии ,уже на Волховском фронте, для тяжело раненых я получала морфий, чтобы можно было их отправлять, а перед этим уколоть морфием. Все медикаменты, поступавшие нам во время войны, были только отечественного производства.
Дивизион располагался в лесу, где-то между Стрельно и Петергофом. Тогда машин не было. Все передвигались на лошадях. Когда я туда пришла, то командир сказал: "С чего мы начнём? Начнём с лошади". И сам стал учить меня кататься на лошади. Первый раз, подведя меня к лошади, он обратился к ней с такими словами: "Маша, даю тебе девушку, не умеющую кататься. Берегись и береги седока". Показал мне, как садиться. Сказал: "Только ничего не трогай. Она сама пойдёт". Потом похлопал лошадь, и та пошла шагом. Проехали немного, капитан крикнул, и лошадь поехала обратно. Он спрашивает: "Хорошо держишься?" Я отвечаю: "Хорошо". Он похлопал лошадь по шее и говорит: "А теперь крупным шагом". И вот когда мы ехали крупным шагом, то попали под артобстрел. Лошадь тут же встала на колени, сбросила меня со спины и ногами стала поджимать меня к животу. Я так испугалась. Но деться было некуда, и я была вынуждена лечь к ней под живот. Ногами она меня закрыла. Когда кончился обстрел, лошадь раздвинула ноги и машет мне головой, мол, выходи. Я поняла. Когда я встала, она присела на задние ноги, и машет головой, мол, садись. Я села, взяла уздечку, и она пошла шагом. Капитан Викторов после обстрела носился, как сумасшедший. Кричал чего-то, командовал, распоряжался. Но лошадь всё равно привезла меня к нему. Это был мой первый обстрел. Вечером вдруг начался второй обстрел. В наш дивизион не попали, а рядом были раненые. Тогда я перевязала своего первого раненого. Его я очень хорошо помню. Он был ранен осколками в плечо. Я подбежала к нему и не знала, с чего начать. Пришлось думать. Потом вспомнила, что у меня в сумке ножницы и нож. Схватила ножницы и стала резать одежду, где была рана. Наложила подушки, начала бинтовать. Причём бинтовала прямо по одежде. Надо было, конечно, снять хотя бы рукав шинели. Ну, я его забинтовала, затянула и сказала солдатам, чтобы отправляли раненого в медпункт. Вот это был мой первый раненый. Он был немного постарше меня ,лет 25-и. Тогда я считала, что у него лёгкое ранение. Помню, сказала: "Ну, он выживет. У него лёгкое ранение". Впоследствии, когда стала разбираться, поняла, что он тяжело ранен. Был перелом плеча. Ну, вот это было первое такое знакомство. Конечно, нам по правилам полагалось вести учёт, скольким раненым была оказана помощь, но в то время было не до этого, и никто учётом не занимался.
Следующие даты я уже не помню. Начался, как бы вам сказать, боевой фронт. Земля дрожала. Сначала от немцев снаряды, потом - от наших. Снаряды с таким грохотом разрывались …. Я вдруг вспомнила, как нас учили, что при таких разрядах надо давать солдатам ватку, затыкать уши, чтобы у них не разрывались ушные перепонки. С этих пор я стала ходить по взводам и говорить: "Вот вам ватка, когда такие взрывы,затыкайте. Берегите уши".
Главное боевое крещение я получила в бою за Петергоф. Наступление было и с одной и с другой стороны. Я тогда, конечно, мало чего соображала. В один из этих дней наш дивизион перебирался на передовую. Мы подошли близко к переднему краю. Там уже лежали трупы. Вдруг прибежал моряк и кричит: "Санинструктора нам! Сандружинницу дайте немедленно!" Увидел меня, схватил за руку и увёл из дивизиона. Когда привёл меня на передовую, там столько было раненых моряков. И немцев и моряков. Приведший меня моряк говорит: "Вот ,девушка, тебе фронт работы. Начинай перевязывать. Как перевяжешь, солдаты у тебя заберут и унесут в убежище". Я перевязывала, и вдруг снова такой сильный обстрел. Меня этот же моряк схватил. Отнёс куда то в укрытие и говорит: "Тебе будут носить. Ты только перевязывай". И тут завязался бой немцев и моряков, врукопашную. Это было что-то. Незабываемое зрелище.! У моряков грудь была обмотана пулемётными лентами. В руках было короткое оружие. Как я потом узнала, это были немецкие автоматы. Они у немцев их отняли.
В рукопашной дрались ремнями левой и правой рукой. Ремни были запутаны на кисти руки. Почти у каждого моряка было по два ремня. И вот этими бляхами они били немцев. Это было зрелище, которое я никогда не забуду. Вы знаете, немцы бежали от них. Моряки их догоняли и били пряжками по головам. Когда уцелевшие немцы убежали с поля боя, то этот моряк снова вернулся и дал команду, чтобы всех раненых подносили ко мне. Я их всех перевязывала до ночи. И только ночью он говорит: "Спасибо, девушка. Сейчас тебя отведут в твой дивизион". Я даже не знаю, был ли он офицером, потому что, как и все остальные моряки, он был в тельняшке.
Вся гимнастёрка на мне была в крови до локтей. Весь живот, брюки -всё было в крови. Сумка была пустая. Ни одного бинта не осталось. Даже бутылки с йодом не было. Потеряла и нож, и ножницы.
Я знала о распоряжении Главного Санитарного Управления Красной Армии, обязывавшего оказывать помощь раненым немцам наравне с красноармейцами, но в тот раз я немцев не перевязывала, было очень много своих раненых.
Когда меня отводили в дивизион, к нам подошли и попросили перевязать раненого, лежавшего в церкви. Церковь была розовая, круглая. Вокруг неё шла канава или овражек, метра полтора шириной, и по ней быстро- быстро текла вода. Недалеко от храма стоял большущий толстый дуб. Метрах в пятидесяти напротив него стоял второй такой же старый дуб. В церкви лежал раненный в бедро солдат. У меня не было материала ,и кто- то из солдат отдал свой перевязочный пакет. Из раны обильно текла кровь ,и я сказала: "Дайте какую-нибудь верёвку. Надо у него приостановить кровь". Мне подали какой- то кушак. Чтобы кровь не текла ручьём, я ему перетянула жгутом ногу и перевязала, сказав солдатам: "Немедленно отправьте его на "ппм" (вероятно, искаженное "пмп"- передовой (полковой) медицинский пункт) иначе он зальётся кровью". Вдруг ко мне подбегает солдат и говорит: "Сестра, там, в канаве, в воде раненый. Я его тащил, но мне одному никак его не вытащить". Мы побежали вытаскивать этого раненого. Им оказался матрос. Он держался за куст, росший на берегу ручья. Мы вдвоём его кое-как вытащили. Подтащили его к дубу и посадили. Он был весь израненный. Из головы или шеи кровь, плечо разбитое, кровь льётся. Нога травмирована, вся в крови. В общем, пострадал он серьёзно. Нужно перевязывать, а материала- то нет. Он мне и говорит: "Сестричка, бери у меня в кармане два пакета. Мокрые, не важно. Перевязывай". И вот я у него из кармана вытащила пакеты и его перевязала. К счастью, когда разорвала упаковку, бинты оказались сухими. Я его перевязываю, а он мне говорит: "Не бойся, не бойся. Крепче, крепче. Перевязывай меня крепче". И вдруг мимо меня огонь. Обжог мне правое ухо;в дуб влетела пуля. Я тогда не сообразила. В тот же момент этот моряк выстрелил из бывшего у него немецкого автомата. Я оглянулась и вижу:упал человек. А моряк говорит: "Всё в порядке, сестричка. Перевязывай". Когда я его перевязала, подошли два солдата с носилками, чтобы отнести его на "ппм". Он мне и говорит: "Это твой первый немец, убитый". Немцев тогда в Петергофе ещё не было, но, как я теперь думаю, это был немецкий разведчик ,оказавшийся как раз на этой площадке у дуба, где я перевязывала моряка. Я подошла к убитому немцу и не знаю почему, но носком правой ноги повернула ему голову, посмотреть. Вижу, он смотрит. Я посмотрела ему в глаза, смотрю на зрачки, вижу- он мёртвый. И снова ногой голову ему положила на место. Вот такое у меня было боевое крещение, в котором я оказалась внезапно и неожиданно. После этого пошла искать ближайший "ппм", чтобы мне нагрузиться перевязочным материалом и медикаментами. К счастью, нашла "ппм" своей - десятой дивизии. Меня спросили: "Откуда?" Я ответила: "С десятой дивизии, 62-й полк. Командир дивизиона Викторов". Они помогли мне выстирать гимнастёрку. Солнце было жаркое, всё высохло. Я привела себя в порядок, вымылась. Провела там целый день. Мне загрузили сумку. Объяснили примерно, как найти мой дивизион, и я отправилась. Иду по дороге, вижу эту канаву с водой. Вижу ту розовую, красивую церковь. Вдруг меня догоняет лошадь, и кричат: "Где ты пропадала?!" Я оглядываюсь и вижу: наш повар, из дивизиона. Едет, везёт обед или ужин. Он говорит: "Давай, садись. Я везу ужин в дивизион. Давай, быстрей, быстрей. Мы опаздываем". Я обрадовалась, что мне искать не надо и села к нему. Не доезжая до дивизиона, начался обстрел. И мы попали под него. Погибла лошадь, погибла кухня, повар и ездовой. В общем, все, можно сказать ,погибли. Я очнулась только когда услышала: "Вот она, вот она". Оказывается, меня зарыло в воронке, и меня откапывали. Потом я услышала, как врачи на "ппм", куда меня принесли, говорят: "Так она же только что была у нас. Получила медикаменты". Я слышать слышу, а говорить не могу. И что бы они меня не спрашивали, я им ответить не могла. Они несколько раз открывали мне глаза и говорили: "Зрачки работают. Зрачки нормальные. Пульс работает. А почему она не говорит?" Короче говоря, у меня были множественные осколочные ранения, но кости не повреждены. Ещё был серьёзный вывих плеча. Когда его вправляли на место, меня пронзила такая страшная боль, но потом утихло, и всё было в порядке. Каким -то образом я попала на берег, где нас ,раненых, погрузили на какую-то баржу и по Финскому заливу повезли в Ленинград. В пути нас бомбили. На барже, среди раненых, была страшная паника. Все кричали, стонали. … И вдруг я слышу голос лежащего рядом раненого: "Товарищи, успокойтесь. Нас везёт очень опытный машинист. Видите, как он пароход отводит от бомб? Он знает, как ехать, успокойтесь. Прошу прекратить крик. Лежите каждый на своём месте". И наступила тишина. Я повернула голову, чтобы посмотреть на говорившего, но поняла только, что это офицер. Я стала думать, какой молодец. Так спокойно разговаривал и так хорошо успокоил раненых, что все затихли, и никто не кричит. Нас привезли в Ленинград ,и я попала на Обводный канал, дом, по-моему, 19. Там сделали операцию. Достали мелкие осколки, всю перебинтовали. Я всё слышала, но, что бы меня ни спрашивали, ответить не могла. Когда операция закончилась, начался налёт на Ленинград. Врачи кричат: "В бомбоубежище отправляйте раненых, в бомбоубежище!" Все побежали, и тут же крик врача: "Заберите девушку! Носилки в бомбоубежище!" Меня подхватили и понесли. Только внесли в узкий бетонированный проход, ведущий в бомбоубежище, и бросили там носилки, как бомба попала прямо в операционную.
Из бомбоубежища разрушенного госпиталя нас перевезли на Васильевский остров в здание Дома Культуры. Там организовали госпиталь. В нём я пролежала до 25-го декабря 1941 года. Наступила уже осень, и стала ощущаться блокада. Но жалоб на питание ни у кого не было. Всегда был завтрак, обед и ужин. Днём давали сладкий чай. Конечно, порции были крошечные. Немножко жидкой каши и ложка чего- то вроде фарша или кусочка котлеты. Вместо чая иногда давали какао ,тоже немного подслащенного. Женской палаты в госпитале не было, и я лежала в общей. Моя кровать стояла у стены и была отгорожена простынёй. Не сказала бы, что в госпитале было очень уж холодно. Я лежала под ватным одеялом, и мне было тепло.
Когда выписалась, то пришлось надеть свои сапоги, один из которых был с дыркой от осколка, пробившего сапог навылет и раздробившего мне второй палец, тот, что рядом с большим. А мороз 35 градусов. Дали мне справку и направили в 36-й запасной оздоровительный батальон. Он стоял в здании Военно-политического Училища имени Энгельса, которое окончил мой старший брат Борис. Когда я вышла из дверей госпиталя, меня охватил такой мороз, что я не могла дышать. Пришлось закрыть рот и нос, чтобы не задохнуться. Идти я не могла и хотела вернуться в госпиталь, чтобы отдышаться, но подумала, что там же двери уже закрыты. Постояла, постояла, подышала. Народа вокруг нет ни души. Стою и думаю, как же я буду добираться до этой улицы Энгельса. У кого бы спросить. Думаю, пойду на центральную дорогу и там встречу людей. Когда шла, вдруг мне стало плохо. Я успела подойти к телефонному столбу, чтобы было за что ухватиться. Схватилась за него и стала сползать. Думаю, только бы мне не упасть. Обхватила этот столб и до сих пор помню звон этого столба. Это был такой звон, он так звенел. Я подумала, что вот молодец, как хорошо работает. Вдруг мимо меня медленно проходит женщина. В рваной косынке, на одной ноге сапог, на другой валенок. Осеннее пальто, на руках муфта. Идёт еле- еле. Я думала, что она поможет мне подняться, но женщина только посмотрела и прошла мимо. А я подумала, о, ты ли это, Ленинград? И всё же я добралась до 36-го батальона для выздоравливающих. Принял меня доктор, капитан Петерсен. Ему было примерно сорок лет. В батальоне я пробыла около месяца. Там я встретила своего однокашника Виктора Захарова. В деревне Кайболово наши дома стояли рядом. Мы с ним играли в детстве и в школу пошли в один класс. И вдруг я увидела здесь Витьку. Он был такой худой совсем, как мальчишечка- школьник. Я спрашиваю: "Витька, что с тобой?" Он говорит: "Да я умираю. Жрать нечего. Мне не хватает. Вышел из госпиталя и тут просто голодую". И вы знаете, я ему стала отдавать завтрак
Половину хлеба, и половину чего там положат. Сидели мы за разными столами, но рядом, спиной друг к другу. И я ему это всё передавала. Дошло до того, что я стала падать в обмороки. Доктор спрашивает: "Кому паёк отдаёшь?" Я говорю: "Никому". Он не поверил и положил меня к себе в медпункт. Помню, тогда он дал мне сороковку сиропа шиповника и заставил пить его утром и вечером. Есть мне приносили, и в столовую я не ходила. За неделю я там подправилась. Доктор прочитал мне нотацию и говорит: "Этого делать нельзя". Я отвечаю: "Но Витька там голодный". Он мне говорит: "Ну, мало ли, что голодный. Красноармейский паёк у всех одинаковый и до обморока никого не доводит". Всё это он мне разъяснил, но честно скажу, я ещё несколько кусочков хлеба сохраняла для Витьки. Думаю, только бы мне его увидеть. И даже в сороковочке грамм пятьдесят оставила ему сиропа. Всё это прятала от доктора. И когда снова увидела Витьку, передала ему. А на другой день врач меня отправляет с маршевой ротой на Волховский фронт. Говорит: "Вот направляю тебя, как медика с сумкой, сопровождать маршевую роту вместе с капитаном". И вот я с этим капитаном, не помню его фамилию, ходила через Ладожское озеро, сопровождала маршевые роты. Приходили мы на Волховский фронт, мороженные, голодные, не мытые. Отдавали маршевую роту. Нас там очень хорошо кормили. Давали с собой очень хорошие пайки. Так что я могла Витьке отдавать и кормить его. У меня было право остаться на Волховском фронте и не ходить обратно, но из- за Витьки возвращалась.
Маршевые роты формировались из выздоравливающих солдат и выводились из блокированного Ленинграда на "большую землю". В госпиталях старались одеть солдат потеплее, но если зимние шапки и меховые рукавицы были у всех, то в остальном- все были одеты как попало: кто в полушубке, кто в шинели. На ногах у большинства надеты валенки, но у некоторых были сапоги. Весь путь занимал примерно сутки, если не больше. В пути два раза кормили. Подходила машина с термосами, и солдаты обедали прямо на льду. "Дорогу жизни" часто бомбили. При нас под лёд ушла машина. Солдаты по команде бросали из машины мешки. Разгружали, пока она уходила под лёд. Что могли, разгрузили. А шофёр стоял и плакал оттого, что машина ушла под лёд.
Чтобы в метель или ночью не сбиться с дороги, вдоль всего пути по обе стороны трассы были воткнуты зелёные сосновые вешки.
К берегу озера солдат подвозили на машинах. По льду шли пешком. Потом также пешком до деревни Жихарево, а дальше строем вели в расположение 265 дивизии. В штабе дивизии нам выдавали бумагу, что солдаты приняты, мы получали паёк и сверх того давали по буханке хлеба. Поэтому я даже не только Витьке помогала, а ещё старалась приехать в Ленинград, зайти к своей тёте Мане, жившей на Васильевском острове. Обратный путь мы с капитаном старались проделать на попутных машинах.
Таким образом, дважды я сопровождала маршевые роты, а на третий раз всё же осталась на Волховском фронте со второго февраля 1942 года в 265-й стрелковой дивизии.
Витька же был настолько мне благодарен, что когда в 1944 году нашу деревню освободили, он сразу написал письмо тёте Фене, своей матери: "Мамочка, миленькая. Я встретил там Таню и только благодаря ей остался жив. Она работала в столовой и подкармливала меня. Если бы не она, я бы не выжил. Скажи тёте Шуре, что пусть она помнит, что Таня меня спасла".
И вот по деревне все читали это письмо. И мама узнала, что я жива. А так вся деревня считала меня погибшей. По мне даже панихиду читал священник. А вот как получилось, что все считали меня погибшей. В августе 1941 года, когда я поступила в десятую дивизию, мне удалось на машине заехать в Кайболово буквально на несколько часов. Это я сделала самовольно, узнав, что машина идёт в Котлы и Кайболово, упросила шофёра взять меня повидаться с родителями. Я была уже в военной форме. Помню при свидании бабушка дала мне маленькую иконку. Немец уже подходил к нашим местам и очень сильно бомбил дороги. Был разрушен мост через реку деревни Тютицы и Кайболово. Папа в то время его только что отремонтировал. И мы на этой машине срочно поехали обратно. Я только успела помахать папе. Не было времени даже остановиться и поздороваться. Когда мы переехали этот мост и подъезжали к деревне Тютица, впереди нас на большой скорости ехала другая машина, в кузове которой так же стояла девушка в военной форме. Откуда ни возьмись, прилетел снаряд и разбил ту машину. Потом, когда нашли останки юбки и сапог, то все решили, что погибла машина, на которой поехала я. И в деревне меня считали погибшей.
С последней маршевой ротой я пришла в деревню Жихарево. Там нас встретили два майора из четвёртого отдела. Это отдел кадров. Здесь же нас покормили. Там всё время работали кухни. Кто ни приезжал или приходил, всех сразу кормили. Переночевали, в каком- то доме. Утром нас напоили чаем. Потом два офицера повели на "кп" дивизии, располагавшемся в д. Путилово. Там всех осмотрели, познакомились и отправили в учебный батальон. Меня оставили на "кп" при санчасти. Там была такая доктор Любцова. Между прочим, в августе 1941 года, когда наша дивизия на Карельском перешейке была разбита и попала в окружение, она единственная женщина в дивизии получила орден "Красного Знамени" за то, что с несколькими солдатами и офицерами вывела из окружения 25 тяжело раненых.
Я всё время просилась, чтобы меня перевели в полк. Вызывает меня начальник отдела кадров майор Полетаев. Когда он узнал, что я из госпиталя, то сказал: "О, значит, вы уже были в боях, а я думал, что это она рвётся на фронт. Хорошо, мы вас направим в учебный батальон к врачу Бурдаевой Валентине Ивановне. У неё там один санинструктор и ей нужен второй". Я говорю: "В учебный батальон? А чему я там буду учиться? Я уже училась раненых перевязывать". Этот разговор порядочно длился, и все там улыбались, что я просилась на фронт. Тут заместитель Полетаева майор Теерман Михаил Эдуардович звонит по телефону и говорит: "Ершов, отправляю тебе санинструктора, как ты просил". А я когда окончила школу, работала у Ершова Петра Тимофеевича учётчицей, секретарём машинно-тракторной станции. Я обрадовалась, что иду к Ершову. Дураковатая была, думала, что это тот самый Ершов. И говорю: "О, отправьте меня. Я пойду к Ершову". Мне отвечают: "Вы же не хотели в учебный батальон". Я говорю: "А к Ершову я пойду". Привели меня в штаб батальона. Я отрапортовала. Командир говорит: "О, боевая дивчина. Садись". Я вижу, что не тот Ершов и говорю: "Я не буду садиться. Вы отправьте меня обратно. Мне нужно к Ершову Петру Тимофеевичу". Он говорит: "Я и есть Ершов Пётр Тимофеевич". Я в ответ: "Мне нужен другой Ершов". Короче, детство играло. Надо мной смеялись. Потом Ершов говорит: "Ну, хватит. Посмеялись и будет. Отведите её к Бурдаевой. Будете под её руководством".
Учебный батальон стоял в деревне Валовщина. Вдоль берега реки Назии были построены землянки для солдат и штабов рот. Санчасть размещалась в частном доме. Хозяйкой была такая тётя Поля. Мы с ней подружились. После войны я часто приезжала туда, и мы с ней встречались.
Кроме обычных перевязочных средств и инструментов ,начальник нашего "ппм" капитан Лев Файншмит, терапевт, дал мне шприц в металлической шкатулке. Перед боем я набирала в шприц морфий, и он лежал в наполненной спиртом шкатулке у меня в сумке. Если попадался особенно тяжело раненый, я делала ему укол, чтобы можно было его донести до "ппм". Поэтому, как говорил Файншмит, все мои тяжело раненые "доходили" до "ппм" живыми , хоть и в шоке.
23-го февраля к нам в дивизию приезжал Ворошилов. Наш 450-й полк был построен возле реки Назии. Ворошилов вручал награды отличившимся бойцам. Я тогда была девчонка, и мне было любопытно посмотреть на знаменитого маршала. Он приехал в полк верхом на лошади в окружении свиты. Мне хотелось подойти поближе, но мешала широкая канава. Я металась по её краю, не находя места, чтобы перебраться. Мне показалось, что Ворошилов заметил, как я мечусь по тому, что вдруг подбежал солдат, подал мне кол, и я перепрыгнула. Считаю, это он послал помочь. (рассказывает, улыбаясь) После награждения Ворошилов проводил митинг. Призывал к спокойствию. Говорил, что бросают нам всевозможные рекламы. Не верьте этому, что Ленинград сдался, не верьте. Будьте бдительны. Мы - армия победителей и обязательно победим с такими прекрасными красноармейцами, которые умеют воевать. Он выступал, сидя верхом на лошади. Красивая такая была лошадь, бурая, кажется, с белыми копытами и белой полосой на голове. Сам Ворошилов показался мне молодым и симпатичным. Одет он был в полушубок , на ногах бурки или белые валенки. Позади него стояла свита человек десять, тоже на лошадях. Ворошилова в войсках любили, хорошо воспринимали и хорошо орали " ура". Он умел воодушевить на бой. Мы тогда вообще любили московских представителей. Особенно таких, как Молотов, Ворошилов, Сталин. Помню, как уже после войны я в числе представителей нашего завода ездила в Москву на ноябрьскую демонстрацию. Сталина на мавзолее не было , зато я увидела Ворошилова и Молотова. Так я кричала: "Привет Молотову!" И плакала от радости. Вот ведь какие мы были. А тут к нам на фронт приехал сам Ворошилов. Солдаты с ума сходили от радости. Потом сколько времени говорили про это событие. Особенно, когда приходило пополнение. Все говорили: "К нам Ворошилов приезжал. К нам Ворошилов приезжал".
На фронте было затишье. И войска боролись не столько с немцем, сколько со своей родной природой, с лесом. Как только солнышко немного покажется, траншеи заливает водой. Я с майором Ершовым несколько раз ходила на передовую. До сих пор не представляю, как там могли жить люди. Наши позиции были в болоте, а немецкие на высотах. Я говорю: "А, что это они там сидят на верхушке, а мы тут в низине. Нас же могут в два счёта". Мне говорят: "Вот они нас и бьют. Нам надо их оттуда выбить. А выбить никак не получается. Дадут команду, пойдем, выбьем. Пока команды нет". Вот такой разговор шел. Несмотря на то, что стояла зима, возвращались мы все вымокшие. Всё же надо сказать, что одеты на фронте были хорошо. У всех были зимние шапки, меховые рукавицы, тёплое бельё, валенки и ватные брюки. Под шинелями у солдат поддеты ватные, а у офицеров меховые фуфайки и безрукавки. У многих вместо шинелей были полушубки. Для обогрева в траншеях солдатам выдавали такие широкие, жестяные банки весом около килограмма. В них был воск на спирту. Их зажигали и грелись. Другой раз и кружку чая можно вскипятить. Воск горел бездымно, бесцветным пламенем. Эти банки везде валялись по траншеям. Солдатам надо же было обогреваться. Костры в траншее не разожжешь. Так солдаты что придумали. Просили у меня на взвод широкий бинт якобы пришить подворотнички. А сами вытаскивали из банок этот спиртовой воск, клали его на бинт и выжимали из воска спирт, который пили. Поэтому среди солдат эти банки назывались "жми-дави". К счастью, после употребления спирта никто не заболел. Если говорить о водке, то её выдавали только зимой, когда температура бывала ниже двадцати градусов мороза. В другое время водки не было. Перед наступлением тем более никакого спиртного.
Так же, как "жми, дави", без счёту на передовой выдавали американские мясные консервы. Каждому солдату по банке. Это была единственная помощь союзников, какую я помню.
Всё пополнение приходило к нам в учебный батальон. Хочу сказать, что у нас были прекрасные офицеры. Вот, например, заместитель Ершова, Рагозин Александр Харитонович, работник обкома партии Ленинграда. Чудесный гуманно-культурный человек. Катушкин Захар Яковлевич ,заместитель по партийной работе, был у нас парторгом. Капитан Кудрявцев-комиссар, ленинградец. Он был хороший мужик, но трус. Дрожал, как банный лист, когда была бомбёжка или атака. У него не выдерживали нервы, и комбат старался его не брать. Командир роты- Гусаков Иван Васильевич, белорус. В батальоне была рота стрелков, которой командовал Поздняков Александр Харитонович. Кроме этой роты в батальоне были взводы артиллеристов, пулемётчиков, командовал ими Лёша Степаненко, связистов - командовал Шварц, забыла, как его звали, ленинградец. Говорили ещё, что он внук известного учёного Шварца. Очень милый, культурный юноша. Взвод сапёров, миномётчиков- командовал лейтенант Коля Сальников. И впоследствии взвод снайперов. Так февраль, март, апрель … дивизия готовилась к боям. Когда обучение заканчивалось, к нам приходили из каждого подразделения за пополнением. Поэтому я в полках знала многих командиров. Из артиллерийского подразделения приходил Володя Нериновский. Он был такой застенчивый, молчаливый, но симпатичный. Не очень большого роста, чуть поменьше среднего. Шинель на нём была не по росту, а немного больше. И мне, девчонке, он казался смешным таким. Когда он приходил, то ни с кем ни о чём не разговаривал. Я как- то и говорю: "А как вас зовут?" Он говорит: "Володя". Я спросила, откуда он. Володя ответил: "Ленинградец". Я спрашиваю: "А почему вы всё молчите?" Он отвечает: "А кому чего говорить?" Вот так. После этого мы с ним стали здороваться. С теми, кого он знал, Володя был разговорчив, но разговаривая с командирами, отвечал только то, о чём его спрашивали. Когда знаешь людей, то после боёв спрашиваешь, а как там тот, а как там тот? Так я узнала, что Владимир Нериновский погиб в Тортолово. (по данным ОБД "Мемориал" Нериновский Владимир Григорьевич 1908 г.р. Батальонный комиссар ,погиб12.09.1942 г. в районе д. Тортолово)
Летом было намного лучше. Всё подсыхало. И, можно сказать, люди отдыхали. В некоторых местах наши землянки находились очень близко от немецких. Когда мы пришли в 450-й полк, то служившая там связисткой Лиза говорит мне: "Слушай. Хочешь послушать немца?" И даёт мне трубку. Я взяла и слушаю, а он говорит: "Слушай. Рус, рус. У вас опять "кочерга". Какого чёрта. Берите новый пароль". Я спрашиваю Лизу: "А, что, это правда, немец подключился?" Она говорит: "Да. Он здесь рядом стоит. В метрах 20-25-и его землянка. Они нас не обстреливают, а мы их не обстреливаем. Они другой раз утром встанут и кричат: "Рус, Рус. Давай не стрелять. Тихо позавтракаем"".
Немецкая пропаганда- это особый разговор. Каждый день листовки: "Ленинград сровнен с землёй…". Что только не писали. Вся наша оборона была засыпана голубыми листовками, которые немцы сбрасывали с самолётов. Их не собирали и не сжигали, а просто по ним ходили. Наши тоже старались не отставать. Когда немцы сбросили эти листовки, то на нейтральную полосу, к немецким окопам, разведчики подтащили громкоговорящие установки, по которым немцам передали: "Не занимайтесь болтовней. Ленинград стоял, стоит и будет стоять. Не обманывайте своих солдат, а наши вам не верят". Вот такие были заявки. Немцы сразу открывали огонь, в результате чего две установки были разбиты.
Ещё раз скажу, что в смысле природы Волховский фронт- это тяжелейший из всех, на которых я побывала. Болота, торф. Очень много снарядов уходило глубоко в торф и не разрывалось. Когда они там взорвутся, вот это вопрос. Если в тех местах когда - нибудь будут что - то строить и глубоко копать, то начнут взрываться снаряды и бомбы, потому что их очень много не разрывалось, а уходило в болото.
Оборона обороной, но в 1942-й год готовились к наступлению. И подготовка была большая. К августу дивизия была полностью готова к наступлению. Люди ждали, когда же пойдём в бой. Все хотели выбраться из болота и занять первую немецкую оборону. Как только кто-нибудь приходил на передний край из штаба или Валовщины, то сразу задавались вопросы: "Когда пойдём в бой? Надоело бороться с природой. С землёй, с песком, с торфом. Ставьте вопрос, чтобы нам занять немецкую оборону".
Приказ №227 "Ни шагу назад" был воспринят спокойно. Ни шагу назад - это же был закон армии, поэтому ничего нового солдаты в нём не видели. Помню, даже шутили. Один говорит: "Ни шагу назад". Другой отвечает: "Как придётся". (Улыбается) В общем, это был закон. Признанный в армии закон. А как выполнялось? По-разному было. Заградотряда в дивизии не было. Во время обороны его функции иногда выполнял наш учебный батальон, который на какое - то время превращался в заградбат. Во время боёв местного значения на передовую посылали солдат с офицерами, которые следили за атакой, чтобы никто не повернул назад, но случаев бегства солдат с поля боя не было. Расстрелов, а тем более показательных, у нас в дивизии не было. Перебежчиков не было тоже.
В период обороны дивизия не только воевала, но и жила. Был построен дивизионный клуб. В нём выступала приезжавшая к нам Клавдия Шульженко. Пела знаменитый "Синий платочек". Была организована и своя художественная самодеятельность. Брали из полков, кто умел выступать. Давали концерты. Был организован ремонтно-банно-прачечный отряд. В нём работали в основном вольнонаёмные из местных женщин. Из дивизии давали сандружинниц и санитаров, мужчин для тяжелых работ. Два раза в месяц, зимой и летом , все солдаты с передовой по очереди приходили в Валовщину. Там топились все деревенские бани. Солдаты мылись, а в это время их одежда стиралась и чинилась. Этим делом занималась Ветрогонская Александра Николаевна. В Ленинграде она работала директором Дворца Пионеров. Её муж служил в 941-м полку. Александра Николаевна с сыном Володей шестнадцати лет пришла через Ладожское озеро в Жихарево. Володя Ветрогонский впоследствии стал известным художником. Александра Николаевна нашла в Валовщине швейные машинки, и после стирки всё обмундирование, нуждавшееся в починке, зашивалось. Благодаря всему этому в дивизии не было никакой вшивости. Всё это организовал командир дивизии Ушинский Борис Николаевич. О нём хорошо пишет Кошевой, командир 24-й гвардейской стрелковой дивизии. Ушинский - бывший белый офицер, перешедший в своё время в Красную Армию.
В августе началась наступательная операция. В задачу учебного батальона входил захват д. Тортолово. Мы стояли как раз напротив этой деревни. К нам прибыл третий дивизион Симашко Николая Максимовича со своими пушками. Это был хороший парень, маленького роста. У него была длинная гимнастёрка , почти до колен. Мы всегда смеялись. Я говорила: "Колька, давай я тебе обрежу". Он отвечал: "Не надо, не хочу в обрезках ходить".
Артподготовка шла, по крайней мере, один час двадцать минут. Это было что-то. Затем прошла авиация. И только потом в атаку пошла дивизия. Стоявший правее нас 941 полк должен был, прорвав оборону, наступать в сторону Мги, взять первый эстонский посёлок. Левее батальона наступал 951-й полк. Атака прошла очень хорошо, несмотря на то, что приданные дивизии танки завязли в грязи и в наступлении не участвовали. Чёрную речку мы перешли в брод, по пояс в воде. Учебный батальон взял первые позиции немцев, как и мечтали. Второй атакой взяли само Тортолово. Это учебный батальон взял Тортолово. Я видела современную карту, на которой отмечено, что 320-я дивизия взяла. Мы первые взяли Тортолово. Это точно. Командир полка был Стёпин. Когда взяли Тортолово , солдаты очень обрадовались. Увидели добротные землянки. Немцы же строили их из деревенских домов. Опустошили все близлежащие деревни. Там прежде много было деревень, но теперь их не было. Они все были разобраны на блиндажи, в которых можно было жить годами. Вот такая добротная оборона была у немцев. Убегая, немцы всё бросили. Мы там ночевали, и каждый брал, что хотел. А главное, они оставили там продукты и водку. Солдаты напились. Рано утром в шесть часов была сильная бомбёжка и артобстрел. Короче говоря, Тортолово сдали. Мало того, при отходе нас разбили наши "катюши". Правда, учебный батальон был метрах в двухстах от разрывов этих "катюш", но досталось. Например, у меня шинель была вся в чёрной саже. Я только успела закрыть руками лицо. Очень обжигало. "Катюши"- это страшное дело. Не дай бог под "катюши" попасть! С этими "катюшами" долго разбирались. Пришли к выводу, что корректировка была дана правильно, но не ожидали, что мы будем в это время отходить. 941- полк продвинулся на пять километров, но стоявшая рядом дивизия не взяла даже первую траншею. И полк попал в окружение. Если наш батальон отошел с боями, то 941-й полк только через пять суток вырвался из окружения. Так что августовская операция окончилась ничем. Правда, нам объясняли, что благодаря этим боям немцам не удалось перебросить войска под Сталинград.
Прибыли мы снова в Валовщину. Потери у нас были очень большие, но и немцев погибло- дай Бог.
Перед боем все солдаты пришивали подворотнички. Я выдавала широкий бинт, и все пришивали подворотнички, чтобы немцы видели, что мы чистые и с подворотничками.
Во время этого наступления моей задачей было оказание помощи раненым и последующая их эвакуация. В каждой роте было по три санитара. Перед боем с ними проводились занятия, выдавались бинты, вата. Они тоже перевязывали раненых. Помогали мне выносить их в укрытие. В армии в этом отношении дело было хорошо поставлено. По настилам к передовой сразу подходили машины и вывозили из укрытий раненых. Дорог небыло, только бревенчатые настилы. Бедных раненых привозили всех в шоке.
Раненым немцам тоже оказывали помощь, но только, когда обработают всех наших солдат. Если оставалось время, то я приходила. Но тоже боялась потому, что были случаи, когда приходили санитары перевязывать немца, а он взрывал гранату. Сам погибал, а вместе с ним и санитар. Или пускал в ход нож. Были такие случаи. В Тортолово я перевязала одного немца, лежавшего возле землянки. Он был ранен в грудь и живот. Я разрезала ножницами одежду и положила подушечки на раны. Он глазами меня благодарил. На носилках его унесли на "ппм", а что было дальше - я не знаю.
Женщин в стрелковых частях почти не было. Их брали только в связисты. Но было несколько боевых дивчин. В разведке служила Ира Сергиевская из Боровичей. Несколько раз раненая. После войны в 1954 году она родила дочку и вскоре умерла. У неё было множество ранений. В полку служила связистка Лиза. Хоть она и была связисткой, но бегала, перевязывала раненых. Такая смелая была. Её прозвали "танкетка". Маленькая, но смелая. Если недалеко от неё получали ранения солдаты, она бегала, перевязывала. Лиза погибла. Фельдшером в сапёрном батальоне служила Анна Кузьмина. Тоже вся избитая. Недавно умерла.
Наш учбат потерял в этих боях примерно 50% личного состава. Был тяжело ранен командир миномётного взвода Коля Сальников. Лёша Степаненко тоже тяжело ранен. Шварц был ранен в живот и умер в медсанбате. Командир батальона Ершов в тех боях был тяжело ранен в ногу. Я его перевязывала, наложила шину и отправила в медсанбат. Помню погибших солдат Дорошенко, Игнатьев. Фамилии многих забыла, но в лицо помню всех.
В последующие две - три недели каждый день в батальон приходило пополнение. Готовились к сентябрьской операции.
Национальный состав учебного батальона представляли в основном русские, украинцы и белорусы. Татары были. Но их там не узнаешь- татары или русские. У всех фамилии русские. Были два цыгана. Евреи служили в основном в политотделе. У нас был парторгом в батальоне Зиновий Моисеевич, но потом его отозвали. Вот единственный Шварц. Он окончил десять классов. Красивый еврейчик. Ему было всего восемнадцать лет. Жалко его было, когда он погиб. Его ранило в живот. Я его перевязываю, а он говорит: "Татьянка, я не выживу". Я говорю: "Ну почему, выживают. Я же тебя перевязываю. Всё пройдёт, хорошо". Он сказал: "Если бы родители мои знали, они бы меня вылечили". Я ему сделала укол морфия с камфарой. Положили его на носилки и солдаты понесли. Я им сказала: "Только его не трясите. Он "животик"". "Животиков" мы особенно берегли. Дали нам и нацменов. Я не хотела об этом говорить, но раз вы спрашиваете. Они, можно сказать, не воевали. Из двадцати только трое, а остальные вставали в траншее на колени, молились и кричали: "Ой, я не убивал! Ой, я не убивал! Ой, я не убивал!" Наши командиры и солдаты брали и бросали их через бруствер в атаку. Они бежали обратно в окопы и кричали: "Я не убивал, я не убивал!" И только трое воевали чудесно. Один из них миномётчик Юра. У него было такое сложное для нас имя, что, в конце концов, он сказал: "Зовите меня просто Юра". Он был маленький такой, комсомолец. После войны Юра ко мне приезжал. В сентябрьских боях ему оторвало ногу. По возрасту солдаты в батальоне были в основном до тридцати лет. 35 были, но мало.
После ранения Ершова нам дали старшего лейтенанта Костюкова Михаила Васильевича. Ершову в медсанбате собирались ампутировать ногу, но он сказал: "Я не хочу, чтобы мне ногу отрезали. Пусть Татьянка придёт и скажет - надо резать ногу или не надо". Костюков мне говорит: "Татьянка, давай сходи в медсанбат, успокой там комбата. Мне позвонили, сказали, что он вроде с ума сошел. Не даётся, кричит: "Не дам ногу резать!"". Когда я пришла к нему в палатку, он сидел у печки- буржуйки и грел отрезанную ногу. Я спрашиваю: "Товарищ майор, вы что делаете? Нельзя". А он говорит: "Так она у меня мёрзнет. А ты скажи резать мне ногу или не резать?" Спрашивает. А у самого она уже отрезана. Потом приказывал, чтобы я не отправлялась на фронт, а лечила его, делала уколы и ухаживала. Короче, отправили его в госпиталь. Ершов выздоровел. В 1944 году снова приехал на фронт. Его назначили заместителем командира 450 полка. Дали лошадь. Но пользы он никакой не принёс. Своим энтузиазмом он по сути дела мешал воевать другим. На лошади что он мог сделать, когда лошадей вокруг по сути уже не было. В дивизии он служил каким- то посмешищем. Меня просили убедить его уехать. И когда мы были уже в Польше, его отправили в тыл.
17-го сентября учебный батальон снова участвовал в боях за Тортолово. Наступали по болоту, но неудачно. Бои шли с 17-го по 20-е сентября. После того, как нас там разбили, мы вышли на пополнение. Батальон расположился на сухой, каменистой сопке недалеко от передовой. То есть не весь батальон вышел, а выводился поротно, по очереди. Батальон продолжал отвечать за свой участок обороны.
25-27 сентября проходила самая страшная операция. Точно так же была артподготовка. Точно так же я раздавала солдатам вату, чтобы они затыкали уши на время артподготовки. Точно так же продвинулись вперёд. Но немцы тоже готовились к нашему наступлению. Мы снова продвинулись на пять километров, взяли 1-й эстонский посёлок, но, продержавшись примерно неделю, снова всё сдали. Потери были огромные. Можно сказать, положили всю дивизию.
Неприятности начались ещё до начала наступления. В ночь на 25-е сентября у нас забирают Костюкова, отправляют его командиром первого батальона в 450 полк. А нам командиром учебного батальона назначают старшего лейтенанта Середу. Вы знаете, это был шок. Нам выступать в бой, а тут меняют командира. Середа тоже был из пограничников, как и Костюков. Они знали друг друга. Поздоровались, обнялись. Я спрашиваю: "Как же это так? Михаил Васильевич, как же мы будем без вас?" Он отвечает: "А вот так. Есть приказ". К этому времени я была уже парторгом батальона. Говорю: "Может быть, позвонить в политотдел. Почему это так сделали ? ". Середа тут и говорит: "А это ещё что такое?" Этим своим смешком старший лейтенант мне так не понравился. Костюков говорит: "Не обижайся на Татьянку. Она тебе ещё пригодится. Она парторг роты, имеет право. Боевая дивчина. Ты с ней подружишься".
Утром я, старший лейтенант Середа, его ординарец и ещё два солдата пошли через болото к передовой. Я ему показывала, где находятся наши подразделения. Мы прошли по переднему краю. Где ползком, где броском. Но я всё же успела познакомить его с передним краем обороны полка, где представила его как нового командира учебного батальона. Все были в шоке оттого, что нам дали нового командира. Когда шли обратно по болоту, то попали под артобстрел, но снаряды в болоте не рвались.
Очень страшные бои были в Тортолово, но мне в них участвовать не довелось. Утром 26-го сентября Середа с ординарцем, я и ещё два солдата шли к передовой. Когда проходили последнюю сопку перед Тортолово, попали под огонь снайпера. Меня ранило разрывной пулей в правое бедро навылет. К счастью, пуля прошла благополучно и разорвалась только при выходе. Все врачи потом удивлялись, как мне повезло. У меня до сих пор там остался глубокий след. Когда все залегли, комбат мне говорит: "Ты видишь воронку, напротив тебя? Можешь, не можешь, а по моей команде броском в воронку и лежи там до утра. Я к тебе приду". А это было утром. Ординарцу и солдатам дал команду отползти влево, а мне скомандовал: "Бросок". Я бросилась в воронку, пола шинели осталась на бруствере. Когда она сползла, то была вся в дырках. Как могла я себя перевязала. Ночью Середа пришел ко мне в воронку. Ещё раз перевязал и отнёс в штаб 450 полка, а сам ушел на передний край, сказав, что утром постарается меня отправить.
В штабе оставался только его начальник Белозуб. Сёмин погиб. Заместители погибли. Он один и на право и налево. Я удивлялась, как у него хватало сил бегать от одного телефона к другому. Отдавать команды и выполнять работу целого штаба. Меня напоили чаем. Снова пришел Середа. Спросил, как я себя чувствую. Я сказала, что нормально. Он говорит: "Постараемся пробиться, а утром я за тобой приду, и мы тебя отправим". Отправить было не с кем. Солдат не было. Потом приходит заместитель Середы, старший лейтенант Суханов. Он тоже был пограничник. Украинец. Очень хорошо пел песни и играл на гитаре. Он был небольшого роста и носил такую красивую, голубоватую шинель. Он мне и говорит: " Слушай, Татьянка, тебе нравилась моя шинель. Меня ,наверно, сегодня убьют, так я тебе её принёс". Я говорю: "Да вы что, старший лейтенант". Я не взяла эту шинель. Заставила его её надеть. Он говорит: "Всё равно я чувствую. Меня сегодня убьют". Потом обращается к Белозубу: "Капитан, сделай для этой девушки всё то, чтобы ты сделал для меня. Сохрани ей жизнь". Белозуб отвечает: "Пошел к чёрту. Ты видишь, что я делаю?" Перед тем как уйти, Суханов лёг рядом со мной на землю и говорит: "Татьянка, дай я тебя поцелую. Я попрощаюсь с женой. Не обижайся на меня". И он поцеловал меня. Я как- то и не обиделась на него. Он говорит: "Ну, вот я теперь попрощался и с тобой и с женой. Спасибо тебе за это". И ушел.
Пришли два солдата с носилками, Белозуб приказал отнести меня в медсанбат, и побыстрей, а то скоро рассветёт. Меня положили на носилки и понесли. По дороге попали под миномётный обстрел. Все разбежались. Обстрел прекратился. Я лежу одна в темноте. Слышу, какой- то шепот. Вытащила пистолет и думаю, что если это немцы, то застрелюсь, но не сдамся в плен. К счастью это меня искали мои солдаты. Принесли в медсанбат. Вскоре пришел ординарец комбата, и я ему отдала свой пистолет. При этом выяснилось, что и в него попала пуля. В палатке работала радиостанция. Я попросила, чтобы меня поднесли поближе. Слышу, по рации Костюков вызывает огонь на себя. Его первый батальон отошел, а он с десятью бойцами остался прикрывать отход и попал в окружение. Вместе с радистом и ординарцем забрался в подбитый танк, из которого корректировал огонь нашей артиллерии. Немцы окружили танк, и Костюков вызвал огонь на себя. Перед этим он ещё спрашивал про меня: "Вынесли ли с переднего края санинструктора?" Ему передали, что вынесли. Костюков сказал: "Спасибо и за это". А потом корректировал огонь: "Давайте огонь. Немцы подползают. Они в ста метрах… Хорошо, хорошо левее… Немцы в восьмидесяти метрах от меня… Товарищи, немцы в пяти метрах от танка. Давайте огонь на меня. Чёрт возьми, давайте огонь на меня". Но по нему огня не дали. Тогда последние его слова были: "Рацию уничтожаю. Сам погибаю. Прощайте, прощайте". (Рассказывает со слезами) Я ревела, как корова. Короче говоря, мы все решили, что он погиб. Но Михаил Васильевич выжил. Командование представило его к званию Героя Советского Союза посмертно, но пришел ответ, что посколько дело происходило на территории , занятой противником, звание присвоено быть не может. Как- то так, точно я уже не помню. После войны в 184-й школе Ленинграда был организован музей нашей дивизии. Он и сейчас там есть, только не работает. В связи с этой "перестройкой" уроки мужества закончились. На одной из конференций учащихся,проходившей в физкультурном зале я рассказала, о подвиге Костюкова и в конце вспомнила, как он часто приговаривал: "Ох, где-то моя Катюша. Пади кричит на ребятишек. А, может быть, и нет". Я не знала, кто такая эта Катюша. Нашлись следопыты и начали искать эту Катюшу. Как-то мне позвонила учительница Софья Петровна и сказала: "Кажется, мы нашли Катюшу. Мы организовываем встречу и позовём эту Катюшу к нам в школу. Вы знаете, она оказалась женой Костюкова Михаила Васильевича". Когда мы с ней встретились, она удивила меня тем, что сразу спросила: "Это вы Татьянка? Михаил Васильевич мне много о вас рассказывал". Я спрашиваю: "Правда?!" Она говорит: "Правда". И начала рассказывать эпизоды из Волховского фронта. Я ей рассказала, как он погиб. Она выслушала и говорит: "Нет, Татьянка, он не погиб. Когда немцы их вытащили из танка, то один был мёртв, а двое ранены, но притворились убитыми. Их положили на траву, и один из немецких офицеров собрал строй и сказал: "Вот посмотрите, как умеют умирать русские". Потом строй прошел мимо трёх трупов. Когда принесли носилки, чтобы нести хоронить, то поняли, что Михаил Васильевич жив. Его отправили в госпиталь для военнопленных. У него был в трёх местах сломан позвоночник. Сломана нога и кисть. Но он выздоровел". После войны он много писал в разные места, жаждал встретиться с кем -нибудь из дивизии, но никого не нашел. В 1953 году после смерти Сталина он получил инвалидность. Жена показала мне его фотокарточку, где он на костылях, полусогнутый. Маленький такой, старенький. Вспоминать даже сейчас жалко. (рассказывает со слезами) В общем в 1954 году он скончался. Вот такая жизнь Костюкова Михаила Васильевича. (по данным ОБД "Мемориал" Костюков Михаил Васильевич, 1912 г.р, ст. лейтенант, командир стрелкового батальона 265 с.д., убит в бою 27.09.1942 г.)
Из медсанбата меня хотели эвакуировать в госпиталь, но я уговорила, чтобы меня оставили. Пролежала месяца два. Бои закончились. Благодаря тому, что пуля прошла, не задев внутренности, попала в правый бок, вошла и в конце позвоночника разрывной вышла, не задев кости, не задев ни печёнку, ни селезёнку- ничего, я быстро встала на ноги. И помогала в терапевтическом отделении. Делала уколы, перевязывала и кормила раненых. Выносила утки. В общем, выполняла обязанности медсестры и очень многому там научилась. Даже переливание крови меня научили делать. Помню, каждому раненому, делался укол- два кубика камфары и кубик морфия, чтобы они спали, отдыхали, а то орут, кричат. Это же боли какие адские! Вечером накормим их ужином, напоим, "утки" дадим. Они уже кричат: "Татьянка, укольчик. Татьянка, укольчиик!" Я говорю: "Подождите, сейчас всем уколы буду делать".
Через два месяца я вернулась в батальон, которым тогда командовал Гусаков Иван Васильевич.
Весь 1943 год дивизия стояла в обороне и в больших операциях не участвовала. Велись бои местного значения, проводились разведпоиски. Наш батальон занимался своим делом: готовил пополнение. Занятия проводились очень интенсивные, буквально до изнеможения. Я даже давала справочку на отдых одному или другому солдату. Помню, комбат мне говорит: "Ты что- даёшь им отдых"? Я отвечаю: "Довели солдата, что он ходить уже не может". Вот до такой степени шла подготовка к новым наступлениям, чтоб, люди понимали, что это такое.
К введению погон отнеслись очень хорошо. Смеялись, пришивая, шутили: "Вот будем теперь, как белогвардейцы". Смотрели друг на друга, смеялись. (Говорит, улыбаясь)
Летом нам вручали медали "За Оборону Ленинграда". Награждение проходило в торжественной обстановке, в строю. Медали мы получили одними из первых. Номер моего удостоверения был в районе трёх тысяч. И все говорили: "О, нам первым дали "За Оборону Ленинграда". Я тогда сфотографировалась с медалью "За Боевые Заслуги", которую получила за августовские бои 1942 года и медалью "За Оборону Ленинграда".
Когда в январе 1944 года началась операция по снятию блокады Ленинграда, немцы на нашем участке, опасаясь окружения, тихо ушли.
В феврале дивизия погрузилась в эшелоны на станции Жихарево,и нас повезли через Волхов Окуловку на Балагое. Дальше марш через Куженкино, Выползово, Валдай, Кресцы, Новгород, деревни Большие и Малые Угороды, Гора. Здесь мы вступили в бой, тут была бойня. О ней даже страшно говорить. Ужас такой, что не расскажешь и не покажешь.
В учебный батальон дали доктора Носову Анну Владимировну из Новосибирска. Санчасть стояла в деревне Куженкино. Солдаты расположились в лесах. Мы к ним ходили, осматривали, проверяли их состояние. Анна Владимировна проводила с солдатами занятия по оказанию первой медицинской помощи. Так же, как и на Волховском фронте, всё пополнение шло через наш батальон. Но обучение проходило уже не так продуктивно. Солдаты проходили обучение не месяц, не полтора, не два, а бывали случаи, что за десять дней объяснят, расскажут и по полкам.
Командиром нашего батальона был тогда капитан Иванов. Он не очень всех устраивал как командир батальона. Его не полюбили, и он у нас был недолго. После боёв командиром стал Поздняков Александр Харитонович.
В конце марта погода была солнечная. Таял снег. К переднему краю шли по талой воде и грязи. Помню деревню Гора, потом Медведь. К месту, указанному нам для занятия обороны, было просто не подойти. Под ногами грязь, перемешанная со снегом. Помню, ночью перепрыгивали полную воды канаву, батальон подошел к какому- то побелённому сараю, в котором хранился сельскохозяйственный инвентарь. Плуги, борона. … Все вплотную набились в сарай, но Поздняков скомандовал: "Третий батальон, выйти из сарая и занять левую сторону!". А сам побежал узнавать, где ему занимать оборону. Стояла сплошная темнота. Сколько- то времени мы пробыли так на ветру. Вдруг начался обстрел. Первый снаряд, второй … Я кричу командиров рот, взводов: "Сальников, Дорошенко!" Никто не отзывается. Подбегает кто-то из командиров, я ему говорю: "Слушай, подавай команду. Нас же … Снаряд упадёт прямо на нас. Третий, четвёртый снаряд, и мы же все погибнем". Пока я это говорила, слышу, звенит снаряд. … И я крикнула, как сумасшедшая: "Третий батальон, бегом вправо!" Все мы побежали бегом вправо. И действительно, на то место, где мы только что стояли, упал снаряд. Кто не успел убежать, был убит или ранен. Я побежала на крики раненых оказать помощь. В это время вернулся Поздняков, кричит: "Третий батальон! Третий батальон" Третий батальон где?" Ну, ему кто-то сказал: "Товарищ комбат, мы здесь". Слышу такой разговор, комбату говорят: "Татьянка скомандовала бегом вправо". Поздняков говорит: "О, молодец". Подходит ко мне и спрашивает: "Что случилось?" Я ему объяснила, что, мол, так и так. Впоследствии за этот эпизод меня наградили орденом "Красная Звезда".
Выяснилось, что мы правильно вышли, это и есть наша оборона. Когда стало рассветать, мы увидели, что всё поле перед нами усеяно трупами. Немецкими и нашими. Окапываться было невозможно потому, что поверх жидкой грязи со снегом по щиколотку стояла вода. Тогда комбат отдал команду собирать трупы. Раскладывать по пять - шесть человек в ряд бруствер из трёх трупов. Поверх застелить снятыми с убитых полушубками и маскхалатами. Весь батальон так делал потому, что лежать было негде. В наступление нас не посылали. Немцы обстреливали из полковых миномётов. Бомбить, слава Богу, не бомбили. Где-то работали пулемёты, но до нас не доставали. Так прошел день. Всё это время мы ничего не ели. Кухня не могла нас найти и подошла только к вечеру. Принесли обед и ужин вместе. Утром в седьмом часу, когда стало рассветать, мина попала в радиостанцию. Убило радиста и ординарца. Комбата контузило, и он не мог говорить, а только шипел. И только я, почему-то не пострадала. Прибежали два солдата, помогли мне отнести в сторону трупы радиста и ординарца. Потом помогли постелить три полушубка, плащ-палатки. В этот момент прибегает ординарец первого батальона и говорит: "Товарищ майор, к нам идёт командир дивизии Ушинский". Я вам говорила, Борис Николаевич - умнейшая личность, гуманнокультурный, порядочный человек. Умевший слушать и прислушиваться. Никогда, никого не наказывавший, никогда, ни на кого не кричал. Его все любили и уважали. Он был чистым, подтянутым, культурным. Хромовые сапоги у него всегда блестели, как на парад. Шинель красиво сидела на его спортивной фигуре. Ему так шла фуражка. Он был красивый мужчина. И вот говорят, что к нам идёт Ушинский. Я обалдела. Куда же мы его примем этого Ушинского? Вижу, Борис Николаевич идёт с пятью сопровождающими. Один был капитан, второй- старший лейтенант и трое солдат. Полы шинели у комдива были заткнуты за пояс. Сапоги и брюки перепачканы грязью. Сам весь мокрый. Подошел, мы хотели встать, но он рукой показал, чтобы мы сидели, и сам присел рядом. При этом его колено попало между застланными трупами. Если бы вы при этом видели его глаза. Он остолбенел оттого, что мы лежим на трупах. Молчание было. Никто ничего не говорил. Я только видела его глаза. (Говорит со слезами в голосе). Это надо видеть. Это что- то: беспомощность, невозможность что-нибудь сделать, сказать. Вот этот момент я буду помнить до гробовой доски. Он обратился к комбату и говорит: "Доложите обстановку". Комбат замычал и ничего не мог сказать. А он в это время разворачивает карту и кладёт её себе и комбату на колени. Смотрит на Позднякова и ждёт, когда он доложит обстановку. Все стоят на коленях, на трупах и смотрят на Позднякова. Он чего-то второй раз промычал и рукой показывает, что не может говорить. Тогда я говорю: "Товарищ комдив, нас сейчас бомбили миномёты. Рацию разбило. Убило его ординарца и радиста. А его, по-видимому, контузило".
Комдив посмотрел на майора, а комбат показал на меня. Он говорит: "А вы что, знаете карту?" Я отвечаю: "Ну, попытаюсь". Ушинский попросил рассказать обстановку. Я говорю: "Ну, вы сами видите обстановку. Что я могу сказать в отношении обстановки. В атаку идти приказа не было. Вот собрали трупы и заняли оборону". Он говорит: "Вы видите эту речку?" Я ответила, что вижу. Ушинский говорит: "Комбат, смотрите на карту. Не расслабляйтесь. Вы понимаете, что я говорю?" Поздняков кивнул головой, что понимает. Ушинский говорит: "Вот перейдёте эту речку, она неглубокая, но вязкая. Не бойтесь, я прошел её. Буквально сейчас, когда я уйду, вы собираете батальон и потихоньку переходите речку. Левее будет тропа. Перейдите эту тропу и выйдите на дорогу. Там вас будут встречать. Вам понятна задача?" Мы снялись и ушли. На дороге нас встретил офицер из четвёртого отдела и указал новое место расположения. Мы снова стояли как бы на отдыхе. Привели себя в порядок. Сходили в деревенские бани. Поздняков неделю полежал в санбате и вернулся к нам. Потом были бои за деревню Медведь. Мы с боями немного там продвинулись, но потом немцы сами отошли. Командование нас похвалило, но сами мы не считали, что мы там что- то особенное сделали. Я в атаку с пехотой не ходила. В большой воронке сделали укрытие , и туда санитары приносили ко мне раненых на перевязку. Ну и были случаи, что я сама бегала. Кричат: "Помогите!" Бегу. Все, кто мог ходить, добирались пешком. Тяжело раненых солдаты несли на носилках, а четверым очень тяжелым, которые без сознания , сделала уколы и ждала машину. Помню, "Шушпанчик" приехал, я ещё ругалась, что так долго, а он говорит: "Я искал, не мог вас найти". "Шушпанчик"- это наш шофёр по фамилии Шушпанов. Он был такой исполнительный, что если ему скажешь, то он невозможное, но сделает. Мы все его любили и звали "шушпанчик".
Дальше немец бежал. Началось освобождение новгородской земли. Большинство деревень немцы успевали сжечь, и мы заставали только пожарища и на них тёплые печные трубы. Другие деревни такие, как Медведь, стояли совершенно пустые. Все их жители были угнаны. Мы шли уже вторым эшелоном. Приходим в деревню Быкова Гора, и спрашиваем местных жителей, отчего у них так пахнет гарью. Они рассказали, что немцы перед уходом собрали жителей, чтобы эвакуировать, но не успели, а, загнав женщин, стариков и детей в два сарая, подожгли и никого не подпускали из жителей, пытавшихся помочь. В этой деревне кроме нас был ещё сапёрный батальон. Комиссар этого батальона майор Рыжов Александр организовал митинг. Местные жители говорили, как они рады, что пришла Красная Армия. А мы давали клятву, что отомстим за то, что в их деревне немец организовал такую месть ни за что ни про что: сжег живых людей. Вдруг Рыжов говорит: "Слово имеет Петрова Таня". А я стою и не знаю, что говорить- то. Посмотрела на него злыми глазами и помню, сказала только одно: "Дорогие мои, как нам жаль ваших одножильцев. Лучше воевать, чем быть в плену. …" В общем, хвалила армию, а вы тут гибните ни за что ни про что. Ещё клялась отомстить немцам за то, что они жгли наших людей. Как уж там я говорила, не знаю, но, по крайней мере, Рыжов подошел, поцеловал меня и сказал: "Татьяна, ты молодец какая".
В этом наступлении мы двигались уже на лошадях и машинах. Немцы так поспешно убегали, что мы их не могли догнать. Сильных боёв уже не было, но происходили постоянные стычки с немецкими заслонами.
Здесь было много работы для сапёров. Все дороги были заминированы. Приходилось посылать сапёров по всем направлениям для разминирования дорог. Но по обочинам мины ещё оставались, и поэтому стояли знаки.
Здесь мы узнали, что за невыполнение приказа о взятии деревни ,кажется ,Горка, был снят командир дивизии Ушинский. Также пострадал командир второго батальона Гусаков. Он был снят с командования и разжалован из майоров в капитаны. Лично я об этом узнала, когда мы приехали обратно в Ленинград. Некоторое время дивизией командовал полковник Павлов, но и он пострадал. Нервы у него стали сдавать. Он бросался в бой, когда надо и не надо. И погиб.
После войны я приезжала в Новосибирск к Анне Васильевне, вышедшей замуж за Гусакова. К тому времени он уже умер. Анна Васильевна рассказала мне, что Иван Васильевич очень переживал, что ни за что был наказан он, Ушинский и Павлов. Вдруг его вызывают в Военкомат и вручают орден "Красная Звезда" за бои в Новгородской губернии. Она говорила, что когда ему вручили этот орден, он ревел, как дитё. Он не плакал, а рыдал. Так в тот раз его унизили. Оказывается, провели полное расследование этого вопроса. Ушинского Бориса Николаевича восстановили в звании и на работе. Но это было уже после войны.
Последние бои дивизии на Псковском направлении- это участие в ликвидации немецкого плацдарма на реке Великой в районе деревни Волки. Это было уже в конце апреля.
Второго июня дивизию на станции Дно погрузили в эшелоны. Третьего- привезли в Ленинград кого на "гражданку", кого в Парголово, Песочное. Наш батальон разгрузился в Белоострове. В это время учебный батальон как бы расформировался и стал называться третьим батальоном 450-го стрелкового полка. Батальоном продолжал командовать Поздняков.
С 25-го апреля до октября дивизией командовал полковник Андреев Пётр Изотович . 450-м полком стал командовать Дягилев Василий Петрович. Сам он, по-моему, из Пскова.
Дивизия стояла в лесах. Уже все знали, что будем наступать на Выборг.
В начале наступления продвигались спокойно, без всяких боёв. Здесь всё уже было взято. Финнов гнали, а мы двигались как бы во втором эшелоне. Шли по Карельскому перешейку. Раньше я там никогда не бывала. Проходим пенаты Репина. Кто-то из солдат мне говорит: "О, Татьянка, пенаты Репина". Я читала о Репине и знала, кто он такой .. И так "загорелась" посмотреть. Побежала посмотреть усадьбу Репина. Усадьба горела. Помню, пробежала по ухоженной аллейке, обсаженной ёлочками. В конце аллеи лежал разбитый бюст Репина. Усадьба горела. Никто её не тушил. Целым оставался только колодец. Посмотрев на эту печальную картину, я побежала догонять батальон. Куда он ушел, я не знала. Бежала по дороге. Волновалась, куда я пойду, где искать. Но комбат послал за мной солдата, который, встретив меня, сказал: "Ты где пропадаешь? Комбат из-за тебя остановил марш. Бежим". Схватил у меня сумку, и мы побежали.
Батальон остановился в лесу, и что меня у финнов поразило - так это чистота леса. В наш лес ведь не пройдёшь, особенно сейчас. По лесу стояли отдельные домики дачного типа. Чистенькие. Везде горел свет. В домиках кухонька, комнатка…. Такая чистота. Думаю, Боже мой, какие чудесные домики. Но особенно поразил лес. Там была такая чистота, что даже было жалко пилить деревья на землянки. Такие они были стройные. В лесу стояли разноцветные бочки. Одна с бумагами, другая с пустыми консервными банками. Вот это были первые мои впечатления. Помню, я ещё подумала: " Господи, такая чистота, такой порядок. И что они против нас воюют. У нас ведь столько финнов живёт. Когда я училась в агрономической школе в группе, было, пять человек по национальности финнов. Зачем, спрашивается, против нас воевать? Кому нужна Русь?" Я этими мыслями поделилась с комбатом. Он рассмеялся и говорит: "После войны об этом будем думать".
Серьёзные бои для нашей дивизии начались в районе "линии Маннергейма". До нас её били- били, и окончательно разбила наша дивизия. Мы за два дня эту крепость разбили тяжелой артиллерией и авиацией. Когда мы приблизились к ней, то я больше нигде не видела таких разрушенных камней. С дачные дома были камни. Все подступы были заминированы. Первыми шли сапёры. Их не хватало. В помощь выделяли солдат, которые понимали в минновзрывном деле. В полку один солдат наступил как бы на люк и провалился. Пол дня пытались его оттуда вытащить. Сообщили по рации. Пришли саперы, что-то там пилили, ну и, в общем, солдата достали. Раненых было очень много.
Чем ближе подходили к Выборгу, тем больше попадалось рвов и землянок. Ох, какие были землянки! Некоторые, между прочим, и сейчас стоят. Когда я уже в наше время ездила на встречи, нам показывали эти землянки. Сплошной город бетонированных землянок. Когда стали подходить к Выборгу, началось сражение. После артподготовки мы пошли вперёд. Нашей задачей был выход к заливу. Конечно, таких страшных боёв, как на Волховском фронте или во время Псковско-Новгородской операции , тут не было. Единственно, что было страшно, - это когда идём по лесу, по нам не стреляют, а в спину нам бросают ножи. Таким образом в батальоне пострадало 15 человек. После такого по дивизии был приказ, чтобы по лесу прошли автоматчики и простреляли верха.
Финны установили множество мин. Сапёром было много работы. При подходе к Выборгу на нашем пути стоял дот. Как наша артиллерия ни старалась, никак подавить его не получалось. Нашелся один солдат из 450-го полка Данилов Павел Фёдорович (1894-1950 гг.). Это был единственный в дивизии солдат, носивший два "Георгиевских Креста", полученные в первую мировую войну. Он закрыл телом амбразуру этого дота. Благодаря чему наша рота успела добежать до финских позиций и проложить дорогу полку. Данилов был серьёзно ранен, особенно в лицо, но остался жив. За этот подвиг ему присвоили звание Героя Советского Союза. Я его знала ещё до этого случая. Мы ходили на него смотреть. Это был боевой дядечка лет пятидесяти. Он умел воевать, умел разговаривать. Его любили.
В то же время произошел другой случай. Был у нас паренёк, Лёша Кулешов. Он восстанавливал связь и был ранен. Сил уже не оставалось, и он зажал зубами оборванные концы телефонного провода. И связь была налажена. Когда собирали раненых, в том числе и я перевязывала, то мне ребята кричат: "Татьянка, здесь Лёша Кулешов!" Он лежал мёртвый, и в зубах у него были зажаты концы провода. Вот такой случай был. Вот такие редкостные люди были!
В самом городе бои шли только на некоторых улицах. В основном финны отступили из Выборга без боя. О пребывании в городе особенно ничего не запомнилось. Помню заросшие травой руины крепости. Дома были пусты. Население города ушло. Когда мы вышли к заливу, то все побежали к воде. Помню, какой - то большой мост и лежащий на берегу памятник Петру первому. Я ещё подумала, чем это им Пётр не понравился. Что такого он -то им сделал? Голова памятника лежала в воде, а сам он валялся на берегу.
Когда Выборг полностью освободили, нас построили. Пришел комдив. Поздравил и поблагодарил. На следующий день 21 июня пришел приказ №146 о присвоении нашей 265-й дивизии почётного наименования Выборгская. В честь взятия Выборга в Москве нам салютовали из 124-х орудий.
Финнских пленных было не очень много. Они не сдавались, уходили в леса. Финны- молодцы. Но злые, очень злые. Я подошла к одному пленному и говорю: "Ну, что, сынок? Зачем ты воюешь -то с нами? Такая красивая, хорошая страна, куда ты в Россию- то идёшь?" Ничего мне не ответил. Сделал вид, что не понимает. Но они все понимали по-русски. И все разговаривали.
В Выборге оставалось небольшое количество мирных жителей. Некоторые радовались нашему приходу, встречали, кричали: "Да, здравствует СССР!" Не сказать, чтобы это бывало часто, но было не раз и не два. Подходили, поздравляли. В основном это была финская молодёжь.
После взятия Выборга нас перевели на остров, который потом переименовали в Высоцкий. Там мы отдыхали, занимались. Получили новую летнюю форму.
Приказом меня перевели из батальона в 324-й медсанбат. Прямо скажу, я была всё время в полку, в батальоне, на переднем крае, поэтому меня это обидело. Я ходила, просила, чтобы меня не переводили. Но начсандив сказал: "Хватит вам быть на фронте, трижды ранена. Война кончается, оставайтесь в медсанбате". Поздняков тоже был против того, чтобы я шла в санбат. Солдаты ко мне очень хорошо относились. Даже так говорили: "Татьянка, ты не ходи, не перевязывай. Мы сами будем перевязывать. Ты только сиди там. Мы будем знать, что ты с нами. Тогда у нас успех". Вот такой разговор пустой был. Как это получалось, не знаю. Я над этим смеялась, говорила: "Что вы дурью маетесь?" И, конечно, нигде не сидела, а перевязывала и отправляла. Но у солдат было такое поверье, что ли. И я всегда была с ними. В любую атаку, в любом бою. Как только они узнают, что я с ними, то всё в порядке, настроение у них хорошее. Поэтому комбат был за то, чтобы я оставалась в батальоне. Кроме этого, комбат и полковое начальство было против моего перевода потому, что я ещё была снайпером. Раньше про это никому не говорила, и это лучше, наверное, без записи. (всё же я настоял)
Снайпера по закону находятся на учёте у комдива. Меня комбат не давал на учёт, потому что меня взяли бы на "кп" дивизии и могли бы посадить на любой участок. А началось всё так. В учебном батальоне я ходила на стрельбище вместе с офицерским составом. А в учебном батальоне стрельбище каждый день. Я стреляла лучше офицеров, и они стали просить комбата, чтобы он меня с ними не посылал. Говорили, что им не- удобно потому, что она попадает в цель, а многие не попадают. Это было в 1942-м году. Тогда батальоном командовал Ершов- кадровый офицер и сам снайпер. Он попадал в подброшенную спичечную коробочку. Ершов научил меня снайперскому делу. И когда была немецкая атака, то для меня было подготовлено на дереве замаскированное снайперское место. Приказ был такой: когда немцы наступают, в первую очередь убить офицера, то есть того, который командует. Убивать мне почти не приходилось, потому что когда идут в атаку, сразу кричат: "Татьянка! Медсестричка! Татьянка!" У меня сердце не выдерживает, я всё бросаю и занимаюсь перевязкой. Честно говоря, я и не любила убивать. Я только одного "фрица" убила. Да и то только когда увидела, что, стоя на бруствере, офицер ругает солдата, при этом указывая в нашу сторону. Мне показалось, что он зря ругает этого маленького солдата, похожего на моего отца. И я этого офицера- то ли убила, то ли положила. Не знаю. А так я не могла без толку убивать. У меня душа не лежала без толку убивать человека, когда ни драки, ни злобы- ничего нет. Это же надо кроме всего иметь какую -то душевную злобу, понимаете?
Ещё и потому комбаты меня не соглашались отдавать в другой полк или батальон, как медик я тоже справлялась. Например, дважды в батальоне забраковала обед. Я должна была снимать пробу с обеда и ужина. Что, значит, забраковать обед? Это "ЧП". Вот в этом я себя подняла. Когда узнали, что я справедливо забраковала, я "прогремела" и в батальоне и в дивизии. Один раз обед был сварен из старого, прогорклого гороха. Я попробовала суп, он горчит. Мало того, правда, про это никому не сказала, но я даже обнаружила в супе червячка. Я написала акт. Этот гороховый суп увезли в дивизию, из дивизии увезли в армию или в корпус. Не знаю. Там поставили, что я правильно забраковала. Второй случай был, когда я забраковала пшенную кашу. Положил мне повар кашу и смотрит. Я спрашиваю: "Афоня, ты что на меня смотришь?" Он отвечает: "Да ничего. Просто так". По его глазам понимаю, что что - то не то. Я попробовала ложку, вторую и спрашиваю: "Афоня, тебе каша нравится?" Он отвечает: "Нет". Я говорю,что мне тоже не нравится. А в чём дело?" Он говорит: "Не знаю. Это вы должны знать". И я снова забраковала. Она тоже была передержана. То же горчила, и запах был какой- то неприятный. В армии снова написали акт, что я правильно забраковала. Тогда- то я ничего не думала, а теперь понимаю, что и за это я пользовалась авторитетом у солдат. Бывало, раз в неделю приду во взвод и говорю: "Разувайтесь, я посмотрю ноги". Кого заставлю помыть. Если у кого потёртости, помажу, дам крем. Он у меня всегда был. В зимнее время я приходила во взводы всем солдатам раздавала по таблетке кальция и следила, чтобы они при мне их съели. Всё это я делала не для повышения авторитета, а по тому, что так было положено делать. Этому меня научила врач батальона Валентина Ивановна Бурдаева. Когда она ушла, то я осталась единственной женщиной в батальоне. Может быть, ещё и поэтому ко мне очень хорошо относились. Вот почему я не хотела уходить в медсанбат. Но начсандив сказал комбату: "Медсанбат -это уже второй эшелон. Война кончается. Давай отправим её. Хватит ей быть на фронте. Она женщина. Пусть рожает сыновей". И Поздняков согласился с моим переводом в медсанбат. Тогда начсандив вызвал меня и говорит: "Тебе что- хочется погибнуть?
Не хочешь? Так вот выполняй мой приказ, иди в медсанбат, а война кончится, жива будешь. Мишка тебе напишет, поженитесь, и рожай сыновей. Понятно? И без разговоров". А Мишка- это был старший лейтенант Самохвалов, который был в меня влюблён, и вся дивизия об этом знала. Он хотел на мне жениться, и пошел в штаб дивизии просить, чтобы нас записали, а ему там сказали: "Тебе баба нужна? Вот отправим тебя на курсы в Боровичи, вот там и находи бабу, а Татьянку не тронь". Об этом я узнала уже после войны, когда мы поженились. Вот такая история у меня была с переводом.
Медсанбат располагался на острове Ягодном у деревни Рыбацкое. Рядом организовали кладбище, на котором хоронили не выдержавших раненых. Сюда же привозили погибших при взятии Выборга. Там похоронили Голованова Михаила Николаевича, занимавшего должность старшего агитатора батальона. До войны он работал учителем. У него было двое детей- Толя и Ириночка.Им Три года и помладше. Каждую свободную минуту он вынимал их фотографии. В боях за Выборг он был ранен, и я пришла его навестить, но мне сказали, что он умер и похоронен на этом кладбище. Я туда сходила и увидела большую, круглую могилу величиной с дом. Там было похоронено очень много наших солдат.
После отдыха и пополнения дивизия двинулась через Ленинград на Нарву. Ехали мы долго, останавливались, почему-то задерживались. 29-го августа приехали в Кингисепп. Было так. Наш 324-й медсанбат размещался в пяти вагонах эшелона. Приехали, остановились, открыли двери теплушек и стали кричать, спрашивая ехавших в соседних вагонах: "Куда приехали, куда приехали?!" Комбат Сковорода Павел Григорьевич выскочил из вагона, открыл карту и говорит: "Сейчас посмотрим". А я встала около дверей. Двумя руками налево и направо поправила ремень и отвечаю: "Не знаю, кто куда приехал, а я приехала домой". Комбат и говорит: "Татьяна, а где твой дом?" Я говорю: "Кин-ги-сепп". Он говорит: "А где? Здесь никакой станции нет". Я отвечаю: "Вот здесь стояла станция. Она разбита. Вот здесь паровозы воду брали. Тоже разбито. А вот песочная дорога на гончарный завод. Через Волгу реку там у нас гончарный завод. Вот по этой песочной дорожке пройти метров 150- там стоит двухэтажный домик, и в нём наша квартира". Вот так я приехала домой. Часа через два или три, когда закончили разгружать, мы с комбатом приходим домой. Двери нам открывает старший лейтенант. Комбат говорит: "Ну, вот освобождай нам квартиру. Это наша квартира". Он говорит: "Если дадут другую квартиру, я освобожу".
В Кингисеппе мы простояли трое суток. За это время я успела пешком по лесу дойти до нашей деревни Кайболово. В лесу я вышла к лагерю эстонской части. Все они были одеты в советскую форму, но говорили по-эстонски. Меня задержали, отвели к офицеру. Он хорошо говорил по-русски. Офицер дал мне велосипед и связного, который быстро меня довёз до моей деревни. В деревне никого не было. Но почти все дома уцелели. Кажется, только три дома были сожжены. Я зашла в свой дом. Двери открыты, окна настежь. Везде ветер воет, крутит. Зашла в подсараек, там у мамы были зарыты вещи. Тряпки валяются, посуда разбитая повсюду. Пошла дальше, дошла до Анатольевых. Это наши хорошие родственники. Там застала эстонку. На ломаном русском языке она рассказала, что когда наши начали наступать, она пришла в Кайболово, чтобы быть у русских. И здесь нашла Таисью Анатольевну. Я спрашиваю: "Она жива?" Эстонка отвечает: "Да. Она сейчас собирает всех, кто остался". Я пробежала по деревне. Увидела счетовода колхоза со своей женой. Кроме них и председателя совхоза Таисьи Анатольевны сумел не уехать ещё дядя Гриша Шилов, который работал до войны бригадиром. Всех остальных немцы эвакуировали сначала в Эстонию, а потом в Германию. В том числе угнали и моих родителей. Я переночевала у Таисьи, которая рассказала, как они жили. Как всей деревней ушли в лес, но один человек, не буду называть его фамилию, предал. Немцы пришли на болото, где в лесу прятались все кайболовские и горские. Согнали людей, сперва в деревню, а потом погрузили в вагоны и увезли. Моя мама, папа , две младшие сестры и бабушка были увезены. У меня сохранилась фотография бабушки, где у неё на шее весит верёвка с дощечкой, на которой выведен её номер "6666". У них там не было не фамилий, не имён, а только номера. Утром Таисья Анатольевна бежит и говорит: "Танечка, в Кингисепп идёт машина. Ты можешь поехать". Я так обрадовалась, что мне не надо через лес добираться. Я говорю: "Вот ,Таисья Анатольевна, я дарю тебе велосипед, катайся". Когда закончилась война, Таисья Анатольевна работала председателем колхоза и везде ездила на этом велосипеде. Всё мне спасибо говорила.
Я приехала в Кингисепп как раз вовремя. Наши уже грузились на машины, чтобы ехать дальше под Нарву.
Мы стояли где-то в районе старинных крепостных укреплений. Помню старую надпись с датой 1709 год.
Дальше дивизия участвовала в боях за Ригу. Наш медсанбат стоял, наверное, в 15-и километрах, где-то в лесу. Принимали раненых.
С бывшим учебным батальоном у меня связь не прервалась. Когда я уходила, то комбат Поздняков Александр Харитонович сказал: "Ты не волнуйся, я после каждого боя буду к тебе приходить и рассказывать, как прошли бои".
Здесь начались нападения местных боевиков. Они переодевались в нашу форму и человек по пять проникали в расположения наших частей. Там внезапно открывали огонь по нашим офицерам и солдатам. После чего, воспользовавшись замешательством, скрывались. Нам надо наступать, а то в одной роте нет офицеров, то в другой. Для дивизии и армии это было такое "ЧП"! С этого момента начали искать в лесах и задерживать всех одетых в нашу форму. Мой будущий муж участвовал в этих операциях против врагов народа до ноября 1945 года.
Ригу мы так и не взяли: пришел приказ отходить. Последний раненый, которого я перевязала, был Гусаков Иван Васильевич , мой бывший комбат. Его ранило в икру и раздробило кость. Я разрезала ему сапог и перевязала ногу.
С четвёртого октября дивизией командовал генерал-майор Красильников Даниил Ефимович. К этому времени мы уже находились в составе Третьего Прибалтийского Фронта.
Снова стояли в лесах и формировались. В это время из госпиталя вернулся Ершов и был назначен заместителем командира полка. Он ходил на протезе и ездил на лошади. Ему построили из соломы шалаш. В нём ночевало человек десять. Помню, постелили на солому плащ-палатки и легли спать. Ершов отстегнул свою ногу и положил рядом. Я никогда не снимала гимнастёрку, а тут решила снять и положила под голову. На ночь оставили дежурного топить маленькую чугуночку. Ночью вся солома вспыхнула. В последний момент все выскочили. Помню, Ершов кричит: "Ногу, мою ногу!" Я кричу: "Гимнастёрку мою, шапку! Комсомольский билет! Комсомольский билет!" Короче всё сгорело. А главное- комсомольский билет. В нём лежала ещё справка из госпиталя о том, что мне дана первая группа инвалидности по ранениям и контузии. Я её скрыла. Всё хотела её разорвать и даже была рада, что она сгорела. И только потом, через много лет, пожалела, потому что мне её не восстановили, а инвалидность дали только с 1980 года.
После отдыха погрузились в эшелоны на станции Платоне Латвийской ССР. Это было уже шестого декабря. Ехали долго. Часто останавливались. Разгрузились недалеко от Варшавы в городе Седлец.
Дивизия участвовала в освобождении Варшавы. Мы двигались вторым эшелоном. Помню, был приказ остановиться у какого- то озера или реки и намочить плащ-палатки. Варшава горела. Мы накрылись мокрыми плащ-палатками , и машины на скорости неслись по большой улице, а по сторонам горели здания. С них на нас летели раскалённые угли. Несмотря на намоченные плащ-палатки, у некоторых полы шинелей оказались прожжены. Ехали ночью, нас обгоняли наши войска на машинах и мотоциклах. Кричали "ура, едем на центральную!" Все радовались, понимая, что вышли на центральную дорогу Варшава - Берлин.
В отличие от Прибалтики в Польше местное население нас радостно приветствовало. В каждой деревне выходили люди. В основном молодежь и женщины. Приветствовали, кричали, улыбались. Вот что ещё бросилось в глаза, когда вошли в Польшу- как только въезжаешь в село, сразу видишь стоящую будку, как наша - телефонная. На крыше будки стоит крест, а внутри икона и ящичек для пожертвований. Для меня это было удивительно. У нас ничего подобного не было.
Помню, остановились переночевать в одном селе. Утром встаём, на улице шум: мычание коров, свиньи орут, куры кричат, овцы блеют. Полный двор животных. Одних коров штук пятнадцать. Мы только открыли дверь, они бегом бросились к нам. Мы двери захлопнули. В общем, они жрать хотят, Хозяева- то убежали. Солдаты свиней отогнали. Налили им в корыто воды. Свиньи стали воду пить, а я пошла доить коров. Молоко у них течёт, а кроме меня никто доить не умел. Этим утром мы должны были ехать дальше, но машина не заводилась, и пришлось остаться. Нас было человек десять. Три медсестры, три санитарки, два шофёра и солдаты. Каждое утро я надаивала по два ведра молока, которым мы питались. На следующее утро пришел наш военный комендант села. Пришел, а мы пьём молоко. Он спрашивает: "А кто это вам дал?" Я отвечаю,мол, надоила: " Вон коровы недоеные мычат. Молоко течёт". Он тоже напился молока и сказал: "По утрам я буду приходить и приносить вам сухой паёк. А вы доите коров и можете покупать у местных жителей овощи". Так мы жили недели три. Никто за нами не приезжал. Вдруг объявился хозяин, поляк. Он хорошо говорил по-русски. У него была жена и два сына. Старший Рудольф и младший Юра семнадцати лет. Хозяин очень хорошо к нам отнёсся и взял к себе в дом. Дом был двухэтажный. Нам отвели большую комнату с двухэтажными нарами. Хозяин дал нам матрацы. Вместо простыней- какие -то старые, но чистые дерюги. Продавал нам лук по пять рублей килограмм. Короче, оказался добряком. К этому времени хозяин вызвал своих рабочих, которые стали заниматься на скотном дворе. Но мне разрешалось доить коров, чтобы у нас было молоко. Мне очень нравилось доить, и я с удовольствием этим занималась. Так мы жили три недели. Младший сын хозяина,Юрка, в меня влюбился. Его дядя был священником. И пригласил меня в костёл. А я- то никогда не молилась и в церкви не была. Вот Юра мне рассказывает: "Когда мы войдём в костел, то надо перед крыльцом встать на колени помолиться и только тогда можно туда войти. Когда мы пришли, позвонили, нам открыли ворота, мы вошли. На встречу вышел его дядя в ризе, одетый священником. Юра говорит: "Это русская девочка. Я привёл её показать нашу церковь". Дядя говорит: "С удовольствием. Пожалуйста, проходите". Ну и Юра встаёт на колени, молится, а я стою в форме. Священник подходит и говорит: "А можно раздеть пилотку". (Смеётся) Я взяла, раздела пилотку- с красной звездой. Разговорились. Священник хорошо знает Ленинград. Он говорит: "Назовите мне хоть одну церковь". Я ему назвала три, которые знала: Троицкую, Никольскую и церковь на Крови. Он эти церкви хорошо знает. И даже рассказал какую-то историю, связанную с Никольской церковью, но я не запомнила. Напоил нас кофе. Очень хорошо разговаривал по-русски. Поблагодарил Юру за то, что познакомил его с русской девочкой и особенно из Ленинграда. Был очень рад. Расспрашивал про Садовую, про Невский, засиделись до темна. Приехали мы на велосипедах по грязи со снегом. Назад в темноте добирались с трудом и вернулись в полночь. Отец и мать стоят на дороге. Юрку встретили кнутом, а меня: "Марш в шалаш". (Смеётся) В общем, Юрке попало. Вскоре мы должны были уезжать. Хозяин устроил нам прощальный вечер. Пригласил аккордеониста, устроил чаепитие и танцы. Пригласил меня на русскую польку. Утром подошла ко мне его жена и говорит: "Милая девочка, я буду тебя вечно помнить. Мой муж всю жизнь хотел танцевать русскую польку, но у него никогда не было русской девочки, чтобы станцевать русскую польку. Вы его под старость лет удовлетворили. (Смеётся) Он всю ночь рассказывал об этой польке". Потом он сам подошел и сказал: "Я счастлив. Буду вечно вас помнить, пока живу. Я очень любил русскую польку". Я всю жизнь хорошо танцевала. На прощание он всем дал по килограмму лука. Приехали в медсанбат. Все были рады нашему возвращению. Отдали лук. В обед по пол -луковицы раздали раненым. Они тоже были очень довольны.
Раненых всё время было очень много. Я работала сестрой в терапевтическом отделении. К нам поступали тяжелораненые после операции и находились на излечении до тех пор, когда можно отправить в госпиталь. Раненые размещались в палатках. Они лежали на носилках слева и справа от прохода по 25 человек в ряд, то есть в палатке размещалось примерно 50 тяжелораненых. Была особая палатка для безнадёжных. Это были солдаты с мозговыми ранениями и раненые в живот. Они были безнадёжные, но некоторые в редких случаях выживали, мы таких где-то через месяц на специальных мягких носилках отправляли в госпитали. Шофера были предупреждены, чтобы ехали максимально аккуратно, для того чтобы довезти тяжело больных. Как только раненый признавался транспортабельным, его сразу отправляли в госпиталь. Максимальный срок пребывания в медсанбате тяжелораненых - полтора - два месяца. Санитарами служили пожилые солдаты - "пятидесятники", те, которым было под пятьдесят лет. Так же был взвод выздоравливающих. Они переносили, грузили на машины носилки, копали ямы для захоронений.
О случаях симуляции или "самострелах" я слышала, но мне среди раненых такие не попадались.
Когда устанавливали палатки, то обязательно выкладывали знак "красного креста", но это не помогало, нас и бомбили и обстреливали.
Всё оборудование и палатки в медсанбате были отечественные. Палатки очень хорошие и тёплые. Всю войну медикаменты и перевязочный материал поступал бесперебойно, и когда мы были на Волховском фронте и особенно под конец войны, использованные бинты мы никогда не стирали. Это сейчас в госпитале сидит сто человек, всем делают уколы, а руки не моют. Только ватку мочат, отирают место, куда укол делают и всё. А тогда на войне перед каждым уколом мы пальцы протирали спиртом.
Очень большие бои были за Помиранию, кажется, город Рейц. Это, по-моему, граница между Польшей и Германией. Раненых поступило столько, что мы не знали, куда их девать. Заняли все палатки. Даже там, где жили шофера автовзвода, поставили нары и носилки с ранеными. После этих боёв дивизия отошла на отдых и формирование. Мы лечили и отправляли по госпиталям раненых. Я продолжала служить в терапевтическом взводе. Там меня обучала врач, капитан Мария Ивановна Окачурина из Воронежа. Два дня назад я с ней разговаривала по телефону. Ей 92 года. Ещё у нас была врач, полковник Прокофьева Зинаида Николаевна. Она попала к нам временно из армии. Красивая, культурнейшая, умнейшая женщина. Она диагнозы ставила. Посмотрит, послушает. Попросит больного: "Смотрите на меня зрачок в зрачок". Ставила диагноз и направляла в такой- то госпиталь, в такой-то госпиталь, в такой-то. И вот только Зинаида Николаевна приходит, я тут как тут, около неё. Мария Ивановна спрашивает: "Ты что около нас стоишь?" Я отвечаю: "А я слушаю". Мне всё это было интересно- послушать умных людей. После войны Зинаида Николаевна ведала Боткинской больницей в Москве. Все девчонки надо мной смеялись. А я была просто влюблена в них обеих. Слушаю, что и как. Как они разговаривают с больными, что они делают, что записывают. Изучала латынь. Например, услышу: стрептоцид. Запишу себе в блокнотик, а потом смотрю, как он по латыни пишется и запоминаю. Моей сменщицей была Шура Земляничкина. Мы с ней работали посменно. Сутки она, следующие я. Старшей медсестрой у нас была Валя Рудаева. Ещё у нас были четыре санитара. Они вносили раненых, выносили. Помогали при переливании крови. Приносили табуреты, банки с лекарствами. Развешивали всё, устанавливали, а мы приходили и только обмывали руки и делали уколы, вливания. Или кровь или другие лекарства.
На отдыхе стояли с середины марта до начала апреля. Мы уже располагались на немецкой земле, не видя ни немцев , ни гражданского населения. Тишина и красота. Как у финнов был прекрасный лес, так тут были прекрасные дороги. У нас только сейчас стали такие строить, что пять или шесть машин могут ехать в ряд и не сталкиваться. Была ещё красотища потому, что весна. По сторонам дорог сады цветут, какой запах. Кругом такая чистота. … Глядя на всю эту красоту, я всё время думала: "Господи, на кой чёрт они полезли на нас в Россию, когда у них такая красивая, хорошая жизнь?".
Было очень много работы у сапёров. Немцы ставили много мин и заграждений. Ничего нельзя было трогать. Наступишь на проволоку, и всё. Ещё немцы оставляли больных проституток, чтобы наши мужики заражались. Оставляли зараженные продукты. Приказ был, чтобы ничего не брать, ничего не есть, с проститутками не водиться. Оставляли этиловый спирт, чтобы наши мужики слепли. В Германии к нам поступали солдаты, пострадавшие от всего этого. Вот такая была обстановка.
Мы остановились в каком -то пустом городишке. На улицах никого нет. Утром пошли повзводно на завтрак. Здесь я пробу уже не снимала. Врачи снимали пробу. И вдруг повар говорит: "О, а вы говорите немцев нет. Вон идёт немец". Мы смотрим, от двухэтажного дома идёт мальчик и держит впереди себя кружку, мы все смотрим на этого мальчика. Ему было лет пять ребёнок довольно большой, но худенький, бледненький. А повар продолжает: "Вы говорите немцев нет. Первый немец. Ком, ком". Кричит мальчику и зовёт рукой. Вот он тихонечко подошел и протянул кружку. Повар говорит: "Попить хочешь? Сынок. Давай". Налил ему в кружку сладкого чая. Он всю кружку выпил. Повар говорит: "А, где мама твоя? "Мутер"- то где?" Мальчик показывает пальцем, что, мол, там, в доме. Повар наложил ему в кружку каши и говорит: "Иди обратно, "мутеру" скажи, пусть идут есть, всех накормим". При этом показывает ложкой, как бы ест. Потом обращается к своему заместителю: "Сейчас все немцы выйдут. Давай, закладывай второй котёл. Сначала мы накормим немцев, а потом сами есть будем". И действительно, пришли с кастрюлями, баночками, у кого что было. Все бледные, некоторые шатаются. Оказывается, они уже больше недели были в подвале. У них ни воды, ни чая. Все продукты кончились. Мы их накормили, напоили. После этого как прорвало. Только входили, немцы нас уже встречали. Как-то это быстро распространилось, что русские не трогают, русские не убивают. Нам ещё в Польше был приказ Сталина. Офицеры и политотдел с нами работали, говорили, что мы армия освободительница, а не мстительная армия.
Помню, вошли в один город, он весь горел. Под расположение медсанбата нам был отведён большой парк с расположенным в нём трёхэтажным домом, который был весь увит виноградом. В парке множество цветов. Виноград тоже цвёл. Это была такая красотища. Стали устанавливать палатки, а комбат с офицерами пошел осмотреть дом, чтобы разместить тяжелораненых на первом этаже. В основном здании никого не было только во флигеле третья дверь была закрыта. Видно было, что в доме жили богатые люди. Стояла дорогая мебель, картины, библиотека. На полу и на стенах ковры. А нам нужно раненых заносить. Что делать? Вдруг из третьей двери выходит человек, наверное, привратник и говорит: "Хозяйка дома, княгиня больна". При этом он назвал её фамилию, но я не помню. Комбат говорит: "Передайте княгине, что я хочу с ней встретиться и поговорить". Ему надо было узнать, можно ли занять два флигеля под размещение тяжело больных. И тогда надо убирать оттуда мебель. Комбата пригласили войти, и он пошел. Ну, а мне интересно княгиню посмотреть. Мы же никогда не видели княгинь. Ещё позвали хирургическую сестру Славку Галкину. Она евреечка. Они все евреи знают немецкий язык. Слава была переводчиком у комбата, когда пришли в Германию. Да и на Волховском фронте она переводила, когда брали "языков". Комбат Сковорода Павел Григорьевич позвал с собой капитана Павла Фёдоровича ,терапевта. И ещё начальника штаба Скуратова. Я говорю: "Товарищ комбат, можно и я с вами пойду. Мне княгиню хочется посмотреть". Он говорит: "Ну, пойдём". Пришли. Слуга доложил и, возвратившись, сказал, что княгиня просит господина офицера подождать 10 - 20 минут.
И вот мы стояли, ждали её двадцать минут. Слуга ввёл нас в другую комнату, так же красиво обставленную и увешанную картинами. Слуга сказал: "Стойте здесь. Сейчас княгиня выйдет". Вышла княгиня. Под руки её поддерживают няни, и сзади кто-то придерживает шлейф платья. Сама княгиня бледная. Еле на ногах держится от болезни. Комбат говорит Славке: "Спроси ее, может ли она разговаривать и не нужна ли ей помощь". Славка перевела. Княгиня говорит: "Я слушаю". Комбат представился, сказал, что мы здесь все врачи и если ей нужна какая -то экстренная помощь то, пожалуйста, верьте нам. Мы всё сделаем, чтобы вам помочь. Она говорит: "Нет, у меня свои врачи. Они при мне. Мне уже помощь никакая не нужна. Что вы хотели от меня?" Комбат говорит: "Мне предписано развернуть госпиталь в вашем доме и в вашем парке". Она говорит: "Прошу. Делайте, что хотите. Размещайтесь". Они ещё поговорили, и когда разговор окончился, она дала команду убрать всю мебель с первого этажа. И под конец сказала: "Я могу вас попросить сказать вашим солдатам, чтобы они вели себя тихо. Мне очень мешает шум". Комбат ей ответил: "Приказ будет выполнен. Я вас очень прошу, не бойтесь нас. Вас никто не тронет. Если вам нужны какие- нибудь медикаменты, мы их вам предоставим". Она снова повторила, что у неё есть свои врачи. Поклонилась и вышла. За четыре дня, что мы там стояли, тишина в доме и парке была неимоверная. Когда на четвёртый день мы собирались двигаться дальше, комбат пошел поблагодарить княгиню за приём. Но ему сказали, что княгиня умерла. Стояло человек двадцать, и уже устанавливали гроб на катафалк, чтобы отвезти в фамильный склеп, который находился в этом же парке.
Третья остановка была в городе, кажется, Шлифенбаен. В это время было очень много раненых, подорвавшихся на минах и раненых из-за угла. Как у нас была партизанская война, так и здесь. Партизанщина была настоящая. Даже у нас в медсанбате был пулемёт. А раньше никогда медсанбат пулемёт при себе не держал.
Мы всегда предпочитали останавливаться в больших гостиницах или спортивных сооружениях, чтобы было больше места для размещения раненых. В спортивных залах можно было поставить нары или на уложенных брёвнах установить носилки. Пришли мы в этот город. Он весь горел. Нам было предписано разместиться в бывшем немецком госпитале. А он, оказывается, не успел эвакуироваться. Всё здание было загружено ранеными. Когда мы подошли, то увидели страшную картину. По улице бежали, шли, ползли на коленках и просто ползли по дороге раненые немцы. Комбат тут же даёт команду всем остановиться, но никто не слушает. Срочно разыскали Славку, и Слава кричит: "Всем оставаться на месте! Прекратить хождение!" А что творилось в здании! Там вообще все тяжело раненые сползли с кроватей и лежат на полу. То есть они перепугались, что сейчас их всех будут убивать. Комбат через Славку приказал всем вернуться на свои места, и они поползли обратно. Когда через полчаса всё успокоилось, комбат пошел в госпиталь. Мне тоже было интересно, и я пошла с ним. На правах парторга батальона мне многое разрешалось. Вошли в большой зал, где лежало, наверное, человек восемьдесят.
Большой спортивный зал. Все стонут, кричат. Комбат говорит: "Слава, крикни, тишина".Славка крикнула. Все стали успокаиваться. Комбат попросил, чтобы вперёд вышли врачи, когда те вышли, он говорит: "Товарищи, мы Советская Армия. Советские врачи. Такие же врачи, как и вы. У нас такие же раненые, как и у вас, поэтому не бойтесь нас. Мы вас не тронем. Врачам заниматься своим делом. Лечите своих больных. Отправляйте их, куда вы хотите. Только сообщайте мне. Я передам по инстанции, чтобы ваши машины не трогали. Вы поняли меня?" Там отвечает врач: "Да, поняли". Раненые тоже слушали. Потом комбат спросил: "Что вам необходимо по медикаментам?" Врачи сказали, что у нас вот того- то и того -то нет. Комбат сказал: "Пошлите со мной человека. Сейчас вам выдадут эти медикаменты". Когда Павел Григорьевич закончил давать наставления , один немецкий врач говорит: "Товарищ майор. Мы знали, что русские наступают, но что русские сегодня будут в Шлифенбаене. … Этого мы даже не подозревали. И спасибо за то, что вы нас не трогаете и не убиваете. У нас ещё очень много людей в подвалах". Комбат говорит: "Передайте своим в подвалах. Пусть выходят. Мы их не тронем, но пусть и они нас не трогают. А то нас обстреливают из других домов. Передайте по дистанции, чтоб нас не убивали, мы же такие же врачи, как и вы". И действительно, нас стали меньше обстреливать из подвалов и окон.
Приехали в следующее место. Не помню, как назывался этот город, но тоже медсанбат разместился в здании бывшего немецкого госпиталя, который успел эвакуироваться. Здание было очень удобное и располагалось посреди парка. Рядом стоял двухэтажный дом, который был весь заставлен стеллажами с книгами. Много книг было на полу. По-видимому, первый эшелон, кто смотрел, бросал книги на пол. Славка любила почитать. Я тоже с удовольствием читала. Мы поднимали книги с пола, рассматривали и некоторые ставили на стеллажи. Я подняла небольшую книжонку и взглянула на раскрывшуюся страницу. Там было написано по-русски: "Аня, ну успокойся. Ну, ни сегодня, завтра мы будем в Петербурге. Я тебе даю слово". Прочитав эту строчку, я ответила вслух: "Опоздал". И бросила эту книжку. По сей день жалею. Зачем я бросила эту книгу. Надо сказать, что в Германии почти в каждом доме были библиотеки, особенно в богатых. Очень много книг на всяких языках. В том числе и на русском. Русские мы брали и читали.
Рядом с домами помещиков стояли небольшие глиняные домики, как на Украине. Когда мы остановились в одной усадьбе, то вошли в один из таких домов для прислуги.
Там увидели сидящего на кровати солдата без ноги. Я у него спросила, где он потерял ногу. Он ответил, что под Курском. Причём неплохо разговаривал по-русски. Немного поговорили, и я спрашиваю: "А чего ты пошел воевать?" Он отвечает: "А как же, вас посылают воевать? И нас послали, мы пошли". Обстановка в доме была простая, печка, стол, стулья. Всё, как и у нас. Таких домиков для прислуги здесь было три. В одном жил конюх, в другом домике жила семья из двух женщин, которые работали доярками, в третьем жил садовник.
Дальше двинулись по просёлочной дороге, через лес. Дорога была не очень хорошая, поэтому ехали медленно. Вдруг в лесу раздался ужасный, звериный рёв, вой, визг. Хоть мы и были в машинах, но перепугались, что сейчас на нас нападут звери. Водитель первой машины затормозил. За ним остановились и остальные. Сперва, через дорогу перебежало несколько собак или волков. Потом , кажется, обезьяны, медведь. Все несутся галопом. Дальше неслись кабаны. Штук пятьдесят. Впереди бежали огромные, за ними средние, а сзади бежали маленькие, такой визг, такой крик … Мы стояли минут десять и ждали, пока они все пронесутся. Когда пробежали самые маленькие, "шушпанчик" тронул свою машину, бывшую первой в колонне. Вот такой был момент, (рассказывала, улыбаясь)
Часть медсанбата с восемнадцатью тяжело ранеными остановилась в лесу. Осталась врач, старший лейтенант Татурина Александра Семёновна, две сестры ,я и Шура Земляничкина, два санитара, кухня и четверо рабочих. В лесу тишина, никого нет. Нам сказали, что приедут за нами завтра, а "завтра" оказалось две недели. За это время к нам поступали раненые: и немцы, и наши, бежавшие из плена. Они выходили из леса, и мы всех принимали: и наших, и немцев. Таких было человек семь.
В один из дней к нам пришел тяжело раненый начальник политотдела полковник Ворягин. Как он был ранен и откуда пришел, я не помню. Мы связались с медсанбатом, откуда приехал хирург и провёл операцию, но спасти начальника политотдела не удалось. Провожали его со всеми воинскими почестями. Приехало начальство. Похоронили Ворягина в районе Шлифенбаена.
Среди тяжело раненых с нами оставался Коля Гребенников. Ему было 18 лет, и в часть он поступил, когда мы были уже в Польше. Коля нам рассказывал, что до ухода в армию успел жениться и оставил восемнадцатилетнюю жену беременной. Помню его слова: "Жив останусь - будем жить. Не буду, зато за Родину погибну". Уже после войны в газете, кажется , "Советская Россия" я прочитала статью, как инвалид войны Николай Гребенников отличился на пожаре, спасая детей.
В лесу было страшно, но и весело. Весело потому, что такая красота: леса, воздух, птички поют. Ходят разбежавшиеся из деревень свиньи, коровы. Коровки подходят к нам, молоко течёт. Мы набирали молоко в вёдра, термоса и поили раненых. Даже делали творог. В лесу мы простояли удачно. Никто нас не тронул, но к концу второй недели у нас всё закончилось.
Следующим городом был Люкенвальде, он находился в пятидесяти- шестидесяти километрах от Берлина. Место красивое, хорошее. Остановились в большом и очень удобном для медсанбата здании. Обычно немцы, отступая, жгли сёла и города, но Люкенвальде остался цел, правда, весь был заминирован. Очень много людей погибало от подрывов.
На дорогах творилось что-то невообразимое. На запад шли вторые эшелоны. Медсанбаты, хозяйства дивизий и армии. А навстречу машинам двигались толпы наших сограждан ,эвакуированных немцами в Германию. Тут были русские, украинцы, белорусы, латыши, эстонцы. Кого только не было. Шли пешком, везли колясочки, несли мешки. Кто ехал на велосипедах, на быках, а некоторые на запряженных лошадьми телегах. Все возвращались домой. Здесь командир нашего 324-го медсанбата Сковорода Павел Григорьевич встретил отца. Увидел его из кабины. До этого ему сообщили, что отец, мать, жена и дочь погибли при бомбёжке. Отец рассказал, что действительно, бомба попала в их дом, но там никого не было. Выяснилось, что мать комбата уже умерла, а жена Клава и дочь Таня живы. Комбат забрал отца с собой, и он был с нами в Берлине. Позднее комбат послал вызов жене и дочери, которые приехали к нему в Берлин.
Где - то под Кенигсбергом в таких же колоннах возвращались домой и мои родные.
Надо сказать, что немцы под Берлином и в самом городе дрались особенно упорно. Часто пропуская наши войска, оставались в тылу и внезапно нападали на части второго эшелона. Это самое страшное. Нам был приказ Сталина: по безоружным не стрелять.
А как узнать- безоружные или небезоружные. Оставшиеся немцы надевали гражданскую, одежду , прятались в подвалах, устраивали себе амбразуры и стреляли нам в спину. А мы не имели право стрелять. Злились очень сильно. Мы имели право стрелять только туда, где засекли место, откуда стреляют. Тогда по рации давали координаты, и артиллерия разбивала. Вот такие были законы. Мы в армии считали, что это дурацкие законы. Это делалось, чтобы показать, что мы армия освободителей, а не мстителей. Это постоянно нам разъясняли политработники и командиры. Приказ был наказывать тех, кто будет мстить, вплоть до расстрела. Мы считали эти законы неправильными и очень злились.
Сильные бои были за город Штутгарт. Это один из самых промышленно развитых городов Германии. Немцы понимали, что с его утратой война будет проиграна. Тут они бросали в бой стариков и подростков. Перед Штутгартом мы освободили большое тюремное здание. Там были не только наши пленные, но и французы и другие. Когда открыли двери этого лагеря, то они просто падали. Все худющие, как скелеты. Их укладывали на носилки и увозили по госпиталям. Это создавало дополнительные трудности для армии. Было очень много раненых, в боях их тоже надо было спасать. Нужно сказать, что здесь гражданские немцы нам помогали выносить пленных из этой тюрьмы. Они убедились, что мы их не собираемся убивать и старались чем могли помочь. К нам в медсанбат тоже поступили истощённые узники из числа освобождённых. Я всё искала среди них Костюкова Михаила Васильевича. Думала, вдруг и он попал в плен.
В Штутгарте с обеих сторон погибло очень много солдат. Мы в медсанбате были вынуждены поставить дополнительную палатку, на пятьдесят человек.
За взятие города Штутгарта наша 265-я Выборгская стрелковая дивизия получила благодарность от Верховного Главнокомандующего. Каждому солдату была вручена "благодарность" Сталина. Она у меня сохранилась. Вся пожелтевшая и надорванная на сгибах, но сохранилась.
Ещё помню бои за какой -то город. Как нам рассказывали раненые, части дивизии за сутки десять раз ходили в атаку. Нам нужно было уже уезжать, но поступило столько раненых, что пришлось ставить дополнительную палатку. Чтобы делать операции, дополнительно приехали два хирурга с сёстрами. После этой ночи в пять часов утра установилась тишина. Мы думаем, что такое случилось? Пришел мой бывший комбат Поздняков Александр Харитонович, грязный, потный. И говорит: "Слушай ,Татьянка, где мне можно себя привести в порядок? Нас отвели на отдых. Я батальон поставил, а сам сюда, чтобы привести себя в порядок и выспаться. Иначе у себя мне не дадут выспаться". Я ему подавала воду. Он умылся, напился молока и улёгся спать. Спал 14 часов.
На формировании мы стояли до 18-го апреля, а дальше начались бои за Берлин.
Когда подошли к Берлину, медсанбат расположился в лесу. В небе уже давно была наша власть. Но здесь все-таки бомба попала. Пострадал 21 человек. Двоих убило. Погиб шофёр Шушпанов, помните, я про него говорила? "Шушпанчик", мы его любили. Ещё погиб связной из дивизии. Он принёс донесение комбату. Ранило Таню Колтышеву, Клаву Петрунину, старшего лейтенанта Екатерину Васильевну- она лаборант была, кадровый офицер из погранотряда. Двоих шофёров, Григорьева, он был хороший, ленинградец., Валю Киселькова. Ещё медсестёр и сандружиниц поранило. Тогда легкораненые и контуженые девочки остались работать и даже справок не взяли, а после войны всё это отозвалось, а справок о наличии контузий и ранений нет.
Весна под Берлином- это была неописуемая красота. У нас на севере такой красоты не бывает. Я, например, до войны на юге не бывала, так что была поражена. Всё в цвету, птицы поют, звери бродят.
Когда началась артподготовка перед штурмом Берлина …, я такого не помню за всю войну. Одновременно со всех четырёх сторон открыли огонь наши орудия всех калибров. Это была такая бойня! И длилась она полтора часа. Кстати, у меня сохранилось воспоминание командира дивизиона Симашкина Николая Максимовича "Первый выстрел по Берлину". (Приводится в конце интервью) Бои за город были страшные. Земля тряслась и горела. Атака шла за атакой. Как нам, девчонкам, потом рассказывал Поздняков, подступы к рейхстагу были укреплены ещё сильнее, чем "линия Маннергейма". Нам рассказывали поступавшие раненые солдаты, в каком- то магазине они нашли красные флажки. Набрали их и когда захватывали очередное здание, на нём вешали флажок. Сам рейхстаг был укреплён и заминирован. Когда во время боя командир роты с большим красным флагом вошел в главный вход, то наступил на мину и погиб. В рейхстаге дело дошло до рукопашной. Одни немцы погибали, на их место выбегали другие. В, общем, дрались, как звери. Раненые рассказывали, что когда уже почти взяли рейхстаг, неожиданно начался пожар. Кажется, на втором этаже. Сперва поступил приказ всем отойти, и пусть он горит. Потом приказали тушить. А чем тушить? Воды- то нет. Стали сбивать огонь шинелями, плащ-палатками. В помещениях был госпиталь и жильё. Там взяли одеяла и тушили ими. Несколько немцев, бросив оружие, тоже стали помогать тушить. Сгореть заживо никому не хочется. В конце концов, пожар потушили. Поначалу о водружении знамени на рейхстаг речи не было. Ограничивались маленькими флажками, которые вывешивали из окон освобождённых помещений. Потом приняли решение водрузить знамя и со всех дивизий вызвали добровольцев. Их оказалось очень много, и из них выбрали двадцать человек. Я запомнила только Ерёмина. Но никто из них не водрузил. Все они были ранены или погибли.
Немцы , конечно, зверьё, даже над своими людьми лютовали. Когда наши войска почти освободили город, немцы затопили метро, а там было полно спасавшегося, мирного населения. И наши солдаты, услыхав крики и видя, что только одни головы торчат из воды, стали спасать людей. К нам в медсанбат поступило двое таких ребят. Они получили охлаждение и были ранены, пытаясь закрыть шлюз. Одного из них звали Ванечка. Я ему делала вливание крови. Уже проколола, вливаю кровь и вдруг- пуля. Кто-то выстрелил из третьего этажа соседнего дома. Пуля пролетела мимо меня и попала ему в левое плечо. Он и говорит: "Окно пробил кто-то". Я вытащила иглу, всё заделала, ему руку согнула. А он спрашивает: "Меня что- ранило?" Я говорю: "Да". Кричу: "Воробушек, давай мне пакет". Перевязываю его, а он и говорит: "Это что- война всё ещё идёт?" Я говорю: "Ванечка, ещё идёт война". Он посмотрел на меня и так говорит как бы сам себе: "Держись, Ваня, жизнь только начинается". Но всё- таки для него она закончилась.
Первого мая, по крайней мере, для нас война кончилась. Помню, утром, перед завтраком, нас построили и зачитали приказ Сталина. Мы думали приказ будет о Победе, а это было поздравление с Первым мая. Было такое недовольство. Думаем, нашел когда поздравить с Первым мая. Тут Победа, а он с Первым мая! Мы всегда с таким удовольствием слушали его приказы, краткие, содержательные. Приятно было слушать. А тут мы как-то опешили. Оказалось, что до Победы ещё далеко.
В бункерах и подвалах находилось ещё много немцев, которые не слышали и не знали, что была капитуляция. Командир разведки дивизии Велинец решил отправиться в бункер. Ушел со своей дивизионной разведкой - пятнадцать или двадцать человек. Ушел и пропал. Обещал вернуться через час. Ни Велинец, ни разведчики, ни немцы - никто не выходит. Это известие дошло даже до нас, до медсанбата, что Велинец пропал со своими разведчиками. Мы все напугались, думая, что его там убили. И только к трём часам дня вдруг вышли два генерала с белыми флагами. За ними стали выходить офицеры, сержанты и солдаты. Худющие, бледные. С генералами вышел один наш разведчик и доложил, что идём с пленными. Господи, это была такая радость! Вся дивизия даже в тылах узнала, что Велинец нашелся. Я это хорошо помню. Некоторые девчонки даже ревели, что капитан Велинец пропал. В общем, из бункеров вышло полтары тысячи немцев. Вот тут к трём часам второго мая война окончательно закончилась.
Когда гарнизон Берлина капитулировал, был такой порядок, чтоб немцы выходили с оружием и складывали его в кучи. Отдельно автоматы, отдельно пистолеты. Потом их строили в колонны, по восемь или десять человек в ряд, и по центральной улице вели к железной дороге. А нас, те войска, которые могли, попросили встать с левой и с правой стороны улиц, как бы следить за порядком. Когда поведут тысячи пленных, немцы могли выходить из домов и узнавать, например, про своего мужа или сына. И чтобы не было выкриков или попыток выбежать из колонн, мы должны были тихонечко смотреть за порядком. Вы знаете, по сторонам улицы стояло столько народа! Все нации : немцы и украинцы, и латыши, и французы. … Многие ещё из Германии не уехали. Все они молча стояли и смотрели, как проводят пленных. Им было приказано идти спокойно, руки назад, голова опущена. По сторонам не смотреть, а глядеть себе под ноги. На железной дороге уже стояли вагоны. Их грузили и сразу увозили, а куда- это было не наше дело.
Солдаты рассказывали нам, что после окончания боёв гражданские немцы показывали, где нужно было разминировать: на улицах, в домах и даже в самом Рейхстаге. Наши под их руководством быстро расчистили город от мин и фугасов. Называли они себя патриотами, коммунистами. Это было большое совместное мероприятие наших войск и местного населения.
Поздняков мне рассказывал, что третьего числа в рейхстаг приехала свита наших маршалов: Жуков, Рокоссовский. Экскурсоводом по рейхстагу у маршалов был сын Вильгельма Пика, Артур, который был руководителем Коммунистической партии Германии. Солдаты , видевшие маршалов вместе, назвали их Пат и Паташон, потому что Жуков был намного ниже Рокоссовского. Рокоссовский- красивый, спортивного телосложения, а Жуков такой мужичок небольшого роста, быстрый. Рокоссовский в основном молчал, а Жуков всё время разговаривал.
А четвёртого числа нам, медсанбатовским, разрешили поехать к рейхстагу. Не доезжая 4 или 5 километров, мы должны были вылезти из машины и идти пешком, так как вся дорога была в рытвинах, воронках, завалена обломками, железом, загромождена танками, пушками … Дальше мы шли по тропиночкам, протоптанным солдатами. Я, помню, обратила внимание девчонок, что среди чёрной, развороченной земли там и тут пробивается зелёная травка и даже цветы. Это был такой контраст, что мы остановились и любовались, радуясь, что жизнь продолжается. У рейхстага мы сфотографировались. Правда, снимочек получился маленький. Почему- то никто не догадался взять с собой хороший фотоаппарат.
Все стены рейхстага выше человеческого роста были исписаны автографами наших солдат. Тогда ребята предложили сделать "пирамиду", чтобы мы могли по ним забраться и расписаться. Для этого нужно было разуться. Девчонки отказались, а я сбросила шинель, сапоги и пошла. Ребята встали друг на друга. Я забралась на одни руки, потом на вторые, и, находясь на третьем ярусе, я в самом углу нашла местечко и чёрным карандашом написала: "Таня Петрова . Ленинград". Бросила карандаш и потихоньку стала спускаться. Точнее ребята сами стали приседать, и я спрыгнула. Несколько лет назад мне вдруг позвонили несколько знакомых и рассказали, что видели по телевизору фильм, в котором показали небольшую часть сохранившихся подписей. Они все говорили, что видели среди прочих сделанную чёрным карандашом надпись: "Таня Петрова. Ленинград".
Помню, возле рейхстага был красивейший парк. Все памятники, как золотые, на солнышке блестят. Грязные, и всё равно блестят. Все в осколках и комьях земли, но всё равно красивые. Это были памятники, свезённые со всей Европы. Я стояла у какого - то французского памятника девятнадцатого века. За какие- то победы Франция этот памятник соорудила, а немцы его вывезли и поставили у себя.
Красивый парк! Конечно, он весь был разбит. Деревья разбитые. Памятники грязные. Сам парк разбитый и грязный, весь в воронках, весь в железе. Но мы проходили как-то. Экскурсию прошли.
Когда же Девятого Мая зачитали приказ об окончании войны, это было что-то, … Солдаты бросали в воздух свои шапки, пилотки, кричали " ура!" Обнимались, целовались. Ребята кричали: "Давайте целоваться, за много лет!" (смеётся) И мы не стеснялись, разрешали целовать. Это была такая радость. Радость, что война закончилась, что мы победили и закончили войну в Берлине, в логове фашизма, и радость, что ты осталась жива. Пели песни. Особенно: "Широка Страна Моя Родная", "Вечер на рейде" …. Мы так складно и с душой пели, что даже немцы выходили и нам аплодировали. Я даже не могу описать ту радость, какая была у нас на душе!
Десятого мая был приказ , разрешавший устраивать праздничные вечера в подразделениях. За мной приехал Поздняков позвать в полк на празднование, но комбат Сковорода меня не отпустил. Мотивировал тем, что я парторг и должна помогать ему в проведении празднования. Я, конечно ,тогда на него обиделась. В полку нас ждали и расстроились, что Поздняков меня не привёз.
Потом два дня была тишина. Все писали письма. Нам выдали тетрадки, бумагу, карандаши, и все писали письма. Уже в конвертах, а не в треугольниках.
Санбат стоял недалеко от города Стендаль. Там были очень хорошие спортивные сооружения. Командир дивизии хотел устроить соревнования с американцами, англичанами и французами. Мы начали готовиться. Стали собирать солдат, занимавшихся спортом, и проводить тренировки. Из нашего санбата отобрали восемь девчонок, в том числе и меня, как бывшую спортсменку. Но получилось так, что союзники не смогли собрать свои команды. Мы думали, что идём на соревнования с армиями капиталистического мира, а нам выставили своих, из других дивизий, (говорит, улыбаясь) Но всё равно это было здорово. Я занимала первые места по лёгкой атлетике. У меня было пять грамот. За первые места я получила дамский велосипед с мотором, швейную машинку "Зингер" с мотором, дамские часы. Там всех поздравляли, всем чего-то вручали.
После этого всем, кто занимался физкультурой, дали по месяцу отпуск. И вот в конце ноября я впервые поехала в отпуск. С нами ехала Пужнина семья, Рыжова семья. … Надо отдать должное, что после войны все поженились и повыходили замуж. Свободных женщин не было. Все выходили замуж за своих, фронтовиков.
Когда медсанбат перевели в Берлин, нам четыре раза пришлось переезжать. Только остановимся и начинаем готовиться к приёму раненых, нам говорят: "Вы приехали в американскую зону". И только на четвёртый раз мы приехали в советскую зону оккупации города.
Несмотря на разрушения , Берлин был красивым городом. Город зелёный, город цветов. Дома увиты виноградом. Много садов. Мы там постоянно ели фрукты, виноград. Особенно вкусными были груши.
Нам разрешили отправлять домой посылки. Рядовому и сержантскому составу по пять килограмм, а офицерскому по десять килограмм в месяц. Всё было централизовано. В каждом полку была выделена специальная рота. Она на машинах выезжала на специальные склады, где получала вещи и привозила в часть. Там вещи распределяют по солдатскому составу. Шили специальные мешки, и каждый приходит и набивает мешок на пять килограмм. Подписывает, и та же рота занимается отправкой. Я отправила только две посылки. Во-первых, я не знала, живы ли мои родители. Во-вторых, Поздняков сказал мне: "Дай мне твой адрес, и я тебя обую и одену". У меня в Ленинграде жила тётя Маня, и я дала ему её адрес. Он посылал туда посылки, но мне из них мало что досталось. Тётя Маня раньше таких вещей не видела, да ещё и голодно было. Она открывала посылки и продавала вещи. В 1946 году распределение прекратилось и можно было посылать только то, что покупал за деньги.
Первыми после победы демобилизовали "пятидесятников". Это солдаты, которым было по пятьдесят лет. Таких набрался целый эшелон, и мы их отправили первыми. В основном они у нас проходили службу в хозяйственных подразделениях. Были санитарами, подносчиками. В атаку таких старались не посылать.
После войны медикам было дано право поступать в академию или институт. Так же и офицеры имели право поступать в высшие учебные заведения. В Москве предоставлялось общежитие, где можно было жить и готовиться к поступлению. Это мне рассказал Поздняков. Пришел и говорит: "Татьянка, поехали в академию учиться. Я, конечно, зажглась окончить. У меня же было только среднетехническое образование, да и то незаконченное. И я согласилась. Из нашей дивизии набралось пятнадцать человек мужчин и десять женщин. Поздняков знал моего жениха, поэтому говорит: "Пиши Мишке, пускай и он соглашается. Это по всей армии. Все встретимся в Москве. Меня назначают старшим сопровождать эшелон с демобилизованными "пятидесятниками". И поручили передать документы поступающих на учёбу". Он должен был всё это сделать до первого августа. Проводила я Позднякова, Мишке написала письмо. Но он мне ответил: "Ни в коем случае. Я с 37-го года в армии и наелся каши досыта. Жду только с тобой встречи. И тебя прошу, не соглашайся. Что это там Поздняков выдумывает?". А от Позднякова никаких известий. Июнь ответа нет, июль ответа нет. Начался август - ответа нет. В политотдел не пишет и даже мне. Я уже привыкла получать его письма и записки. Он мне писал всю войну и особенно в Германии. Сентябрь на носу, а от него никаких известий. Мы стали ходить в политотдел, что первого сентября мы должны быть в Москве. Нам отвечали: "Мы его разыскиваем". Оказалось, что по дороге в эшелоне он внезапно заболел двусторонним крупозным воспалением лёгких. В Познани его сняли с поезда и положили в госпиталь. Там на второй день, не приходя в сознание, он умер. Я ревела …, мне его было так жалко! По сей день жалко! (плачет)
Помню, как-то после войны, он приехал и говорит: "Татьянка, поехали на экскурсию по Берлину и городам". Меня комбат Сковорода Павел Григорьевич отпустил. И мы с ним, ординарцем и шофёром поехали по городам. Были в Дрездене. Проезжая Буг, увидели "фотографию". Он говорит: "Татьянка, пошли, сфотографируемся". Пошли, сфотографировались. У меня по сей день фотография. Он мне её очень красиво подписал: "Лучшему боевому другу Татьянке от Позднякова".
В шестидесятые годы был создан Совет ветеранов нашей дивизии. Но на встречи мало кто приходил. Помню, встретила нашего финансиста Василий Васильевич. Он каждый месяц выдавал деньги. А поскольку я деньги не получала, а отдавала всё в фонд обороны, то в начале войны не была с ним близко знакома. Но когда уже вошли в Польшу, он мне и говорит: "Татьянка, чего ты всё в фонд обороны? Война заканчивается, давай я тебе на книжку буду переводить". Потом я ему была за это благодарна. После войны, хоть с какими- то копейками вернулась из армии.
Из нашего учебного батальона многие дожили до конца войны. Конкретно выжили: Ершов, Екатерина Емельяновна, Рогозин Александр Харитонович. Выжил Калинин Боря, разведчик. Живёт под Москвой. Между прочим, защищал "Белый дом", когда его расстреливали в 1993 году. Помню, прислал письмо: "Татьянка, всё, пишу в последний раз. И больше не хочу ничем заниматься. Это был расстрел. Знай и помни, что когда по телевизору показывали якобы убитого журналиста, то это лежал живой работник телевиденья, чтобы показать, что мы вошли и убили человека". А я помню, это показывали по телевизору. Ну, вот Боря разведчик, Пивоваров, Миша- ординарец Позднякова. Заместитель Позднякова по политчасти Олёхин Алексей Михайлович. Остался Юрка- нацмен, миномётчик, помните, я рассказывала? Он приезжал из Ферганы и жил неделю у меня. Рассказывал: "Знаешь, Татьянка, трудно живётся. Нас не очень любят. Особенно вот я- коммунист. Мне трудно там живётся, хоть уезжай". Ну, много, много осталось живых, но приезжали мало. Остался жив Начальник штаба Олейников, но он пришел в батальон, когда меня там уже не было. С ним я познакомилась вот при каких обстоятельствах. Когда Поздняков после окончания войны позвал меня поехать по Германии, то сначала мы заехали к нему на квартиру. Что-то он там брал. Стоим мы в комнате вчетвером, разговариваем, ещё был Миша- ординарец и Олёхин. Вдруг входит этот капитан Олейников. Красивый, молодой парень. Такой весь боевитый. Снимает перчатки, смотрит на меня и говорит: "А это что за баба?" Тишина. Поздняков говорит: "Немедленно извинись перед девушкой". Тот смотрит на него и молчит. Поздняков говорит: "Я приказываю тут же извиниться. Это наша Татьянка". Олейников встал по команде смирно: "Прошу прощения, товарищ старшина". Я этот эпизод запомнила на всю жизнь. И вдруг на встрече ветеранов я его увидела, узнала, но не стала с ним здороваться и отвернулась. Он тоже узнал меня, и сам подошел, поздоровался со мной и познакомился с Михаилом. Потом, когда мы встречались с Олёхиным, тот, вечно делая вид, будто снимает перчатки, говорил: "А это что за баба?" И хохотали.
Ещё хочу рассказать о встрече Нового 1946 года. Это было такое счастье для нас, девчонок, да и для всех мужиков, потому что столько времени были на фронте, и вдруг командир дивизии, генерал Колесников, затеял встречать Новый год. Во встрече участвовали все женщины, от сандружинниц до врачей. Все офицеры и все Герои Советского Союза, все ,кто имел ордена Славы и так далее, в общем, все были- празднование было на восемьсот человек. Встречали в большущем зале берлинского ресторана. Сборы девчонок были смешными. Я так хохотала над ними, а они надо мной. Всем девчонкам хотелось приодеться в гражданское, а у кого там чего было? Были, конечно, какие то платьица, кофточки, а туфель - то нет. Одень девочка крепдешиновое платьице и сапоги. Она же не смотрится. Я решила идти в форме. Девочки надмной смеялись, говорили: "Танька, ну что ты . … Ну, примерь вот это". И вот так получилось, что девчонки надели платьица и сапоги. Танцевать они там танцевали, но никто не смотрелся. Потом они сами себя ругали, что пришли не в форме.
Ну, там были поздравления, выступления. Потом все пели песни. Причём так хорошо пели, как будто спевшись были до этого. Комдив был доволен. Колесников был с женой. Жена чёрненькая, симпатичненькая. Работала где-то старшей медсестрой. Одета была прекрасно. Платье голубое крепдешиновое, туфли, лакированные лодочки. Серьги, часы, колечки, бусы. Была одета, как до войны наши дамы одевались в театр. Первый танец открыл Колесников с женой. На аккордеоне заиграли вальс, и они вышли. Чудесно смотрелись! Протанцевали два круга, потом он останавливается и говорит: "А почему никто не танцует? Мальчики, приглашайте дам". И так все начали приглашать. Ко мне подошел майор Мыльцев. Спортивного типа парень. Подошел и говорит: "Можно вас пригласить?" Я говорю: "Конечно". И мы пошли с ним вальс танцевать. Я по сей день помню, как была рада, что он меня пригласил. Он очень хорошо танцевал. И весь вечер от меня не отходил. Мы танцевали с ним вальс "бостон", польку- "бабочку", краковяк, падеспань. Он всё танцевал, а я тоже всё умела танцевать. Колесников встаёт, подзывает нас и спрашивает: "Вы что- жених и невеста?" Капитан Мыльцев отвечает: "К сожалению, нет. У неё там какой- то Мишка Самохвалов есть". Комдив сказал, что позвал нас поблагодарить за доставленное удовольствие, сказал: "Вы так хорошо танцуете. Спасибо вам большое. Извините, что я вас подозвал". И мы снова пошли танцевать.
За войну я была награждена медалью "За Боевые Заслуги", "За Оборону Ленинграда"- это на Волховском Фронте. Пятнадцатого мая 1944 года орденом "Красной Звезды" за бои на Псковско-Новгородском направлении, когда я вывела батальон из-под обстрела. Орден "Отечественной Войны"- это за Выборг. Медаль "За Освобождение Варшавы", "За Взятие Берлина" и "За Победу над Германией".
Раз вы считаете нужным, то расскажу о своей любви. Когда в начале февраля 1942 года меня из четвёртого отдела направили в учебный батальон, там парторгом был лейтенант Самохвалов Михаил. Я жила при штабе вместе с офицерами. Мне плащ-палаткой отгородили уголок. Я никогда ни на кого не обращала внимание. Как девушка никому не отдавала предпочтение. Восьмого марта я почувствовала, что Самохвалов что-то заглядывается. Я после госпиталя и блокады всё время ела соль. Всё солила. Офицеры меня за это ругали. Мишка придумал мне подбрасывать сахар. Пьём мы чай, а он потихоньку подкладывает мне кусочек сахара. Я почувствовала внутри: что-то он на меня заглядывается. Но я не обращала на это внимание. Делала вид, что я ничего не знаю, не понимаю.
В тылу дивизия отстроила большой клуб, куда приехала Клавдия Шульженко. Во время концерта нас обстреляли, но Шульженко- молодец. В своём голубеньком крепдешиновом платьице пела "Синий платочек". От недалёкого разрыва посыпалось с потолка. Она только стряхнула головой и продолжала петь.
На концерте Михаил оказался около меня и как бы приобнял, взяв сзади за ремень. Я отбросила эту руку и перешла на другое место. Ещё думаю: "Ну, это уже начинается". Домой шли по тропинке, и опять он оказался возле меня. Снова брался рукой за ремень. В общем, короче говоря, вот такие глупые моменты. Летом Ершов его отправил в третий батальон заместителем командира. Тогда он стал приходить вместе с солдатами, приносившими в термосах завтрак, обед и ужин. Я, конечно, понимала, что он специально приходит с солдатами, а не просто термос с чаем поднести. Иногда мы разговаривали, а иногда так, посмотрит и уйдёт. Потом дошло до того, что он стал мне прямо говорить: "Ты мне нравишься". Я отвечала: "Мало ли что нравлюсь. Я тут многим нравлюсь ,так что- я должна улыбаться что ли?" Потом он признался: "Я тебя люблю. Я пойду в политотдел и скажу, что я люблю тебя, чтоб нам разрешили записаться. Есть такой закон, что в красноармейской книжке и военном билете расписывают". Я ответила, что не соглашусь и не пойду в политотдел. Но в этот день, я пошла проводить его вместе с двумя солдатами, приносившими термосы. Проходили полянку, на которой стояло три пня. Он сказал: "Давайте отдохнём" Снял термос и сел на один пень. Солдаты заняли два других. А я осталась стоять. Михаил показывает мне, что, мол, садись на колено. А я не сажусь. Солдаты и говорят: "Да садись, Татьянка. Вся дивизия знает, что вы любите друг друга". Я спрашиваю: "Откуда?" Они смеются: "А вот все говорят, Миша любит тебя". Ну, короче говоря, я села ему на колено. Мишка стал скручивать из газеты "козью ножку". И вдруг миномётный обстрел. Он перестал крутить и говорит: "О. Одна … Вторая. А третья наша". И вдруг летит третья. Он схватил меня за шиворот и бросил вперёд, мина попала точно в наш пень. Обоих солдат и термоса изрешетило. А мы оба встали с земли невредимыми.
Я стала перевязывать раненых, но они были уже почти мёртвые. У одного живот прямо полностью весь вышел. Вот такой момент был. Мы потом часто вспоминали, как остались живы. Просто мы бросились вперёд на землю. Мина попала в пень, и все осколки прошли над нами. С этого момента я стала как-то более.… И даже в штабе уже стали говорить: "Вон Мишка твой идёт". Всё же он пошел в политотдел просить, чтобы нас записали. Но незадолго до этого произошли такие события. К нам в дивизию на смену полковнику Валягину пришел новый начальник политотдела Вашура Пётр Владимирович. Валягин повёл Вашуру по батальонам, как бы сдавать подразделения и представлять нового начальника политотдела. Когда они пришли к нам в учебный батальон, Вашура стал пристально на меня смотреть. Все это заметили. Мне даже стало не по себе, думаю, что это полковник уставился. Он вдруг и говорит: "А вы , девушка ,откуда? Как ваша фамилия?" Я отвечаю: "Петрова из Ленинграда". Он спрашивает: "А у вас есть старший брат?" Я говорю: "Есть, Борис". Он спрашивает: "А где он работает?" Я отвечаю: "Редактором газеты "Колхозник" в Кингисеппе". Он говорит: "Значит, вы сестра Бориса. Здравствуйте. Я вас узнал. Вы очень похожи на брата". Когда они там переговорили, свои дела сделали, то Валягин снова поворачивается ко мне и говорит Вашуре: "Полковник, береги кингисеппскую. На твоей совести". Он отвечает: "Вот ещё задача, за девушкой следить. Я их люблю, но следить не собираюсь". И вот когда Михаил пришел в политотдел просить, чтоб нас записали, то Вашура ему говорит: "А на ком ты хочешь, жениться?" Он говорит: "Из учебного батальона Петрова Таня". Вашура говорит: "Ты мне её не трожь. Я слово полковнику дал за ней следить. Вот я тебя отправлю в Боровичи учиться на командира батальона. Забудешь всё. Понятно тебе?" А надо сказать, что в это время ликвидировали институт Комисаров и всех освободившихся политработников направляли в город Боровичи для переучивания на командиров рот и батальонов. Михаила тоже отправили. Мы с ним переписывались. Я буквально каждый день получала от него письма. После окончания боёв на Псковско - Новгородском направлении, когда мы стояли на формировании, приезжает к нам Вашура. И говорит Позднякову: "Слушай, отпусти Татьянку в Боровичи. Пусть с Мишкой увидятся. Вдруг у них никакой любви нет". Вызывают меня в штаб батальона. Я прихожу, рапортую, приветствую как положено. Вашура говорит: "Ну, хочешь Мишу видеть? Тогда поедем со мной в Боровичи. Я завтра туда еду принимать зачёты. Вот и посмотрим на твоего Мишку. Узнаем, любовь у него не пропала?" Нас человек шесть свиты на машине поехало в Боровичи. Ехали целую ночь. Приезжаем. Вашура мне и говорит: "Вот постой тут у проходной. Я пойду, всё улажу и потом скажу, чтоб тебе выделили помещение где-нибудь в библиотеке или клубе. Где бы вы с Мишей могли встретиться". Он ушел. Я стою у проходной и слышу голос Михаила: "Становись, шагом марш, запевай". Оказывается, они там на завтрак шли, а Миша у них был старшиной. И идут мимо меня строем. Дошли до меня он командует: "Равнение налево". Мимо женщины идут, все равняются. Я смотрю, Самохвалов идёт, командует, ничего не замечает. Они все идут мимо и смотрят на меня. Вдруг кто-то из колонны кричит: "Старшина, фронтовичка!" И все прибежали ко мне. Посыпались вопросы, расспросы. Самохвалов увидел меня и командует: "Колонна, становись!" Кого-то вызвал и говорит ему: "Веди в столовую". Подходит ко мне и спрашивает: "Слушай, Татьянка, как ты сюда попала?" Поговорили, и он убежал по делам службы. Потом пришел Вашура, устроил меня в библиотеке. Два дня я пробыла в Боровичах. Когда Миша был свободен, мы с ним встречались, разговаривали, гуляли по городу. Всё восстановилось. Сказали, что будем ждать друг друга, тогда поженимся. Больше до конца войны мы не встречались. Миша, окончив курсы, командовал батальоном. После войны оставался в Курляндии, боролся с "лесными братьями". В ноябре 1945 года он демобилизовался и уехал в Астрахань. Я продолжала служить в Германии до мая 1946 года. Когда я демобилизовалась, то сперва поехала домой к родителям, а потом в Астрахань к Мише.
У меня двое чудесных сыновей, три внучки и внук. Уже растёт правнучка и два правнука.
Вы спрашивали меня об отношении к Сталину, высшему командованию и правительству. Это было не отношение, а любовь. Это была любовь! Жажда видеть. Жажда выполнить их приказы. И это я вам не вру. Я даже перевязывала многих солдат, которые говорили: "Татьянка, напиши маме, что я погибаю за Родину". Не за маму, за Родину. Или: "Татьянка, передай привет товарищам. Я умираю коммунистом". Это не басни, не басни. Они так говорили, когда я их перевязывала. Такой любви к Родине, как у нашего поколения не было и не будет.
Да, кричали, идя в атаку: "Ура! За Сталина! Ура! За Родину! Ура! За Ленинград!" Я сама слышала. Но это было только в 1941 и в начале 1942 года на Ленинградском и Волховском фронтах. Дальше ни на каких фронтах я этого не слышала. И что меня удивляет, когда я сейчас об этом думаю. Ну, как можно было так любить Родину? За что её вот сейчас любить? Я её сейчас не люблю. Скажите мне: За Родину. За какую Родину? У меня нет Родины. Я ухожу на тот свет без Родины. У меня нет Родины.
И когда вот как сейчас с вами, я разговариваю с сыновьями, они мне говорят: "Мамочка, да прекрати ты думать. Борьба за власть. Успокойся, пожалуйста. Была, есть и будет борьба за власть. А ты успокойся и не думай ни о чём". Они правы, конечно.
Вот вспомнила фразу. Конец войны, поздравление Сталина с днём Победы: "Дорогие мои. Спасибо вам за такую Победу. Мы провели Победу за территории. Сейчас ваша задача - в период восстановления народного хозяйства политическая борьба за сырьё". Так оно и получилось. Воевали за территории, а сейчас воюем за сырьё.
Ну, вот всё.
Санкт-Петербург 2010 год.
Собственноручное воспоминание командира артиллерийского дивизиона.
"Первый выстрел по Берлину"
В январе 1945 года воины Первого Белорусского Фронта после освобождения Варшавы успешно уничтожили Познаньскую и Бронбергскую группировки немецких войск. Продолжая стремительное наступление, в феврале вышли к реке Одер и взяли плацдарм на его левом берегу. Время до окончания войны считали теперь не неделями, не днями, а километрами. С занятия Одерского плацдарма до конца войны, по солдатским меркам, оставалось несколько десятков километров.
В первой половине марта я был направлен в 937-й артиллерийский полк 364-й стрелковой дивизии на должность командира первого дивизиона. Только вступил в командование дивизионом, на второй день для пополнения дивизиона прибыли четыре маршевых батареи из города Томска , укомплектованные 122 мм. гаубицами и личным составом по штатному расписанию. Солдаты, сержанты и офицерский состав, кроме одного командира батареи, старшего лейтенанта Кулкова, который был награждён медалью "Партизан Великой Отечественной Войны" в предстоящих боях, будут принимать первое своё боевое крещение. Всем хотелось знать всё, что от них требуется для победы. Узнавали у бойцов и командиров, прошедших с боями, имевших боевой опыт. До конца марта месяца проводились тактические занятия, на которых отрабатывались действия орудийных расчётов, взводов, батарей и в целом дивизиона.
В ночь на шестое апреля все пять батарей заняли огневые позиции на одерском плацдарме. Западнее железной дороги, станции Киниц. При этом солдаты, сержанты и офицеры показали высокую организованность. Это подтвердило, что труд, даже кратковременный, но упорный , дни боевой учёбы не пропали даром. К десятому апреля начали в массовом порядке прибывать на плацдарм артиллерийские подразделения. Вечером четырнадцатого апреля командир полка подполковник Матвеев сообщил, что командование Первого Белорусского фронта объявило соревнование под девизом: за первый выстрел по Берлину. (Чьи снаряды первыми достигнут фашистского логова.) Этот призыв с воодушевлением был принят всеми артиллеристами батарей , дивизионами и полками. Каждый боец, каждый командир стремились к тому, чтобы как можно быстрее в предстоящем бою достичь такого рубежа, откуда снаряды его орудий достигнут хотя бы окраины фашистского логова. С утра пятнадцатого апреля весь командный состав, заместители по политической части, партийные работники полка и дивизии довели до всего личного состава обращение Военного Совета, приказ командира полка об особенностях предстоящего наступления. Что атака начнётся с применением прожекторных установок, которые будут своими лучами ослеплять противника и освещать путь для продвижения своих подразделений. Весь личный состав был предупреждён, чтобы никто не поворачивал голову на лучи прожекторов во избежание порчи глаз. Для того чтобы успешно выполнить задачу- произвести первый выстрел по Берлину- было принято решение выделить один орудийный расчет 122-х мм гаубицу с тягачами, на которых будут два водителя. Эта "гусеница" должна следовать в боевых порядках передовых стрелковых подразделений и при необходимости поддерживать пехоту огнём прямой наводкой. Когда всё до мелочей было продумано и подготовлено, после полудня пятнадцатого апреля личному составу дали как следует отдохнуть и вдоволь выспаться. Погода была солнечная, тёплая. На нашей стороне было тихо, только немцы нарушали тишину. В наших боевых порядках временами разрывались мины от немецких миномётов и раздавались редкие выстрелы из стрелкового оружия на передовых позициях. Наступила ночь перед началом штурма.
В полной темноте, наощупь, на самом малом газу к переднему краю начали прибывать прожекторные установки. У бывшей дачи Рибентропа, оказавшейся на переднем крае нашей обороны, расположились четыре прожекторных установки. За передней траншеей заняли огневые позиции орудия прямой наводки. Всё это проводилось в промежутках, когда немцы не освещали местность ракетами. Время перевалило за полночь. Наш орудийный расчет начал движение к наблюдательному пункту. И примерно к часу ночи прибыл к назначенному месту около командного пункта дивизии.
Около двух часов ночи немцы открыли плотный артиллерийский и миномётный огонь по даче Рибентропа, где сосредоточились наши наблюдательные пункты. На миг подумалось, что противник обнаружил нас, но налёт продолжался не более двух - трёх минут. За это короткое время в голове прошли все возможные варианты предстоящей атаки. До начала наступления оставалось не менее двух часов. Время стало продвигаться до предела медленно. Наконец время перевалило за три часа ночи. Командир полка через каждые десять минут сообщает по телефону о времени всем командирам дивизионов, а командиры дивизионов - своим командирам батарей. Оставшиеся последние десять минут с большим напряжением слушали командиры. Остаётся одна минута, десять секунд, три две. Огонь! Ровно в четыре часа шестнадцатого апреля 1945 года огневая вспышка тысяч орудий и реактивных установок осветили небо с северо-востока. Пламенем загорелись земля и территория фашистской обороны. От сильного огня разрывов перед фронтом стало совсем светло. Земля между выстрелами и разрывами колеблется. Перекрытия фашистских укреплений и блиндажей на высоте десятков метров, как смерч, закружилось в пыли и в дыму. На исходное положение атаки взводными колоннами выходят стрелковые батальоны. В гром артиллерийской канонады вливается гул моторов сотен танков. Для всех родов войск время выхода на рубеж атаки было рассчитано до секунды. Стрелковые подразделения и танки вышли на рубеж атаки. Огневая лава артиллерии и миномётов переместилась вглубь обороны противника. Взвились вверх серии красных ракет. Сигнал атаки. Прожекторные установки пронизали позиции неприятеля. Одновременно с прожекторными установками, включив дальний свет фар, пошли танки, тягачи орудий прямой наводки, сопровождавшие наши стрелковые подразделения. Море огня освещало путь наступавшим войскам. До восхода солнца наши передовые подразделения продвинулись на четыре километра вглубь обороны противника.
Противник оказывал яростное сопротивление, держался за каждый куст, за каждый перелесок. Всегда кстати оказывалась 122 мм гаубица. Она не отставала от передовых стрелков более чем на сто метров. И своевременно открывала огонь прямой наводкой по группам, оказывавшим сопротивление. После каждой короткой прочёски немцы, оставляя трофеи и убитых ,откатывались быстро назад. За первый день штурма, преодолевая ожесточённое сопротивление фашистов, наши передовые стрелковые подразделения продвинулись вглубь на семнадцать километров. Это была почти половина пути до открытия фашистского логова. Наступила ночь. Бойцы : пехотинцы, танкисты и артиллеристы, неудержимо стремясь идти вперёд, около десяти часов семнадцатого апреля дошли до окраины, где проходила кольцевая железная дорога. До Берлина оставалось пятнадцать километров. Всё отчётливее наблюдаются трубы станции главного водоснабжения города.
Фашисты открыли по нашим боевым цепям организованный пулемётный и автоматный огонь. Командир дивизиона: "Берлин на ладони, давай быстрей огонь". Все пять батарей дивизиона открыли огонь по узлу сопротивления. Танки развернулись в линию, по фронту. Открыли огонь с места. Орудия прямой наводки и наши гаубицы ведут огонь по огневым точкам. Продолжая наступление, с боевыми непрерывными схватками в одиннадцать часов дня достигли рубежа, откуда снаряды 122 мм гаубиц достигнут окраины фашистского логова. Орудийный расчет гаубицы, не теряя ни одной секунды, развернулся к бою и произвёл первый выстрел по окраине фашистского логова. Это было семнадцатого апреля в одиннадцать часов дня.
Я немедленно доложил командиру полка, что первый выстрел по Берлину произведён, и немедленно весь дивизион перемещается на огневую позицию в район, откуда был произведён первый выстрел. Услышав мой доклад о первом выстреле по Берлину, командир поддерживаемого батальона сказал: "А я -то думал, что эта гаубица выделена для уничтожения и разрушения дзотов и дотов противника. Вот оно, что ты надумал". Вскоре весь дивизион развернулся к бою на этом рубеже. Пехота, преодолевая яростное сопротивление немцев, медленно, но уверенно продолжает движение вперёд. Каждый шаг движения был осторожным и продуманным. На любое сопротивление фашистов первое слово предоставлялось "богу войны" артиллерии. Чем ближе наши подразделения подходили к городу, тем яростнее становилось сопротивление недобитых фашистов. Каждый рубеж перед его штурмом надёжно обрабатывался артиллерийским и миномётным огнём, до полного уничтожения огневых средств врага. В этот момент, как бы можно сказать, стихийно зародилась мысль не только у командиров, но и у бойцов начать действовать небольшими группами, организовывая между собой взаимодействие. Утром двадцатого апреля наши подразделения вышли на железнодорожное полотно, которое являлось кольцевой линией вокруг Берлина. А проходила она по насыпи высотой около десяти метров. Через несколько минут развёрнутые по фронту с интервалами не более десяти метров подошли танки. Они пытались сходу перескочить железнодорожную насыпь, но это не удалось. Тем временем фашисты вели сильный пулемётный огонь из крупнокалиберных пулемётов. В пятистах метрах вправо под насыпью был проезд, по которому мог пройти только один танк. При попытке пройти под насыпью наш танк был немедленно подбит и перекрыл весь проезд. Вскоре было установлено, что на крыше длинного четырёхэтажного кирпичного здания фашисты установили четыре зенитных малокалиберных орудия и два четырёхствольных крупнокалиберных пулемёта. Вдруг раздались голоса: "Где здесь артиллеристы? Давайте скорей огня". Командиры батарей доложили о готовности к огневому налёту. Огневой налёт - десять снарядов на орудие. Я передал голосом по цепи вдоль насыпи. И резким взмахом руки подал команду на открытие огня. Секунд через несколько снаряды достигли цели. Красное здание было окутано красно-бурой пылью, смешанной с чёрным тротиловым дымом от разрывов снарядов.
Все бойцы и командиры в полный рост поднялись на насыпь. Наши танкисты мгновенно оттянули с проезда подбитый танк и на самой высокой скорости, разворачиваясь в боевой порядок, начали двигаться вперёд. Дивизион перенёс огонь на двести метров в глубину города, юго-западнее. Ветер быстро развеял пыль от красного здания, от которого остались одни руины. Все зенитные установки, их расчеты были уничтожены. Наша пехота не более полукилометра прошла развёрнутой в боевой порядок. Свернулась в колонну повзводно и, пройдя не более двух километров, вошла в Берлин, на главную станцию водоснабжения города.
Поддерживая стрелковые батальоны, дивизион побатарейно занял огневые позиции в открытом поле между железнодорожной насыпью и ранее разрушенным красным зданием. Стрелковые роты повзводно пошли вперёд по дворам широкой улицы, которая вела к Александрплацу, но в первом квартале этой улицы были встречены огнём Фаустпатронов и автоматов. Начались бои в городе. Фашисты яростно стали драться за каждый дом, за каждый квартал. Было много дней, когда приходилось вести бой целые сутки за один квартал.
Не следует умалчивать и о многих жителях города Берлина, которые охотно оказывали содействие нашим успехам. Они помогали правильно ориентироваться и двигаться по дворам, подвалам. Показывали, как правильно можно перейти из квартала в квартал, из одной улицы в другую, не выходя из подвалов домов, как провести телефонную связь через улицу, которая обстреливается фашистами. Честные антифашисты называли себя коммунистами, предупреждали о том, какими силами занят тот или иной дом или квартал и как войти и выйти из подвала, чтобы скрытно занять надземные этажи. Как правило, фашисты старались занимать наземные помещения, а наши шли по подвалам. При сильном сопротивлении приходилось выкуривать фашистов из верхних этажей огнём путём поджигания зажигательными бутылками и горючей смесью. К утру первого мая части 364-й и 265-й стрелковых дивизий, которые составляли седьмой стрелковый корпус, вышли к Силезскому вокзалу. Откуда вёлся сильный огонь противника из всех видов оружия. Огонь вёлся из специального оборонительного сооружения, представляющего собой трёхэтажное здание, в квадрате не менее 150 на 150 метров. Толщина стен- не менее полутора метров. Размещение амбразур позволяло вести круговой обстрел всей прилегавшей местности со всех видов оружия, включая противотанковую артиллерию. На его крыше были установлены зенитные орудия и пулемёты. Тогда бойцы это сооружение назвали "бункером Гебельса". Наше дальнейшее наступление было остановлено. Командование седьмого корпуса на месте решило в ночь на второе мая выдвинуть на прямую наводку первый дивизион 935-й стрелкового артполка и 364-го дивизиона. Артиллерию стрелковых полков и танки поддержки пехоты были нацелены на прямую наводку для ведения огня по амбразурам бункера. К двум часам ночи второго мая орудия были готовы к открытию огня по бункеру. Штурм намечался на чет2ыре часа утра. Без пятнадцати четыре подана команда зарядить орудия. Глаза в панорамы следят за каждой амбразурой. Штурмовые группы стрелковых рот готовы к прыжку. Все ждали сигнал начала штурма. И вдруг все одновременно заметили, что из каждой амбразуры бункера выставляются белые флаги. А затем из подвала бункера вышли немецкие офицеры с развёрнутым большим белым флагом. На передний край немедленно прибыло командование седьмого корпуса 264-й и 265-й стрелковых дивизий. Состоялась встреча с немецкими парламентёрами. Все орудийные расчеты были отведены на пять шагов от орудий. Но орудия оставались заряженными. Немецкая дивизия, которая занимала бункер в цепи по одному, начала выходить из бункера и выбрасывать всё своё оружие в указанное нашим командованием место.
Во всех окнах жилых и нежилых помещений, на улицах Берлина были выставлены белые флаги. Примерно в десять часов утра второго мая, когда весь гарнизон бункера был обезоружен и несколькими колоннами отправлен по назначению, расчетам была подана команда разрядить орудия. Последний выстрел произвести не пришлось. С большой осторожностью разрядили мы орудия.
С криками " ура", со слезами беспредельной радости бойцы, командиры поздравили друг друга с долгожданной Великой Победой!
Так произвели первый и последний выстрел.
Бывший командир первого дивизиона 737-го артиллерийского полка 264-й стрелковой дивизии майор в отставке Симашкин Николай Максимович. 21 ноября 1980 года.
| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |
| Правка: | С. Кромм |