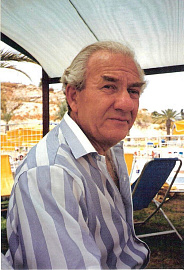Родился 4.4.1926 в городе Минске. Мои родители были выходцами из небольших местечек, отец работал портным, а мама была домохозяйкой.
Жили мы в маленьком деревянном доме на углу улицы Республиканской
У меня было три старших сестры: Слава (1913 г.р.), Ася(1917 г.р.), и Фаня (1920 г.р.).
До начала войны я успел закончить 7 классов белорусской школы № 1 города Минска.
Достаток у нашей семьи был средним, жили мы обычной, по меркам того времени, жизнью. Старшая сестра Слава в 1937 году вышла замуж за Семена Эпштейна, и через год у них родилась дочь Фира. Семья наша была очень дружной.
– Что происходило с вами и с вашими близкими в первые дни войны?
– Начало войны застало нас врасплох, никто ее не ожидал.
Минск сильно бомбили уже в первые дни войны, особенно, центр города.
Муж сестры, Сеня Эпштейн, был 1911 года рождения, и его мобилизовали в первый день войны. Он, кстати, выжил на войне, вернулся потом в Минск израненным в боях офицером, старшим лейтенантом, и узнал, что его жена и дочь погибли от рук немецких палачей.
Рядом с нашим домом стоял дом Наркомата мукомольной промышленности, в нем проживал заместитель наркома, который предложил всем соседям спрятаться в бомбоубежище, на окраине города, на территории мельницы. Мы пошли туда, и по дороге отца пытались арестовать «особисты», мой отец имел интеллигентный вид, носил очки, и они решили, что так и должен выглядеть « настоящий германский шпион». Вернулись вечером после бомбежек на свою улицу, а от нашего дома остались одни головешки, дом сгорел во время авианалета.
Мы пошли к своим родственникам на Немигу и поселились у них.
25-го июня уже горел весь центр, в городе наступило полнейшее безвластие, народ грабил склады и магазины. Поезда из Минска не ходили со второго дня войны, пути были разрушены.
Надо было бежать из города, но мой отец, старый портной, которому тогда исполнилось уже 53 года, сказал –« Я в 1-ую Мировую видел немцев и знаю их с хорошей стороны.», и решил с семьей остаться в Минске. Это был последний день, когда еще можно было вырваться из Минска.
Те, кто пытались покинуть город 26-го июня, уже не успевали уйти на восток, так как немцы обошли Минск со всех сторон, и многим беженцам не оставалось другого выбора, как вернуться.
27-го июня мы увидели, как по Немиге, в восточном направлении идут колонны немецких войск, одна за другой, и казалось, что нет им конца и края. Начался «новый порядок»…
В первый же день оккупации произошел один случай, очень редкий и нетипичный.
Вместе с немцами в колоннах двигались поляки, позже из стали называть «познанцы», часть в военной форме, часть в гражданской одежде, но все с оружием, и эти поляки, только войдя в Минск, сразу стали рыскать по еврейским домам и грабить. Пятеро таких подонков ворвались в наш дом на Немиге и стали, угрожая немедленным расстрелом на месте и тыкая дулами винтовок в лицо, требовать от нас золото. На какое-то мгновение поляки отвлеклись, и отец смог выскочить на улицу, по которой как раз походила очередная войсковая колонна.
Отец увидел пожилого немецкого офицера и обратился к нему с просьбой о помощи.
Немец достал пистолет из кобуры и пошел с отцом в дом. Он приказал полякам, чтобы те пошли вон, или они будут застрелены, и поляки поспешно ретировались.
Немец молча вышел из дома и отправился к своей походной колонне…
До 10-го июля в Минске было относительно спокойно, пока на каждом месте не были расклеены приказы, которые ограничивали евреев во всех правах, и за любое неповиновение или невыполнение приказов был обещан расстрел…
Был введен комендантский час. Евреев обязали нашить на одежду с двух сторон опознавательные желтые латы - круглые куски материи диаметром 10 сантиметров.
Одновременно с этим в городе появились части СС, СД, гестапо, и для нас начался сущий ад. Всем евреям приказали перебраться в гетто, которое первоначально занимало довольно большое пространство в западной части Минска в районе Юбилейной площади.
Русским и белорусам, проживающим в районе отведенном под гетто, было предписано освободить свои квартиры, выйти за пределы будущего гетто, и им разрешалось селиться в любой пустой «еврейской квартире» в «русской части» города.
Полицаи стали заселять евреев на территории гетто, и, конечно, получилась свалка, в одну квартиру набивали по пять-шесть семей, скученность было просто неописуемой, но ничего нельзя было поделать. В этой жуткой тесноте, незнакомым ранее людям, надо было как-то вместе выживать. Когда всех евреев согнали в границы гетто, то на первых порах его обнесли только невысоким забором, где-то метр высотой, столбики с натянутой колючей проволокой, и периметр гетто охранялся только пешими патрулями из полицаев –белорусов.
Выйти в «русскую часть» Минска до середины осени 1941 года можно было, при желании, без особых проблем, и там обменять свои вещи на какие-то продукты.
Затем было образовано еврейское самоуправление, комитет – Юденрат, и создана еврейская полиция гетто, которая следила за порядком, и была «вооружена» повязками на правом рукаве.
Работоспособное население, всех, начиная с возраста 16 лет, в приказном порядке стали выгонять на различные тяжелые работы. Мы постепенно стали привыкать к такой «новой жизни», ведь за малейшее нарушение установленных немцами правил, за неповиновение, кара была одна – расстрел…
– В разделе «Партизаны» на сайте есть четыре интервью с бывшими узниками Минского гетто, с Леонидом Окунем, Аркадием Красинским, Моисеем Гореликом и Абрамом Асташинским. У них общая с вами судьба: гетто, побег в леса, партизанский отряд, а далее служба в Красной Армии. Первые трое из них, вообще, воевали вместе в одном партизанском отряде Семена Зорина. В своих интервью они максимально подробно и детально рассказали хронологию массовой гибели евреев Минского гетто, и, поэтому, я не буду задавать вам общие вопросы. Расскажите просто на примере вашей семьи, что довелось испытать в гетто?
– До первого большого погрома 7-го ноября 1941 года наша семья дожила относительно «спокойно», в смысле, что до смерти от голода пока дело не доходило.
Отец уже был в рабочей команде, работал в портняжных мастерских при Минской тюрьме, имел на руках «аусвайс»- пропуск с гербовой печатью, и он приносил какие- то продукты, выменивая вещи на хлеб, муку. Потом удалось пристроить одну из сестер в команду чернорабочих при тюремной кухне, и нам иногда что-то с кухонных отбросов перепадало.
Слух, что немцы собираются устроить большой погром пошел в гетто за несколько дней до трагедии. Люди метались в панике, все спешно готовили какие-то укрытия – схроны, «малины», как мы их называли. Начальником тюрьмы, в которой работал отец, был местный, минский немец по фамилии Бат, до войны работавший грузчиком в универмаге. Он к отцу неплохо относился, и разрешил ему, накануне погрома, взять с собой на ночь всю семью, нам позволили заночевать в мастерских на полу. Но когда мы покидали гетто, мать замешкалась, и не ушла с нами.
Мы ждали ее до вечера, но она не пришла в мастерские. Утром 7-го ноября начался погром. Немцы из отрядов СС и полицаи окружили гетто, ходили по домам, вытаскивали из них людей, и, либо расстреливали на месте, либо вывозили на машинах на расстрел за город. Мы очень волновались за маму. Немецкое начальство отца сказало, что есть приказ не расстреливать тех, кто имеет определенный «аусвайс» специалиста, и посоветовали отцу идти в гетто и искать маму. Отец так и сделал, но когда он вернулся, то рассказал, что наш дом пуст, что на улицах только трупы убитых, и что по дороге в гетто и обратно его многократно проверяли каратели, но увидев «аусвайс», действительно, не тронули. Погром продолжался три дня, и все это время мы оплакивали мать, и находились у отца на работе. А на четвертые сутки пришла мама, живая и невредимая, только страшно постаревшая за эти дни. Нашей радости не было предела.
Мама рассказала, что с ней произошло. К тому времени мы уже жили на Замковой улице, в одноэтажном каменном доме, где до войны был продовольственный магазин. Когда начался погром, то все жильцы спрятались в магазинном погребе, куда вел люк в полу. Они многократно слышал стук немецких кованых сапог наверху. Среди скрывающихся было много детей, которых было не удержать все время на месте, и кто-то из детей полез к штабелю пустых бутылок в углу подвала, бутылки упали на пол, шум, грохот, звуки разбитого стекла, а немцы в этот момент как раз находились в комнате над погребом, и услышав шум, немцы без труда нашли лаз в подвал и стали вытаскивать наружу всех, кто в нем прятался. В последнее мгновение мама и еще одна женщина успели спрятаться под лестницу, которая вела наверх и их не заметили. Всех вывели из дома и расстреляли прямо во дворе, а мать и эта женщина трое суток просидели под лестницей без еды и питья. Люк в погреб так и оставался открытым и за это время каратели несколько раз спускались в погреб, но не заметили их. И только на четвертый день, услышав наверху еврейскую речь, мать выбралась из этого «убежища» и пошла искать нас…
Так что в первый погром наша семья не понесла потерь.
Сразу после погрома границы гетто были значительно сокращены, и немцы поставили новый, высокий забор из колючей проволоки на столбах.
Жизнь в гетто постепенно снова возвращалась в свое «нормальное» жуткое русло. Люди умирали от болезней и голода, в гетто постоянно проводились облавы, в которых убивали сотни людей, но мы еще держались. А вот мартовский погром 1942 года был намного суровее и страшней первого, и по масштабам, и по организации, тут уже никакие «аусвайсы» - специалиста не помогли. В холодный мартовский вечер ( 2-го марта 1942 года) все рабочие колонны по возвращении в гетто, были задержаны у ворот и окружены очень плотным кольцом.
Рабочие команды силой посадили в закрытые грузовики и вывезли за город, как потом выяснилось – на расстрел. Из этих команд никто в гетто живым не вернулся.
Убивали их в большом рву, который после войны получил от евреев название «Яма». В этом печально известном месте были убиты в тот мартовский день мой отец и младшая сестра.
После войны евреи Минска на 9-е мая по традиции всегда собирались в этом месте и поминали своих погибших родных. При Советской власти каждый год нам чинили всяческие препятствия в этот день, лишь бы мы не собирались на траурный памятный митинг у «Ямы», но люди все равно приходили, несмотря на запреты КГБ и милицейские кордоны.
Что нам было терять, это партийных могли из партии за такой митинг выгнать, а простым людям, ну чтобы они сделали? Я после гетто и партизан вообще перестал чего- либо в жизни бояться. Хуже уже не будет… Специально подгоняли машины с радиоустановками, чтобы заглушить слова выступавших евреев у этой братской могилы. Представьте, кто-то из евреев произносит слова поминальной молитвы, а гэбэшники в этот момент на всю мощность врубают музыку, десять раз подряд какое-нибудь «Арлекино» ставят.
Сейчас это место, «Яма», считается святым,… а при коммунистах…
Когда расправились 2-го марта с рабочими командами, то немцы и полицаи: прибалты, белорусы и украинцы, стали зачищать гетто, шли по улицам и убивали в домах всех подряд, прямо на месте. Мы смогли укрыться в «малине», наш схрон полицаи так и не обнаружили во время зачистки. После гибели отца и сестры, мы остались без кормильцев, и я с двумя сестрами пошел на биржу труда в гетто, где зарегистрировался, чтобы получить направление во вновь формируемые различные рабочие команды.
Мама оставалась дома вместе с четырехлетней племянницей.
Я попал в рабочую команду, которая занималась разбором завалов на месте разрушенного при бомбежке огромного холодильника республиканского мясокомбината.
Мясокомбинат продолжал работу на нужды вермахта и нам иногда удавалось пробраться к сбойной яме, куда сбрасывали все отбросы, отходы производства, остатки шкур, и оттуда что-то выудить пригодное к употреблению в пищу. Это были даже не помои, а что-то …, словами не рассказать, но и этот «сбой», которым брезговали даже бродячие собаки, я, когда удавалось, проносил в гетто, чтобы хоть чем-то накормить мать и племянницу.
Голод достиг ужасающих размеров, и единственное место, где можно было хоть что-то добыть съестного в обмен на одежду или золото, была толкучка, базар на углу Юбилейной и Сухой улицы. Но золота у нашей семьи никогда и до войны не было, а все вещи годные к обмену мы еще в сорок первом году «проели»… На эту толкучку приходили местные из «русской части» Минска, где выменивали свои продукты на барахло.
Затем в гетто привезли несколько десятков тысяч немецких евреев, которых прозвали «Гамбургскими». Несколько кварталов отвели для них, окружили «гамбургское гетто» отдельным высоким забором из проволоки, получилось гетто в гетто.
Заходить туда или просто общаться с ними нам было запрещено под страхом расстрела.
Эти немецкие евреи сильно отличались от нас, от «советских», и манерами, и умением держаться, и внешним обликом. Вместо круглых желтых лат на спине и на груди они носили шестиконечные звезды, в центре которых по-немецки было написано «Юде».
«Гамбургским» евреям во время отправки из Германии не дали время на сборы, вещей в чемоданах они с собой не привезли, но какие-то драгоценности у них были, и некоторые русские минчане, надев на себя желтые еврейские латы, пробирались в немецкое гетто через дырки в проволочном заборе и меняли за бесценок продукты на драгоценности.
Летом 1942 года эсэсовцы всех «гамбургских» евреев полностью уничтожили.
В летний июльский большой погром погибли моя мама и маленькая племянница.
На этот раз немцы приказали всем рабочим командам задержаться на работе, а в это время каратели расстреливали в гетто всех подряд, прямо на улицах и в домах. Когда нам разрешили вернуться в гетто, то похоронные «санитарные» команды уже очистили улицы гетто от трупов.
А мы продолжали как-то выживать, и настолько привыкли, что смерть всегда бродит где-то рядом, то уже ничему не удивлялись, даже когда на наших глазах постоянно, и ночью, и белым днем, кого-то убивали немцы и полицаи, даже когда вся улица после очередного налета на гетто была завалена трупами – эмоции были минимальными, внутри будто все окаменело…
А люди гибли… Каждые несколько дней в гетто врывались разные карательные группы и отряды, хватали всех, кто попался на улице и в домах, и увозили на ликвидацию…
Потом в гетто появились машины-душегубки, которые приезжали в гетто по ночам, и курсировали по улицам, всегда по два крытых фургона-грузовика вместе. Одна машина – герметичная будка-душегубка (в которой выхлопная труба выведена в закрытый кузов), а вторая - с эсэсовцами. Подъезжают к первому «понравившемуся» им дому, окружают его, выгонят всех жителей наружу, заталкивают людей пинками, ударами прикладов и выстрелами внутрь душегубки, и пока машина выезжает за город, внутри уже все мертвы, отравлены насмерть выхлопными газами... Ночью лежишь в кровати, вроде спишь, а сам начеку, и когда слышишь приближающийся рев моторов, то душа уходит в пятки, а вдруг на этот раз немцы выберут твой дом? И хорошо, если есть где спрятаться, а если нет такой возможности?
Мне однажды сильно повезло. У меня от голода все тело покрылось фурункулами, и не было даже сил встать с кровати, так как любое движение причиняло боль. Весь в гнойных нарывах.
И вдруг рядом с домом облава, я услышал крики и выстрелы совсем близко. Откуда только взялись силы, но я скатился с кровати и заполз под нее. Эсэсовцы вошли в комнату, но под кровать заглянуть поленились. А всех, кто был в тот момент в доме – схватили и увезли на расстрел. Спасались только те, кто успел спрятаться в «малинах», для строительства которых приспосабливали любое укромное местечко. Делали двойные стены, заклеивая их обоями.
В простенках прятались в нужное время. На первых этажах домов выкапывали погреба и делали двойной пол. Были в гетто зажиточные семьи, которых, правда, насчитывались единицы, которые смогли устроить сложные в техническом плане сооружения –«малины» - «тайники» с запасом воды и пищи, рассчитанные на длительное пребывание.
Самым страшным для нас в гетто было даже не постоянное ожидание смерти, акций по ликвидации, а голод и эпидемии, которые косили людей, как из пулеметов расстреливают.
На глазах люди опухали от голода и умирали. Самым деликатесом у нас считались оладьи из картофельных очисток, перекрученных на мясорубке.
Кругом смерть, смерть, и еще раз смерть. Моя сестра Ася, ровесница Октября, человек закаленный, мастер спорта, осенью 1942 года после того как пошли первые слухи о партизанах, решила уйти к ним в леса. Он смогла раздобыть русский паспорт и ушла из гетто.
После войны я так и не нашел ее следов, сестра не отозвалась, и скорее всего она погибла по дороге в партизанские леса. В 1943 году погибла моя последняя сестра, ее схватили немцы за то, что она меняла простынь на картошку у забора с колючей проволокой. Сестру отвезли в гестапо, а оттуда живым никто никогда не возвращался. Из всей нашей семьи я остался один, последний живой… За плечами всего 17 лет и два года жизни в гетто…
– Вы пытались как-то связаться с партизанами или с подпольной организацией гетто?
– О том, что в гетто была подпольная организация, я узнал только после войны, поскольку подпольщики придерживались строгой конспирации, а я лично не знал людей, которые бы могли меня с ними свести. Сами поймите, в начале войны мне было всего 15 лет, кого я мог знать тогда?
Первые слухи о партизанах появились летом 1942 года, но они были такими скудными, что до простых обитателей гетто просто не доходили. Только в начале сорок третьего года эти слухи стали настойчивыми, говорили, что от партизан в гетто приходят связные – проводники и выводят группы людей в леса. Я и мой товарищ, ровесник, с которым мы были в одной рабочей команде, стали искать выход на партизанских проводников. Однажды мы узнали, что сегодня вечером партизанские проводники будут выводить группу из гетто в лес. Место сбора – угол улиц Сухой и Обувной, центр гетто, пятачок, на котором находится толкучка, там всегда много людей. Мы решили подкараулить эту группу и влиться в нее любым способом, благо, там было, где спрятаться, по обочинам рос высокий густой кустарник. С наступление сумерек людей становилось все меньше, приближался комендантский час. Мы вышли из укрытия и стали присматриваться к оставшимся на толкучке людям, некоторые из них были одеты явно « по-походному». Вдруг крики – «Облава! Немцы!», и все кинулись по сторонам, кто куда.
Мы вновь спрятались в своем убежище, и когда все стихло, то на улице не было ни души.
И облавы тоже не было, скорее всего, эти крики были сигналами для знающих собраться вместе и способ избавиться от посторонних свидетелей и попутчиков.
И этот способ сработал безукоризненно…
Немцы уже знали о евреях из гетто, бегущих в леса не поодиночке, а группами, с помощью проводников от партизан, и стали усиливать антипартизанскую пропаганду.
И стоит сказать, что эта пропаганда была убедительной и страшной, способной запугать и заставить бездействовать даже молодых и решительных ребят. Нам постоянно внушали, что стоит евреям только ступить один шаг за пределы гетто, как нас тут же схватят и расстреляют, что в каждом селе, в каждой деревушке, стоят немцы и полицейские гарнизоны, и от них никуда не уйдешь. И действительно, когда рабочие команды гнали по Минску, то казалось, что весь город забит под завязку полицаями и вермахтом. Кроме того, по гетто стали ходить слухи, что немцы специально создают из белорусов - полицаев отряды, которые выдают себя за якобы партизан, а сами вылавливают в лесах всех беглых евреев и расстреливают на месте. А ведь и такое было…
Нужно было раздобыть хоть какое-то оружие, а где я мог его достать?
Надо было все равно что-то предпринимать.
Надежды, что немцы оставят кого-то из гетто в живых - давно ни у кого уже не было, к лету 1943 года в гетто оставалось в живых меньше 10 % от тех, кто был согнан в него осенью сорок первого года. Надо было действовать, мы с товарищем пытались выйти на подпольщиков, но ничего не получалось. Тогда я решился на отчаянный шаг, уйти в партизаны самостоятельно, терять мне уже было нечего. Я абсолютно ничего не знал, где находятся партизаны, где их искать, но оставаться в гетто дальше было нельзя. Мой товарищ наотрез отказался на побег вслепую, сказал, что это явная смерть, что надо подождать, мол, еще подвернется случай, и тогда я решил уходить один.
– Как выбирались из Минска?
– В начале сентября 1943 года я бежал из гетто. Ранним хмурым утром я подошел к забору со стороны Танковой улицы, нашел лаз в колючей проволоке.
Огляделся – по сторонам никого, ни со стороны гетто, ни на русской стороне, надел на себя телогрейку, чтобы скрыть нашитые на рубашку желтые латы, надвинул на глаза шапку, чтобы не было видно лица, и юркнул через лаз. При себе я имел только коробок спичек и небольшой кусок черствого хлеба. Благополучно преодолел колючку и пошел в сторону Комсомольского озера, за которым заканчивалась городская черта. Позади остались два года ежедневного кошмара, потеря всей семьи, а впереди была неизвестность…
Миновав озеро, я вышел к Старовиленскому тракту, осторожно пересек его, и пошел параллельно ему в северо-западном направлении.
Идти по шоссе я побоялся, так как по нему все время сновали немцы и полицаи, на машинах и подводах, и одинокий путник мог сразу вызвать у них подозрение. Я шел, и страх не покидал меня, все время оглядывался, виднеется ли еще город, и мне казалось, что из каждого окна в спину мне глядят немцы и вот – вот прилетит мне пуля вдогонку. Когда городские постройки скрылись за горизонтом, я все равно не мог избавиться от тревоги. И тут я понял в чем дело! Латы! Желтые маленькие кружочки под телогрейкой, пришитые к рубашке спереди и сзади, жгли мне душу и сердце. Я снял телогрейку и рванул с рубашки эти латы. Эти безобидные куски ткани жгли мне руки, они как бы «кричали» мне –«Ты все равно еврей! Еврей! Еврей!»…
Я стал копать ямку в борозде, чтобы зарыть эти проклятые символы гетто, засыпал их землей, а сам, словно схожу с ума, слышу голос из под земли –«Ты все равно от нас не уйдешь! Твое место с нами! С нами!»… Я с трудом встал и пошел прочь от этого места.
Шел только полями и перелесками, огибая любые населенные пункты.
К полудню, как посчитал, я прошел уже километров двадцать.
А куда идти дальше… Что делать? Я еще шел по инерции, пока не заметил на одном из полей силуэт человека. Осторожно подошел поближе. На большом камне, укутавшись во что-то наподобие плаща, сидел сгорбленный старик и курил большую трубку. Рядом паслась корова. Огляделся, вокруг ни души. Решил, подойти к этому человеку и все о себе рассказать, да и что он мне сделает плохого, а в случае чего, я успею убежать. Старик даже не шелохнулся, увидев меня.
Я ему сказал, что я еврей, что сегодня на рассвете бежал из гетто, в котором погибла вся моя семья, и сейчас ищу партизан. Он долго молчал, смотрел с прищуром, изучая меня, а потом тихо заговорил : «В ближайшей округе нет ни немцев, ни полицаев. Здесь партизанская зона. Надо зайти в любое первое село и спросить «своих хлопцев», так здесь партизан называют.
Иди с богом и не бойся. Желаю тебе удачи»…Старик указал примерно, куда идти.
От волнения у меня пересохло в горле. Я сам не верил своему везению, я оказался в сорока километрах от Минска, в партизанской зоне. Все получилось так просто…
Я решил сделать привал. Собрал на поле несколько неубранных картофелин, выбрал укромное местечко возле ручья и разложил костер. Время шло к вечеру, распогодилось, и я, поев печеной картошки с куском черствого хлеба, решил идти дальше, навстречу своей судьбе.
Настроение было приподнятым, теперь я уже не огибал деревушки, а вошел в первое село по дороге. Спросил у местных про «своих хлопцев», и в ответ услышал - «Не знаем таких».
Позже я хорошо усвоил этот прием – никто из местных, помогавших партизанам, не укажет первому встречному место их дислокации. А тогда я этого не знал, прошел по дороге еще три деревни, но тщетно. Уже было совсем темно, а на память приходили рассказы о партизанах Гражданской войны, которые я читал в школе, и тут меня осенило, ну, конечно, как я сразу не догадался, партизаны всегда скрываются в дремучих лесах и найти их можно только ночью, и тогда я решительно зашагал в сторону густого леса, черневшего на горизонте. Страха не было. Всю ночь я бродил по лесу, выходил из одного лесочка в другой, пока не заметил, что я хожу по кругу, снова пробирался через лесную чащобу и кричал в темноту, звал, но никто не отзывался, только ночные птицы да зверюшки испуганно шарахались в сторону. На рассвете пошел дождь и я, растратив последние силы, подошел к небольшой деревне. У крайней хаты виднелся навес, доверху заполненный сеном, и я, не оглядываясь, залез под него и моментально заснул мертвым сном. Проснулся от того, что кто-то тормошил меня за локоть. Открыл глаза, и увидел над собой пожилого мужчину. Уже было совсем светло, и я не знаю, сколько проспал. Мужчина властно сказал: «Вставай и иди в хату! Там тебя ждет человек». Я нехотя вылез из- под навеса, пытаясь понять, когда же меня заметили, ведь когда я сюда пришел вокруг не было ни души и было еще темно. Ладно. Захожу в хату и просто обомлел. Передо мной стоял высокий молодой парень с автоматом наперевес, на поясе у него висели диски, на голове красноармейская фуражка, на которой нашита наискосок полоска красной материи, в центре которой красноармейская звездочка. Живой партизан! Я на какое-то мгновение решился дара речи, и снова пришел в чувство, только когда это парень стал меня спрашивать – «Ты кто? Откуда будешь? Что здесь делаешь?». Я стал подробно рассказывать о себе, показал ему еврейский паспорт, который захватил с собой из гетто - это был лоскуток бумаги, вырезанный с обратной стороны школьной географической карты, и нам нем на немецком и белорусском языках были написаны мои данные. Такие бумажки-паспорта выдавали всем узникам гетто в Юденрате.
Парень посмотрел на эту бумажку, а потом приказал – пошли со мной. Вышли из хаты, он вскочил на коня, привязанного к изгороди, и поехал медленным шагом, а я пешком шел рядом со всадником. Так мы прошли несколько километров до следующего села по проселочной дороге.
В этом селе партизан остановился у хаты в центре, и позвал меня с собой, внутрь дома.
Мы вошли в светлую, чистую горницу, где за столом сидел мужчина в командирской форме, в петлицах по три кубика. Я снова, более подробно, рассказал ему всю свою историю, он задавал мне различные вопросы, его интересовали подробности жизни в гетто, и, пока я рассказывал, хозяйка накрыла на стол. Меня так сытно накормили. А я уже совсем забыл, что такое нормальная еда… Затем старший лейтенант сказал, что все они из диверсионной группы, идущей на задание, и взять меня с собой, конечно, не могут, не имеют права. И что мне нужно идти в штаб бригады, что находится в десяти километрах отсюда, в деревне Манылы, и там меня зачислят в партизанский отряд. Мне показалось, что он сочувствует мне, после моего рассказа о Минском гетто, на который я не пожалел красок. Я наивно полагал, что меня, как узника гетто, все должны чуть ли не на руках носить, но как же я ошибался.
Лейтенант нарисовал мне примерный маршрут движения, дал устно, конечно, несколько опознавательных знаков, и добавил, что если я захочу поесть по дороге, то могу зайти в любую хату, сказать, что я от партизан, и мне всегда покормят. Мы тепло попрощались при расставании, и я пошел в Манылы. Шел мимо какой-то деревушки, решил снова поесть. Два года постоянного жуткого голода в гетто давали знать о себе, а тут в каждой хате, как сказал командир, можно покушать, а для меня это было что-то невероятное, и эта мысль просто замутила сознание, ведь я был живым скелетом, кожа да кости.
Выбрал дом покрасивее, зашел внутрь, поздоровался, и попросил у пожилой хозяйки чего-нибудь покушать, в двух словах рассказав о себе.
Хозяйка пригласила меня в горницу, усадила, а сама стала суетиться, собирать на стол.
Я огляделся, а на стенах какие-то плакаты с надписями на немецком языке. Мне стало тревожно, думаю, что сейчас перекушу быстро, и надо отсюда сматываться, что-то здесь не так, тем более, когда я заходил в дом, то какая-то молодая женщина, увидев меня, сразу куда-то ушла. Кусок не лез в горло, и я, поблагодарив хозяйку, пошел к выходу, а она чуть ли не силой пыталась меня удержать. И когда я был уже почти на пороге, дверь распахнулась, и я увидел перед собой молодого парня в гимнастерке без знаков различия, с пистолетом на поясе. На голове фуражка со звездочкой и красной лентой. Он поздоровался со мной за руку и представился – «Саша, командир диверсионной группы», и, не дав сказать мне слова в ответ, позвал за собой. Мы пошли на другой край села и вошли в дом, в котором было несколько вооруженных мужчин и пожилая хозяйка. Саша сказал одному из ребят, показывая на меня рукой – «Садись, пиши протокол допроса».
И меня как будто молнией ударило – немецкие плакаты на стенах, протокол допроса - у партизан такого быть не может! И тут в хату вваливаются два здоровенных мужика с немецкими автоматами и высыпают на пол мешок немецких сапог, зовут хозяйку и просят ее поменять эти сапоги на самогонку… После этого я окончательно решил, что скорее всего сбился с пути, вышел из границ партизанской зоны, а вокруг меня полицаи, переодетые под партизан. Ловушка…
Стал лихорадочно думать, как вырваться отсюда, как сбежать? А тем временем хозяйка накрыла на стол, все сели обедать, и позвали меня к себе за стол. Я стал отказываться, но меня усадили силой. Я сидел – ни жив, ни мертв, боялся даже шелохнуться. Партизаны поели, то «что Бог послал», не обошлось без самогона. Я вышел во двор, думал, что успею убежать одним рывком, и сразу за мной пошел парень с автоматом. Вернулся в хату. Начинают писать протокол допроса. Что говорить? Правду, что сбежал из гетто? Так сразу выведут во двор и расстреляют…
Начинаю сочинять всякую несуразицу, и в этот момент в дом заходят два немца, в форме вермахта, вооруженные до зубов, в пятнистых плащ-палатках, и говорят между собой по- немецки. Только на пилотках у них красные полосы. И тут я окончательно убеждаюсь, что передо мной враги, и что я попал в засаду, составленную из немцев и полицаев.
А «Саша» мне между делом, продолжает рассказывать, что они диверсионная группа и идут на задание, на подрыв железки. А эти два немца просто перебежчики, перешли на нашу сторону и воюют в партизанах, и посетовал, как ему с ними трудно общаться, так как они почти не знают русского языка. Спрашивают, умею ли я говорить по-немецки. Отвечаю что нет, хотя знаю немецкий язык неплохо, жизнь в гетто заставила выучить. Когда допрос закончился, все пошли спать в сарай, где на сено уже было наброшено покрывало. Я решил, что обязательно сбегу, лежал, не смыкая глаз, и когда все захрапели, я тихонько сполз вниз и вышел наружу, мол, по нужде. Смотрю, а возле меня тень, пригляделся, а это один из немцев. Пришлось зайти назад в сарай. Утром все русские партизаны куда-то ушли, и я остался в хате с этими немцами, да еще хозяйка. Слово за слово, и завязался разговор. И немцы стали рассказывать свою историю – оба они из Австрии, верой и правдой служили своему отечеству, пока их, сильных и здоровых, немцы куда-то не отобрали. Их привезли в госпиталь, где на них испытывали различные химические отравляющие вещества, прикладывали к рукам различные яды, которые разъедали кожу и мясо до костей, а затем раны заживляли, и эксперименты продолжались заново, (и рассказывая об этом немцы закатали рукава, показывая мне руки в заживших язвах).
После начала войны с СССР их призвали в армию, и по завершению боевой подготовки отправили служить в части СС, которые дислоцировались в Логойске. Немцы сказали, что если бы они попали в обычный вермахт, то вряд ли стали бы перебегать к русским, но в этой части СС служить они не хотели, так как стать карателями, убивать неповинных женщин и детей, после того что нацисты с ними сделали «на опытах в госпитале», им не позволяли совесть и убеждения.
В какой-то момент, когда они в паре заступили на пост, то просто сбежали с оружием в лес, где нашли партизан. Им поверили, взяли в отряд, и после первой проверки в деле - перевели в диверсионную группу, и вот уже второй год они мстят и воюют на партизанской стороне.
И тут заходит «Саша», их командир, и говорит мне: «Что же ты мне сказал, что не знаешь немецкий язык?!»… И тогда я понял, что у меня уже нет выбора, и честно все рассказал о себе, и о том, как бежал из минского гетто. Мое мнение об этих людях изменилось, но зато не изменилось их мнение обо мне. Оказывается, у них есть информация, что немцы вербуют в гетто евреев и забрасывают их в партизанские отряды, как шпионов.
И мне говорят, что я и есть именно такой шпион. (Я в дальнейшем никогда не слышал ни об одном таком достоверном эпизоде ). Затем появился партизан, в командирской форме и сказал, что он начальник Особого Отдела. Меня отвели во двор, поставили лицом к стенке сарая, и особист произнес –«Считаю до трех, не признаешься, что ты шпион, я стреляю!».
Он досчитал до трех, потом звук выстрела, и пуля пролетает над моей головой.
Все смотрят на мою реакцию. А как я могу реагировать? Для узника гетто с двухлетним стажем, уже видевшего своими глазами тысячи смертей, такая забава, как расстрел на месте - выглядела детской шалостью… Тем более, что после того как я убедился, что нахожусь у своих, а не у немцев, то был спокоен, хотя было горько от одной мысли, что придется так глупо погибнуть от рук своих…А тем временем спектакль продолжался. Меня посадили на подводу и повезли в другое село. По дороге мне говорят, что поймали одного еврея, немецкого шпиона, и что его надо расстрелять, и приговор должен привести в исполнение именно я.
Приехали в село, разместились по домам, все пошли отдыхать.
Я спрашиваю начальника Особого Отдела –«А где тот шпион, которого я должен расстрелять?», а он в ответ -«А это мы пошутили»… Ничего себе, шуточки…
На этом мои испытания закончились. Саша взял меня к себе в группу переводчиком, ибо во время боевых действий без переводчика было трудно общаться с нашими немцами.
Мне выдали винтовку с патронами. Я пробыл в этой группе недели две, но так и не успел с ней сходить на боевое задание. А тут сбежал в партизаны местный житель, взрослый белорус, бывший учитель немецкого языка из Астрошицкого Городка, и его зачислили переводчиком в группу вместо меня, а меня отправили в штаб этой бригады за новым назначением.
Бригада называлась «Штурмовой» и командовал ею Лунин.
В штабе меня направили в отряд имени Пономаренко, который в этот период размещался в нескольких, стоявших рядом на опушке большого леса, деревнях, и партизаны жили в домах у крестьян, а не в лесных землянках. Так начались мои будни рядового партизана.
– Как вас приняли в отряде?
– В этом отряде мне быстро дали понять, что я просто жиденок, и не более того.
Я был счастлив, что попал в партизаны, силы быстро возвращались ко мне, я горел желанием мстить за гибель своей семьи и готов был первым лезть в любое пекло.
Не испытывал страха, что меня могут убить, поскольку решил, еще в гетто, что смерть – это часть жизни, и от нее никому не уйти.
Но в отряде не поняли мой порыв, а наоборот, стали насмехаться надо мной, мол куда тебе, жидовская морда. На крупные операции или на диверсии на железной дороге меня не хотели брать, мол, куда тебе, сиди, жид пархатый, и не дергайся.
Весь отряд состоял из местных белорусов, в нем почти не было окруженцев, не было, кроме меня, других евреев, и антисемитизм в отряде имени Пономаренко был наглым и неприкрытым.
Я старался ничего не замечать, но сам факт, что из-за национальных предубеждений я для многих партизан почти чужой, и то, что у меня нет в отряде настоящих товарищей - меня первое время сильно угнетал. Но я должен быть благодарен партизанам этого отряда, что в бою мне никто в спину не выстрелил, а ведь у нас такое часто случалось, кто не понравился, того скоро не досчитывались в живых после боя.
Я первое время в каждой вылазке ждал пулю в спину, но этого не случилось…
Дисциплина в отряде Пономаренко была на нулевом уровне, самогонка лилась рекой, все пили безбожно, включая штаб бригады и отряда, а потом, по пьянке, начиналось…
Но я старался думать только о мести, и считал каждого убитого мной немца и полицая.
Убивал спокойно, без внешних эмоций. У меня вообще в какой-то момент исчезли какие-либо проявления чувств, я стал замкнутым, мрачным и нелюдимым, все время молчал, все во мне зачерствело, и только в 1947 году я стал постепенно возвращаться к нормальной жизни.
Меня назначали только в те боевые группы, которые отправлялись на мелкие операции и вылазки: в основном это были нападения на мелкие обозы с оружием и продовольствием под охраной немцев и полицаев. Нам везло, ни один обоз немцам не удалось сохранить, но и в нашем отряде потери были чувствительными.
В этой бригаде я находился до января 1944 года.
– Что произошло в январе сорок четвертого года?
– Сразу после Нового года произошло непредвиденное событие. В жестоких боях с немцами и их пособниками понесла тяжелые потери партизанская бригада «Железняк», дислоцированная в Бегомльском районе Минской области, и ЦШПД Белоруссии принял решение пополнить пострадавшую бригаду людьми из соседних бригад. Для этой цели бригада «Штурмовая» выделила 100 человек, но, как всегда, в таких случаях, в первую очередь командиры избавлялись от неугодных, по тем или иным причинам, партизан.
В это число попал и я, и еще один еврей из соседнего отряда, который был старше меня лет на пять. Нас собрали в спешном порядке и за три ночи наша «сотня» прошла около ста километров до Бегомльских лесов. Ночью шли, а днем отдыхали. На четвертые сутки, днем, мы строевым маршем зашли в райцентр Бегомль, где нас встретило командование бригады и поздравило с благополучным прибытием. Командовал бригадой «Железняк» Герой Советского Союза полковник Титков. Бригада считалась крупной и насчитывала 15 отрядов.
Всю нашу группу отправили на пополнение в отряд номер №5, которым командовал старший лейтенант Корниец. Этот отряд дислоцировался в деревне Милькуни, куда мы и прибыли вечером того же дня. Нас построили в две шеренги, и командир отряда Корниец пошел вдоль строя, внимательно оглядывая каждого. Мы, два еврея, стояли рядом, и когда Корниец поравнялся с нами и посмотрел на нас, то остановился и ухмыльнулся.
Потом мне объяснили, что Корниец в свой отряд евреев не брал, а тут делать нечего, своих старых людей у него осталось мало, а мы из пополнения...
Нас отвели в лес, где партизанами были построены большие и сухие землянки.
Стоит заметить, что уже в конце 1943 года весь Бегомльский район был очищен от немцев, а в райцентре стоял штаб бригады. Можно сказать, что в этом краю Советская власть была полностью восстановлена, только колхозы не работали, но поля исправно засевались, и в этом партизаны даже участвовали. Население кормило партизан, отдавая им часть урожая, и в этой бригаде, до начала немецкой блокады, партизаны всегда были сытно накормлены.
Хватало хлеба, мяса, сала, картошки. Самогонка в бригаде приказом была запрещена, но кто хотел выпить, всегда находил для себя самогон. Главной бедой была нехватка соли, ее было невозможно достать в этом партизанском районе, а в местах, находившихся под контролем немцев, соли было достаточно. Нам в день выдавали по 7 грамм соли, один наперсток, и каждый партизан сам солил себе пищу в котелке.
– Кстати, если я не ошибаюсь, старший лейтенант Корниец был из бывших карателей?
– Это действительно так. Корниец в начале войны то ли попал к немцам в плен, то ли сам перебежал, но в 1942 году он уже был командиром карательного полицейского батальона, составленного из украинцев. Корниец получил от партизанского командования гарантии, что не будет расстрелян как предатель, и в декабре 1942 года перешел с частью своего батальона к партизанам, был назначен командиром отряда№5, сформированного из его же украинских полицаев. Этот отряд неофициально считался штрафным, был самым лихим и боеспособным, и по сравнению с другими отрядами бригады наиболее интенсивно и активно участвовал в боях, диверсиях и вылазках, и потери нес такие дикие, что не дай Бог.
Но сам Корниец оставался живым, везло ему, сволочи.
Предатель и палач, у которого руки по локоть в еврейской, белорусской и русской крови, а тут стал партизанским вожаком, искупившим свою вину перед Родиной.
А что с ним после войны стало - я не знаю…
– А к вам как Корниец относился?
– От меня и моего товарища он решил избавиться через две недели после нашего прибытия. С первых дней пребывания в новом отряде я участвовал в боевых действиях, отряд совершил недельный рейд, истребляя вражеские малые гарнизоны, и при этом наши потери были минимальными. Когда мы вернулись из рейда в базовый лагерь, то меня и второго еврея, Мишу Тересфельда, вызвал к себе командир отряда.
Корниец сказал –«Даю вам ответственное задание. Вы должны раздобыть соль для отряда.
Сдайте оружие и отправляйтесь на задание. Без соли не возвращайтесь!»…
Расчет Корнийца был прост – сдав оружие, мы лишались возможности добыть соль боевым методом. Нам оставалось только одно – идти в районы, где господствовали немцы, за пределы партизанской зоны, и просить соль у местного населения. А внешне, мы, особенно Миша, выглядели так, что не распознать в нас евреев мог только слепой, а это значит, что нас, безоружных, сразу схватят немцы или полицаи, и в отряд, мы, естественно, живыми уже не вернемся, чего и желал наш командир Корниец. Но отказаться выполнить приказ командира мы не могли - нас бы расстреляли прямо на месте. Выбора не было, нам ничего не оставалось.
Мы отправились в путь, захватив с собой только вещмешки с сухим пайком на несколько дней. Утром вышли из партизанского лагеря и к обеду уже были в немецкой зоне.
Осторожно вошли в первое попавшееся село, зашли в крайнюю хату и попросили соли, не объясняя, кто мы. Хозяйка дала стакан соли, великий почин был положен.
Обошли все село, набрали килограмм пять соли. До ночи мы побывали еще в нескольких деревушках, нам везло, немцев или полицаев в них мы не встретили, а население отнеслось к нам с сочувствием, очевидно, приняв нас за беженцев, таких тогда много бродило по свету.
На ночлег мы остановились в густом лесу, на заброшенном хуторе. Проснулись рано, от холода. Тепло от вытопленной печи не могло согреть застывшие стены, сквозь побитые стекла окон проникала январская стужа. Осмотрели наш улов - вещмешок был почти полон, примерно килограмм 25 соли. Встала другая проблема, как тащить на себе груз, ведь, скорее всего, он будет прибавляться. У Миши родился смелый план – вернуться обратно в партизанскую зону и выменять соль на коня. Всю соль брать с собой мы не рискнули, по дороге нас просто могли за нее ограбить и убить. Отсыпали отдельно несколько килограмм, а все остальное спрятали на хуторе. Ориентироваться на местности мы уже научились хорошо, и к полудню были у цели.
За несколько стаканов соли мы без особого труда раздобыли коня с упряжью и приличные сани, а еще за пару стаканов оделись в полушубки и валенки. Мы вернулись в немецкую зону, осмелели, и стали заезжать в большие поселки. Один оставался в санях, другой ходил по домам. Случалось так, что с одного края мы въезжаем в село, а с другого в этот момент - появляются немцы или полицаи на санях. Однажды столкнулись с ними нос к носу, но мы успели вовремя свернуть в ближайший двор и нас приняли за хозяев дома.
Бывало, что местные жители сами нас предупреждали –«В селе немцы! Смывайтесь, пока не поздно!», и мы вихрем убирались из села. Однажды полицаи заметили нас, чужаков, и сразу открыли огонь, но нас спас лес, вплотную примыкавший к селу, а погони за нами не было.
Они, немцы, просто побоялись преследовать и попасть в партизанскую засаду.
Нас будто берегла какая-то неведомая сила, судьбе было угодно оставить нас в живых в этой страшной войне. Неделю мы промышляли в немецкой зоне, играя со смертью в прятки, и когда огромный, восьмидесятикилограммовый мешок был полон соли, мы решили, что хватит. Вернулись на разрушенный хутор, где в первую ночь спрятали часть соли, но следы нашего пребывания уже давно замело, и было видно, что после нас здесь никто не появлялся, уж больно место было жуткое. Загнали лошадь с санями в сарай, распрягли, дали ей сена, овса, воды, и все это, как нельзя, кстати, было в сарае. Сами забрались в дом, каким-то тряпьем занавесили выбитые окна, натопили печь, зажгли лучину, и устроили себе сабантуй, еда и выпивка у нас была. На рассвете мы двинулись в обратный путь, и уже когда мы оказались в пределах партизанской зоны, то в голову пришла одна интересная идея – мы решили на часть соли выменять у местных крестьян оружие, так как знали, что население прятало у себя оружие, собранное на полях сражений 1941 года. Без особого труда мы выменяли несколько винтовок, ручной пулемет с дисками, ящик патронов и штук тридцать гранат. Все это хорошенько припрятали на дно саней, прикрыли сеном, заодно замаскировали и наш мешок с солью. Довольные и гордые собой мы покатили на санях прямо в штаб отряда, в деревню Милькуни, куда добрались к вечеру. Подъехали к штабной избе, командир отряда как раз стоял на крыльце и беседовал с начальником штаба. Когда мы подошли к нему, он даже нас не узнал, не вспомнил. Доложили командиру отряда о выполнении задания, и сказали, что даже перевыполнили задание. Корниец подошел к саням, мы сбросили сено, и его взору предстал весь наш арсенал и огромный набитый солью мешок. Он посмотрел на все это добро, и равнодушно процедил сквозь зубы –«Молодцы», и еще сухо скомандовал –«Сдайте это все на склад отряда, а потом явитесь к начальнику штаба, он вас распределит по ротам»…
Я попал в роту, которой командовал грузин, бывший учитель из Тбилиси, лейтенант Мачавариани. Это был интеллигентный, образованный, умный человек и отличный командир.
В 1943 году он на фронте попал к немцам в плен, откуда сбежал и примкнул к белорусским партизанам. А моего товарища Мишу отправили в другую роту.
– Какой была жизнь рядовых партизан в бригаде «Железняк»?
– Бригада «Железняк» была крупным и боеспособным партизанским соединением, в котором был порядок. Комбриг, полковник Титков, пользовался авторитетом, и свои отряды держал в кулаке. В составе бригады была своя артиллерийская техника, целый парк мотоциклов и прочей техники, но что самое главное, в зоне ответственности бригады находился партизанский аэродром, обслуживающий нужды Минского соединения. По ночам на самолетах нам привозили оружие, боеприпасы, продовольствие, а на обратном пути забирали тяжелораненых. Моей роте несколько раз приходилось охранять этот лесной аэродром.
Еды и одежды у партизан хватало, и дисциплина была на уровне, не то что в бригаде у Лунина.
Отряды лесных мародеров, шастающие по лесам и маскирующиеся под «советских партизан», старались не связываться с партизанами «Железняка», так как Титков мародерские группы ненавидел и расправлялся с ними без жалости.
– Вы воевали рядовым партизаном?
– Да, меня назначили вторым номером в расчет ПТР. Первым номером был местный белорус, здоровенный мужик, который всегда носил тяжелое противотанковое ружье в одиночку, как пушинку таскал. Из этого ПТРа по танкам нам стрелять не пришлось, а вот несколько БТРов – бронемашин мы из него сожгли.
– При каких обстоятельствах вас ранило?
– Это не ранение было, а сильная контузия.
В феврале 1944 года нашему отряду поручили провести крупную операцию, предстояло взорвать мост на реке, на линии шоссе Лепель – Докшицы. Надо было парализовать движение на этой дороге, по которой к фронту постоянно двигалась немецкая техника. Эта операция тщательно готовилась, были проработаны мельчайшие детали, но в подробности рядовых партизан не посвящали. Мост тщательно охранялся немцами. Нашему расчету приказали занять старые окопы на дальних подступах к мосту и не допустить немецкое подкрепление, которое должно было прийти на выручку своим, сразу после нашей атаки моста.
Бой за мост был открытым и кровопролитным для обеих сторон. В какой-то момент боя немецкая мина попала прямо в бруствер нашего окопа, осколки меня не задели, но я был засыпан землей, а первого номера тяжело ранило. В сознание я пришел на вторые сутки, но ничего не видел и не слышал. Слух на одно ухо я тогда потерял навсегда, а зрение восстановилось частично.
Я оказался в партизанском госпитале, который был забит тяжелоранеными после этого боя.
Мост мы взорвали, но заплатили за этот боевой успех очень дорогую цену, отряд потерял больше половины людей убитыми и тяжелоранеными. Начальником госпиталя был доктор Сырников. Легкораненых и контуженных разместили на лечение по крестьянским домам, а тяжелораненых старались отправить на самолетах за линию фронта.
Больше месяца я провалялся на госпитальной койке, пока пришел в себя, и из –за этой контузии меня перевели «на восстановление» в хозяйственный взвод отряда.
– А как удалось пережить майскую блокаду Минской партизанской зоны?
– В мае немцы начали наступление на наш партизанский край, для блокады и уничтожения партизанских бригад были сняты с фронта регулярные части, танковые и артиллерийские фронтовые подразделения, кроме того привлекли различные полицейские и карательные батальоны, и все эти крупные силы были брошены на нас.
Немцы применили авиацию, танки, нас постоянно обстреливала артиллерия.
Немцы пытались нас загнать в Борисовский район, где находили непроходимые болота «Палик», там нас всех хотели потопить. Кольцо окружения сжималось со всех сторон, к концу подходили боеприпасы и продовольствие, и тогда был отдан приказ на прорыв.
Сказали, что те, кому повезет прорваться через вражеское кольцо, должны разбиться на небольшие группы и, не вступая снова в бой, затаиться в таежных местах, чтобы пропустить через себя цепи прочесывающих лес немцев и полицаев.
Местным партизанам предложили разойтись по окрестным деревням, спрятать оружие в тайники, и попытаться сохранить себя, выдав себя за обычных крестьян.
Больше вариантов не было - или прорыв, или смерть в кольце окружения.
Нашему взводу повезло, мы смогли после прорыва пробраться на небольшой остров посередине болота, дорогу туда знали единицы даже из местных.
Немцы, когда в очередной раз зачищали округу, на наш островок, через топь, не сунулись. Каратели при прочесывании шли очень плотно, в 2-3 цепи, и спастись от такой гребенки было нереально, а вот нам повезло с этим островком.
Там мы и отсиделись. Сигналом выйти из болота для нас послужило следующее событие.
Над болотом, выискивая партизан, все время летала «рама», ненавистный нам самолет – разведчик. И тут эта «рама» была сбита зенитным огнем, а откуда у партизан зенитки?
Да и орудийная канонада приближающегося фронта была уже слышна несколько дней.
Тогда командир взвода приказал покинуть болото. И когда мы вышли на твердую землю, то услышали мощный гул моторов. Немцев рядом уже не было и в помине.
Подошли к дороге, а по ней на запад идут наши танки. Нашей радости не было предела и конца, мы обнимались, кричали. Взрослые бородатые мужики от счастья плакали, как дети.
Наконец-то мы дождались своих. А сколько людей не дожило до этого дня, сколько жизней уже унесла война, и сколько еще смертей было впереди…
– Что было с вашим отрядом и лично с вами после соединения с частями Красной Армии?
– Часть партизан сразу, добровольно, ушла с войсками на Запад, добивать ненавистных оккупантов, а остальным партизанам приказали вернуться на места прежней дислокации бригады. И тут мы увидели, что майская блокада не достигла своей цели, немало партизан выжило, смогло уцелеть в кольце окружения. Остатки бригады собрали, выживших партизан распределили по своим старым отрядам, и уже теперь мы с немцами поменялись ролями, и уже партизанам пришлось добивать в лесах разрозненные группы немецких окруженцев, мы отлавливали их по лесам, и в большинстве случаев, немцы, не оказывая серьезного сопротивления, сами сдавались нам в плен.
Когда мы закончили операцию по зачистке лесных массивов от окруженцев, то часть партизан отправили на восстановление хозяйства, часть - на мобилизацию в военкомат, а меня и других ребят-партизан, не достигших возраста 18 лет, отпустили пока по домам. Я вернулся в Минск, какое-то время проработал на стройке, на восстановлении города, но места себе не находил. Каждая руина, каждый камень мне напоминали о пережитых ужасах гетто. Я пришел в военкомат и записался добровольцем на призыв в Красную Армию. Через два дня меня призвали и отправили в запасной полк (ЗАП) в Смоленскую область, в Кировск. Для нас, рядовых новобранцев, жизнь в этом запасном полку мало отличалась от жизни в концлагере, одна разница, что здесь не расстреливали. Утром в четыре часа нас поднимали, в двуколки запрягали солдат, и вместо зарядки мы тащили эти двуколки за четыре километра в лес, где набирали бревна для строительства блиндажей и тянули это груз на своем хребту обратно в полк.
Голод в запасном полку был жуткий, давали по 400 грамм хлеба в сутки, а кормили только пустой баландой. Отправка на фронт всеми воспринималась как избавление от страданий.
Из ЗАПа я попал в зенитную часть, в недавно сформированный 1930-й зенитно-артиллерийский полк МК (малого калибра), но этот полк не был отправлен на фронт, а оставлен в тылу, в зоне ПВО, на прикрытие железнодорожных мостов на западе Белоруссии.
В 1947 году медицинская комиссия признала меня негодным к дальнейшей армейской службе, так как я в результате контузии плохо слышал и видел, и меня демобилизовали, как инвалида.
Я вернулся в Минск. Образование семь классов, родных - никого… Пошел работать фрезеровщиком на Минский инструментальный завод, закончил вечернюю школу – десятилетку. В 1948 году женился. Затем я учился в Белорусском политехническом институте, стал инженером - электромехаником, и с 1965 года до пенсии, до 1988 года, проработал во Всесоюзном институте автоматики строительных материалов.
В 1990 году уехал из Минска на ПМЖ в Израиль.
| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |