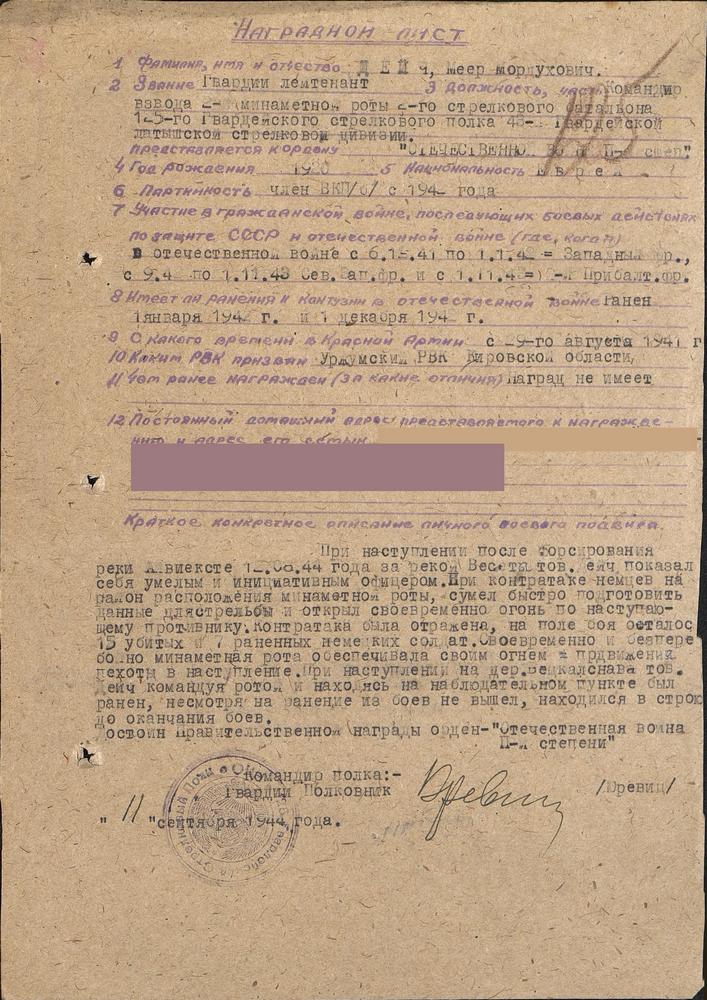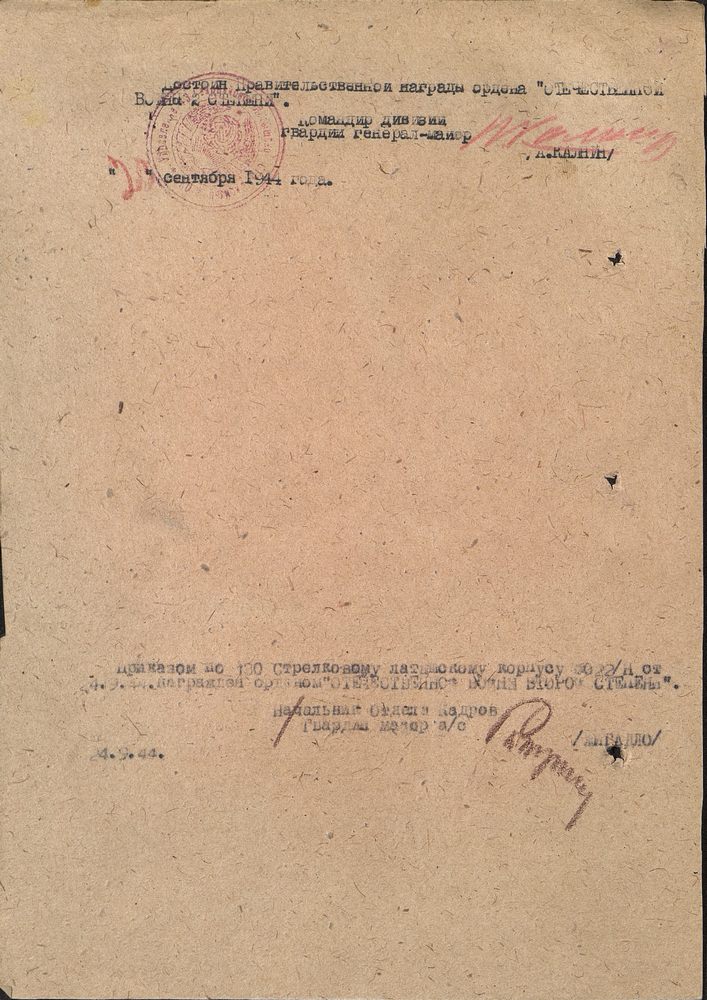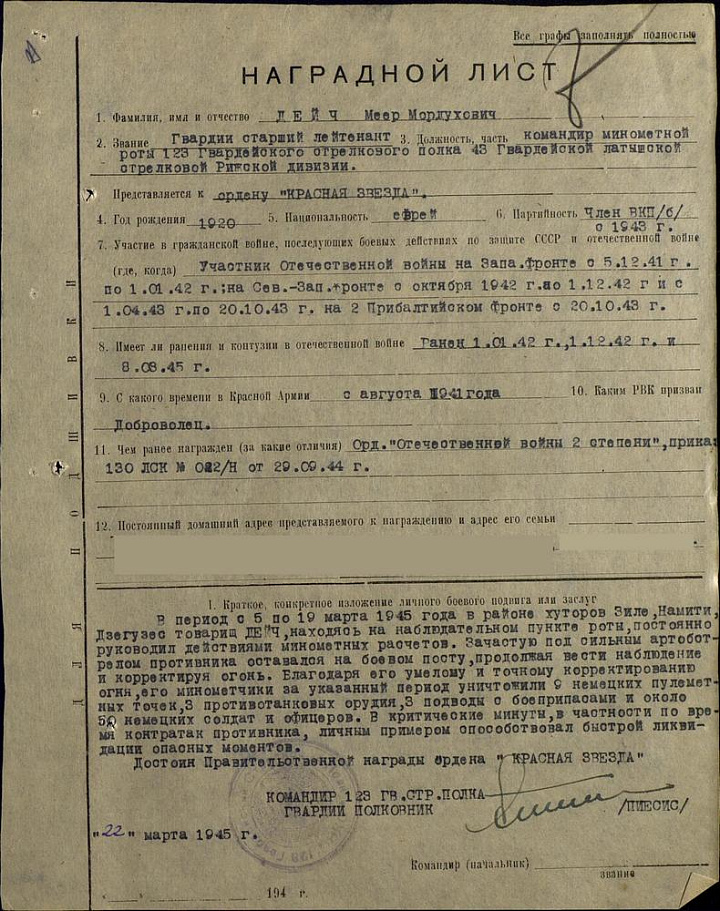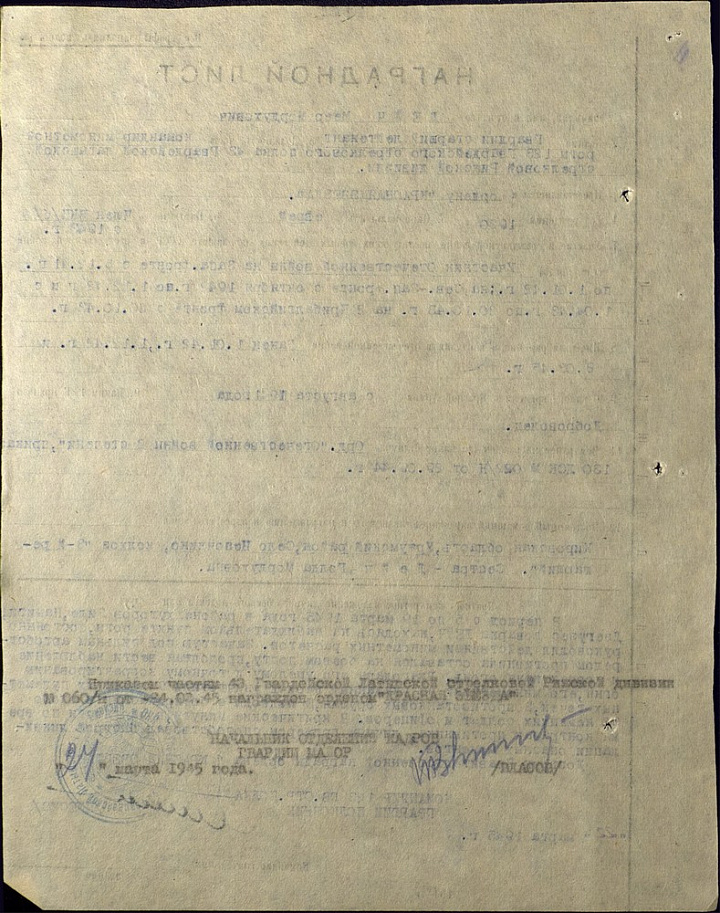Я родился в городе Даугавпилс, 10-го декабря 1920-го года. Имя - Меер, фамилия - Дейч. С 11 лет я уже был членом подпольной пионерской организации. До 34-го года у нас разрешались многие партии. Социал-демократические партии были, сионистские организации всякие. Была и коммунистическaя партия, правда она коммунистической не называлась, а как-то по другому, рабочая, вроде, но во всяком случае и такая была. И вот была подпольная пиoнерская организация под руководством комсомольской организации. В 1934-м году, когда пришел к власти Ульманис, все партии запретили. Это было 15-го мая 34-го года. Я тогда учился в 5-м классе.
А в 33-м году были большие аресты. Арестовывали коммунистических депутатов, социал-демократов. И тогда было принято решение организовать всеобщую забастовку в городе. Ну и в Риге то же самое было. Практически, тогда нас комсомольцев в 5-м классе было трое и в 6-м классе было трое, но от двух классов пришло на учебу только три человека. Все остальные не пошли. Мы пришли, я помню, где-то там на стройку. Собрались, помитинговали. И все. У нас в школе директор был, он, по-моему, работал на охранку. Он сразу сообщил, что вот, мол, там организовали такой сбор. Ну, собственно, мы еще дети были. Но охранка пришла.
А жена директора, я помню она учительницей у нас в школе работала, была очень хорошая, добродушная. Она нас предупредила что охранка пришла и будут допрашивать. Отправили меня тогда первого, чтобы я отчитался. Прихожу, а там, значит, сидят трое, в гражданской форме, конечно. Спрашивают меня: «Почему не пришли в школу?» Я им показываю: «Ботинки у меня порваны. Было мокро, и я не мог пойти». Ну меня туда-сюда, а я все говорю свое и никаких гвоздей. Ну, в общем, я понял уже в чем дело, и как нам быть. Так когда меня отпустили, я через окно залез в класс: «Ребята, - говорю, - говорите что угодно только главное, что мы не были вместе в этот день». Ни один не сказал! Хотя там не все коммунисты были. Там сионисты были, социал-демократы. Были беспартийные. Там было около пятидесяти человек, все как один – никто не выдал.
А с 37-го года я организовал подпольную типографию. У нас была «Латгальская правда». Двадцать номеров выпустили. Двадцатый номер как раз последний, это было 16-17 июня 1940-го года, когда вошли советские войска.
- Что вы писали в газете?
- Писали про все: про положение трудящихся, про то что было плохо. В общем все плохое против государства, вот и все. А там корреспонденты были со всей Латгалии. Мы несколько номеров выпустили вообще на латгальском языке. В Латвии, вообще-то, латгальцев очень много. И латыши с латгальцами друг друга не понимают. Газета называлась «Тайснейба», что на латышском означает «Правда». В общем, проработал я до самого конца в этой газете, и тоже ни разу не арестовали.
У меня были все связи с центральным комитетом партии, с уездными комитетами, на случай ареста руководства. И вот мне надо было ехать в Ригу. Я вез нелегальную литературу, целый пакет. Стою в очередь за билетом, за мной кто-то стоит. Ну, стоит и стоит, ладно. Я зашел в вагон, положил пакет с нелегальной литературой на полку и сел. А тут и этот входит, и тоже тут сел. Думаю: «Да, что-то тут не то...» А у меня еще и в кармане была литература. Ну думаю: «То, что там на полке – это не мое. Скажу что знать не знаю. А то, что в кармане, это плохо». Думаю: «Надо пойти выбросить». Пошел в туалет, и тут решаю: «Раз уж он пошел за мной в вагон, ему нет смысла брать меня в вагоне, он будет смотреть, куда я пойду. Он будет ловить меня на конечном пункте. Ну а на конечном пункте, - думаю, - мы еще посмотрим». И вернулся в купе, зашел сел спокойно. Думаю: «Черт с ним».
Приехали в Ригу, взял все манатки, иду. Смотрю, куда он пойдет. Я иду – он за мной. Ну, думаю: «Сто процентов уже за мной». Мне надо было идти по Суворова, там у вокзала, и сразу направо. Я прошел часть дороги, потом думаю: «Нет, теперь надо свернуть». Сворачиваю в первую улицу, как она называлась, вот где цирк, там за цирком улица, маленькая такая. И я иду туда, он тоже туда. «Ну, - решаю, - всё, точно за мной!» Я долго не думая захожу в дом такой большой, пятиэтажный. Захожу в подъезд, и поднимаюсь на первый этаж. Хотел уже все бросить и идти обратно, потом думаю: «Ага, надо смотреть, зайдет он или не зайдет». А его нет. Я решаю: «Наверное он пошел за помощью. Пока он идет за помощью, я успею удрать». Схватил все манатки и ушел. Оглянулся: все, нет его. Была ли это действительно слежка или нет, до сегодняшнего дня я точно не знаю. Ну, могло, конечно, это быть случайностью, но чтоб и на ту улицу, куда я повернул, так и он бы пошел, это, конечо, совсем маловероятно. А все, что нужно было, я тогда доставил и вернулся обратно.
Скажите, вы упомянули пионерскую и комсомольскую организации. Это у вас были свои, латвийские организации или вы были частью организаций из Советского Союза.
То же самое. Все получали инструкции оттуда. Секретарь ЦК партии был по сути дела ставленник Москвы. Это у нас в Латвии. А, допустим, в Литве, там был свой.
- Вы приветствовали воссоединение с Советским Союзом?
- Приветствовали... Тогда ждали этого! Встречали как родных. Хотя были многие, конечно, которые этого не хотели. Но это меньшинство. Большинство, конечно, были за, если даже пришлось бы свободно проголосовать. Кроме того правительство распорядилось, чтобы приход Красной Армии не сопровождался никакими выступлениями против них.
Но дело в том, что когда началась советизация Латвии, то получилось плохо. Все, вообще-то, рассчитывали на лучшую жизнь. На худшую жизнь соглашаться никто не хочет. Действительно, было очень много безработных, были полубезработные и тому подобное. Но когда ввели все новые порядки, установили все те же нормы которые в Советском Союзе, ввели те же самые деньги и цены, то получилось, что если человек работал пол-дня, или неполный рабочий день, то он при старой власти жил лучше чем сейчас, когда работает полный день. Ну и ясно, что отсюда и отношение появилось негативное. И вот напрасно сделали эту глупость, то есть если уж присоединили нас, то надо было начать с существующего уровня. То же самое что сейчас наблюдается допустим в Латвии в связи с присоединением к Евросоюзу.
Допустим, очень большая часть населения потеряла в связи с этим присоединением. Я не за то, что не надо было присоединяться. Присоединяться все равно надо было. Такая тогда была обстановка. Но надо было создать условия для того, чтобы люди почувствовали, что они что-то получают от этого объединения. А тут никто не считался с этим. И в этом виноват даже не Советский Союз но местная власть, которая должна была защищать интересы своего народа. В этом отношении Литва действовала более решительно и более смело отстаивала свои интересы, делала то, что латыши не делали. Так что это тоже имело большое значение.
- Репрессии против местного населения были?
- Еще как! Но мы тогда этого не понимали. Дело в том что оно шло под знаменем того, что это - враги. Значит, кто являлся этими врагами? Допустим Даугавпилс, это был небольшой город, который не имел большой промышленности, который не имел крупных богачей. Допустим, у кого-то была лавка. Они еле-еле тянули своим хозяйством. Эти же самые лавочники помогали коммунистам, давали пожертвования и так далее. То есть они не выступали против, это не враги. Ну так вот, нам говорят: «Поскольку у него магазин, надо его выслать». Так? И вот их собрали, очень много. Я помню когда мы стали выяснять кого высылают так начался шум: «Почему!? Это же люди которые наоборот, помогали нам, подпольщикам!». «А нам прислали с Ленинграда указание что их надо высылать». Вот и все.
- А против подпольщиков были репрессии?
- Такие тоже были. Допустим был такой Мостов, у них была мельница. То есть у его отца была мельница. Его не приняли в комсомол. Это был один из руководителей комсомольской организации Латгалии, a eго не приняли. Говорят: «Не достоин. Буржуй».
- То есть вам надо было заново вступать? Типа переаттестация?
- Да, конечно.
Еще был такой Ершов. Он был депутатом сейма до переворота Ульманиса. Его тогда арестовали. Не помню, как-то он бежал и его переправили в Советский Союз. Ну а там его арестовали. Посадили в Бутырку. И там он сидел еще с одним из Даугавпилса. Который тоже был вынужден бежать из города, поскольку он убил провокаторшу; женщина была... Он ее убил, и охранка вышла на него. А ему грозила смерть, собственно говоря, расстрел за это дело. И ему разрешили уехать. И он тоже попал в Бутырку.
Так вот, этот, второй, он остался жив. В 1956-м году, наверное, он освободился, а у меня он был в 70-м году. Приходил ко мне, когда я работал уже директором. Ему надо было пенсию получить, и нужны были доказательства, что он работал в подполье. Вот он пришел ко мне, чтобы я дал ему справку, что он работал в подполье и может получить эту пенсию. И вот он мне рассказал как замучили Ершова, который был депутатом и одним из руководителей коммунистов Латгалии. Его каждую ночь вызывали на допрос и привозили как комок крови, избитого и измученного. Приносили, значит, выливали на него ведро воды и уходили. И вот после одной такой экзекуции, когда его принесли, он немножко пришел в сознание и тому говорит: «Передай, когда будешь в Даугавпилсе, что Ленька никогда не был предателем». И в ту же ночь там он умер.
А этому, он показал мне, тут на голове дыру пробили. Охранники его тоже избивали так, что дырку в голове сделали. Вот так вот расправлялись с настоящими коммунистами. А коммунисты в Латвии, подпольщики, это не чета тем коммунистам, которые были в Союзе, вообще. Это люди были идейные, а не те которые хотели сидеть у кормушки.
- Как вы узнали о начале войны?
- В 1941-м году, с 1-го июня, я работал замначальника пионерского лагеря. Вечером как раз с 21-го на 22-е у нас был в школе выпускной вечер. Я поехал в школу, побыл там наверное часов до 12-ти и потом сел на велосипед и приехал обратно. Лагерь находился в Стропы, это километров десять примерно от города Даугавпилс. Ну, и помню, я спал еще, а тут уже люди шумели вокруг меня, что-то вроде: «Будить не будить?» Ну, одним словом, разбудили. И вот сказали, что началась эта война, что бомбят город.
Практически в первый день там был сброшен немецкий десант. Причем в основном это были немцы которые были высланы, вернее не высланы, а по договору Латвии с Германией уехали в Германию.
- Это были репатриированные немцы, бывшие местные жители?
- Да. Их, видимо, заранее готовили. Они были сброшены недалеко от пионерского лагеря. Кстати, и пионеры там их искали, докладывали и тому подобное. Вскоре, практически уже 23-го июня, меня вызвали в горком комсомола и назначили начальником эвакопункта. Тогда уже начали приходить беженцы из Литвы, и в школе был организован пункт, куда люди могли прийти отдохнуть.
И помню числа 24-го или 25-го даже, за день до занятия города, вызывали меня в горком комсомола. Я говорю: «Как же я пойду, меня задержат, нельзя ходить». Мне говорят: «Иди, никто тебя не тронет, приходи и все». Ну, пришел: «В чем дело?» Мне и говорят: «На пару дней мы уедем из города». А я, как был в тапках, так туда и пришел. «Ну, - говорю, - на пару дней, ну так что тут думать?» Хотел зайти домой: «Нечего ходить, - говорят, - через два дня мы вернемся обратно». В общем, поехали. Нас уже ждал эшелон. Направили нас в Зилупе. В Зилупе эшелонов стояла уйма. Немец там бомбил. Прямо летел над городом на бреющем полете. Расстреливал людей. И, кстати, тогда еще секретарь горкома, он тоже был в этом эшелоне, говорит мне: «Я иду в Даугавпилс, обратно. Давай со мной в партизаны». Я говорю: «Я же даже винтовку не умею держать, не служил в армии, ничего. Надо же сперва этому научиться». Ну и он: «Ты, - говорит, - как хочешь, а я пошел». И он там остался и действительно партизанил.
- Ощущалось ли приближение войны?
- Знаете, я немного почувствовал в последний день мира. Это было 21-го июня, когда я был на выпускном вечере, то уже делали затемнение окон. Наверное, уже тогда были даны какие-то инструкции. Был уже, видимо, приказ, что возможна тревога и надо, чтобы не было видно света. Ну и кроме того, в последние дни через Стропы, там, где был пионерский лагерь, проходили войска. Вот это все настораживало. А так разговоров особых не было.
- Вас не настораживали газетные сообщения?
- Ну, я вам скажу, что в газетах, особенно если это российские, говорилось, что мы будем бить врага на его же земле. Никто не думал что немцы сюда войдут. Даже когда к нам шли беженцы из Литвы, мы все равно не верили, что придется оставить Даугавпилс. Я же говорю, что когда нас в горкоме собирали, то сказали, что мы на два дня уходим а потом вернемся обратно. Даже разговора не было, насколько долго будет длиться эта война. Никто этому не верил. Так были воспитаны. Говорили, что будем бить врага на его же земле, а не нас будут бить на нашей. А оказалось, что они так сильно продвинутся за несколько дней! Когда Даугавпилс заняли? По-моему, 26-го? За неделю уже были там...
- Что было после того как вы покинули Даугавпилс?
- Из Зилупе мы пошли пешком, потом поездами, и я в результате очутился в Кировской области, в городе Уржум. Там нашел свою сестру. Она уже жила в колхозе. И я тоже в колхозе стал работать. Послали нас на лесосплав. Нас там было человек 15 ребят из Даугавпилса. И все написали заявления: «Требуем нас отправить добровольцами в армию». Через неделю, буквально, пришло известие, и всех их отправили, а меня одного оставили. Почему - неизвестно. Пошел к военкому, тот проверил списки. А тогда уже формировалась Латышская дивизия, и меня одного направили туда. Помню плыл по Вятке, потом по Волге до Горького. От Горького поездом до станции Ильино. И оттуда пешком еще сколько-то.
(Справка: 201 Латвийская стрелковая дивизия формировалась с 9 августа по 3 декабря 1941 года в Гороховецких лагерях Московского Военного округа, неподалеку от ст. Ильино, Горьковской железной дороги).
В общем оттуда я попал в 191-й стрелковый полк 201-й Латышской стрелковой дивизии. Там было три полка: 191, 92 и еще 122-й. Я попал в третью роту третьего батальона.
Надо сказать, что там вскоре произошло интересное событие. У нас был командир роты лейтенант, еще из старой латышской армии. Тогда там все было на латышском языке. Но я-то политически был подготовлен и, чувствую, он что-то такое не то говорит. В общем, одним словом, пришлось мне тогда сообщить в СМЕРШ (очевидно имеется в виду особый отдел): «Что вы нам дали за командира, это же антисоветчик!» Практически мне за это еще и попало. Зам командира полка по политчасти меня вызвал: «Что это ты, понимаешь, на офицеров такие вещи говоришь?» Я отвечаю: «Это же не советский офицер!» Одним словом, его сняли с должности командира роты, поставили командиром взвода. А мне замкомполка еще и судом пригрозил.
Но у нас секретарем комсомольской организации полка был старый подпольщик. Борок его фамилия была. Он меня знал как облупленного, и он сказал мне: «Иди, ничего не будет».
(Справка: Исаак Борок, комсорг 191 стрелкового полка, погиб в первых боях под Москвой).
До декабря месяца мы прошли всю учебу. До 3 декабря.
- Расскажите немного подробнее про лагеря. Как вы жили?
- Ну как жили? В землянках. Сами строили. Сначала были палатки, в палатках жили. Потом стали строить более нормальное жилье. По сути дела, мы только только успели это там оборудовать, и уже надо было выступать.
- Были большие землянки? Каким образом вы их строили?
- Большие? Ну, человек на 10. Крыши делали по всякому. Были легкие, были более солидные. Старший скажет: землю рой так, бревна ставь так, потом так. В общем по команде все.
- А обмундирование вы уже получили?
- Конечно. Уже и обмундирование и все. Все нормально было. Началась учеба. И стрельбы были, и теоретические занятия. В общем, все как в армии и должно быть. И вот к 5-му декабря мы прибыли и выгрузились под Москвой. Там такая узловая станция есть, забыл уже название. (Очевидно имеется в виду город Мытищи). Там нас одели с иголочки. Выдали полушубки, валенки, теплые брюки, теплые фуфайки. Числа 4-го декабря это было. А 6-го декабря началось наступление под Москвой
Мы тогда шли вторым эшелоном. То есть первый эшелон впереди нас. Вообще, построение армии идет таким образом, что если армия идет в бой и в армии есть, скажем, три дивизии, то, значит, две вперед, одна назад. У дивизий которые впереди, два полка впереди, один полк сзади. И то же самое роты. Два взвода в атаку, один сзади. Ну а тут целая армия по сути первый эшелон, следующая армия уже запасная, она шла вторым фронтом.
Мы тогда двигались довольно-таки быстро вперед, Управление было не совсем на уровне. И мы, в результате, шли с 5-го декабря по 19-е декабря. Шли лесом, не видно было ни людей, ни жилья, ни жратвы! Ничего не было, все пусто. Потому что хозяйственные части куда-то в одну сторону пошли а боевые части - в другую сторону. Только 20-го числа мы соединились с дивизией, и вот тогда начали кормить из кухонь. И сухим пайком тоже.
(Справка: Изначально 201 дивизия вошла в состав 1 Ударной армии Западного фронта и совершила многодневный марш, следуя за наступающими войсками. Далее по приказу командующего Западным фронтом дивизия совершила обратный марш на ст. Химки откуда была переброшена юго-западнее Наро-Фоминска, где поступила в состав 33 Армии).
- Как вы ночевали?
- В лесу.
- Я слышал о таком методе когда солдаты собирались в толпу и связывались веревкой чтобы не упасть и стоя спали. Такое было?
- Нет, такого не было. Но шли и спали на ходу, такое бывало. И когда строй идет, а ты падаешь, все равно наталкиваешься на кого-то, и тебя уже поддержат. А в лесу спали очень хорошо, я вам скажу. Возьмешь снег разгребешь, хвою положишь. Одну плащ-палатку под низ. Вдвоем ложитесь. Так? Одну палатку наверх. Одна шуба на голову, вторая шуба на ноги. Утром встаешь - кругом мокро. Тает снег. А спать тепло. И вдвоем отлично в таком ложе. Снегом сверху не засыпали. Если снег ночью пойдет, он тебя засыпет. А специально - нет.
- А шинели у вас были в этот момент или только полушубки?
- В начале службы были шинели, а как прибыли в Мытищи, под Москвой, то нам выдали полушубки. Овчиные. А под ним ватная фуфайка и теплые брюки. Обычная ватная фуфайка, такие и после войны были, ну и валенки еще.
Дело в том что под Москвой, было тогда до 50 градусов мороза. У нас в Латвии когда минус 15 было – уже страшно. А когда 50 думали, даже и эта одежда не спасет. Оказывается - ничего подобного – жарко. И по дороге потом начали сбрасывать одежду.
А вот когда двигались на марше, я помню, мы там попали в один уцелевший дом. Там столько народу скопилось, что там лежать-то совсем нельзя было и думать, а и сидеть нельзя было – только стоя. Так что безо всяких веревок, поскольку кругом стены, но стоя спали.
Так вот 20-го декабря, мы вступили в бой. В районе Наро-Фоминска. Наш участок был под Елагино. Там мы наступали. Ну и что я вам скажу: в связи с тем, что дивизию ввели в бой без разведки, без всего, то, когда мы наступали, мы по сути стреляли по своим и наступали на своих. Было это связано с тем, что высшее командование не знало, где находятся наши, а где находятся немцы. И так получилось, хотя это я потом уже узнал, что командир дивизии потребовал, чтобы ему дали время для разведки, ему сказали, что, мол, нечего разведывать, давай наступай и все, никаких там проволочек, некогда больше. И поэтому много людей погибло не потому, что иначе нельзя было, а из-за вот таких неприятностей.
- Вы в то время находились в каком подразделении, и какое у вас было звание?
- Солдат. Простой солдат в стрелковой роте. Звание - рядовой. Я ведь только отучился три месяца и все. Скоро меня назначили вторым номером пулемета Максим. Ну, во-первых, он тяжелый. Таскать одному-то никак. Поэтому два номера. Так что я был вторым номером, заряжающим, у этого пулеметчика. А потом первого убили и я на его место встал.
Ну вот, кстати, там мы встретились с тем секретарем комсомольской организации. Его назначили комиссаром нашего батальона. И вот тогда он мне дал поручение. Он-то знал, что тот бывший офицер Лавтийской армии действительно сволочь, но поскольку нам не верили, то он говорит: «Надо за ним присмотреть». А я был в другом взводе. Не в том, которым тот фашист, про которого я рассказывал, командовал, а в другом. И он меня направил туда в этот взвод. Говорит: «Иди туда, и если что заметишь, то стреляй, нечего думать!» И я к тому пришел, доложил: «Прибыл в ваше распоряжение». И он через пять минут приходит ко мне и говорит, что ему нужно идти на доклад к командиру батальона, а я остаюсь на его месте. Ну какой же из меня командир? А он ушел. Ну, в общем больше я его не видел. Я не знал тогда, куда он делся.
Вот, кстати, интересный эпизод про этого самого секретаря комсомольской организации. Чувствую, что-то у него на душе. Видимо, что-то его мучило, но он сам, видимо, не мог ничего изменить. К чему я это говорю? Потому что когда мы встретились перед боем, он мне говорит: «Будешь в Двинске, передай там привет ребятам». Я говорю: «Да ты что, мы вместе вернемся туда!» «Нет, - говорит, - ты да, я – нет». И потом я понял: там надо было поднять батальон в атаку. То есть это было невозможно. Стрельба такая, что подняться нельзя было. А он поднялся во весь рост: «Вперед, за мной в атаку!» И тут же его, раз, и срезали. Но, правда, после этого ночью мы пошли, все-таки, вперед и эту деревню заняли. Выгнали их оттуда.
И потом оттуда нас повели на Боровск. И я помню 30 декабря мы заняли деревню. Впервые за весь этот месяц... Я говорю «этот месяц», потому что мы вообще не заходили в дома и не знали, что такое тепло. Не говоря о том, что помыться или что-то такое. Не было возможности. Только заняли штаб, где были немцы. Деревенская изба, натопленная печь. Знаете там эти горизонтальные доски на печи, как они там называются, полати? Ну мы быстренько раз – легли туда. Тепло! Но долго мы не пролежали. С нас как вши поползли! В общем, мы пошли лучше в снегу спать.
- Это чьи были вши, ваши или немецкие?
- Наши, наши. Как засунешь в подмышку руку и достанешь полную жменю. Когда в холоде, то не чувствуется, а как в тепле – так почувствовалось. Ну мы же не мылись месяц! Месяц тепла не знали. Ну, то есть, помоешь снегом лицо только и все. А так, мы не заходили даже ни разу в квартиры.
- Какие в тех боях были потери?
- Там были большие потери. Я могу сказать потому что, когда мы 31-го декабря пошли на Боровск, со всего батальона нас осталось двадцать человек. И я был уже назначен командиром.
- Если вы в начале были полностью укомплектованы, то от батальона из 600 человек осталось только 20 человек активных штыков, так?
- Да, и вот за это время с 20-го декабря столько осталось. Тылы были отдельно. Кто там был, мы это не знали, не видели. А нас было двадцать человек боевых стрелков, которые еще что-то могли сделать. И вот меня назначили их командиром. Там еще в моем подчинении оказался мой старший брат. Ну брата, правда, тогда получилось, что из этих двадцати я отдал. Командир попросил дать людей, надо было вытащить раненого офицера. Я спросил: «Кто хочет?» Ну, мой брат вызвался и еще один. И они ушли. Брата я не видел больше. Знаю только, что брат погиб потом...
(Справка: рядовой Дейч, Рувим Мордухович, стрелок 1289-го стрелкового полка, 110 стрелковой дивизии, 1911 года рождения, погиб 25 марта 1942 в бою под деревней Челищево, Темнинского района Смоленской области)
И 31-го декабря мы пошли в атаку. Ну а я, честно говоря, после того как нас начали кормить и сухим пайком и горячим пайком, то, ни при еде сказано, схватил понос. А мне уже было так противно! Иди в санчасть стыдно, не хотелось. Так терпел! А тут пока снимешь все одежды и так далее – это был ужас. Думаю: «А черт с ним, пусть уж лучше быстрее убьют!» И так как было у нас тогда принято, я сказал: «Вперед, за мной», - и пошел. Я пошел. Потом залег. Слышу – немецкие команды, а наших ни одного уже нет. Пусто. Или они там залегли, или их убили, или что такое, не знаю.
Ну, а я слышу это команды и понимаю, что они здесь рядом. А уже стемнело. Думаю: «Что делать?» Пока думал, ка-ак по голове стукнуло! Вот это было первое ранение. Сначала думал: «Ну все, уже ты готов». Но когда почувствовал что кровь идет, похоже – еще жив. Ну думаю: «Что-то надо делать». И тогда я отполз обратно, а там уже подобрали и в санчасть. И уже 1-го января я был в Москве, в госпитале. А этот госпиталь организовывался в какой-то школе. Я сейчас уж точно не помню. Школу закрыли и там организовали госпиталь. И вот в первую очередь я попал туда. Я тогда ничего не хотел: «Дайте мне только поспать!» Очень быстро доставили. Ну, а это тут же рядом было, недалеко.
- Скажите, а термин такой «политбоец» вы помните?
- Политбоец? Это что значит - политбоец? Были политруки. Ну были еще какие-то, назывались не политбойцами а несколько по другому. Ну, которые проводили там политзанятия. Это не следить. Такого с их стороны не было. Следила госбезопасность, СМЕРШ. Ну и кстати, это уж я потом узнал, сзади шла госбезопасность и если отступаешь – расстреливали. Я их может не видел потому что нам приходилось только наступать.
- Может их за вами не было?
- А то что были – это верно. Многие говорили, что это действительно так было. Но мне приходилось только участвовать в наступательных боях. Даже и в обороне отступать не приходилось.
- Скажите ваше мнение о комсоставе среднего звена, командир взвода, роты батальона. Сколь подкованы они были, как руководили?
- Понимаете, опыта войны ни у кого не было в начале. А там практически все управление идет свыше. Спрашивается – кого винить? Командир дивизии у нас был такой Вейкин. Генерал-майор. Очень солидный человек. Кстати тоже сидел, как и многие. И он понимал, что нельзя наступать, если нет соответствующей разведки. Если не знаешь, кто - где. И так получилось что мы наступали на своих. По своим стреляли. С одной стороны в нас стреляют, мы не отвечаем, потому что думаем, что там наши, а стреляем по своим. А они не отвечают, потому что понимают, что тоже, должно быть, наши... Такая путаница. Кто виноват? Командир взвода? Командир роты? Он получил приказ на карте: ты должен занять эту деревню. И он ничего не мог сделать. Высшее командование настаивало. А командир дивизии понимал. Это когда потом выяснили все обстоятельства, оказалось что командир дивизии знал, но ему не разрешили ничего изменить. И он вынужден был вступить в бой. И...
- То есть командир дивизии являлся тоже незначительным передаточным звеном?
- Да. То есть в этом отношении я считаю, что многие погибли из-за некомпетентного руководства, или может быть даже не совсем так, а из-за того как в жизни сложилось, вот этого «давай быстрей-быстрей». «Быстрей-быстрей» не всегда получается. Нужно же все обдумывать.
Ну конечно были многие командиры, которые пили. Это тоже влияло на то, что либо не туда заведет, или не то сделает, что нужно. Кстати, мне такой тоже командир встретился, когда я был командиром взвода, в 42-м году. В ноябре, наверное, мы вступили в бой. А я был командиром противотанковых ружей. И вот нас придали одному батальону, я пришел в его распоряжение. Старший лейтенант, по-моему. Ну, а он пьяный, не с кем разговаривать. И начинается мат-перемат. Ну и что делать с таким? Прошло некоторое время и его уже нет. А он командовал батальоном. И такие тоже, к сожалению, бывали.
- Извините, «его уже нет» в каком смысле? Погиб?
- Да, убили. Попал, видимо, снаряд или что-то такое. Человек, который не владеет собой, думает, что он герой. А это не геройство, а так…
- А водку вам выдавали с самого начала как вы начали боевые действия? 100 граммов?
- С самого начала. Было норма 100 граммов, но были, понимаете, разные люди. Я больше ста грамм никогда не пил. А были такие которым этого не хватало.
- Ну и как, помогала водка выжить?
- Ну, с точки зрения, что мороз, допустим, переносится получше. А в отношении смелости, это не то. Не то главное. Смелость это не то.
Идя в бой не знаешь, что и где и когда случится. Это очень трудно предугадать. Помню у меня был случай. Хороший знакомый, мой земляк. Он был у меня в роте. Это когда я был уже командиром минометной роты. В 44-м году было, уже в боях в Латвии. Потребовали солдат в пехоту. Пехота обычно быстрее расходуется. Ну, я его отправил. Он просился: «Ну, не отправляй меня!» Я ему: «Ты знаешь, что будет здесь? Здесь могут убить, и там могут убить». Одинаково. Буквально через пол-часа он уже идет обратно раненный. Говорит: «Ой спасибо-спасибо, что отправил!» Кстати, мы с ним встретились в Даугавпилсе после войны и он меня благодарил за то, что отправил его в роту. После ранения его увезли госпиталь, а потом оставили в тылу. Кто знает, что там будет...
Как подумаешь: как ты остался жив – тоже не знаешь, что за чудо такое! Тем не менее, всех убить не смогли. Кому-то повезло остаться...
- Страшно было?
- Вы знаете что, абсолютно нет. Я никогда не думал о смерти. За исключением уже под конец войны. А до этого никогда не задумывался. Наоборот, когда были такие, что говорили: «Ой убьют», - я спорил со всеми. Я говорил: «Давай поспорим что я останусь жив». Ну а что, проиграть я не мог (смеется). Я мог только выиграть. Но думать, я никогда не думал, что могут убить, хотя смерть была рядом. Вот идешь в атаку вместе. Этот уже готов, а ты еще идешь вперед. А бывало так: как стоял – допустим, вот идет и на колено станет, чтобы прицелиться - так и остался. Подойдешь помочь, что-то, думаешь, случилось, а он падает и все. И твой товарищ... Некогда остановиться, оглядываться, смотреть, мы должны идти дальше вперед, понимаете? Да...
И я вам скажу, вот сколько бы ни говорили, шли с именем Сталина в бой. Это же факт. Ведь никуда от этого не денешься. Так было.
Так что первые бои под Москвой, это 10 дней непосредственно в боях. А остальное - двигался просто. Хотя двигаешься во втором эшелоне, там тоже опасно. И бомбили и стреляли. Там тоже постоянно выходили из строя. И уже к тому времени как второй эшелон вступает в бой, там уже тоже значительная часть погибла. Ну, это была такая тактика. Насколько она оправдана – не знаю. Без эшелонов нельзя, но наверное что-то должно быть по другому. Расстояния должны быть другие или еще что. Потому что как получается, куда ни попадешь, ты попадешь на людей. Куда снаряд ни упадет, все равно там кто-то будет. Эшелонированное построение. Идет все дальше и дальше вглубь. Это может, допустим, километров на 10 растянуться. А для противника хорошая мишень. Куда ни попадешь, попадешь в кого-то. Не в первого, так в последнего...
- Под Москвой немцы сильно держались?
- Ну что вы. Дрались за каждый бугорок! У них же тоже было: стоять ни в коем случае не отдавать. Собирались к 7 ноября занять Москву. Хотели еще парад устроить на Красной Площади. Шли они на самом-то деле преодолевая сильное сопротивление, и вот под Москвой их сумели остановить. Ну, тут помогли конечно дивизии которые пришли с Дальнего Востока; сильно помогли. Если бы не сняли эти войска, то что было бы - еще неизвестно.
Кроме того, неизвестно, что было бы с нами, если бы гитлеровцы не применяли бы зверства. Я вам скажу, что когда мы наступали, освобождали деревни российские, которые успели побывать под немцами, так старушки выбегали: «Ой как мы вам рады! Мы ж думали немцы нас избавят от колхозов. Оказывается они еще хуже зверей! Еще хуже чем колхозы. Пусть уж лучше будут колхозы. Так давай, миленький, иди, гони их».
Я даже не верил в зверства немцев, до тех пор пока сам не убедился. Хоть я был политически отлично подготовлен, но я не верил, что это такие звери, что действительно этим занимаются. Ну, правда, это, видимо не все, конечно. Но были специальные подразделения, которые занимались вот этими всеми делами. Я себе представлял, что все таки немцы – это же культурный народ, как они могут так поступать с людьми? Оказалось что могут.
- Вы упомянули что были вторым номером пулемета Максим. Второй номер должен носить станок пулемета на марше. Вам приходилось его носить?
- Носил конечно. Ничего. Еще и бегал. Я уж сейчас не помню сколько он килограммов, но достаточно. Не только это, там еще надо было другое нести. Винтовка еще была, ленты с патронами.
- У вас была обычна трехлинейка?
- Да. Винтовка. Личное оружие. Не автомат. Еще и не у всех были винтовки.
- В стрелковых ротах не у всех были винтовки?
- В лагерях не у всех еще были винтовки. Во-первых, там еще учились, и еще не было такой необходимости в оружии. Когда вышли в бой, тогда уже всех снабдили. До этого не у всех было. Лишних винтовок, видимо, не было, надо полагать.
- А салазки или лыжи были? Ваше ведь первое наступление было зимой.
- Салазок, к сожалению, не было. Все носили на себе и устанавливали и стреляли. Так как есть. Были специальные лыжные батальоны, у них были салазки.
- Какая была у вас зимой охлаждающая жидкость для пулемета? Вода или антифриз?
- Снег – самое лучшее.
- Как работал пулемет? Надежно?
- Хорошо работал. Нормально.
- Ленту не перекашивало?
- Ну всякое бывало. У меня стреляло нормально, но всякое такое могло быть. Мало что засорилось , там, или попало что-то. Это все бывает. И винтовки бывали тоже самое - заедает, не стреляет. Хорошо если в удобный момент не стреляет.
- А самозарядных винтовок Токарева у вас не было?
- Нет. Потом когда стал офицером, у меня револьвер был. Этот, как его называют, не Наган, а ТТ. Офицерам винтовка уже не положена была.
- Какое у вас было первое ранение?
- Было первое ранение в голову, вот здесь с левой стороны, сзади. Каску пробило, зимняя шапка была... и уже дальше попало в кость и приостановилось.
- А подшлемники вы не носили, только ушанка была?
- Ушанка была. Ушанки достаточно, она же теплая.
- Вы из каски подшлемник вынимали, чтобы надеть ее поверх шапки?
- Нет, так, по-моему, одевали, насколько я помню. На теплую ушанку налезало нормально. Если бы не надел каску , то – всё. Второе ранение было в левую руку. Но это уже в 1942-м году.
- Что с вами было после ранения?
- Я был в Москве, до 15-го января, наверное, а потом в Муром отправили. А с Мурома отправили меня с группой тоже из Латвии в Челябинскую область, в город Миасс.
Там тоже интересно получилось. Мы думали, что нас отправляют на выздоровление или что, а там, оказывается, шло строительство завода имени Сталина, по изготовлению танков или самолетов, не помню. Ну и, одним словом, нас поставили всю группу, что вы думаете делать, рыть котлованы! Зимой! Меня назначили бригадиром, а было нас человек 20.
(Справка: Очевидно имеется в виду строительство Уральского автомобильного завода имени Сталина. В ноябре 1941 по решению ГКО в городе Миассе организовано автомоторное и литейное производство, эвакуированное с Московского завода имени Сталина)
- Это вы еще ранеными считались?
- Это после госпиталя уже, выздоравливающие. Ну, и рыть эти котлованы. А как их там рыть когда мороз? Попробуйте рыть. Ну, так мы жгли костры 6-7 часов, а час копали. В один прекрасный день пришла целая делегация, там где мы работали, и один генерал нас спрашивает: «Что это вы тут делаете?» Я говорю: «Греемся. Костер разложили чтоб подогреть землю, а потом будем копать. А что, - говорю, - взяли раненых и на такую работу поставили? Что другой работы нет?»
- А я ведь тогда не знал в чем там дело, почему так с нами получилось.
- Он меня спрашивает: «Какая у вас специальность?» А я учился в школе на слесаря. Я говорю: «Я механик». Ну, и куда-то нас перераспредилили. На следующий день меня отправили в цех. Пришел я к начальнику цеха. А там цех громадина, в километр, наверное, длиной. Он показал мне машину: «Вот, - говорит, - надо ее исправить и запустить». Сел я около машины, и не знаю, что делать. Хотел пойти сказать, что не могу, мол. И не смог его найти. Ну, что-то же надо делать, и я стал у машины вертеть туда-сюда что-то и, знаете, за час все сделал. И так было каждый день. За час я там все делал.
Ходил на станцию, в столовую. А раненым там выдавали без карточек обеды. Обед состоял из супа пустого в котором плавает редко какая-то крупа. Возьмешь шесть-семь тарелок, наловишь там двенадцать крупинок - покушаешь.
А потом узнаю, что все, кто там работает - арестованные. Вот... Думаю: «Что такое!? А какое я имею отношение ко всем этим арестованным?» И я, долго не думая, пошел в военкомат, который в Миассе был. Там говорю: «Так и так, создана Латышская дивизия а меня привезли почему-то сюда. Почему меня здесь держат?» Спрашивают: «А вы латыш?» Думаю: «Скажу еврей, так не примут». Говорю: «Латыш». «А вас там много?» «Двадцать человек». Выписывает направление – «Отправить на фронт».
Я с этим направление прихожу к тому генералу, который со мной тогда разговаривал. А это был начальник строительства, крупная фигура. Но для меня тогда все были одинаковые. Я еще не признавал принятый порядок. Я пришел, и даю это направление. Он как на меня налетел! Думаю, сейчас убьет. «Кто мне дал право поехать в военкомат!?» А я ему: «А кто вам дал право меня здесь держать? Есть постановление Совета Министров создать Латышскую дивизию, и я должен быть там, а не здесь!» Он как разошелся: «Под суд пойдешь!» А я: «Не пугайте судом, я уже видел смерть перед глазами, мне ничего не страшно». А еще добавил: «А вы не видели!» Потом уже испугался: «Что я наделал», - но прошло все нормально.
И я помню, мне выписали продуктовый аттестат, а надо было ехать, наверное, неделю или больше. Аттестат выписали и начальник должен был подписать. Я к нему зашел, он все перечеркнул оставил килограмм хлеба. Я думаю: «Ну и черт с вами, с этим я тоже доеду». Доехал. Придешь на станции к военкому расскажешь, мол, так и так. Тебя накормит, еще даст с собой что ни будь. Продал одежду. Все что было, все продал. Приехал босиком. Это было лето, тепло.
А когда из госпиталя нас в Миасс отправили, это потому, что был приказ Сталина, всех «западников» снять с фронта. Так они посчитали что западники, это и Латвия тоже, и нас поэтому туда отправили. Но это я узнал позже.
- Но с фронта дивизию не отозвали...
- В общем, если бы не поднял бы я этот шум, может быть и прожил бы там всю войну. Но меня тянуло на фронт.
Запасной полк находился в поселке Гороховец, Горьковской области. Ну и, вот, вернулся я обратно в Гороховец а там меня направили в школу младших лейтенантов. Три месяца отучился. Правда, ходил два раза к комиссару полка проситься, чтобы отправили в партизаны. Но не отправил.
- Почему в партизаны?
- Что-то тянуло меня туда. Я же старый подпольщик. Думаю, надо поехать. Два раза отказал: «Знаешь, еврею туда нельзя, тебя же как раз расстреляют». А на третий раз он обещал, но тут как раз была маршевая рота и меня направили опять на фронт. «Ну, - думаю, - не идти же проситься, чтоб оставили». И поехал.
- Маршевая рота шла прямо в вашу дивизию, так? Не сложно ли это было при всей путанице попасть туда куда надо?
- Если люди служили в Советской Армии не в специальных частях, то разговора не было. А у Латышской стрелковой дивизии был особый статус. Создана по указанию Совета Министров Советского Союза, и всех из Латвии, не только латышей, но всех, кто жил в Латвии всех направляли туда, в эту дивизию. Вот когда я заявил военкому в Миассе чтобы нас направили в эту Латышскую дивизию, они там уже имели такое указание и отправили нас куда следует.
В Гороховецких лагерях я прошел обучение на командира-минометчика. Были трехмесячные курсы младших лейтенантов. Окончил я их и опять на фронт.
Попал в 121-й гвардейский стрелковый полк. В полку выясняется, что минометчики не нужны и назначили меня командиром противотанковых ружей. А я про них ничего и не знал, пришлось заново учиться.
(Справка: 5 октября 1942 приказом Народного Комиссара Обороны 201 Латвийская стрелковая дивизия была преобразована в 43 гвардейскую Латышскую стрелковую дивизию, с присвоением новых гвардейских номеров частям. Стрелковые полки стали 121, 123 и 125 гвардейскими стрелковыми полками).
- Вы стали командиром взвода? Кому вы подчинялись, полку, батальону?
- Да, взвода. Их придавали пехотному батальону, роте или взводу. Направляли туда, где было известно, что могут пойти немецкие танки, вот на это направление нас и выдвигали. Это было подразделение полкового подчинения. В полку распределяли, кому придать. Была рота. Скажем, могли один взвод или другой кому-то придать. Зависит от того, где танки есть. Могли один взвод, могли полтора. Ну, а разведка знала про немцев, сколько там танков.
Это был уже 1942-й год. После того как был занят Боровск, дивизию перевели сюда, на Северо-Западный фронт. Меня там тогда не было, а от дивизии бойцов осталось с гулькин нос. Я прибыл в дивизию в октябре. Дивизия тогда находилась в районе Симоново, а какая область, я не запомнил... И деревень вокруг не помню. Шли много где, но только Симоново запомнил, потому что меня там ранило, а остальные названия не помню.
(Справка: С июля 1942 по февраль1943 года дивизия вела боевые действия с Демянской группировкой противника в составе 11-й армии Северо-Западного фронта. Деревня Симоново или Симаново находилась на северном фасе Демянского мешка).
Командиров не хватало вот меня и сунули в противотаковые ружья. Ну а там я, по-моему, в течение недели повоевал, и ранило меня опять.
Было у меня одно отделение – все уголовники. Отличные ребята! Они мне обещание дали, что никаких хулиганств от них не будет. Под Симоново, я помню, мы отбивали атаку немцев, и шли танки. Вроде шло шесть и три мы подбили. Под Симоново меня и ранило осколком снаряда в руку. Опять госпиталь в Ярославле.
Там, кстати, за это время я встретил командира роты, который был у меня в самом начале. И вот он рассказал мне конец истории с тем лейтенантом, про которого я сказал, что это фашист. Тогда он сказал мне что пошел на доклад к командиру батальона а сам убежал. Так он собирался перейти к немцам и его арестовали. Командир роты, там, и еще кто-то. Ну и повели его в штаб. И тут был артналет. Они залегли, а тот лейтенант побежал и тот его пристрелил. Это и был конец того лейтенанта.
Так вот когда я попал в госпиталь, а я знал уже эту историю. Командир роты мне уже рассказал. А в Ярославле был Латышский госпиталь где был начальником бывший комиссар нашего полка, с которым я имел дело в самом начале. А там он был начальником госпиталя и причем звание у него тогда было капитан. Тогда перешли на новые звания и ему не дали подполковника, а дали звание капитан, не знаю почему. И я его при встрече спрашиваю: «Вы помните нашего командира взвода?» Ну, он помнил немного. «А что такое?» - говорит. Я и говорю: «Ну, и кого теперь из нас под суд отдавать, меня или вас?» «А что случилось?» «Вот, - говорю, - так и так». «Ай-я-яй, как я проглядел...»
- Ну а потом после войны с ним встретились – он капитан и я капитан. Уравнялся с ним в звании. Вот так.
- После ранения опять я попал в свою дивизию. Мы тогда стояли на отдыхе, ну и конечно шла боевая подготовка. У нас в дивизии был учебный батальон и меня там назначили командиром минометного взвода учебной роты. А после того, как подготовились, опять пошли в бой. Это уже август 1943-го года. Меня направили в часть, в 123-й гвардейский полк, и мы пошли с наступательными боями уже на Латвию. И так мы и двигались до мая 1945 года.
А 8-го марта 45-го меня ранило. Дело было так: мы заняли деревню. Я не помню сейчас тоже, как она называется, но это было уже на территории Латвии. И с высотки только немцев выбили. Ну, и туда все три штаба батальонов собрались, сконцентрировались в этой землянке. А землянка такая, что немец ее простреливает, поскольку это его землянка. Дверью она открыто к немцам расположена, значит, он напрямую может туда стрелять. Я когда туда пришел, я вижу опасно тут. Я говорю комбату: «Я пойду выберу позиции в другом месте». Минометная рота-то, она всегда была несколько сзади. Позиции для них взял, и себе оборудовал наблюдательный пункт, чтобы было видно все хорошо. Ночью комбат звонит: «Приходи сюда». Я говорю: «Слушай, вас и так уже хватает там». «Какой еще приказ тебе нужен? – говорит. - Понимаешь, мы просили командира полка, чтоб разрешил уйти оттуда - не разрешил...»
Ну, приказ есть приказ. Пошли. Пришел туда, протянули связь, там, и так далее. И вот, мы должны были скоро начать наступление. Должны были начать в 10 часов, так, а туда первый снаряд без пяти десять!
А там получилось так: Я когда пришел, там места не было. Вообще, трудно с местом было. Сел я где-то на кончик стола. А потом пробрался мой ординарец. Я сказал, чтоб не приносили завтрак, а он все-таки пробрался. Сибирский латыш был, хороший парень. И он с трудом добрался, потому что этот участок обрабатывал снайпер. А он прошел. Вообще, он мог бы стать очень талантливым разведчиком!
Ну, ругай не ругай, а он уже здесь! А там командир батареи, «сорокопятки», голодный сидел. Мы с ним торговались, где сядем покушать вместе. В результате, спустился я к нему, перекусили. А когда я пришел, мое место было занято, и я где-то там в сторонку отсел. И вот там без пяти десять оказался снаряд... Сбоку тут от меня связист сидел. Смотрю, на столе передо мной его голова, кровь. Крики. Все заметались. Туда, сюда. Кто в дверь, кто в это... Ну, я понял, что никуда бежать нельзя, лучше сидеть уж здесь, пока. Второй снаряд... И вот я смотрю: движение. Побежал кто-то. В общем, после третьего снаряда и мне по голове стукнуло балкой. Я посмотрел: никого нет. В дверь нельзя, и я тогда выскочил в боковое окно какое-то. Увидел лес. Побежал. Пули летят, а я, вместо того чтобы лечь, бегу. Не соображал ничего после удара. Отбежал подальше, а там уже ребята подобрали.
- Почему вам не разрешили уйти из этого блиндажа, если было ясно, что там так опасно?
- Заняли мы его потому, что это была высота, господствующая высота, и, конечно, ее занять надо было. Но оставаться там, в блиндаже, это уже другой вопрос. Можно было занять в стороне позицию. Глупость командира. Вот так.
- Странно, вроде к 45-му году уже опыт был.
- Ну, может быть не сумели убедить его, тоже. А может понадеялись на авось. Но высота эта была господствующая и очень важная. Я считал бы, что лучше там было в сторонку отойти и держать ее под обстрелом. Но не держать там целый батальон. Вернее три штаба батальонов. Это даже мне было понятно, а я, все таки, ведь не такой крупный командир. Понимаешь, минометы должны находиться сзади, лучше за горой. Миномет стреляет навесом. В него попасть не так то просто. А наблюдательный пункт, то есть командир, должен быть впереди. Он не может там сзади, из-за горы смотреть. А из этой землянки я фактически наблюдать ничего не мог.
- Так 8-го марта вас ранило?
- Да, балкой по голове оглушило. Ну там я быстро отошел. Собственно говоря, я почти сразу встал в строй, только пару дней в санчасти пролежал. Но тогда я потерял первых двух бойцов.
- Из минометной роты? До этого никого не теряли?
- Будучи командиром минометной роты, которую я принял в 44-м году, в августе наверное, я ни одного человека не терял. А эти потери тоже по их собственной вине. Я никогда не разрешал им с окопов выходить. А тут солнышко светило, мартовское. Ну и захотелось погреться на солнце. Командир отделения, отличный парень был. Рижский... За границей бывал. Лифшиц его фамилия. Его насмерть Попал снаряд. И еще один... Нет Лифшиц был тяжело ранен. Я с ними как раз встретился в санчасти. Но он уже был без сознания. А второй был верующий. Он погиб там на месте.
С ним тоже интересная история была. Вот этот верующий, как он попал ко мне в роту? Его судили. Он отказывался стрелять. Вера ему не позволяет, не помню какая это вера была. Нельзя убивать людей. Ну, суд посчитал это веским. «Хорошо, - говорят, - ты стрелять напрямую не можешь, значит пойдешь в минометную роту. Там же не видишь врага». Нужно целиться и все, будь здоров. Я им устроил один раз такие контрольные стрельбы. И пришел говорю: ты убил там двух немцев. Он, смеется, радуется. Он их не убивал сам, даже их и не видел.
Одним словом, он стал бойцом, действительно, очень хорошим, между нами говоря. Я как-то раз поставил его на пост. И командир полка пришел, а он не пропустил его. «Я, - говорит, - командир полка!» Тот: «Ничего не знаю». Положил его на землю. И так нелепо погиб. Вот эти два бойца единственные кого я потерял за время войны. Я считаю, что если бы они не вылезли из окопов... Чтоб погибнуть не обязательно должен быть бой. Ну снаряд шальной прилетел..
- Как вы встретили победу?
- 8-го мая мы должны были наступать. Мы вышли вперед и заняли линию фронта, сменили другую дивизию. Помню, был дождь. Пехота прошла, мы пошли. У меня были 82-мм минометы, которые можно было тащить на себе, ну, и запас мин. До часу дня продвинулись вперед на 12-15 километров и заняли мельницу, где остановился штаб батальона. Дальше был обрыв и чистое поле. Тяжелое вооружение застряло, обоз с запасом снарядов и мин тоже отстал. С той стороны равнины немец, а у нас стрелять нечем. Я помню, остановились мы. Командира батальона вызвали в штаб полка. Он пришел, помню, без десяти два. Говорит: «Приказано продолжать наступать в два часа». Говорю: «А с чем же ты будешь наступать? Нет же ничего для артподготовки! Весь тыл остался где-то». А он: «Приказ...» Я первый раз, вот тогда предложил: «Напоследок, давай выпьем». Я был уверен, что там конец будет. Вот... В первый раз, когда я позволил себе выпить перед боем. Потому что было такое настроение. Уже чувствуется конец войны, и тут надо идти в бой, когда нет обеспечения как следует.
И вот, когда шли к передовой, командир батальона сказал, уже после того как мы сто грамм выпили: «Понимаешь, командир полка приказал, если немцы поднимут белый флаг, чтоб не стрелять а продолжать наступать дальше». Я говорю: «Ну будут они, тебе, поднимать белый флаг!» И только мы успели подойти к передовой линии, два часа на часах, и мы должны были начать наступление, а там белый флаг вывесили! Наши солдаты туда побежали. И мне комбат говорит: «Давай побежим!» Я говорю: «Поставь пару пулеметов, ты же не знаешь в чем дело! Ты же не знаешь еще точно, что они уже сдались!» Ну, и когда мы к ним подошли, я ж по немецки разговаривал немного, и они увидели офицера, стали мне рассказывать, что вот, мол, вы должны остановиться. Мол, мы получили приказ остаться здесь, мол, война окончена и так далее. Я говорю: «Ладно ребята, вы имеете один приказ а мы имеем другой приказ». Их, значит, в тыл, в плен, ну а мы пошли дальше наступать. Хотя уже нужды не было, конечно, зачем еще жертвы если они говорят, что война закончилась?
Одним словом, мы там прошли еще километров пять вперед. И вот там немецкий офицер какой-то говорит: «Ну зачем, нет смысла», - и пригласил наших офицеров на переговоры. Тогда комбат пошел, замкомбата. Я остался за командира батальона, а они пошли на переговоры. Командир полка звонит: «Почему не наступаете?» Я говорю: «Как, пошли на переговоры. Там наши все ушли». «Как! Кто им дал право?!» И пошло... «Ну, - говорит, - я сейчас приеду». Приехал, увидел обстановку, мы тут стоим. Я говорю: «Там пошла целая делегация. Как ты будешь наступать? Их же там убьют!» Ну, он успокоился. Потом, к вечеру, наши пришли, доложили, что утром к 9 часам немецкая дивизия будет построена и они сдадут оружие.
Точно в 9 часов они пришли. Но до того, как они пришли, я проснулся, а кругом немцы у меня здесь. Спят! Здесь тоже. Как они к нам попали, черт его знает. Очевидно, никто не смотрел. Ну и в 9 часов они прошли уже строем, складывали оружие и шли в тыл.
Это было 9-го мая. То есть фактически мы закончили войну 8-го мая в 2 часа. Ну а немцы, то есть их передовые линии, уже получили приказ не стрелять. А мы видели: немецкая штабная машина подъехала туда, и мы когда подошли увидели что машина оттуда уезжает. Ну, то, что мы наступали еще, прошли 5 километров, сопротивления практически уже не было. Просто уже не было смысла дополнительные жертвы создавать, зачем это нужно?
- Где вы тогда находились?
- Это в Курляндском котле, местечко какое-то, забыл сейчас, как оно называется. Немцы надеялись, что это послужит плацдармом для нового наступления. Потом они выходили из этого мешка. Там же их было громадное количество, это были боеспособные войска! Но интересно, мы в последнее время могли двигаться более свободно и они оттуда уже не стреляли, потому что, видимо, у них патронов уже не хватало. Я всегда сравнивал с началом войны. Помню, в первые дни, когда мы шли, самолеты снижались и расстреливали людей. А сейчас на передовой можно было прогуливаться, и с той стороны выстрелов уже не было. Изменилось совершенно положение.
(Справка: Весной 1945 года 43 гвардейская Латышская стрелковая дивизия в составе 42 армии сначала 2-го Прибалтийского затем Ленинградского фронтов ведет бои по уничтожению Курляндской группировки противника. 7 мая 1945 года части дивизии сосредоточились в районе Калныни и в 7:00 8 мая 1945 перешли в наступление. Преодолевая незначительное сопротивление противника продвинулись на 10-15 км. После принятия условий капитуляции командованием Курляндской группировки, дивизия с 13:00 9 мая 1945 принимала части капитулировавшей германской 24 пехотной дивизии).
- Вы праздновали победу?
- Ну еще бы. Дали такой салют, что мы испугались, не началось ли все опять! Мы тогда сидели, было офицерское собрание, и вдруг устроили стрельбу. Думали, что немцы прорвались. Опять наступать! Это было восьмого числа.
- Трофеи вы какие-то брали?
- Да нет. Знаешь, бывали некоторые такие, там, часы искали, по карманам лазали. И много, кстати, из-за этого пострадало. Вот например когда эта немецкая колонна прошла, там тоже нашли нашего одного убитого. Видимо пошел, хотел что-то получить. А бывало лежит убитый немец и часы, допустим, видны. Подойдешь возьмешь и взорвешься на мине. Эта овчинка выделки не стоит. И хотя я говорил солдатам: «Не лезь», - все равно, думали что это так себе... Тоже из-за таких вещей многие погибли.
- Вам разрешали посылать посылки домой?
- Я не знаю. Такого приказа у нас никогда не было. И я знаю, у меня в роте никто ничего не брал и ничего не посылал. К тому же латышская дивизия была в Латвии. Не было мародерства, ничего не трогали.
- Какие у вас были воинские звания?
- Сначала был рядовой, потом стал младшим лейтенантом, потом повышали постоянно. Когда стал командиром роты, то уже был капитаном.
Демобилизовался в 1947-м году. Еще в 46-м году меня отправили на высшие курсы офицерского состава в Калининград. Там я учился и оттуда и демобилизовался. А как получилось? Был приказ Сталина. Делать опрос офицеров о том, кто желает служить в армии. Ну и вот, значит, там комиссия. Меня вызывают. Командир курсов был нацмен какой-то, не знаю какой национальности. Он говорит: «Да это кадровый офицер!» Я ему: «Кто это вам сказал?» «Ну как, - говорит, - у вас же отличная учеба, все хорошо». Я говорю: «Да, но это совсем не значит, что я хочу служить дальше в армии. Раз вы меня спрашиваете, я говорю, что я хочу быть гражданским. Была война – я пошел добровольно, а сейчас я уже понимаю что нет нужды во мне, обойдутся и без меня». Тогда еще председатель комисси спрашивает: «А что вы будете делать на гражданке?» Я: «Пойду по специальности работать». «А какая специальность?» Я говорю: «Заготовщик обуви». Он говорит: «Что такое? это - сапожник?» Я говорю: «Вроде этого». «Вы, - говорит, - будете менять звание капитана на сапожника?» Я говорю: «Знаете, я начал воевать, был солдатом, сейчас звание капитан. Пойду работать рабочим - дальше видно будет».
-И отпустили?
- Ага. Через пару недель отправили в Ригу, и здесь уже демобилизовался.
- Я слышал что после войны непросто было демобилизоваться, офицеру, особенно в достаточно выском звании.
- Ну это была нужда рабочих рук, конечно, столько офицеров в армии не нужно было. Если бы меня не спросили, так бы и остался, ну а если спрашивают, я могу же сказать. Тут меня вызвали, а так я бы может не пришел бы сам, не сказал бы, что не хочу служить. Во всяком случае таких планов у меня не было. Раз отправили на учебу, думаю: «На учебу так на учебу».
- Какое ваше отношение к немцам как к противнику?
- Вояки, я вам скажу, такие: когда они шли парадным маршем, они были героями. Когда натолкнулись на такое сопротивление, тут уже - не то. На этот вопрос, между прочим, хорошо ответил вот этот автор, немец (очевидно О. Кариус, «Тигры в грязи»). Он говорит, 5 русских солдат, это 20 американцев. Про себя он считает, что они хорошие вояки, он не сравнивает русских с немцами. Но, конечно, столько выдержки, столько стойкости сколько есть у русского солдата, у немцев нет. Они не выдержали те условия которые, по сути, им пришлось перетерпеть, когда они были под Москвой. Русский солдат это мог вытерпеть, а они – нет. И это тоже была одна из причин, почему они потерпели поражение под Москвой. Не только сила советского солдата, но и моральное состояние немцев.
- Вы видели пленных немцев? Какое у вас к ним было отношение?
- Пленных немцев видел, конечно. Ну вы знаете, когда он уже пленный, то это уже человек. Уже с ним можно нормальные отношения иметь. Ну, и не каждый немец был враг, кроме этого и человек. К пленному уже не то отношение, как к солдату, которого ты видишь перед собой, как он на тебя идет.
Правда, я помню, я был в Германии уже после войны. На одном заводе мы пришли, и там был один однорукий. Не знаю, кем он там был. Он совал руку, я ему не мог подать руки. Сознание того, что он мог участвовать в войне и убивать наших людей помешало. Не мог подать ему руки. Но сказать, что я к нему в какой то претензии – нет.
| Интервью и лит.обработка: | А. Фотинич |