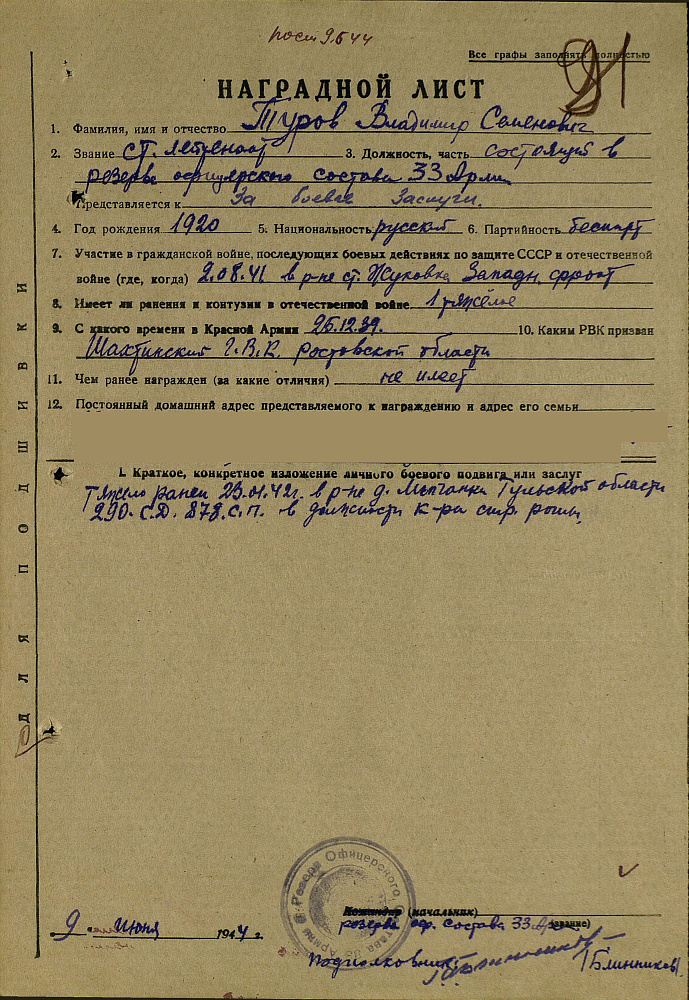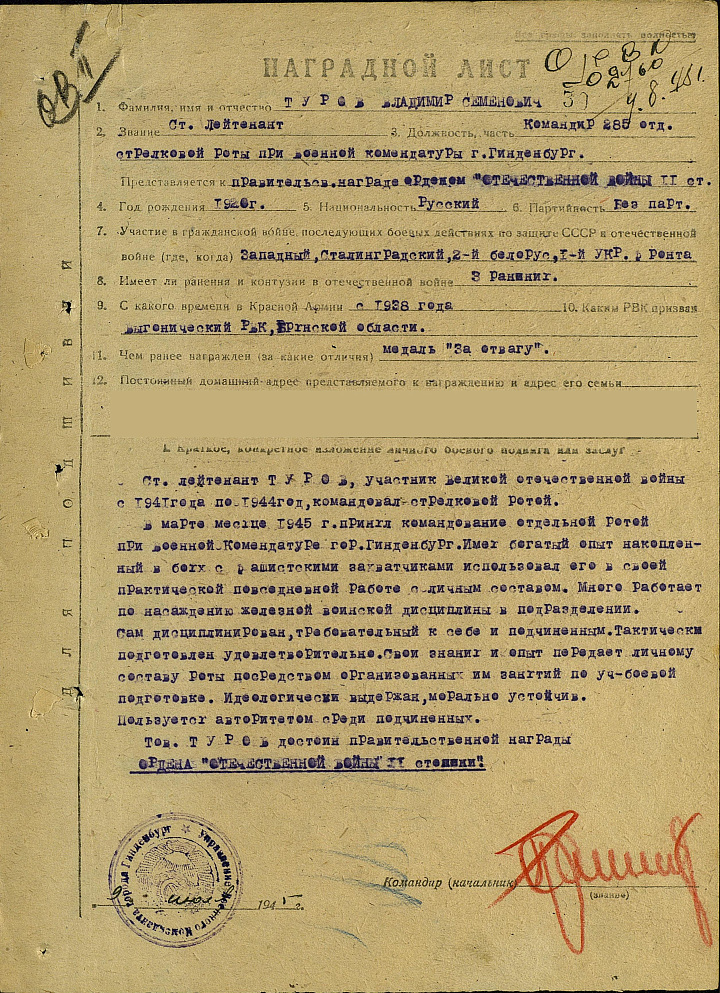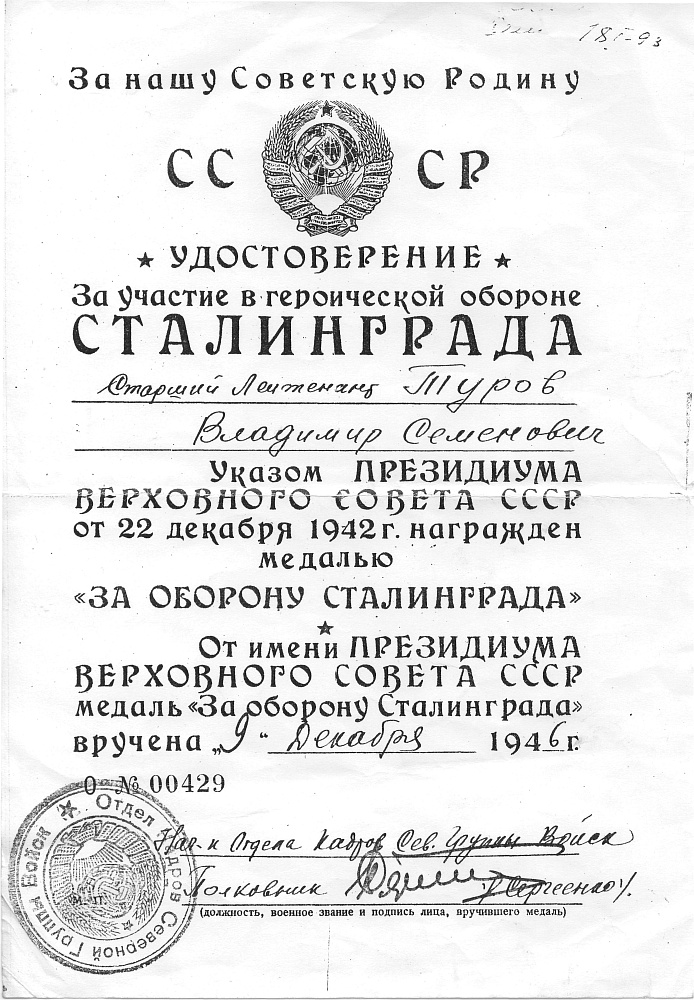Родился я в 1920 году в Брянской области. Деревня Большой Крупец Выгоничского района.
Расскажите, пожалуйста, о довоенной жизни вашей семьи.
У-у, если я начну с самого начала, это целый роман получится.
Так мы вроде не спешим никуда.
Ну, хорошо… Но я бы хотел начать рассказ с моего деда.
Это даже лучше.
Под вечер в один из серых холодных дождливых дней 1839 года, вернувшись от соседских помещиков Почепского уезда Орловской губернии, крупецкой барин Козлов привёз на облучке своего тарантаса пятилетнего мальчонку, и распорядился поместить его в дворницкой. Сказал только, что зовут хлопца – Евтихом и что он будет ездить с его кучером на облучке. Так у помещика Козлова, неизвестно откуда появился мальчик, на долгие годы получивший прозвище Евтих Козлов. Это и был мой дед. Скорее всего, барин выиграл его у соседей в карты.
Рос Евтихий среди помещичьей дворни на мужской половине, ночевал на нарах в общей комнате. Разъезжал на козлах барской коляски, но после женитьбы барского сына, повзрослевший Евтих был определён в кучера к молодой барыне.
Она постоянно разъезжала по гостям, совершала прогулки и была вполне довольна своим бессловесным и покорным кучером, но при этом здоровым и сильным. Не было случая, чтобы дед не вытащил коляску барыни из трясины или колдобины.
А по субботам барыня ездила за 67 километров в уездный городок Почеп на еженедельные дворянские балы. Подъезжая к 2-этажному зданию дворянского собрания в центре Почепа, Евтихий гордо расправлял плечи, расставлял в стороны руки с вожжами, заставляя гарцевать лошадей, с шиком подскакивая к парадному подъезду, где на высоком крыльце, в ожидании находились уже приехавшие баре. Они радостно встречали молодую, весёлую, красивую барыню из далёкой лесной захолустной деревни.
После того как заливающуюся смехом барыню подхватывали элегантные помещики, Евтих также гордо отъезжал от подъезда. На каретном дворе распрягал лошадей, а сам уходил в небольшой, вросший в землю домик на другой улице. Там, в ожидании окончания бала несколько таких же кучеров, как Евтих, не употребляющих «дьявольского зелья» и не выносящего «сатанинского дыма» табака, всю ночь за чашкой чая с баранками коротали время в разговорах. А кучера, которым не был противен табачный дым и которые не прочь пропустить стопку горькой, прозванную «монополькой», отправлялись на всю ночь в кабак. Вот там уже «дым стоял коромыслом».
За годы своей службы «на козлах» Евтихий уже точно знал, когда следует готовить экипаж, запрягать лошадей и подать карету к парадному выходу барыне. Её как всегда, весело провожало несколько помещиков. На их комплименты, барыня весело хохотала, и её громкий смех разливался на утренней заре.
Тронуться нужно было также, с достоинством, и резво отъехать от парадного. По городу ехали быстро, намётом, и только выехав в поле, Евтихий давал лошадям отдохнуть. Также шагом въезжали в ещё тёмный на рассвете лес. Лошади сами шли бодро, чувствуя скорое возвращение домой.
К имению подъезжали, когда солнце уже стояло над горизонтом, и вся барская челядь выбегала встречать свою хозяйку. Открывалась дверца, откидывалась подножка и барыня, с двух сторон поддерживаемая дворовыми, гордо и важно сходила на землю, а Евтих, хлопнув вожжами, уезжал распрягать лошадей. Сразу же осматривал надёжность подков у лошадей и исправность коляски. Если нужно, то подшивал или ремонтировал сбрую.
Так прошли годы. В 1861 году из такой же поездки в Почеп барыня привезла Евтиху … жену. Выменяла там её на породистого щенка. «Барской милостью» «новобрачным» отвели ту маленькую лачужку, в которой Евтих развешивал сбрую для лошадей. Только пришлось сколотить узенький топчан. Так началась семейная жизнь моих деда с бабкой.
Прошло два года, и как-то по приезду на очередной бал в Почеп, оказалось, что хозяйка, у которой Евтих вместе с такими же непьющими кучерами коротали ночь, заболела, и её заведение было закрыто. Пришлось им пойти в кабак, где как их предупредили – «будет интересный разговор». А там какой-то незнакомый мужчина, выступил перед ними: «Вот вы задыхаетесь в дыму и на свои пятаки выклянчиваете стакан горилки, а закусываете рукавом. А там, через площадь, ваши бары шикуют, в роскоши жируют и пьют заморские вина под усладу музыкантов. И всё это за ваш счет! За вашу работу! Никто из вас никогда от своего барина не получил ни гроша! А знаете ли вы, что царь два года, как освободил вас от крепостничества, но баре скрывают это от вас! Два года, как вы уже свободные граждане, но помещики скрывают и не хотят отдавать вам землю…»
По дороге домой барыня по обыкновению мурлыкала какие-то песенки. Видимо настроение у неё было прекрасное. Когда совсем уж немного осталось до села Красное, дед не выдержал: «Барыня, можно спросить?» Она прервала мурлыкание: «Что тебе? Говори!» - «Вот я сегодня ночью был в кабаке, и там говорили, что царь два года как дал крепостным вольную. Правда ли это?» Барыня ничего не ответила, и всю оставшуюся дорогу молчала, а дед не осмелился ещё раз переспросить.
Когда подъехали к барскому дому, для встречи барыни как всегда собралось довольно много челяди. Верные слуги кинулись помогать ей сойти с кареты. С обеих сторон поддерживаемая лакеями барыня взошла на крыльцо, обернулась, и, казалось ни к кому не обращаясь, произнесла: «Сто розг ему!», и глазами указала на Евтихия. Обычно провинившимся крестьянам давали по 5, 10, 15, и не более 25 розг, а тут стразу сто! И главное за что?!
А я застал ещё мальчишкой, через дорогу от поместья было установлено на вкопанных чурбаках отшлифованное дубовое бревно – лобное место для наказаний. Деда схватили, положили на это бревно, связали руки и ноги. Я отлично помню его рассказ: «Двое дворовых взяли из чана длинные, упругие прутья-розги. Попробовали их прочность и, размахнувшись, с силой, с протягом, чередуясь ударяли по спине. Казалось, обычная для них процедура экзекуции им даже нравилась, и они явно старались угодить наблюдавшей с крыльца барыне. С каждым своим ударом ещё более усердствовали. Но т.к. я терпел, это ещё более раззадоривало их. С каждым ударом боль становилась всё нестерпимей, но я молчал…» Наконец, барыня, насчитав 50 ударов, приказала: «На сегодня хватит! Остальное – завтра!», повернулась и ушла в дом с чувством выполненного своего господского долга.
Меня отвязали, но из дворни никто не посмел подойти ко мне, чтобы помочь подняться. Так, не надевая на окровавленную спину рубаху, в одних подштанниках, я, шатаясь, медленно пошёл вдоль барской садовой изгороди в свою конуру. Спина вся горела. Любое движение приносило нестерпимую боль…
Весь день и ночь ваша бабка меняла примочки на горящей жаром спине. Но они лишь немного снимали боль и жар, и иногда, забываясь, я даже стонал… Утром за мной никто не пришёл, и я пролежал весь следующий день и ночь, в жару, в полузабытьи. Видимо, барыня была занята другими делами или отдыхала.
Но через день за мной пришли, чтобы закончить наказание. Барыня, в окружении своей челяди уже стояла на крыльце. С меня сорвали рубаху, снова уложили на широкое бревно, привязали…
Но в этот раз с первого удара по покрытой кровяной коркой спине я не удержался, вскрикнул. Мне показалось, что мой крик, мои стенания как-то понравились моим палачам, «котам» – как их называли. Они были очень довольны… Но потом боль как-то притупилась, а может я терял сознание, потому что, когда закончились удары, уже ничего не чувствовал, но подняться сам с бревна уже не мог. Помог мне мой друг – кузнец.
А через несколько дней, ещё не успев толком отлежаться, в нашу «конуру» пришёл староста, сказал, чтобы мы с женой оделись и шли за ним. Барыня уже ждала нас на крыльце и, чтобы слышала прислуга, сказала, показывая на меня, старосте: «Он захотел свободы, так отведи их за Крупец к Архангельскому. Там им будет свободно…» Сама же повернулась и ушла в дом. А староста, когда отводил нас, сказал: «Ну что, захотел воли? Вот будет тебе воля…»
Так дед с бабкой оказались в зарослях подлесья, ближе к поселку Архангельский. «Свободными». В руках нет ничего, на плечах сермяжка, а у жены свитка, на ногах лапти... Даже ножичек, который ему выковал в подарок кузнец, барыня не разрешила забрать. Раз выкован её крепостным, значит – это её собственность.
Голыми руками начали строить шалаш, это ведь осень была, а она всегда дождливая. Правда, через некоторое время, друг деда, кузнец тайком ночью принёс выкованный большой нож, которым можно было резать уже не только ветки, но и небольшие деревца. Этим ножом они вырезали себе миски, ложки и даже кадку для воды. Потом кузнец по-дружески выковал им и топор, с помощью которого удалось соорудить малюсенькую хибарку и сложить печку. Вот так в 1863 году началась для нашей семьи «свободная жизнь». Недаром в народе поговорка родилась – «свобода царская, доброта барская…»
Как только дед построил себе хибарку, староста стал его гонять на барщину, но уже не как крепостного, а как свободного. Сменялись поколения бар Козловых, а барщина оставалась неизменной до 1917 года. Надо было работать в помещичьем имении по пять дней в неделю в течение всего светлого дня. (Здесь Владимир Семенович, скорее всего, ошибается. Даже в XVIII-м веке барщина в центральных областях России составляла 2-4 дня в неделю, и со временем количество дней неизменно уменьшалось. После отмены крепостного права в России барщина не была ликвидирована и под названием «издольной повинности» сохранялась для временнообязанных крестьян. В 1882 с введением обязательного выкупа барщина юридически была отменена, но по существу продолжала существовать в виде отработочной системы еще долгое время, вплоть до Столыпинских реформ, которые по задумке ее автора, должны были полностью перейти на рельсы капитализма, при котором все пережитки феодализма автоматически ликвидировались» - прим.ред.)
Но барыня выделила Евтиху и земельный надел - одну десятину… (десятина – единица земельной площади, применяемая в царской России, равная примерно 1 гектару – прим.ред.) Мало того, что сам по себе надел был очень мал, так это еще был и ранее необрабатываемый участок. Заросший кустарниками, мелколесьем кусок песчаной земли… Там прежде надо было вырубать кустарник, мелколесье, выкорчевывать пни, корни, но сделать это одним топором было не под силу даже такому недюжинной силы мужику, как дед. Поэтому в помощь стал чаще приходить его друг кузнец. Но по ночам, тайно, чтобы барыня не узнала. Вместе они соорудили для обработки земли деревянную соху, сплели лукошко и прорубили в клетушке маленькой хибарки оконце, которое затянули плёнкой от бычьего пузыря. В таком виде этот «дом» простоял почти до самой войны. Когда в 1927 году мы с братом Петькой заболели корью, то чтобы мы не заразили остальных, мама положила нас в ту халупу. Бабушка тогда уже умерла, а дед жил с нами. Так вот, та хибарка метра полтора-два в ширину и чуть больше в длину даже для нас двоих была тесной. И уже тогда мы поражались, как они там все помещались?
Чтобы не замерзнуть зимой вдвоём, кое-как сшили одежонку. Ну, а лапти умели плести все, благо для этого нашлась и свайка (приспособление для плетения лаптей в виде металлического, расплющенного и изогнутого шила с деревянной рукояткой – прим.ред.)
Но в хозяйстве не было совсем ничего из живности. И только на следующий год, весной, сердобольные люди из Архангельского принесли деду несколько цыплят. Вообще, надо сказать, привычка идущих из поселка Архангельский «на деревню» Большой Крупец и обратно, заходить в халупу к Евтиху, сохранилась до самых 30-х годов XX-го века. Я это хорошо помню. И когда мне после войны приходилось бывать у родителей, то людской поток «сходить к Евтиховым» был ещё в порядке вещей.
С этих принесенных людьми пушистых жёлтых комочков начало создаваться Евтихово хозяйство. Появилась ярочка - маленький ягнёнок. Появился и верный страж Полкан, без собаки в лесу никак нельзя. Сами терпящие нужду, люди приносили семена огурцов, картошки, рассаду капусты. Кто-то из добрых людей подарил даже косу и серп. Вот только жать было нечего... Никто не мог дать на посев семян ржи, т.к. у добрых людей своих семян никогда не было.
Дед всё время обустраивал хозяйство, иногда ходил на помощь к таким же, нуждающимся крестьянам, получая за это необходимую домашнюю утварь, одежду. Изготовил он себе и крёсны – станок для тканья полотна, «ткацкий станок». Это одна из самых необходимых вещей в каждом крестьянском доме. Ведь всю одежду тогда шили из вытканного собственными руками полотна льна и конопли.
Посеянный на пустыре лён уродился. Хороший урожай проса получился на выжженном участке. И только на третий год дед вынужден был пойти на поклон к барыне и просить у неё меру зерна ржи на посев. Барыня дала ему эту меру, да ещё и предложила две меры картофеля на посадку с расчетом одной десятой при расчёте за долг. А ведь, кроме того, со всего урожая (лён, просо, огурцы, капуста, рожь, картофель), дед обязан был отдавать ей оброк в виде одной десятой части - «десятину». И это помимо тех пяти дней каждую неделю на барской усадьбе… А в страдную пору на барина приходилось работать целыми неделями, а не по пять дней, как положено. Причём «барщина» касалась абсолютно всех крестьян: мужчин и женщин, детей и стариков без определения возраста. Такие устои сохранялись в наших краях до свержения царского самодержавия в феврале 1917 года. Поэтому неудивительно, что сообщение об отречении «Николашки - дурачка», как его прозвали в народе, вызвало ликование всех слоёв населения. Даже помещики, наряженные по-праздничному, разъезжали по деревням и весело поздравляли всех с этим.
Так проходил год за годом. В семье родилось пять дочерей, но вся семья была вынуждена кормиться с этой скудной, и не пригодной для земледелия песчаной десятины. А всё потому, что землю выдавали только на лиц мужского пола. Наконец в 1884 году родился сын Семён – мой отец, и землемер отмерил две десятины, но опять-таки бросовой песчаной земли. Так что я прекрасно знаю, как жили мои дед с бабкой. Вот только не представляю, откуда у нас появилась фамилия Туров. Ведь деда поначалу все звали Евтих Козлов. То ли по фамилии барина, то ли потому что он ездил у барыни на козлах. А бабку звали Фёклой, но люди её прозвали «Турчанкой», и тоже непонятно за что. То ли за смуглое лицо с потупленным взглядом и мрачным видом, то ли за фамилию мужа. Также осталось неизвестным и то, откуда она оказалась в Почепе у того барина, который променял её за кутёнка.
Можно было бы что-то узнать по церковным книгам, ведь в царское время рождение, крещение, женитьба (венчание), смерть, непременно регистрировались в церкви священником. Но где, когда и кто крестил Евтиха неизвестно. Венчала ли их барыня с выменянной на щенка девицей, тоже никто сказать не мог. А все церковные документы поп села Малфа в 1927 году, чтобы не передавать в Малфинский сельский совет – уничтожил. Этот «святой отец», просто сжёг церковь, а сам ушёл в лес, в банду… Эта деталь тоже необходима, чтобы все знали историческую правду. Без вранья.
Я просто поражён, какие подробности вы знаете.
Понимаете, раньше-то никаких телевизоров и компьютеров не было, и люди общались между собой. Постоянно что-то рассказывали, кто, где был, что видел. И слушая рассказы деда, отца, я уже в детстве понимал, что фамильная биография у нас удивительно интересная. А прочитав «Детство Тёмы», «Рыжик», «Как закалялась сталь» Николая Островского, я решил написать родословную нашей семьи. И не только подумал, но и приступил к делу.
В 6-м классе я собрал листы в толстую тетрадь, разрисовал обложку, и начал писать. Правда, писал о том периоде, в котором я жил, т.е. о 30-х годах, а потом уже планировал перейти к истории «давно минувших дней». Но тогда мне легче было писать. Ещё свежи были в памяти рассказы самого дедушки Евтиха, были живы мои родители, все мои многочисленные родственники, да и просто знакомые, которые знали деда с бабкой ещё с молодых лет. Было много тех, у кого можно было расспросить, уточнить и многое узнать. Сейчас же по прошествии стольких лет всё изменилось не в лучшую сторону, и откладывать дальше уже невозможно. Помощников у меня уже нет, а написать надо. Потому что благодаря разным дурацким фильмам, книгам, у людей сложилось совсем неверное представление о жизни до революции. Столько вранья, столько мифов, что просто нет слов. Мол, и народ жил богато, а баре все как один говорили по-французски, были люди культурные, благородные и радели за простой народ. Вот однажды, например, мой племянник - майор ракетных войск, начал при мне восхищаться разухабистой жизнью царских офицеров, их весельем, развлечением, у которых якобы вся жизнь проходила в разгулах и сплошных балах. Так мне пришлось ему объяснить: «Во-первых, если бы ты жил в России ДО октября 1917-го, то твоя участь в жизни была бы «невыездной» из деревни, принадлежащей помещику, или, в крайнем случае, быть батраком. Но никоим образом не офицером. Ведь офицером мог быть только дворянин». А во-вторых, я ему рассказал, как мой отец служил, и какие «благородные» офицеры ему попадались. Могу и вам рассказать, если хотите.
Конечно, расскажите.
Когда началась I-я Мировая война, отца призвали в армию, хотя у него на иждивении было восемь человек: жена, пять детей и дед с бабушкой. Он попал служить в пехотный полк, который формировался в Москве.
Служба лёгкой не бывает, а тем более для 30-летнего безграмотного, ранее не служившего крестьянина. Отлично помню, как отец рассказывал: «Особенно донимал всех наш ротный командир. Сам поручик, но заставлял всех называть его не как положено - «Ваше благородие», а «Ваше сиятельство», т.к. якобы является каким-то там отпрыском княжеского рода. Даже мордобои унтер-офицеров сносились легче, чем издевательства «Его сиятельства»…
Ко всему прочему этот поручик оказался ещё и жутким картёжником, и часто проигрывал всё, до нательного белья. Проигравшись, он сидел в солдатской казарме на верхних нарах в нижнем белье, накинув на плечи чью-либо солдатскую шинель, поджав под себя калачиком ноги, но в офицерской фуражке. Её он никогда не проигрывал.
Возвратившись с полевых занятий, мы, солдаты его роты, проходили по одному, вытягивались, чеканили шаг и отдавали честь хмурому поручику в подштаниках. Иногда это длилось несколько дней, пока его товарищи по картёжной игре не соберут необходимую сумму долга и не выкупят его форму, обувь, шашку, снаряжение и даже наган. Но особенно стыдно и больно было нам, когда наш ротный приходил на занятия и сам вёл роту в казарму.
Ведя роту по окраинным улицам Москвы, где всегда гуляла разодетая публика, поручик таким изысканным матом, такими бесстыдными словами обзывал нас, что всем нам было невыносимо стыдно, и мы готовы были провалиться сквозь землю. Мы уже и старались вовсю, лезли вон из кожи, чтобы не слышать этой отвратительной ругани, беспрестанно и громогласно раздающейся на улице, заглушая неистовый стук наших сапог…
Весной 1915 года с этим поручиком мы выехали на Западный фронт. В Белоруссии, в одном из лесных уголков Полесья полк остановился на отдых. В лесу оказалось очень живописное озеро, на берегу которого стоял красивый двухэтажный дом, и «наше сиятельство» соизволило покататься на лодке. Взял троих солдат из роты, и поплыли. Озеро хоть и небольшое, но на нём были и заросли. Через некоторое время лодка возвращается обратно, но в ней только трое солдат, без поручика.
Другие офицеры стали спрашивать у солдат: «А где же господин поручик?» Солдаты, пожимая плечами, твердили одно: «Не можем знать, Ваше благородие!» Прибыло командование полка. Роту построили, вывели перед строем тех троих солдат. Стал их расспрашивать какой-то старший офицер, каждого в отдельности по несколько раз: «Ты плавал по озеру на лодке с поручиком?» – «Так точно, плавал, ваше высокоблагородие!» – «Так, где же поручик?» – «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» – «Как же ты не можешь знать? Ты же был на лодке?» – «Так точно, был, ваше высокоблагородие!» – «Но ты же приплыл?» – «Так точно, приплыл, ваше высокоблагородие!» – «А господин поручик был в лодке?» – «Так точно, был, ваше высокоблагородие!» – «Куда же он делся?» – «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» Этот допрос продлился довольно долго. В конце концов, не добившись от солдат ничего путного, нас увели, а тех троих в роте больше не видели. Что с ними стало неизвестно…»
Отец рассказывал, как со своим полком он пробирался сквозь нехоженые лесные чащи, через болота, участвовал в наступлениях… Как в Пруссии они заняли одну деревушку, там на улице стоит столб, а на нём телефон. Один снял трубку, а там девушка-диспетчер что-то говорит. Для нас, говорит, это было что-то дикое.
А осенью солдат начал косить тиф. Свалил он и отца. Но чтобы царской казне не было накладно, чтобы не тратиться на лекарства защитнику царя и отечества, ему просто выдали справку с печатью, что солдат Его Императорского Величества Туров Семён Евтихович из-за болезни списан подчистую, и может следовать восвояси.
Но оказалось, что путь от Восточной Пруссии до родного села может быть не менее опасным, чем на фронте. С котомкой за плечами он отправился домой, по неведомым дорогам, по неизведанным законам выживания. И по дороге ему пришлось просить подаяние, ведь ни довольствия не дали, ничего, добирайся, как хочешь… А ведь не в каждый дом пускают. В богатые не пускали, потому что брезговали обросшим, грязным, уже несколько месяцев не мывшимся, еле стоявшим на ногах человеком в шинели. Да и в бедных избах далеко не всегда находился приют для больного тифом, люди очень боялись заразы. Поэтому продвижение проходило очень медленно.
Но хуже всего, что его не оставляли в покое приступы, сопровождаемые потерей сознания, высокой температурой и бредом. А переносить эти приступы и горячку чаще всего приходилось на обочине дороги, а ночевать в канавах…
Отец рассказывал, что очухался однажды в одной из таких придорожных канав, а рядом с ним лежит такой же заросший, оборванный, грязный солдат. Растолкал его, расспросил, оказалось, что у него точно такая же история. Заболел тифом и его, больного и заразного, командование выбросило вон, как отработанный материал. И по дороге, уже в бреду, он увидел свернувшегося в кювете такого же солдата, и поспешил, пока не потерял еще сознание, пристроиться к нему.
Так они познакомились, разговорились и решили идти вместе. Отец ему пожаловался: «В этой деревне, собрав последние силы, я поднялся на крыльцо добротного дома, постучал в резную дверь. Вышла хозяйка, видно, что богатая, но увидев меня, начала кричать, а потом с криком: «Пошёл вон!», так пнула ногой, что я скатился с крыльца и поспешил где-нибудь укрыться, пока ещё не потерял сознание». А товарищ по несчастью ему и говорит: «Ну и чего тебя понесло в этот дом? Это же богатые! Никогда не надо стучаться в богатые дома! Там не покормят и не помогут! Надо всегда стучаться в хибарки, развалюхи, на окраине села. Бедные люди всегда помогут! И не надо нам идти по большим дорогам: там ездят богатые и зажиточные, и всегда можно от кучера кнута получить. Да и сёла на больших дорогах побогаче».
Этот совет сообразительного солдата очень пригодился отцу, потому что он брёл до родного дома почти шесть месяцев. И когда, наконец, дошёл, дома его никто не узнал… Представляешь, мама вышла на крыльцо с детьми и не узнала его! Никто не бросился в объятия этому немощному, заросшему, грязному, в изорванном одеянии, трясущемуся старцу… От обиды отец заплакал… А когда всё же разобрались и узнали, тут уже плакали все…
Стояло лето, всем нужно было заниматься полевыми работами, а отца одного оставить нельзя. Он тяжело болел, и в своём беспамятстве неизвестно что мог натворить. Ведь был случай, когда ночью он поднялся, раздул в загнетке, это такоеуглубление, карман слева в русской печи, куда хозяйка загребает из печи уголь, который хранится до следующей топки, т.к. спичек не было, а кресалом разжигать дрова долго, уголь, зажёг пучок соломы и как факелом, начал поджигать стрехи соломенной крыши дома.
Лишь по счастливой случайности мама проснулась, увидела в окно огонь, подняла всех, и выбежала к отцу, пытаясь не дать ему поджечь хату. Он сопротивлялся, потом упал в припадке, и всё кричал: «Жгите! Жгите их быстрее! Разве вы не видите, как они лазяют по повети (поветь – крыша избы – прим.ред.)? Жгите чертей!» Только чудом спаслись от пожара…
А ещё был случай, когда рано утром отец вдруг вскочил с постели, подбежал к топившейся печи, оттолкнул маму, схватил заслонку и стал одной рукой что-то бросать в горевшие дрова, а другой закрыл печь заслонкой, и рогачём прижал её. При этом кричал: «Вот я вас, чертей, всех и сожгу!» Долго его успокаивали, а он всё вырывался, и снова и снова пытался «жечь» чертей… Вот такие галлюцинации долго его преследовали, и вёл он себя неадекватно.
И только поздней осенью 1916 года отец стал выздоравливать, реже случались приступы, стал соображать немного, а уже зимой пошёл на поправку. Но болезнь эта отразилась на всей его жизни. Вот так отблагодарил царь-батюшка своего защитника за верную службу. Выбросил из армии без лечения, фактически на произвол судьбы, многие тысячи заболевших тифом солдат. Это сейчас из Николая II-го пытаются лепить благообразный образ, а тогда в народе царя называли не иначе как «Николашка – дурачок».
Долго болел отец, но постепенно пошёл на поправку. Стали рождаться новые дети. В 1918 году родился Петька. В 1919 родился ещё сын, которого поп окрестил Иваном, но он умер в двухлетнем возрасте. А я родился в 1920 году, летом. Вся семья как раз находилась на покосе, надвинулись тёмные дождевые тучи и все спешили сгрести рядки сена и сложить его в копны. Тут у мамы начались роды. Её отвели под сложенную уже копёнку, где она и разродилась.
Но вскоре услышала в свой адрес окрик свёкра: «Ну чего разлеглась там? Не видишь – тучи находят! Нечего валяться, иди сено сгребай!» И оставив меня, заливающегося в крике, она, шатаясь, взяла грабли и стала сгребать валки сена. Но полевые работы продолжались, и меня брали в поле под опеку моей сестры Маруси, которая нянчила меня. Но на сенокосе, в поле, я заливался криком и меня никак не могли успокоить. Тогда, в ущерб работе, Марусю отсылали со мной домой в избу, где я сразу же замолкал. Так ко мне «прилипло» прозвище, презрительно брошенное дедом Евтихом – «барин». Ведь я лишал семью на работах в поле пары Марусиных рук.
В конце 1922 года родился ещё сын, но он не прожил и года, умер. В 1927 году родился сын Михаил, а в 1929-м Серафим. Так что всего мама родила 12 детей, но трое умерло ещё в детстве.
В работе отцу помогали старшие сыновья, и постепенно хозяйство стало крепнуть, отстраиваться. В 1924 году нам с помощью родственников и друзей поставили новую избу, рядом с той старой халупой, построенной ещё дедом Евтихом. Построили ригу-овен для сушки и обмолота ржи, обнесли двор забором. Завели лошадь, овец, свиней. Появились подводы, сани и даже выездной «возок».
Вся семья неустанно трудилась, но жили мы совсем непросто. Мы, дети, как только сходил снег, по целым дням проводили в лесу, собирали берёзовый сок, щавель, травы, ягоды для питания всей семьи. Собирали грибы для заготовки и разные травы для сдачи их в аптеку, чтобы иметь деньги на покупку соли, спичек, а если останутся, то и на керосин для лампы. Но лампу зажигали только по большим праздникам или в случае приезда гостей. А так, обычно с наступлением темноты избу освещали лучиной.
При свете лучины выполнялись все работы: и пряли, и ткали, и крупу толкли, чистили картошку, лапти плели, ремонтировали упряжь, и шили для всех рубахи, штаны да и всю одежду. У нас никогда ничего не было из купленного материала. В нашей хате стояло три прялки. На них работали старшая сестра Таня, Аня – средняя, и Полина - жена старшего брата Алексея. Они втроём пряли нить, а уже мать ткала полотно. И для каждой Петька разносил лучины.
При лучине готовили мы уроки и учили всех своих домочадцев грамоте. При лучине читали газеты, которых, мне казалось, было очень много, и всегда свежих. Дело в том, что наша изба стояла между Большим Крупцом и Архангельским, и все проходящие люди заходили к нам. Чтобы обогреться, напиться воды. В том числе раза два в неделю к нам вечером непременно заходил молодой почтальон, который нёс из райцентра Выгоничи большую сумку газет, журналов. Но до Крупца и Малфы ему было далеко, то он останавливался на ночлег у нас. А т.к. у нас в семье грамотных не было, то отец просил его почитать, о чём пишут газеты и журналы,
А в них писали о том, что крестьянину-единоличнику никогда не справиться с развитием сельского хозяйства, и он не сможет прокормить не только страну, но даже себя. Отец, перебивая почтальона, кричал: «Вот-вот! Об этом ещё Ленин говорил, а тут индустриализация! Но Ленин ходил в ботинках, и всё делал с осторожностью, а Сталин в сапогах, ему всё нипочем, шагает напролом!» Это он так отзывался про разные крупные стройки: Беломорканала, Запорожской ГЭС и прочих, развернувшихся тогда по всей стране. По сути своей безграмотный мужик он многого не мог понять и принять.
Когда же я с Петькой пошёл в школу, то уже мне пришлось читать газеты и журналы. Отец сидел при входе и ремонтировал сбрую для лошадей, наши лапти, и чаще всего он заставлял меня читать газеты вслух. Сам-то он грамоты не знал, в армии его еле-еле научили по слогам читать и расписываться. А я ученик 2-го класса, ещё плохо читал, по слогам, но отец просмотрит газеты, журналы, и указывает мне, что его интересует. Особенно он любил статьи о том, что, когда и как лучше сеять, чтобы получить хороший урожай, о полезности гороха, сои и других растений. Ткнёт пальцем в статью: «Читай! Да громче, громче читай, чтобы всем было слышно!» А значит, мне надо перекричать шум трёх прялок, стук кросен, громкие удары толкача в ступе. Крупу-то на кашу толкли каждый день, и каждый день толкли зерно конопли, как приправу к пище, а летом к тюре.
Поэтому мы с Петькой заготавливали лучину в большом объеме. По вечерам щипали её из сырых чурбачков, а на ночь мама клала её в печь, где она к утру высыхала. Помню, я за заготовкой лучины или за чисткой картошки, которой надо было ведра два, уже полузаснувший падал. Мама меня поднимала с пола, а я, положив голову ей на плечо, бормотал: «Не хочу спать, не буду спать», и тут же засыпал. И это повторялось каждый день. Утром ведь будили затемно. Летом надо было скот отгонять пастуху, а зимой готовить и давать скотине пойло, корм, чистить за скотом, завтракать и вместе со взрослыми, что-то делать. Вот так мы жили…
Но хуже всего было то, что обработка земли была примитивная. Из года в год сеяли то ли рожь, то ли ячмень, земля истощалась, а об удобрениях вообще никто не мог и мечтать. Да о них, кроме навоза, крестьяне и не знали. Иногда мы собирали ржи меньше, чем посеяли, это был настоящий крах крестьянскому хозяйству… Тогда мы голодали, женщины от безысходности рыдали и рвали на себе волосы, а некоторые мужики уходили в лес, в банду.
Но и в обычные годы чистый хлеб, т.е. без примеси мякины, мы ели только после уборки и обмолота. А уже с нового года начинали добавлять мякину, картошку. (Мякина (полова) - отброс, получающийся при молотьбе хозяйственных растений. Состоит из мелких, легкоопадающих частей колосовых и бобовых растений, вроде обломков колосьев, цветочных и кроющих плёнок колосков, стручьев, обрывков, стеблей и пр. - https://ru.wikipedia.org ) Мы с Петькой каждый день толкли в ступе гречневую шелуху. Это было невыносимо…
Более состоятельные, зажиточные крестьяне, ещё до холодов ездили на Украину закупать зерно. Чтобы выходило дешевле они кооперировались и брали целый двухосный вагон. Но у нас таких средств не было. Однажды, правда, отец скопил заработанные на лесозаготовках и лесовывозе копейки, там он зарабатывал по 50 копеек в неделю, и тоже поехал на Украину. И привез оттуда … неполный мешок зерна… И не только мы, почти все так мучились.
Дошло до того, что отчаявшись от такой беспросветной жизни, деревенские мужики в 1927 году на сходе решили избрать группу ходоков, чтобы они поехали в Сибирь, посмотреть, куда мы можем переселиться. Выбрали троих, в том числе и моего отца.
На деньги, собранные всей деревней, они около двух месяцев ездили по лесной Сибири и необжитому Амуру, по рекам Зея, Бурея. Много хороших мест повидали на своем пути, люди там жили лучше, но и бедноты везде хватало. И отношение к приехавшим с «Росеи» лапотникам было неприветливое, а кое-где и враждебное. Разбогатевшие крестьяне даже разговаривать с ними не хотели: «У нас и для самих земли нет!»
А бедняки им объяснили: «Земля-то вся распределена, и вам нужно будет с нуля начинать. А для этого нужны годы и деньги!» Тем более, наши мужики поразились, что там у всех лемеха плугов железные, и бороны с железными клёцами. В итоге они вернулись, и на сходе рассказали: «Если ехать, то надо иметь деньги. А у нас их нет! Там земли тучные, тяжёлые, для них нужны железные бороны, и соваться туда с нашими сохами, плугами с деревянными лемехами и деревянными боронами с привязанными деревяшками-клёцами – вообще бессмысленно! Сразу попадём в батраки, и земли своей не видать!» В итоге сход решил - останемся, куда деваться…
Скажу тебе больше. Чтобы не умереть с голоду семье, мать по весне посылала нас с Петькой в другие посёлки и хутора «по куски», т.е. побираться. Петька постарше меня на два года и он, стыдясь сам заходить к людям в избы, посылал меня, а сам стоял, прячясь на улице, за хатой. А в маленьких хуторах он вообще ожидал меня в кустах. Мне тоже было очень стыдно, но я вынужден был идти и просить подаяние, чтобы огрызками и кусочками хлеба поддерживать семью, не дать ей умереть. На всю жизнь мне запомнился один случай.
Чтобы как-то поправить дела с пропитанием, кто-то предложил родителям откормить хряка по методу откармливания гусей на Украине. В отдельную маленькую пуню (место для содержания свиней) поместили хряка, который мог только лежать и обильно кормиться, в результате он быстро полнел и потом, по мере его роста, увеличивалась его клетка, а он уже не в состоянии был становиться на ноги. Все мы с надеждой и радостью заглядывали на эту грузную, располневшую, почти полностью заполнившую своей тушей пуню, с заплывшими глазками. Верили, что продажа её спасет семью от очередного голода. А тут ещё и срок призыва подходил для старшего брата Алексея, а он как раз познакомился с красивой белокурой девушкой и настаивал жениться на этой хохотушке перед уходом в армию. Так что предстояли расходы и на свадьбу.
Наконец настал день, когда повезли продавать хряка. Отец взял меня с собой. До сих пор очень ясно помню, как вокруг суетилась, шумела, пестрела красочными китайскими шарами ярмарка. А в то время у детей пошла мода на пугачи, которые стреляли пробками, и я мечтал, что отец купит мне такой же. Помню, отец, пошарив что-то в соломе на подводе, ответил: «Погоди, будет и тебе пугач!» и быстро ушёл в ярмарочную толпу. А я остался сидеть на подводе, наблюдая, как китайцы виртуозно, красиво раскрывали и так же мгновенно превращали свои красочные огромные шары, круги в обыкновенные палочки.
Наконец отец вернулся с тремя мужиками, вместе они с трудом перегрузили хряка с нашей подводы на свою. Я снова напомнил отцу про пугач, на что он в спешке ответил: «Потом», и ушёл за той подводой. Мне показалось, что его не было очень долго. Наконец он подошёл, но какой-то мрачный и, ни слова не говоря, начал отвязывать лошадь. Видя, что отец собирается уезжать, не купив мне пугач, я снова напомнил ему: «Тять, а пугач?» На что отец как-то всхлипнул, его плечи затряслись и он, почти зарыдав, рванул вожжи, и лошадь помчала нас с ярмарки. Мы выехали за Жирятино, въехали в лес, а спина отца всё тряслась. Он плакал навзрыд… Я молча сидел позади него, не понимая, что же произошло.
Заехали в открытые ворота, а во дворе уже собралась вся многочисленная семья. Отец бросил вожжи и молча, ссутулившись, и как мне показалось, рыдая, пошёл на сеновал. Мать стояла на крыльце выше всех и молчала. Первым пришёл в себя Алексей, выкрикнув: «Всё ясно, подарков не будет! Пошли есть сало!», он зашёл в дом.
Вся семья с нетерпением ждала нашего возвращения и не обедала. Мать, молча стала вытаскивать из печи чугунки, накрывать с помощью сестёр на стол. Отца всё не было… Все ели молча, только Алексей изредка бросал какие-то колкие, обидные реплики. Может после и обсуждали, что же случилось на ярмарке, только мне об этом никто ничего не говорил. Но насколько я понял, при таком способе откорма в свинье получается совсем мало мяса, одно сало. Так рухнули надежды на шикарную свадьбу, и не осталось никаких надежд на безголодную жизнь в предстоящую зиму и весну…
Поэтому когда мои старшие братья Алексей и Василийотслужили срочную службу, и им предложили поехать переселенцами на Кубань, то Василий согласился. Тем более, и его двоюродный брат тоже согласился, и семья нашего дяди. Собрали вещи, погрузились в двухосный вагон и поехали.
Помню, когда на станции Пиршино в Брянской области наш вагон уже подцепили к эшелону, мимо проходила группа людей. И кто-то сказал: «О, Михаил Иванович Калинин! Калинин идёт…» Действительно, всесоюзный староста шёл вдоль эшелона и обменивался с людьми репликами. Это был 1930-й год.
Привезли нас на станцию Протока, это рядом со станицей Славинская. Там нас встретил сам председатель коммуны – Петр Иванович Кулинич. Колоритный мужик, бывший командир эскадрона в 1-й Конной Армии. Всё время на тачанке ездил, линейка называется. Погрузили свой скарб, и привёз нас в Славинскую (ныне город Славянск-на-Кубани – прим.ред.) Заводит в хату, до этого в ней жил какой-то священник, которого выселили. Она абсолютно пустая, только кинжал нашли потом на печке. Сама хата саманная, пол земляной - долилка. Тут мать заплакала: «Что ж такое?..» Отец начал её успокаивать. Но тут нам дали лампу, и принесли поесть – большую такую кастрюлю и там клёцки такие. Мы обрадовались, так вкусно, жирно. Кулинич на прощание сказал: «Если что нужно, я живу через дорогу!» Посмотрел на нас, детей, и говорит: «А у меня все три дочки…»
Утром приходит: «Пойдёмте, покажу, куда вам ходить за пищей. Вы же не готовили ничего». И мы с Петькой и старшей сестрой пошли за ним. Приходим в клуб, там, оказывается, при этой коммуне «имени 1-й Конной Армии» организовали что-то вроде столовой, и туда ходили не только переселенцы, но и некоторые местные жители. Особенно молодые, которые не хотели готовить. И мы с Петькой каждое утро ходили туда за кастрюлями с едой. Для нас это было в радость. Я так отродясь не ел: мясной борщ или суп с клецками, пшенная, перловая, реже гречневая каша, овощи, фрукты. И каждый день нам на семью выдавали две-три буханки хлеба. А мы уже и забыли, что это такое чистый хлеб… Но он белый, пышный, а у нас ведь только ржаной пекли, и отец всё ворчал: «Ну что это за хлеб?» А мы были очень довольные.
Но надо сказать, что местные казаки, враги советской власти, убивали приезжих, вырезали целыми семьями… А Кулинич каждый день к нам приходил: «Что вам нужно? Чем помочь?» Так он предупредил: «Закрывайтесь, и двери, и окна, и никому, особенно по ночам, не открывайте!» Поэтому на ночь мы закрывали ставни, и изнутри вставляли прогоныч, чтобы окно снаружи нельзя было открыть.
А вечерами играли в карты. У нас ведь и лампа уже появилась, и керосин. И вот однажды, когда играли в карты, вдруг начали стучать в дверь. Мы не открывали. Потом слышим, ходят-ходят кругом хаты, тут мы уже по-настоящему испугались. И когда они зашли с другой стороны, старшая сестра Таня сказала: «Когда уйдут за дом, все выбегаем и бежим к Кулиничу!» Он же напротив жил. И мы как выскочили, бежим, орём… Пётр Иванович в подштанниках выскочил с револьвером: «Что такое?» Мы рассказали. Вот такой случай…
А однажды нас хотели отравить. Как-то в школе Петьку что-то учительница Мария Станиславовна задержала, и я вернулся первым. Да, а мы готовили на печке, которая стояла не в доме, а на улице. Вижу, к матери подходят двое молодых мужчин. Причём, зашли они не с улицы, а из сада. Попросили: «Хозяйка, дай попить!» Мама отошла, принесла воды, они попили и ушли. Я подхожу, она мне говорит: «Садись есть!» Тут же за столик сел, начал есть. Потом пришёл Петька, мама ему тоже суп налила. А он вдруг спрашивает: «Мама, а что это такое?» Она посмотрела, какие-то квадратики: «Нет, я ничего такого не клала». Хорошо, тут Кулинич домой на обед приехал. Кричит через дорогу: «Ну как дела?» Мама ему отвечает: «Что-то непонятное. Двое мужчин было, и что-то в кастрюлю нам бросили». Он сразу прибежал, оказывается, это мышьяк для крыс… А несколько семей, в том числе и одна из нашей Брянской области, были вырезаны… Но нас каждый день навещали и Кулинич, и один бывший партизан, награждённый орденом «Красного Знамени» и две партизанки. Все они ходили с наганами.
Но где-то через год мы переехали в станицу Петровскую, это уже Черноерковский район. Там только организовался колхоз, и моего брата Васю туда направили секретарём комсомольской организации. И мы за ним переехали. Там уже колхоз довольно-таки хорошо работал. Вот так мы в станице Петровской и обосновались. Окончил там и семь классов, и девять. Со школой у меня получилось так.
В 25-м году у нас в Крупце в бывшей барской усадьбе открыли первую школу. А учителем мужики на своём деревенском сходе назначили Максима Ионовича. Это был молодой парень, сильно хромавший на одну ногу, проучившийся в детстве два или три года у деревенского священника, но он единственный на всю округу считался грамотным. Петьке как раз семь лет исполнилось, и он пошёл учиться, а вместе с ним увязался и я. Зашли в класс, учитель записал Петьку. Потом меня увидел: «Это ещё кто такой?» Но выгонять одного пятилетнего ребенка не стал, мы ведь жили от школы за три с половиной километра, в лесу. Так я остался и занимался вместе со всеми.
На следующий день брат лапти надевает, и я с ним. Мать воспротивилась: «А ты куда?» - «В школу!» - «В какую школу? Перестань!» Я в слёзы… Но меня поддержала старшая сестра Таня: «Мам, да пускай идёт!» Так я увязался за Петькой, и мы с ним учились за одной партой вплоть до 5-го класса включительно.
Но в Славинской я заболел малярией. Там в то время «трясучкой» дети почти поголовно болели, особенно приезжие. Какие-то комары заразу разносили. И два года я просидел в 5-м классе, потому что приступы случались через день, и очень много пропустил. Моё сознание было затуманено, иногда случались галлюцинации, и я ничего не понимал, что учительница говорит, о чём… Хотя до этого учился отлично. Просто учительница там такая старенькая уже, в пенсне, но с такой душевной добротой нас приняла, что учиться абы как я не мог. У неё я всегда учился только на «отлично», и начальную школу закончил с похвальной грамотой.
И когда в середине учебного года мы приехали в Петровскую, мать повела меня в школу. На большой перемене Клавдия Васильевна - наш классный руководитель и замечательный учитель русского языка и литературы, смотрит мой табель, а у меня там не то, что хороших, никаких оценок нет. Прочерк, прочерк, прочерк, потому что очень много пропустил. Стою понурившись, красный от стыда, стыдно так, а она успокаивает: «Ничего! Ничего страшного!» Отвела меня в класс, посадила на свободную последнюю парту.
Когда прозвенел звонок заходит небольшого роста, худощавый мужчина, все встали. Он провёл перекличку, и только потом увидел меня: «А это кто у нас?» - «Это новенький». – «А чего он в журнале не записан?» – «Так он только пришёл». Оказалось, это был Николай Иванович – директор школы, и очень добрый ко всем человек.
Начался урок математики, он рассказал тему урока, написал на доске пример и, обратившись к классу, спросил: «Кто сможет решить?» Класс молчал. Он вторично обратился к классу, но в ответ – тишина. Я робко поднял руку. Николай Иванович даже с какой-то радостью воскликнул: «А, новенький! Ну, иди к доске!» Но видимо по учебной программе эта школа сильно отставала, потому что я, столько пропустивший, сквозь туман в своей голове, всё-таки что-то про это слышал в прежней школе. И я этот пример решил! Обращаясь к классу, Николай Иванович сказал: «Вот видите, как надо учиться? Он первый день у нас, а уже себя показал!» Поворачивается ко мне: «Повтори свою фамилию, я запишу в журнал, а то кому мне ставить оценку? Садись, «отлично!» Боже мой, я на седьмом небе от счастья был… Вот этот первый урок, вернее его результат, во многом предрешил мою учёбу в этой школе. У меня сразу совсем другое ощущение, значит, я могу! Такой заряд уверенности получил, словно крылья за спиной выросли.
Также хорошо ко мне относился и наш замечательный учитель истории - Дмитрий Николаевич. Бывший командир эскадрона в 1-й Конной Армии Будённого он и уроки проводил по-военному строго, чётко выговаривая каждое слово. Но так доходчиво и интересно всё объяснял, что стал образцом для подражания всем нам.
С большой теплотой вспоминаю и Веру Ивановну - учительницу немецкого языка. Она была добра, требовательна, и тоже спасала меня от дурных мыслей. Со мной же там целая история приключилась.
Когда мы только переехали в Славинскую, там на площади возле школы стоял храм. И нам местные всё время говорят: «Ветиля! Ветиля!» Я не пойму никак, спрашиваю: «Что это такое?» Они так на меня смотрят… Там же до этого всё преподавание велось на украинском языке. А это они рассказывали, откуда колокола сбрасывали. Оказывается, колокола они сбрасывали не по приказу. Когда-то раньше станичники собрались, поехали в Турцию и привезли оттуда золотые вещи для храма, наряды священнику, и цепи, чтобы в храме повесить люстру. Какую-то вазу золотую для причащения. Но в начале 30-х годов этот поп снял эти золотые цепи, эту вазу, и всё убрал. Казаки возмутились, а он не отдаёт. Они его чуть не растерзали… Его обвинили, милиция арестовала, а кто-то из районного руководства посоветовал: «Да закройте вы эту церковь! Зачем она вам нужна?» И жители её сами и закрыли.
Когда мы приехали, окна уже выбиты, решётки сняты, и мы с Петькой решили залезть туда, посмотреть. В одну лунную ночь полезли, а там церковные книги. Большие, толстенные, в медных окладах, с цветными рисунками. А иконы, какие красивые… Большая Богородица на стекле нарисована. Мы взяли три книги, еле-еле дотащили к себе, связали, и положили в сарай. Прикрыли соломой, чтобы мать с отцом не увидели.
Потом я стал пробовать их читать, а они же на старославянском, не могу… Как-то мать увидела: «Что это такое? Ты чем занимаешься?» Я рассказал. Она ушла по своим делам, а я остался один. Тут приходит сосед – казак, вроде Петром звали. Посмотрел: «Ты чего делаешь?» - «Да вот, читаю, но не получается…» – «Ничего, я тебя научу!», и стал приходить по вечерам, учить меня. Через какое-то время я уже мог читать на старославянском, да так увлёкся этим чтением, что начал верить. Поверил, что Бог есть… Перед сном дерюгой накрываюсь, чтобы никто не видел, перекрещусь. Даже больше скажу. Если бы мне тогда кто-то сказал, что бога нет, я бы покончил жизнь самоубийством. Это совершенно точно!
И когда мы переехали в Петровскую, я продолжил чтение этих книг. Мне было очень интересно. И вот в один из дней, уже на закате, читаю одну из этих книг. Мать занимается хозяйством, а Петька чего-то в школе задержался, я один сижу. Потом решил куда-то пойти. Только открываю дверь из хаты, а там стоит ангел в белом, крыльями помахивает, и говорит мне: «Тебе жить до двадцати пяти лет…» Я как хлопнул дверью, заскочил в хату, мать увидела, что я в таком состоянии: «Володька, что с тобой?» А я ничего не могу сказать. Абсолютно…
Об этом она рассказала старшей сестре, а та видимо рассказала классной руководительнице. А Клавдия Васильевна была очень опытная, ещё с царских времен преподавала. И через несколько дней она мне говорит: «Володя, зайди ко мне после уроков!» Захожу, она и говорит: «Вот что, ты хорошо декламируешь, выучи вот это! Потом в классе прочитаешь», и даёт мне стихотворение Горького «Буревестник». А когда срок подошёл, она говорит: «Меня завтра не будет, так что без меня прочтёшь».
После этого Клавдия Васильевна стала часто приглашать к себе, подготовиться к читке. Потому что в школе ежемесячно проводились вечера. Кто станцует, кто песни поёт, а я всегда читал одно-два стихотворения.
А муж её - учитель истории, которого мы все обожали, заходит, когда мы с Клавдией Васильевной занимаемся, и начинает рассказывать какие-то истории про македонцев, про других, но про бога никогда ни слова. И я думаю, как же так, если бог всезнающий, всеведающий, то, как же он допустил до этой вот революции? Значит, он не всё знает? Зачем же он устроил Содом и Гоморру? Зачем он потоп допустил? А зачем Ною пришлось набирать каждой твари по паре? Значит он не всеведающий? А зачем он посадил древо познания, если нельзя было вкушать плоды с него? Если он всеведающий, то должен был понимать, что Ева пойдёт на это. Вот тут я призадумался и пошли сомнения…
Потом учительница немецкого языка попросила: «Володька, зайди-ка сегодня к моей младшей сестре, у неё что-то с математикой не получается». Я думаю: «Так и у меня тоже с математикой не особо… Другое дело литература, история», но стал с ней заниматься. И это при том, что я по горло был занят домашними делами. Много времени отнимали полевые работы, а после занятий в школе полдня пас 89 коров своей колхозной бригады.
Лишь много позже я понял, что таким образом учителя меня специально отвлекали от этих церковных книг. Специально нагружали, и тем, и этим, и в драмкружок меня записали, лишь бы у меня не оставалось времени на посторонние мысли. Я всё время был занят, занят, занят… Всю жизнь я благодарен этим честным и добрым людям. За их мудрое, тактичное и умелое воспитание.
А сами родители у вас набожные были? Допустим, церковные праздники в семье отмечали?
Конечно, отмечали. Праздник Пасхи, например, мне запомнился одним из самых ярких, радостных праздников. Но это и неудивительно, ведь его отмечали, когда уже наступала весна, таял снег, на подсохших полянах и лужайках можно было поиграть с ребятами в чехарду, померяться крепостью своих пасхальных яиц, побегать, почувствовать нежное тепло весеннего солнца. И самое главное, можно было ни о чем не думать и быть абсолютно свободным от любых повседневных, нудных и трудных обязанностей по хозяйству, которых у каждого ребенка было очень много. Но расскажу вам вполне показательный случай.
Году, наверное, в 23-м, перед Пасхой, в субботу, рано утром, еще до рассвета, мама разбудила нас: Петьку, Марусю и меня. Заставила умыться, подала каждому чистые рубахи, штаны, новые лапти, онучи и велела переодеваться. А отца начала упрашивать дать лошадь, чтобы отвезти нас на причастие в церковь. До неё от нас было четыре километра. Но отец отказал: «Не дам коня на разные там безделушки! Пусть хоть сегодня отдохнут». Сколько не просила мать, но он стоял на своём: «Пусть лошади хоть один день отдохнут! А исповедовать и причастить и я могу не хуже твоего попа». Как ни умоляла, ни плакала мать, отец подводы так и не дал.
Тогда мать разулась и нам велела. Онучи и лапти повесили на шею, штанишки закатали, и гуськом за мамой, тронулись в дальний путь. По дороге идти было грязно. Ещё много лежало на луге нерастаявшего снега, стояли большие лужи, которые тоже приходилось обходить. Через особо грязные участки и большие лужи меня, как самого маленького, мама переносила сама. Так мы пришли в Малфу.
Напротив церкви, через дорогу жила старшая сестра отца. Зашли к ней в избу, помыли ноги в лохани, обулись. Но выйдя на улицу матери опять пришлось выбирать места, по которым можно пройти до церкви, не особенно испачкав лапти. Через самые грязные места мама переносила сначала меня, потом Марусю, и Петьку, который через некоторые лужи мог перешагивать и сам. Перебравшись до церковной ограды, мама перекрестилась на церковь, осмотрела нас, и предупредила, что истратить пять копеек мы можем только после причастия и богослужения. И показала нам продавца, стоявшего за лотком с конфетами, пряниками и другой мелочью.
Этого продавца я узнал. Это был старьёвщик Лазарь Моисеевич, который в своих поездках по деревням нашей округи почти каждую неделю ночевал у нас. Спал на полу вместе с нами, а утром едет в свою Малфу. Кстати, в своё время мой отец спас его. Когда в Гражданскую по стране прокатились еврейские погромы, они с Украины дотянулись и до нас. В то время он со своей семьёй ночевал в нашей хате, а днём уходили в шалашик. В последний раз я его видел в Брянске уже после войны. Старший брат меня повёл: «Сейчас мы встретимся со старым знакомым!» Оказался этот Лазарь Моисеевич. Постарел уже, конечно.
В общем, мама завела нас в церковь, где уже шло богослужение. Поставила нас вперёд, а сама встала ближе к правой стороне алтаря, где стояли дети со своими мамами. А с левой стороны стояли мужчины.
Богослужение мне казалось нудным, заунывным пением, абсолютно непонятным и очень долгим. Мы, дети, пытались переговариваться, вертеться, но мама одёргиванием, шлепками, а иногда и подзатыльниками пыталась нас удерживать, чтобы мы стояли тихо. Сама она, как и другие женщины, крестилась, что-то шептала. Помню, что я, как самый маленький, больше уже не мог выдержать, т.к. мне захотелось «по-маленькому». Мама, наклонившись ко мне, тихо прошептала: «Зайдёшь за церковь, а потом сразу возвращайся. А то скоро начнётся исповедь».
Выйдя из церкви и проходя мимо Лазаря Моисеевича, остановился у его лотка. Он узнал меня, поздоровался и, узнав, зачем я вышел из церкви, указал мне дорогу.
Возвращаясь в церковь и, проходя мимо лотка Лазаря Моисеевича, я уже просто не мог, не в силах был не остановиться перед невиданными мной сладостями, не соблазниться хотя бы пряником. Забыв о запрете мамы, ничего не есть до причастия, я переминался с ноги на ногу перед лотком под взглядом стоящего напротив Лазаря Моисеевича. В конце концов, он спросил меня: «Ну, что бы ты хотел взять?» Я пальчиком указал на лежавшие пряники и достал из кармана портков пятак, который дала мне мама.
Получив от Лазаря Моисеевича пряник, я тут же с жадностью съел его. Это была такая вкуснятина, которой я ни разу не пробовал! Пряники действительно были вкусные, тем более мы с вечера ничего не ели. Ведь по религиозному обычаю перед исповедью и причащением кушать совсем нельзя. Но я с ужасом вспомнил об этом, лишь когда получал две копейки сдачи. Я же ещё не причащался!!! Я согрешил! И сейчас поп об этом узнает! Что же со мной будет?..
Вернувшись в церковь и протолкавшись к матери, я тихо и спокойно стал слушать молебны, завывания. Наконец началось исповедование, на которое наша мама постаралась протолкнуть нас в числе одних из первых. И первым на клирос она подняла меня.
Я сделал несколько своих шажков до священника так, будто шёл на казнь. Ведь сейчас откроется мой страшный грех, который Бог никогда не простит! И вот сейчас, сейчас поп узнает о моём грехе… Поп заставил меня наклониться, накрыл мою голову и плечи своим фартуком и начал исповедовать меня в моих грехах:
- Брал ли ты что-либо без спроса родителей?
- Нет, - ответил я.
Поп поправил меня: «Говори, «грешен, батюшка». Разорял ли ты гнёзда птиц божьих?
- Нет, - снова ответил я.
Поп уже строже потребовал: «Говори «грешен, батюшка». И снова: «Лазал ли ты в огороды к соседям?»
А какие у нас соседи, если наш двор находится далеко от деревни, почти в лесу. И я ответил: «Нет!» Тут он как стукнет меня кулаком или крестом по накрытой фартуком голове: «Говори «грешен, батюшка!»
Но рыдая, и заливаясь слезами, я уже ничего не мог говорить. Поп ещё что-то бормотал, потом снял свой фартук, заставил разогнуться и открыть рот. Продолжая плакать, заливаясь слезами и соплями, на грубое, злое требование попа открыть рот, я успел только приоткрыть, как последовал его грозный крик: «Шире!», и втолкнул мне маленькую металлическую ложечку. Да с такой силой, что содрал мне кожу с нёба. Было больно, коснувшись рукой своей губы, я увидел кровь.
Поднявшись с Марусей на клирос, мама забрала меня, начала успокаивать. Уткнувшись лицом в её колени, я испачкал кровью мамин фартук, который она была вынуждена снять, что по обычаю тех времён, считалось неприличным. Но тут я вспомнил о своём «страшном грехе», о котором поп не узнал, а значит и Бог меня не накажет, и сразу упокоился.
Домой мы вернулись далеко за полдень. Отец со старшим братьями к этому времени уже вернулись с полевых работ, и мы всей семьёй сели за стол. Но жевать пищу, даже пить воду мне, было больно из-за ободранного нёба.
Назавтра, ещё до рассвета, мама разбудила Петьку, который должен был отогнать корову пастуху и нас с Марусей. Отец уже привычно возился со своей лошадиной сбруей, а старшие братья Алексей и Василий, и сёстры Таня и Аня вернулись из церкви, в которую они носили на Всеношную освещать пасху (куличи), яйца и прочие скоромные продукты. Слез с печи и дед Евтих.
В хате было шумно и я до сих пор не могу себе представить, как отцу с матерью удавалось управляться с такой оравой, всех обуть, одеть, да и просто разместить всех в одной хате. Наша бабка жила в своей старой двухметровой хибарке, и в эту новую хату даже не заходила.
Наконец, весь скот был накормлен, коровы отогнаны к пастуху, распакованы и расставлены освещённые продукты, немного угомонились старшие братья и сёстры, рассказывающие о своих впечатлениях о прошедшей Всеношной. Прежде чем сесть за праздничный пасхальный стол, мать велела Алексею зажечь лампаду, которая висела перед иконой в красном углу и пригласила всех, стать на колени и помолиться. Нас, малышей, мать поставила на колени впереди себя. Молились ли старшие братья и сёстры, я не знаю, не видел их. А отец, перекрестившись, ходил по хате, что-то поправлял.
Нам казалось, что молитва мамы длится очень долго и Маруся начала шалить, ёрзать, я тоже никак не мог дождаться конца этого моления и вместе с Петькой начал шалить. Не прерывая молитвы, мать награждала нас затрещинами, подзатыльниками. Наконец, молитва закончилась. Отец ухмылялся, и мы все сели за стол.
Пасхальный стол! Нам казалось, всего было так много, что мы не знали с чего начинать. Наши глазёнки бегали по столу с яствами, мы даже позволяли себе высказываться, даже кое-что брать… и отцовская ложка ни разу не коснулась наших лбов.
Мать начала руководить процессом еды, а нам, малышам, подсказывать, что из еды надо брать и сама клала перед нами на стол еду. Особенно нам понравилась паска. После этого торжественного пасхального застолья каждому малышу выдали по три крашеных яйца.
На следующий день все старшие братья и сёстры ушли на Крупец гулять, мать управлялась по хозяйству у своей печи. Мы с Марусей сидели на лавочке, зашедший в хату за упряжью отец, собирался ехать на работу в поле, а брат Петька работал на скотном дворе. В это время к нашему дому подъехала подвода, и в хату вошёл поп. Перекрестившись на икону, он похристосовался и весёлым бодрым голосом спросил у отца: «Куда это ты, Семён, собираешься?» На что, продолжая собирать сбрую, отец с неудовольствием ответил: «Куда, знамо куда! В поле, весна уже, работать надо!» На это поп воскликнул: «Семён! Да на тебе креста нема, что ли? Всего второй день Пасхи, а ты работать. Грех ведь!» Отец сгоряча выкрикнул: «А этих, - показывая на нас, - что, ты будешь кормить, что ли?»
В это время в хату вошёл Петька, но увидев в хате попа, растерялся. А поп продолжает: «Вот и сын у тебя нехристь. Не только не подошел под благословение к батюшке, а и картуз даже не снял с головы». Петька рывком стащил с головы фуражку и не мог ничего сказать.
Поп снова, обращаясь к отцу, сказал, что он приехал собирать пожертвование «на храм божий»: «… и ты, Семён, тоже должен дать на храм из своего хозяйства!» На что отец сразу же ответил, что ничего он ему не даст. Поп продолжал настаивать. Тут отец не сдержался, почти закричал: «Разве яйца, крупы и сало нужны храму Божьему?! Это надо тебе! Но у тебя всего этого и так полно с избытком! Я же видел, когда ремонт делали, сколько у тебя всего этого в подвале! Ты же ещё то не пожрал! А у меня и десятой доли той нет, и упрекаешь меня, что я еду работать!», и всё в таком духе… Но поп настаивал на своём. Мать рыдала, потом не выдержала, подошла к отцу, стала умолять: «Семён, ну у нас осталось там, в кубле, несколько кусочков сала, отдай его!» Отец ещё более рассердился, оттолкнул мать: «Ты с ума сошла! Пахота, посевная, а чем ты будешь детей кормить?! Ничего я ему не дам! Он даже в пост жрал мясо! Я же видел!» Мать убежала за печку на кровать, а поп, в конце концов, сказал: «Ладно, Семён! Богоугодное дело никогда делать не грех. Поезжай и работай с Богом!», и вышел из хаты…
Но этими поборами он одолевал каждую осень и весну, и отвязаться от него было невозможно
Это тот самый поп, про которого вы уже упоминали?
Он самый… В 1927 году, чтобы ничего не досталось советской власти, он просто сжёг церковь со всей документацией, а сам ушёл в лес, в банду… Его семья с детьми ещё долго жила в Малфе, но потом куда-то уехала. Вот такая была жизнь, такие люди…
Почти все ветераны мне рассказывали, что ближе к войне чувствовалось, что жизнь стала заметно лучше.
Ну, в материальном плане жизнь улучшилась, действительно, ближе к войне. Но ведь ещё до этого советская власть принесла большие изменения в нашу жизнь, и люди это понимали. Взять ту же ликвидацию безграмотности, например. Ведь у нас в округе почти все были безграмотные, и когда мы с Петькой пошли в школу и освоили грамоту, то стали учить и своих родных. Дед Евтих, правда, отказался учиться. Отец, можно сказать с интересом учил буквы, успешно складывал слоги и даже начал читать по Букварю, но ему просто некогда было заниматься. А мать постоянно была занята по хозяйству, и её мы не научили даже расписываться.
Когда в 1925 году в бывшем барском имении открыли школу, туда часто приезжали разные уполномоченные, руководители из волости, из района, собирали мужиков, и читали им доклады, лекции и проводили беседы, рассказывали о жизни, которую несёт с собой советская власть. А иногда привозили кино - «Живые картины», как их называли на деревне. Мы хоть и жили почти в четырёх километрах, но почти на каждое такое мероприятие ходил отец, старшие братья и сёстры, а на «Живые картины» и мы с Петькой.
В селе Малфа, в сельсовете тоже проходили встречи, беседы и всё это в вечернее время. А приезжающие из Брянска комсомольцы по вечерам проводили занятия с молодёжью старше пятнадцати лет по ликвидации неграмотности. И учили не только читать и писать, но и как лучше украсить избу, что лучше и вкуснее приготовить. На все эти беседы, сходки мужики, да и бабы, как их тогда называли, шли с большой охотой. Мои старшие братья и сёстры с удовольствием посещали эти вечера. Помню, сколько же радости у них было, когда они возвращались домой, и своим смехом, рассказами будили нас, а мама никак не могла их успокоить, унять. Эти занятия приносили не только плоды в обучении грамоте, но и расширяли кругозор той забитой безграмотной молодёжи в познании жизни, в стремлении Советской власти построения коллективного хозяйства, социализма, воспитывали ЧЕЛОВЕКА!
Даже встречу Нового года к нам в Малфинскую волость принесли эти комсомольцы. Ведь до этого Новый год воспринимался как что-то нехорошее, тягостное, и этому была своя причина.
И дед Евтихий, и отец, да и остальные всегда с ненавистью рассказывали, как баре сгоняли всех крестьян праздновать новый год. Сами помещики с гостями веселились в натопленной усадьбе, а крестьяне с вечера до утра, на морозе и стуже, в своих стареньких сермяжках и в рваных, продуваемых ветром кожушках, мёрзли под господскими окнами, но обязаны были петь, плясать и веселить своих господ. И это «веселье» было обязательно для всех крестьян, от мала до велика.
И только вот эти комсомольцы открыли нам радость этого праздника. Научили делать из газет простейшие игрушки и украшения на ёлку. С большим интересом отнеслись к вырезанию и склеиванию игрушек даже отец с матерью. До сих пор помню всеобщую радость от первой новогодней ёлки. Это был свой, поистине весёлый и счастливый Новый год. Доволен был и отец, а мама даже всплакнула от радости.
 |
|
Родители: Семен Евтихович и Ирина Фроловна |
Когда у нас на ночлег останавливался почтальон, от него мы первыми узнавали, когда из Брянска в Крупец привезут «Живые картины». Эта весть быстро распространялась по домам и близлежащим поселкам: Бунинский, Преображенский. В одном из самых больших залов, где обычно занимались сразу два класса, выносились все парты, расставляли скамейки для взрослых. На полу, у самого экрана, размещались самые маленькие, за ними – кто постарше. Возле киноаппарата, к скамейке, прикручивалась динамо-машина, которую мальчишкам надо было всё время крутить. Но желающих было достаточно. И когда очередной мальчуган уставал и начинал крутить медленнее, и на экране изображение двигалось неестественно медленно, то этого мальчишку сразу же сменял новый желающий.
Звук отсутствовал. А текст с экрана надо было успеть громко прочитать кому-то из взрослых. Никогда не забуду, как показывали самый первый фильм о 1-й Конной армии Будённого. Когда лавина красноармейцев понеслась на беляков, прямо на камеру, то тут с криком вскочили не только детвора, сидевшая у экрана, но и взрослые, и в темноте чуть не переломали себе ноги и руки на поваленных скамейках… Киношнику пришлось срочно прекратить показ, пока в зале не установится порядок. И подобные «давки» случались почти на каждом сеансе, как бы киношник ни убеждал, что это только кино и ничего опасного в нём нет. Даже бывали случаи нервных заболеваний у особо впечатлительных детей. Так что в массе своей народ был тёмный, забитый и нормальной жизни просто не знал. И только советская власть дала возможность народу зажить по-человечески.
А вот допустим репрессии 1936-38 годов как-то коснулись вашей семьи или знакомых?
Лично я их не ощущал, можно сказать, они прошли мимо нас. Но всё же одного человека наша семья потеряла. И какого человека…
Младшая сестра отца Ганна вышла замуж за Якова Филимоновича Стаколкина, по-уличному – Лемешева. Видимо нареченного так за то, что его семья имела плуг с металлическим лезвием – лемехом. В наших краях это была большая редкость, у всех остальных крестьян были деревянные сохи без металлических лемехов. Замужество Ганны оказалось удачным. Яков был толковый, рассудительный и грамотный человек с деловой хваткой.
Во время I-й Мировой войны его призвали в армию, и на фронте он показал себя смелым воином. За своё умение и воинскую находчивость, Яков успешно продвигался по службе: стал младшим унтер-офицером, затем унтер-офицером, старшим унтер-офицером, а потом дослужился и до звания фельдфебеля, что соответствует нынешнему званию старшины. А за свою храбрость и воинскую доблесть он вначале заслужил медаль «За боевые заслуги», а потом был награждён Георгиевскими крестами всех четырёх степеней.
Однажды Якова с пятью солдатами послали в разведку. Под покровом тёмной ночи они скрытно переправились через реку, бесшумно сняли немецких часовых, уничтожили караул и захватили мост. За этот героический подвиг фельдфебель Яков Стаколкин достоин был быть награждённым. Но чем? Ведь он уже имел все награды, положенные нижнему чину. И тогда командование, учитывая исключительную значимость для русских войск захвата этого железнодорожного моста, решило представить фельдфебеля Стаколкина к первому офицерскому званию - «прапорщик». Так крестьянин деревни Большой Крупец Стаколкин Яков Филимонович стал офицером царской армии. По тем временам это было что-то невероятное! («На самом деле дворянский состав офицерского корпуса начал размываться ещё в ходе «Великих реформ» Александра II, когда в него стали постепенно вливаться представители других сословий. Например, генералы Алексеев и Деникин были сыновьями крепостных крестьян. К началу I-й Мировой войны менее половины кадровых офицеров русской армии были дворянами, остальные были выходцами из мещан и крестьян, духовенства и купцов. Кстати, из тех офицеров, которые во время Гражданской войны пошли служить красным, большинство было именно дворянами, которым противостояли сын казака Корнилов и дети выслужившихся в офицеры крепостных Деникин и Алексеев» - https://lenta.ru/articles/2016/05/03/imperial_army )
Дело в том, что офицерами царской армии могли быть ТОЛЬКО выходцы из дворян. И только I-я Мировая война поколебала эти незыблемые каноны царизма. Во время этой войны офицерские звания стали получать инженеры, чиновники, как их называли «разночинцы». Но, чтобы крестьянин получил офицерский чин… такого ещё не было. Ведь получение офицерского звания, автоматически производило человека в дворянство, к нему следовало обращаться «Ваше благородие». К сожалению, это облагодетельствование для Якова потом обернулось трагически.
После Октябрьской революции Яков служил в Красной Армии. Уволившись из армии в 1920 году, обустроил своё хозяйство и поставил свою баню, единственную во всей округе. Это тоже, кстати, штрих к картине жизни в то время. Но в 1931 году Якова вдруг начали вызывать в следственные органы в Почеп, и там интересовались его службой в царской армии. Но, не находя ничего предосудительного, каждый раз отпускали домой.
В 1931 году их семья вместе с нами переехала жить на Кубань в станицу Славинская. Там Яков устроился на работу в какую-то районную контору. А все Стаколкины были пристроены и обустроены на работе в коммуне «имени 1-й Конной Армии», и жили они на новом месте уважаемыми людьми, безбедно, хорошо. Все работали и учились. Но потом жена Якова – Ганна сильно заболела. Она и раньше болела, но на Кубани болезнь обострилась, и в 1936 году она умерла.
Детей у них осталось много, и Яков женился на хорошей женщине, которая стала вести домашнее хозяйство и обихаживать его детей. Но самого Якова смерть жены стала тяготить, и он решил вернуться на родину.
В 1937 году Яков со всей семьёй снова переезжает в Большой Крупец, где устроился на работу в колхоз. Но по чьему-то доносу, своих же, деревенских, Якова вызвали на допрос и арестовали. За антисоветскую агитацию, которую он якобы вёл среди жителей деревни у магазина. Каждую неделю к нему в Почепскую тюрьму поочередно ездили с передачами его новая жена или дочь Груня. Но в один из приездов Груне в свидании отказали, заявив, что никакого Стаколкина у них нет… Жена его Груне не поверила, вырвала у неё узелок с передачей, и сама помчалась в Почеп. Но и ей там ответили: «Никакого Стаколкина у нас нет!» Долго она искала его, обращалась во всякие учреждения, куда только ни ездила, но всё безрезультатно… Давно уж умерла и жена Якова, и его дети, а о нём самом так ничего и не известно…
В 2002 году ещё была жива его дочь Груня, и во время нашей встречи моя двоюродная сестра, поведала мне своё горе, что хоть перед смертью хотела бы узнать о судьбе своего отца. Да и детям своим передать правду об их дедушке.
От её имени я написал запрос в Брянское УФСБ. Ответ пришёл обстоятельный с приложением ксерокопий первых допросов Якова, где ссылаются на доносы, правда, без указаний фамилии доносчика. Там же говорится, что первый приговор для Стаколкина УП Верховного Суда СССР от 14.12.1937 года был отменён. Но потом заседание особой тройки при УНКВД по Орловской области от 15.02.1938 г. постановило – «расстрелять Стаколкина Якова Филимоновича 1889 года рождения…» Видимо, поэтому он уже и не значился в списках Почепской тюрьмы. Вот такая грустная история…
А когда я учился в техникуме в Шахтах, там громко прогремело «шахтинское дело». Там же среди руководства шахт ещё с царских времен оставалось очень много немцев. Прекрасные специалисты, инженеры старой закалки, так почти все они были тогда арестованы.
А у нас на Кубани почему-то арестовали 1-го секретаря нашего райкома партии и с ним ещё 10 человек. Он был не сельский житель, и не знал, что мы топим печки соломой. Деревьев-то нет. А он приказал, скосить всю солому на полях. Видимо, не понимал этого, и его арестовали. О нашем Петровском районе в газете даже так написали - «троцкистский район»… Но чтобы простых людей арестовывали, я такого не помню.
А в каком техникуме вы учились в Шахтах?
Когда я оканчивал школу, то решил поступать в Ростовское морское училище штурманов. Но ещё до этого мой одноклассник Иван Капуста, высокий такой парень, начал меня уговаривать: «Ты знаешь, Володя, я решил поступать в Шахтинский горный техникум. Но я не надеюсь поступить, - потому что он очень плохо учился. - Поедем со мной! Без тебя я не сдам». Уговаривал он меня долго, и я поддался, поехал с ним.
Приехали, и на экзамене он сел на парту впереди меня. Передаёт мне свой билет, я напишу, отдаю ему. Вот так мы вместе экзамены сдали, поступили и дальше также учились. Но отучился два года, чувствую - не моё это призвание. И на 3-м курсе добровольно подал заявление в военкомат и меня зачислили в Буйнакское военно-пехотное училище. Почему добровольно, потому что шахтёры, также как и железнодорожники, были освобождены от военной службы, имели «бронь».
Расскажите, пожалуйста, подробно про учёбу в училище.
Скажу, что в довоенных училищах за два года давали крепкую подготовку. Гражданские привычки из нас вытряхивали быстро. Несмотря на то, что я всё-таки крестьянский ребенок, с малолетства привык и к труду, и к трудностям, но училище я вспоминаю как время тяжелейших нагрузок. Видимо в преддверии войны все училища страны настроили на подготовку командиров, способных управлять подразделениями в условиях с чрезвычайными моральными и физическими нагрузками.
Учёба была очень напряженная. Два предвоенных года мы занимались по 12 часов ежедневно и по 2 часа самоподготовки. Подъём в шесть часов утра, летом - в 5-30. Потом – 15 минут физзарядка, 10-15 минут на умывание и затем – 20-минутный стрелковый тренаж. Что он из себя представлял. На плацу перед казармами учили изготовке, прицеливанию, произведению выстрела. Требовалось выполнить норматив – из положения стоя выбросить винтовку вперёд, открыть затвор, вынуть из подсумка обойму с патронами, вставить её, закрыть затвор, изготовиться к стрельбе, обнаружить цель. Установить по расстоянию прицел, произвести прицельный выстрел – и на всё про всё три секунды. Этому нас тренировали постоянно. Для произведения выстрела из положения лежа снайперу в Красной Армии требовалось всего 5 секунд. При заряженной винтовке только установить расстояние и произвести выстрел.
Затем завтракали и на шесть часов быстрым шагом или бегом уходили в горы. С полной экипировкой: винтовка, противогаз, подсумки, учебные гранаты, шинельная скатка. Там до обеда шесть часов занятий. Чаще всего по огневой подготовке и тактике. После обеда обязательно мёртвый час. Затем шесть часов теоретических занятий: уставы, связь, артиллерия, химзащита, сапёрное дело, боевая техника, танки, политзанятия, немецкий язык. И что характерно, почти все занятия проходили только на улице, в поле или на стрельбище. Никакие температурные перепады, дождь ли снег, мороз, слякоть, ветер, ничего нам не мешало заниматься на местности. В классах занимались только по трём предметам: «Новая боевая техника», т.е. которая ещё не поступила в войска. Немецкий язык, причём, его нам преподавала немка из Германии. И последний - «Скрытое управление войсками», т.е. изучали шифры, шифровку, дешифровку. Причём, на партах у нас совершенно ничего нет. Ни бумаги, ни карандашей – ничего не разрешалось записывать.
А все остальные занятия, в любое время года и любую погоду, только на природе. А что такое шесть часов до обеда огневой подготовки? Это значит надо в полной выкладке шесть с половиной километров бежать через ущелье до полигона. Там серьёзно занимались, в месяц выпускали по мишеням примерно сотню патронов. Кроме винтовок, тщательно изучили и стреляли из ручного пулемета Дегтярёва. Сотня патронов — это нормальное количество для хорошей тренировки. На фронте я потом встречал выпускников 6-месячных курсов - младших лейтенантов, которые за полгода всего раз десять-пятнадцать стреляли. Конечно, такая огневая подготовка почти ничего не давала.
А после этого опять бегом обратно в училище. Если кто отставал от взвода, то командир взвода Мусса Салбиев хватал его за руку и тащил на буксире, что было неудобно и стыдно.
Прибегаем обратно в училище, поставили винтовки в пирамиду, и все, снимая на ходу гимнастерки, сразу убегали под кран. Полоскали их, надевали, и пока приходили в столовую, гимнастерки были уже сухие. А если этого не сделать, гимнастёрка на спине просто поломается. От пота и соли. Вот что значит нагрузка!
Мы, конечно, выматывались жутко. На занятия придём, там ровики такие, вроде сидения на дерне. Если кто засыпал, политрук, проводивший занятия, командовал: «Взвод, встать!», и дальше мы уже стоя слушали. Если начали засыпать стоя, командовал: «Садись!» А засыпали не потому, что нам неинтересно, а потому что от такой нагрузки мы постоянно уставшие. Ведь по ночам нас поднимали по тревоге. Мы знали, что два раза в неделю обязательно будет тревога. Не знали только, в какой день, и в какое время, поэтому ждали её каждую ночь.
Когда первую тревогу объявили, это что-то неимоверное творилось. Ведь казарма длинная. По правую сторону – взводные кубрики, конечно, без всяких дверей. А с левой стороны по всей длине – пирамида с винтовками. В ней стоят винтовки, а внизу хранились противогазы, лопатки, два подсумка. И вот как только тревога, я со своей койки спрыгиваю, надеваю брюки, портянки и сразу в ботинок. Потом обмотки наматываю. Длина каждой – два метра двадцать сантиметров. Одну намотаю, другую, потом гимнастёрку на себя, здесь же поясной ремень. Но на ремень нужно ещё повесить лопатку и противогаз. Казалось бы всё понятно. Но когда объявлялась тревога, гасился свет. И только на выходе у дневального первое время коптилка горела. А потом уже только фонарь – «летучая мышь». Но он лишь служил ориентиром, куда бежать к выходу, а света от него не было. И вот когда хватаешь винтовку, поначалу путались. А потом уже и в темноте свою винтовку выбирали точно. Казалось бы, все одинаковые, стандартные, но мы же с ними не расставались на всех занятиях. Утром после завтрака прибегаем в казарму, берём винтовки, и целый день носим с собой. Уже до того с ней сроднился, что схватил и сразу чувствуешь, моя или нет.
Выбегаешь и становишься в ротный строй. В течение минуты и 45 секунд, вся рота должна была успеть построиться. Тут командиры роты и взводов проверяли курсантов, как обмотки намотаны, и номера винтовок. Он спрашивает: «Какой номер?» Курсант называет. – «Покажи!» Показывает, а номер не тот. За это наказывали. А после построения марш-бросок, доходивший иногда до 15 километров. И это по горам!
А иногда всё училище уходит в марш-бросок с полной выкладкой на 25-35 километров. По гористой местности, с преодолением водной полосы препятствий, участка заражения и боевыми стрельбами. Первые семь километров и последние, при возвращении в училище, шли с винтовками на плечо или бегом. Страна готовила для себя выносливых, физически закалённых воинов.
 |
|
Во время учебы в училище |
Поначалу мы не могли определить, когда ждать выхода в горы, но потом научились. Как только выход, нам в тот день обязательно выдают селёдку. Мы не понимали, в чём дело? Ребята постарше, те, кто после армии, недоумевали. Помню, Мишка Жуков, который подо мной спал, возмущался: «Ну что это такое? С утра селёдку дают, а тут бежать нужно 20-30 километров». И только потом нам всё объяснил командир взвода.
В одно воскресенье объявили «марш имени Тимошенко», практиковался тогда такой. В этот день вся Красная Армия должна была пробежать 25 километров. Но начальник училища генерал Сорокин объявил: «Мы пройдём 35 километров!» Причём по горам, это совсем не то же самое, что по ровной местности. И вот перед этим кроссом командир взвода Салбиев подходит к нашему столу, и видит, что один уже чай пьёт, а селёдку не съел. А этот парень во время бега всё время отставал. Тяжело ему бег давался. Тогда Салбиев набирает ложку соли и ему подносит: «Ешь давай!» Тот не хочет: «Товарищ лейтенант, вы что?!» Взводный как даст ему эту ложку в рот: «Запивай!» Тот запивает, но ничего не понимает. И вот после этого кросса он нам объяснил: «Вот вы дошли все до единого!» Хотя это было даже не тяжело, это не то слово. Ужасно было! До изнеможения просто идёшь и ничего не соображаешь. Пить нельзя, хотя фляги у всех полные. Фляга всегда должна быть полная, но пить из них не разрешали. Тоже ребята возмущались: «Почему?» Это называлось – соблюдать питьевой режим. Салбиев продолжает: «А если бы я не заставлял вас есть эту селёдку, то вы бы потели и сошли с дистанции. А так вы все дошли полным строем и с прекрасным временем! А те взвода, где командиры не позаботились, те растянулись». Оказывается соль, задерживает жидкость в организме и не даёт быстро наступить обезвоживанию. Вот оказывается в чём причина, что перед большой нагрузкой нам всегда выдавали селёдку.
А как вообще кормили?
Хорошо кормили. Первое время, мне даже было непривычно. Регулярное питание, причём сытное, мне, бывшему студенту, который в техникуме питался за копейки, было в радость. В том числе и сливочное масло давали, и компот. Правда, два раза в неделю выдавали сухой паёк. Это значит, сухари выдавали и все блюда только из концентратов. Суп-пюре гороховый, каша пшённая тоже из брикетов. Так что питание было замечательное. Но все полученные калории уходили на подготовку, и мы все были поджарые, быстро обрастали мускулами.
Когда по тревоге поднимали, тоже сухой паек выдавали. С целью, если не вернёмся в училище, то сами должны себе приготовить на привале. У каждого же полная выкладка, котелок. Так нас приучали выживать в любой обстановке.
А как отдыхали? В увольнения отпускали?
Из роты в субботу после ужина отпускали несколько человек до отбоя, а в воскресенье – после обеда до отбоя. Но если строевой смотр был не общебатальонный, а ротный, то отпускали и после завтрака – с прибытием к обеду.
После окончания первого года учёбы, вместо положенных двухнедельных каникул всё училище занималось строительством укрепрайонов, полосы предполья и училось её преодолевать разными способами, включая отработку действий штурмовых групп и отрядов. Даже когда у меня подмышкой появились фурункулы, разошедшееся по правой руке сучье вымя, то меня не освободили ни от работ, ни от занятий и стрельб. И это во время «каникул»!
А зимой 1940 года приехала большая комиссия, больше двадцати генералов, и мы перед ними разыграли штурм этой полосы. Одни оборонялись, а мы наступали на эти дзоты. Генералы посмотрели, устроили разбор, и командиры нам сказали, что мы получили положительную оценку. Так что мы постоянно были заняты, заняты, заняты. И всё время учёбы нам каждый день напоминали, особенно замполит – «Товарищи курсанты, вы готовитесь к войне! Война начнётся вот-вот… Не жалейте сил сейчас, здесь!» Это нам командиры с утра и до вечера прививали, вдалбливали в голову. Чтобы мы чувствовали себя подготовленными, не отлынивали ни от чего. Но там и нельзя было отлынивать. По территории училища одиночное передвижение только бегом или строевым шагом, и никак иначе. Так что лучше пробежать. В такой обстановке на отдых времени почти не оставалось.
Помню только, что 1-го мая 1940 года после общегородской демонстрации, чистки оружия и обеда, мы всем училищем, вышли в горы без выкладки, налегке. Там было организовано что-то вроде спортивного праздника: игры, борьба, бег и т.п. Запомнилось, что тогда курсант пулемётной роты Туриев – осетин огромного роста и атлетического телосложения, который по тревоге всегда хватал станковый пулемёт «максим», как он стоит в пирамиде, в сборе, вешал его себе на плечи и до первого привала, 7-8 километров, бежал с ним, поборол начальника нашего училища генерала Сорокина. А ведь тот сам был богатырь и занимал 2-е место по борьбе в первенстве Северо-Кавказского округа. Смеялись все, в том числе и сам Сорокин.
А по воскресеньям или сам начальник училища или его заместитель по учебной части – полковник Орбет проводили строевые смотры. Но Сорокин был настоящий великан, и, показывая пример в выполнении строевых приемов, когда шёл перед училищем строевым шагом, то прямо земля дрожала…
А после обеда проводились лекции по истории войн и военному искусству, которые читали нам командиры рот: капитан Бастанжан и старший лейтенант Войтес, командир батальона капитан Павленко и другие преподаватели. Все они показывали пример выносливости, исполнительности и чёткого несения службы. Уже пожилой полковник Орбет, немец по национальности, в трудном и длительном походе шёл с нами по горам в своей неизменной чёрной бурке пешком, то пропуская шестнадцать рот училища, то забегая вперёд, в голову колонны. Видя его, сухого, жилистого, пожилого человека в своей колонне, нам, молодым, было стыдно проявлять своё малодушие.
Была и специальная горная подготовка. То же самое огневая подготовка. Если человек не приучен стрелять в горах, то он не сможет поразить цель. Там же есть своя специфика и тонкости баллистики нужно знать. Это мы тоже изучали. В том числе и стрельба по воздушным целям. Поначалу снайперское дело не узучали, но после финской войны, когда мы понесли немалые потери от «кукушек», начали изучать основы снайперской стрельбы. Желающие, в том числе я, занимались дополнительно. Стреляли с расстояния 600-800 метров. Мне это пригодилось буквально в первые дни пребывания на фронте. Так что стрелял я отлично. Помню, забавный случай.
В один из воскресных весенних дней 1940 года, будучи дневальным по роте, я до подъёма пошёл в тир с двумя командирами взводов нашей роты. Они взяли меня, чтобы почистить им револьверы, установить мишени. Перед стрельбой я попросил своего командира взвода лейтенанта Салбиева дать и мне попробовать выстрелить. Но он отказал: «Рано ещё тебе стрелять из револьвера!» Другой командир взвода, шутя, сказал ему, что он боится, что я лучше его выстрелю. Взводный был осетин по национальности, горячий парень, его эти слова задели, и он объявил: «Если Туров выстрелит лучше меня - получит увольнение в город! А если хуже – наряд вне очереди!» В итоге, я отстрелялся лучше их обоих, выбив 26 очков из 30. А Салбиев занял почетное 3-е место. Конечно, никакого увольнения я не получил…
Но про своего взводного я могу сказать только самые тёплые слова. Поначалу у меня не всё получалось по физподготовке. Потому что я в техникуме серьёзно учился, и кроме того занимался в шахтинском аэроклубе, так что у меня не было времени заниматься спортом. С утра до вечера сидишь за столом, да ещё эта полуголодная жизнь… Так взводный поднимал нас, человек пять, за 15 минут до общего подъёма и лично с нами занимался на снарядах, тренировал в метании гранат, рукопашным боем. Особенно много занимались штыковым боем. Ещё сильны были традиции царской армии. «Немец штыка боится!» - я часто слышал эту поговорку. Занимались с азартом. Тренировались, разбившись на пары, постигая всякие хитрости, или кололи соломенные чучела. «Коротким коли! Длинным коли!» Только клочья от чучел летели. Кроме того учил преодолевать полосу препятствий, добиваясь от нас автоматизма в выполнении приёмов. Там уже общий подъём, физзарядка, а мы всё занимаемся с ним. И там такие же группы как мы.
Ещё я хочу отметить такой момент. Командный состав жил в городе, в полутора-двух километрах от училища. Но наши молодые командиры приходили в такую рань, еще до подъёма, а уходили только после самоподготовки, перед самым отбоем. И так ежедневно, включая и воскресенье. Это же какую выдержку надо иметь, чтобы каждый божий день всё своё время посвящать нам?!
Что ещё для меня лично характерно. Мы прошли ускоренную программу артиллерийской подготовки, но в начале 1941 года в училище прислали миномёты, и у нас создали два миномётных отделения. Одно – 82-мм миномётов и второе, командиром которого назначили меня – 50-мм миномётов. Правда, никакой инструкции, никакого описания, что это за оружие у нас не было. Но тут с финской войны вернулся артиллерийский полк и там у них оказались миномётчики.
Начальники наши договорились, от них пришёл сержант, показал мне, как наводить, как готовить данные для стрельбы, как опускать мину. И только после этого пришёл листик с описанием миномёта. Вот так я стал командиром миномётного отделения. На занятиях я вместе со всеми, но как тревога, собираю своё отделение – пять человек, на подводу грузим два наших миномёта, и по горам бежим уже как миномётчики.
В один из выходных дней всё училище вывели на стрельбище, где устроили показательные стрельбы. По танкам стреляли из пушек, по пехоте – из пулемётов, из миномётов – по мишеням. Это были первые миномётные стрельбы, которые видели курсанты училища.
Первым стрелял я своими двумя 50-мм миномётами. На поражение цели выделили всего три мины. Стрельба на 800 метров прошла прекрасно - все мишени оказались поражены. После нас отстрелялся расчёт 82-мм миномёта, и тоже успешно.
Но особенно трудно было стрелять после марш-бросков. Все усталые, глаза застилает пот, руки дрожат, а надо поразить цель. В горах же стрелять – совсем не то же самое, что на равнине. Даже отличный стрелок, не зная особенностей баллистики в горах, не выполнит задачу даже на «посредственно». А тут ещё мокрый весь после преодоления водной преграды, противогаз не даёт утереть разъедающий глаза пот, а время обнаружения цели, её выбор, определение расстояния, установка прицела, заряжание и производство выстрела, исчисляется секундами. Так что подготовку в училище мы получили исключительно хорошую, и весьма разнообразную, поэтому многие выпускники получали назначение не только на должности командиров стрелковых взводов, но и командиров взводов связи, противотанковых орудий, миномётных, сапёрных и танковых взводов, а также помощниками начальников штабов. Могу с уверенностью сказать, что как офицер войну я встретил с врагом на равных, а кое в чем немцев и превосходил. Навыки, полученные в училище, помогли мне выжить и пройти всю войну. Хотя имелись и недоработки, которые мы постигали уже в ходе боёв на собственной шкуре… Например, совсем не были готовы к отступлению, оборонительным боям. Рассчитывали на скорую победу, на стремительные танковые и штыковые атаки. А сложилось так, что почти два года пришлось в основном обороняться.
Училище было новое, и первый выпуск у нас состоялся 15-го мая 1941 года. Это был досрочный выпуск. В этот батальон отобрали или тех, кто уже отслужил в армии, или людей с высшим образованием, или тех, кто уже освоил всё. Помню, что среди них оказалось много осетин. Они все физически развиты, некоторые спортсмены, даже кандидаты в мастера спорта. Этот выпуск мы провожали всем училищем.
На митинге, который проводили на станции перед отправкой эшелона, секретарь горкома партии Буйнакска сказал так: «Поздравляю вас, вы – красные офицеры! Вы должны с честью служить», и прочее. Вот тогда я впервые услышал – красные офицеры. Тогда ведь это слово было под запретом, только командир и бойцы.
В этот выпуск попал мой друг Скрябин, мы в одном отделении служили. И вскоре я от него получил письмо: «Мы все попали в Уральский Военный Округ». А недели через две-три получаю новое письмо: «Нас подняли по тревоге, и едем, ну ты понимаешь куда…» Ну а мы же знали, что на западной границе неспокойно и там сосредотачиваются наши войска.
А нас с этого времени выводили уже не только на эти две плановые тревоги в неделю, но комбаты самостоятельно устраивали нам и третью тревогу. Даже по воскресеньям поднимали побатальонно и тренировали, тренировали, тренировали…
В воскресные дни по уставу разрешены увольнения, но либо начальник училища, либо наш командир батальона капитан Павленко занимали нас строевой подготовкой, сколачиванием рот, батальонных колонн. Это коробочка 24 на 24, а в такой длинной шеренге очень тяжело держать равнение и шаг. Тем более у нас был не настоящий плац, а просто ровная площадка. А там же и камни, и рытвины с колдобинами.
Я шёл на правом фланге, но в последней шеренге. И когда через полтора-два часа объявлялся перерыв, всем дают отдохнуть, а первую и последнюю шеренгу оставляют и тренируют отдельно. Это было очень тяжело…
А после обеда Павленко, как правило, приходил и читал лекции по истории военного искусства. И так все воскресенья, никакого отдыха, никаких поблажек... Но я благодарен Павленко за то, что он учил мыслить не категориями курсанта, а прививал мышление командира. Как нужно думать, выстраивать планы. Как раз перед финской войной он окончил академию, и говорил нам постоянно: «Вы не только военачальники будущие, нет! Вы готовьте себя и как государственного деятеля и политического. Развивайте своё мышление! Думайте! Осмысливайте!» И часто я слышал от него такие слова – «Руководить – значит, предвидеть!» Это совершенно точно сказано. Потом я на собственно опыте убедился, прежде чем отдать приказ, надо всё хорошо обдумать. Нужно предвидеть, к чему это приведет впоследствии. Вот за эту школу я особенно благодарен нашему комбату.
Помните, как узнали о начале войны?
Где-то в начале июня училище вывели в летние лагеря. Это в горах, километрах в двенадцати от города. А я участвовал в драмкружке, и на десять часов утра воскресенья была назначена репетиция. И мы, нас была группа человек в пятнадцать, с утра поднялись, и с разрешения командира пошли в Буйнакск.
Приходим к дому Красной Армии, а он закрыт и никого нет. Подождали нашу руководительницу, её нет. Один из нас побежал к ней на квартиру, узнать, почему она опаздывает. Через некоторое прибегает обратно: «Война началась! Она не придёт, плачет, у неё муж на западной границе…» И мы бегом в лагерь.
Прибегаем, а там уже всё училище построено, и митинг начался. Тут нам объявили, что началась война… Вот с этого момента мы уже не знали ни минуты передышки. Ни «мёртвого часа», ничего. Только занятия, занятия, и везде и всюду бегом, бегом, бегом…
В первые же дни войны при училище сформировали один батальон из призванных секретарей райкомов ВКП(б), завотделами и инструкторов райкомов и горкомов, начальников политотделов МТС и других партийных работников. Пройдя ускоренную военную подготовку, они должны были уйти политработниками в полки, дивизии, корпуса и армии.
В этот отдельный батальон командный состав назначили с нашего училища, а младший командный состав – сержантов, набрали из курсантов. Устроили нам своеобразную стажировку. Я получил в подчинение отделение из 12 человек. Но с ними мы занимались только по девять часов вместо 12 часов в училище. Марш-бросков не было, а самые дальние выходы не превышали и 10 километров. Для нас – курсантов, по сравнению с занятиями в училище, это был отдых, а вот для наших подчинённых...
Все они были люди солидные, с брюшками, и довольно солидными, в возрасте 30-40 лет. Учить их приходилось всему: и как идти в строю, и как стоять в нём, и как надеть сапоги, наматывать портянки. А учить перебежкам, переползаниям, окапыванию и стрельбе. Это был не просто «сырой материал», нет, это был не служивший в армии, физически не подготовленный контингент. Даже долго ходить они не могли. Но при этом первое время они нас пытались игнорировать, признавая за власть только комиссара батальона. Ежедневно пачками ему писали жалобы на требовательность командиров, на их действия. На что он им вечерами, добродушно посмеиваясь, вежливо объяснял, что в армии на требовательность командира не жалуются. Что на фронте может быть ещё тяжелее.
С особым удовольствием я проводил обучение стрельбе. Брал малокалиберную винтовку, патроны к ней, и уводил своё отделение в горы. Для начала, показывая, как нужно стрелять, я с 25 метров стрелял в карандаш. Карандаш оказался перебит точно посередине. Потом воткнул карандаш в бруствер, чтобы виден был только его торец. После выстрела подвёл отделение, карандаш оказался расщеплённым. Всё объяснил, показал, но, к сожалению, пробоин в мишенях почти не находил. А нам объявили, что через две недели будет проведена проверка, и по результатам её станут судить о нашей курсантской работе. Способны ли мы командовать людьми. И мы, конечно, страшно переживали за своих подчинённых, как нам казалось, нескладных, несообразительных «недотёп».
Действительно, после 12 дней началась проверка подготовки политбойцов по всем дисциплинам. Пошли мы и на стрельбище. Началась стрельба из боевой винтовки на 100 метров по выполнению I-го упражнения. Это значит, мишень – грудная. Зная, кто как у меня стреляет, я в первую тройку, стреляли по три человека, отобрал самых слабых. Которые никак не могли попасть в мишень
А сам с малокалиберной винтовкой отошёл метров на двадцать левее огневых позиций и быстро по всем трём мишеням произвёл по одному, два и три выстрела. И когда с командиром роты, проводившим стрельбы, подошли к мишеням, то на мишенях оказались пробоины по количеству произведённых мною выстрелов. И оценки получены соответственно: «посредственно», «хорошо» и «отлично». Таким же образом прошла ещё одна моя тройка бойцов и легла третья. Но это были уже более подготовленные стрелки, поэтому я выстрелил всего по разу во все мишени. Для страховки. Когда же подошли проверять, то на одной мишени оказалось четыре пробоины...
Командир роты долго смотрел, изучал мишень, потом повернулся ко мне: «Где малокалиберная винтовка?» И не ожидая ответа, показывая на пробоины предыдущие, маленькие, по сравнению с новыми – большими, спросил: «Это твоя работа?! Немедленно принести малокалиберную винтовку!» Последняя, четвёртая тройка стреляла уже без моего участия...
Какое-то время ещё пробыли в лагерях, а уже в июле, когда я дежурил в штабе училища, узнал там, что один капитан поехал вместе с начальником училища подписывать документы на нас. Об окончании училища. А до этого сдавали государственные экзамены. К нам приезжал генерал-майор Орлов, который возглавлял экзаменационную комиссию. Небольшого роста, полненький такой.
Госэкзамены сдавали по двум-трём предметам в один день, и времени на подготовку не отводилось, да его просто не могло быть. Особенно волновались, сдавая тактику, огневую и физическую подготовку, немецкий язык, т.к. если по этим предметам курсант получал ниже «четвёрки», то он из училища не выпускался. А курсантам, получившим «тройки» по другим предметам, присваивали званиемладшего лейтенанта.В итоге из нашего батальона несколько человек получили звание младшего лейтенанта, а трое училище не окончили. У всех у них нелады или с рукопашным боем или физподготовкой. Причём, они уже до этого солдатами послужили в армии и всё равно не смогли сдать. Вот так я узнал, что нас вот-вот выпустят. Когда начальник училища вернулся, пошли разговоры, что за наш выпуск его наградили именным пистолетом. Говорили даже, что серебряным, но я не видел.
20-го июля на торжественном построении зачитали приказ о присвоении воинских званий и в этот же день стали сдавать свои учебные принадлежности и получать новое обмундирование. Ещё в феврале-марте со всех курсантов нашего потока в ателье сняли мерки на пошив обмундирования, и форма была уже готова. Шинели, плащи, гимнастёрки, брюки, пилотки, нательное бельё, снаряжение: полевая сумка, планшетка, кобура, командирский ремень со звездой, портупея, всё это было заранее разложено для каждого. Только хромовые сапоги пришлось примерять. Нам устроили прощальный ужин, а утром следующего дня на привокзальной площади перед отправкой состоялся митинг, на котором командование училища и руководство города напутствовало нас.
А после войны хоть кого-то из курсантов встречали?
На встрече в честь 35-летия нашего выпуска, нас собрали в Буйнакске. Там я встретил командира нашей 1-й ротыВойтеса. Эстонец что ли, очень требовательный. Он уже был в годах, и приехал со своей дочкой. Встретил и начальника строевого отдела училища. Ему оторвало ноги ещё в боях на острове Хасан, и он уже безногим служил в нашем училище.
А из курсантов нашей роты я встретил только двоих… Как их звали уже не вспомню. Один высокий такой парень, красивый, а другой наоборот, небольшого роста. Он рассказал, что всю войну был переводчиком с немецкого. Недаром мы так добросовестно изучали язык. Допрос военнопленного все знали назубок.
Куда вы попали служить?
Нас, целую группу новоиспечённых лейтенантов, направили в Белгород. Помню, по дороге туда проезжали через Харьков. И пока пару часов стояли на вокзале, вдруг увидели идущего по улице города капитана без фуражки. Для нас это было святотатством, и мы с каким-то ужасом смотрели на него. Как можно идти по городу без головного убора?! Пусть даже на голове повязка, а рука висит на перевязи после ранения… Пусть, но идти с непокрытой головой, это было сверх нашего понимания…
В Белгороде нас встретили ночью на вокзале и провели в какой-то клуб, во дворе которого утром командование формировавшейся 299-й стрелковой дивизии построив нас, распределило по разным подразделениям. Нас с Мишкой Жуковым, это не просто мой товарищ по военному училищу, а друг, с которым мы учились в одном отделении, спали рядом, назначили командирами взводов в 9-ю стрелковую роту 956-го полка. В тот же батальон получил назначение другой однокашник из нашего отделения лейтенант Бобков. Хороший товарищ, но удивительно скромныйизастенчивый, как девушка, поэтому ребята прозвали его «девочка». На это прозвище, он, конечно, ужасно обижался. А ещё один наш однокашник по отделению, Костя Каркашадзе, попал служить в другой полк.
Нашим 956-м полком командовал Герой Советского Союза майор Кравченко. (Иван Яковлевич Кравченко был удостоен звания ГСС за успешные бои во время советско-финской войны. Один из организаторов обороны Тулы, благодаря чему город удалось удержать. По данным https://www.obd-memorial.ru/ командир 324-й стрелковой дивизии полковник Кравченко Иван Яковлевич 1905 г.р. был смертельно ранен и скончался после операции 8.4.1942 г.р. – прим.ред.) Командиром нашего 3-го стрелкового батальона был старший лейтенант Шутов, награждённый за финскую войну орденом «Красного Знамени». А 9-й ротой командовал лейтенант Пелех. Я командовал 3-м взводом, Мишка – 2-м, а 1-м - лейтенант Юсупов, тоже выпускник училища, но не нашего.
Каждый из нас получил по 52 бойца в своё подчинение, и отныне их судьба во многом зависела от правильности принятого нами решения, наших действий, распорядительности. Будешь добреньким, жалостливым, допускающим поблажки в бою - погубишь людей. Будешь строг, беспощаден и ко всем одинаково справедлив – станешь настоящим командиром и спасёшь их в бою.
Состав моего взвода оказался весьма разношерстным. Из кадрового состава всего человека три и мой помошник – старший сержант. Остальные – призванные из запаса, преимущественно из Черниговской, Гомельской, Сумской областей. По возрасту от 30 до 53 лет… Старшина нашей роты, Дзюба или Дзюбенко, служил ещё в царской армии фельдфебелем. Командиром 3-го отделения у меня во взводе был бывший младший унтер-офицер, который воевал с немцами еще в I-ю Мировую. Другие тоже им под стать, и я – мальчишка, должен был командовать такими мужиками…
Но это были очень внимательные, чуткие, заботливые и дисциплинированные люди. Какой же заботливый был этот бывший фельдфебель. Ему уже 53 года стукнуло, почти без зубов, но он занимался не только своими обязанностями, но приходил, и нам, молоденьким лейтенантам помогал в занятиях по строевой подготовке. Руку приложит: «Товарищ лейтенант, разрешите мне взять это отделение!» А у этого бывшего унтер-офицера никак не получалась строевая подготовка. – «Разрешите заняться!» - «Пожалуйста!» И вот он с ними занимается. Смотрю, да-а-а, это квалифицированный командир. И очень заботливый. А другие хоть и в годах, но не видели не то что винтовки, а даже ружья… А у нас в полку многих вооружили не простыми винтовками, а СВТ. Забегая вперёд, скажу, что эта винтовка себя не оправдала. Сама по себе она была неплохой, но требовала гораздо большей заботы, чем любое другое оружие. Бойцы осваивали их с трудом, часто клинило затвор, застревали патроны. Одно дело на стрельбище, и совсем другое ползать по окопам. Автоматика быстро забивалась пылью, песком, и всё - отказ. Кроме того, патроны с закраинами на донышке требовалось протирать, заряжать в магазин аккуратно, без спешки. Если впихнёшь небрежно два-три патрона, они цеплялись закраинами и застревали в магазине.
На стрельбище, особенно в училище, СВТ действовали почти безотказно. Ведь уход за оружием шёл в нормальных условиях, под контролем командиров. Помню, на показательных стрельбах отделение из двенадцати человек одновременно вело огонь по мишеням. Плотность стрельбы напоминала пулемётный огонь. А если ударят сразу полсотни самозарядок, то и пулемёты не понадобятся. К сожалению, действительность внесла свои коррективы, и постепенно мы их сменяли на обычные «трёхлинейки». На роту выдали два автомата ППД, один забрал себе командир роты, а другой достался Мишке Жукову. У остальных командиров наганы.
Но командир роты, узнав о том, что я занимался снайперским делом, отдал в мой взвод две снайперские винтовки. А когда узнал о том, что в училище я в последнее время был командиром миномётного отделения, то мне во взвод передали отделение из двух расчётов ротных 50-мм миномётов – 7 человек. Надо же людей учить, осваивать миномёты, а никаких наставлений и инструкций у них не было. Я же имел определённый опыт, и всего через неделю напряжённых занятий мы уже стреляли. И ещё дал мне дополнительно пять человек – пулемётное отделение. Так у меня во взводе получилось 65 человек.
Но такой возраст готовить было очень сложно. Во-первых, они не служившие в армии. Во-вторых, они сельские жители, крестьяне, и не привыкли к дисциплине. Рабочие более-менее, организованнее всегда, а эти совсем не привыкли к общению и совместным действиям, исполнению правил устава. Так что очень трудно с ними пришлось, но обстановка не позволяла расслабляться. Вот даже, например, бросать гранаты. Они ведь просто боялись ручных гранат РГД-33, которые перед броском надо было встряхивать. Опасались - встряхнёшь, а она рванёт в руках. Всё это шло из-за отсутствия практических, боевых занятий. Решили, что каждый должен бросить боевую РГД, чтобы ощутить, как это действует, но с такими неподготовленными людьми это очень опасно. Был такой эпизод.
Один из бойцов соседнего взвода размахиваясь, не удержал гранату, и она полетела назад, а тут же взвода стоят построенные. Хорошо лейтенант успел подбежать, схватить её и бросить вперёд. Спас многих людей…
Вообще, мы учили подчинённых всё делать практически, стараясь отрабатывать приёмы до совершенства, до автоматизма. Метали боевые гранаты, стрельбы проводили в обстановке, приближенной к боевой. Основной метод обучения был – «делай, как я!»
Тогда уже шли всякие слухи о немецких танковых колоннах, сметающих все на своем пути. Сельские парни понятия не имели о танках, и чтобы приучить нас не бояться танков противника, командир полка Кравченко решил лично продемонстрировать способ борьбы с танками.
Весь батальон построили в каре, в центре вырыли окоп, глубокий, около двух метров. Мы думали, что дело ограничится простым показом, но майор спрыгнул в окоп, и на него двинулся танк БТ-7. Мы просто ахнули, когда махина весом в тринадцать тонн принялась утюжить окоп, крутиться на нём. Казалось, что танк вдавит нашего комполка в землю. Откровенно говоря, зрелище было не из приятных. Ведь сам окоп пусть и глубокий, но отрыт в песчаной земле, и ничем не укреплён. Танк, крутясь на месте, проваливается в него, то одним, то другим боком, а ведь там человек, наш командир!.. Наконец, танк развернулся и пошёл дальше, а из полуобвалившегося окопа приподнялся весь засыпанный землёй майор Кравченко, и бросил две или три бутылки, имитирующие горючую смесь, в моторную часть удалявшегося танка. От окопа почти ничего не осталось, а человек был жив и невредим. Машина остановилась, а Кравченко стал приводить себя в порядок. Долго выколачивал пилоткой с гимнастерки и брюк прилипшую землю, вытер носовым платком лицо и спросил: «Ну как?» Многие красноармейцы и командиры что-то восхищенно выкрикивали, а командир полка прочитал нам краткую лекцию о танкобоязни: «Если не поленился, вырыл добротную ячейку и не растерял гранаты, то никакой танк тебе не страшен. Пропустил его через себя - и спокойно кидай гранаты вслед, а лучше - бутылки с горючкой. Что, у немцев танки такие страшные? Горят за милую душу, только не теряйся. Пара гранат на трансмиссию или под гусеницы - никуда он не уедет. Ясно?» Эффект от такого занятия мы получили огромный, но Кравченко очень рисковал. Ведь могло случиться всякое. Провались гусеницы сантиметров на 30-40 ниже - и все могло закончиться трагично… Но то же самое продемонстрировал и наш командир батальона старший лейтенант Шутов. Только уже в другом окопе. И на всю жизнь я запомнил своё первое политзанятие.
Вскоре солдатам предстояло принять присягу, и я получил инструктаж – провести три занятия, по два часа каждое, по теме «Военная присяга». Как и полагается, составил план-конспект и на следующий день утром, посадил взвод на опушке леса, и приступил к изложению материала. Но уже примерно минут через пятнадцать я закончил изложение всех вопросов 6-часового занятия. Обратился к взводу: «Есть ли у кого вопросы?» Вопросов не последовало. Я подумал: «А что же мне дальше делать?», и решил объявить перекур, а потом заняться стрелковым делом.
Но не успел объявить перерыв, как тут подошёл политрук роты Кулаков. Белгородец, призванный из запаса. Увидев его, я скомандовал: «Взвод, встать! Смирно!» и подошёл к нему с докладом: «Товарищ политрук! 2-й взвод 9-й роты закончил политзанятие и готовится к стрелковой подготовке. Командир взвода, лейтенант Туров».
Он скомандовал «Вольно!», а у меня тихо спросил, почему я объявил взводу перерыв? На что я ему ответил, что политзанятие провёл, все вопросы осветил. Непонятных вопросов не последовало, и я сделал перерыв, после чего займусь стрелковой подготовкой. Хоть бы слово мне сказал, ничего, никакого упрёка, ни замечания мне не сделал. Даже вида не подал, что он недоволен чем-то, а приказал объявить об окончании перерыва.
Он посадил взвод и … как ни в чём не бывало, начал проводить занятие по теме «Военная присяга». И так политрук провёл с моим взводом все три положенных занятия, ни разу не упрекнув меня, да видимо он вообще никому об этом не сказал.
Этот «урок» такта я запомнил на всю жизнь. Впоследствии в своей командирской практике я не раз использовал этот приём, и порою, он приносил пользы больше, нежели грубый разнос и упрёки. Хотя надо признать, что не всегда и не на всех такая методика действует положительно. Это зависит ещё и от подчинённого, с которым имеешь дело. Надо знать характер человека.
Вот так мы занимались днями напролёт, но как ни уплотняли время, как ни удлиняли учебный день, прихватывая и ночи, сокращая время для сна, всё равно времени не хватало даже на самое необходимое: тактику, огневую подготовку.
В общем, примерно 24-го июля я туда приехал, принял взвод, а числа 10-го августа нас подняли по тревоге. Ничего не объясняя дали приказ: «Получить боеприпасы!» Погрузили в эшелон всю амуницию, технику, и выехали на фронт.
В пути, на ходу и на остановках, мы проводили занятия. Не успели выгрузиться на станции Сельцо, сразу же приступили к занятиям. Вот здесь произошёл, сейчас я его назову забавным, а на самом деле глупейший случай.
Усадив взводы на занятия, мы с одним лейтенантом из другой роты отошли в сторонку и начали крутить в руках запалы от гранат. Смотрим, обдумываем, потому что ходили слухи, что из запалов получаются красивейшие мундштуки. Попробовали переломить надвое руками, не получилось. Тогда положили, сверкающий на солнце, запал на пень, и начали по нему бить рукоятками наганов в стык между самим запалом, и цилиндриком с пороховой мякотью. Ничего не получилось у нас и с битьём по капсюлю рукояткой нагана. Запал лишь утапливался в трухлявый пень, но не переламывался.
Тогда я принёс я маленькую сапёрную лопату и начал ребром бить по плечику запала, но тоже ничего не получилось. Он лишь всё глубже уходил в пень. Тогда тот лейтенант сходил в свой взвод, взял большую сапёрную лопату, а запал положил на маленькую, и, размахнувшись, ударил этой большой по запалу и сразу же раздался взрыв, подобный винтовочному выстрелу.
Со всех сторон раздались крики: «Кто стрелял?» Я побежал к своему взводу. Это получилось интуитивно, но сразу же вернулся назад. Лейтенант стоял, закрыв лицо обеими руками, а к нему уже подходил командир батальона старший лейтенант Шутов. Лейтенант вытянулся перед ним. Всё лицо у него оказалось посечено мельчайшими осколочками, и несколько струек крови текло по лицу и рукам. Комбат начал отчитывать его за мальчишескую выходку. После ухода Шутова я увидел, что не только лицо лейтенанта посечено осколочками, но и руки, и вся передняя часть гимнастёрки. Но всё обошлось благополучно. Самое главное, что глаза не пострадали, а все медные пластинки из рук и лица врачи быстро выковыряли. Но я всё думал - это получилось при ударе лопатой с длинным черенком, на вытянутых руках. А если бы он взорвался при ударе рукояткой нагана или малой сапёрной лопатой?!.. И ещё один момент остался в моей памяти. Как раз на этой станции Сельцо жили двое моих старших братьев с семьями. Одного я не видел с 1934 года, а второго с 1937 года, и мне, конечно, захотелось их повидать. Жили они, можно сказать рядом, от места нашей выгрузки всего в трёх километрах. Тем более туда ходили наши автомашины за грузами, и я вполне мог бы съездить. Уверен, моего отсутствия в течение часа никто бы и не заметил. Но это я сейчас так думаю, а тогда у меня и в мыслях не было уехать без разрешения. Привитое чувство дисциплинированности обязало меня испросить разрешения, но командир роты мне отказал. Так я и не повидался тогда с братьями. Старшего – Алексея, я увидел уже только в 45-м, он вернулся с фронта инвалидом. А второй – Василий, погиб в июле 44-го в Белоруссии… (По данным https://www.obd-memorial.ru/ командир стрелкового взвода 2-го батальона 111-го стрелкового полка 55-й стрелковой дивизии мл.лейтенант Туров Василий Семенович 1907 г.р. погиб в бою 20.07.1944 у деревни Шайнин Кобринского района Брестской области.
На сайте http://podvignaroda.mil.ru/ есть наградной лист, по которому младший лейтенант Туров Василий Семенович был награжден орденом «отечественной войны» (посмертно): «20.07.44 в боях за н.п.Степановка Брестской области он первый со своим взводом ворвался в этот населенный пункт, находясь впереди своего взвода, воодушевлял своих бойцов действовать смело и отважно. Когда противник с помощью танков и самоходных орудий пытался контратаковать, взвод тов.Турова отрезал танки от пехоты врага, и в завязавшемся бою уничтожил около 20 немецких солдат. В этой жаркой схватке с врагом, младший лейтенант Туров погиб смертью храбрых» - прим.ред.)
В общем, около суток дивизия простояла в лесу у станции, и потом маршем двинулась в сторону фронта. Двигались лесными дорогами, преимущественно ночью. Помню, привал на станции Жуковка. Других населённых пунктов не запомнил. Но хоть мы и шли в ожидании и в предчувствии скорого боя, но первый бой оказался для меня совершенно внезапным.
Где-то числа 16-18-го августа мы подошли к Десне. Командир полка Кравченко остановил движение, и вызвал к себе весь командный состав. Подходим на эту опушку, и видим, что там река течёт, а справа, метров пятьдесят, деревянный мост. А на другом берегу, он повыше нашего, немцы окапываются. И с правой стороны моста, и с левой, тоже виднеются окопы немцев. Но они нас не заметили, а мы за ними наблюдаем. Вот тут Кравченко меня просто поразил тем, что всего за две-три минуты поставил всему полку боевую задачу: «Товарищи командиры, немец высадил десант! Приказываю – 1-й роте рассредоточиться вправо-влево, ворваться в окопы и завязать бой. А остальным повзводно, начиная с 1-го батальона, дистанция – 15 метров, через мост и бежать-бежать как можно дальше на запад». Ну, так и получилось. Но в моем понимании это не вписывалось ни в какие статьи уставов и наставлений. Где точно противник? Сколько его? Ориентиры и направления наступления для каждого подразделения?.. Всё это отсутствовало. Требовалось одно – внезапность, быстрота действий.
Получив приказ, все расползлись по своим подразделениям и стали подтягиваться ближе к мосту. Наконец, подтянув взвода, вскакивали, плотными колоннами выскакивали из леса, рывком взбегали на мост, и что есть силы, бежали в сторону немецких окопов. А сам Кравченко выскочил на мост с наганом, кричит: «Вперёд! Вперёд! Быстрее вперёд!»
Немцы, по всей вероятности, никак не предполагали от нас такого дерзкого манёвра, что мы станем форсировать Десну в ясный солнечный день. Потому что они остановились, никак не поймут, откуда взялись русские? Бегут строем к ним…
Когда завязалась катавасия в окопах, они открыли огонь, но беспорядочный такой, неэффективный. И лишь когда перебегала наша 9-я рота, они уже повели слева пулемётный огонь, и миномёты начали стрелять по мосту. Но нам удалось перебежать. А вот когда начала переправляться артиллерия, налетела авиация, и мост разбомбили…
А мы бежим всё дальше и дальше в глубину. Хорошо кустарник и высокая трава скрывали наши действия от глаз противника, но ведь и мы бежали, не зная, где он и сколько его. Тут уже и ружейно-пулемётный огонь усилился, и артиллерия открыла огонь. У нас появились первые раненые. Жутко было слышать их стоны, крики… Помню, пробегая в кустах, подгоняю своих: «Вперёд! Быстрее вперёд!», смотрю, один лежит. Живот у него словно распорот, и вывалившиеся внутренности он окровавленными руками заталкивает обратно… Другому или разрывная пуля попала в голову или что, но у него череп разворочен и мозг торчит… И тут у меня мысль мелькнула – «а ведь это же может и со мной случиться…» Мысль мелькнула, но тут же некогда думать, переживать, надо вперёд-вперёд…
И вот, когда прошли кустарник, высокие заросли травы, вышли на открытое поле. Оно видно не засеянное было, потому что трава и чёрная земля. Под огнём добежал до леса, как увидел на опушке живых немцев, а прямо перед собой заметил ручной пулемёт, который непрерывно стрелял. Я залёг. Что делать? Тут ко мне подползает мой командир отделения, этот бывший унтер-офицер, и докладывает, собственно то, что я и сам прекрасно вижу: «В 40-50 метрах от нас на опушке леса немцы!» И предлагает: «Товарищ лейтенант, пошли в атаку! Надо немедленно идти в атаку!» Ну, это понятно, потому что любое промедление будет не в нашу пользу. Немцы успеют закрепиться.
Я оглянулся и … не увидел своего взвода. Спрашиваю у него: «А где же взвод?» - «Так они залегли ещё на дороге со всей ротой». А когда мы перебегали эту просёлочную дорогу, то мельком я видел слева и уже позади себя три танка, но обращать внимание по сторонам было некогда. Наступление развивалось стремительно, и у нас была одна задача - «Вперёд!» А я же вчерашний курсант, ещё не привык к контролю за действиями подчинённых, убежал вперёд, и оказалось, что нас здесь всего семеро человек, вместе со мной. Говорю ему: «Нет, Дмитренко, - или Николенко, не помню уже, - мы не пойдём в атаку. Это же бессмысленно! Ну, нельзя же идти в лоб на пулемёт! Нас же всех просто расстреляют…» Ждать же помощи и поддержки от роты не приходилось, т.к. она залегла метрах в четырёхстах позади нас, и мы оказались в огневом мешке. Немцы вели огонь и по нам и по роте через наши головы. А рота, естественно, вела ответный огонь и тоже через нас и по нам. Оставаться в таком положении тоже невозможно, надо было действовать. Поэтому я приказал всем отползать влево и держаться подальше от леса: «Влево отползаем, там какая-то канава должна быть!» Действительно, отползли метров на сто, там межа оказалась. Помню, то здесь, то там валялись немецкие газеты, разные солдатские принадлежности, брошенные немцами. Ведь мы отогнали немцев с территории, которую они уже до этого занимали. По меже отползли метров сто в ложбинку и в немецких окопах укрылись до темноты. Вот таким получился мой самый первый бой…
Он никак не соответствовал требованиям устава, вот, что значит война… Но я считаю, что успех этого дня обеспечили смелые и поистине дерзкие действия командира нашего полка. Ведь это же надо иметь не просто смелость, но и опыт, чтобы с хода, с марша, решиться не только форсировать столь большую водную преграду как Десна, да ещё днём, на глазах противника, и сразу же повести наступление. Но в итоге всё получилось, и мы отбросили немцев от реки на несколько километров. И очень умным оказалось решение Кравченко, одновременно с форсированием реки, начать наводить понтонный мост ниже по течению. Когда деревянный мост оказался разбит артогнём и авиацией противника, то переправа продолжалась по новому, ещё не готовому понтонному мосту. Как я уже потом узнал, по нему переправились два танка нашей дивизии, и они оттянули на себя немецкие танки. И артиллерия тоже там переправилась.
Ну, что. Всю ночь происходила перегруппировка подразделений, ведь при этой переправе всё перепуталось. Роты приводили себя в порядок. Оказалось, что в моем взводе не было ни одной потери. Ни убитых, ни раненых. Да и в роте тоже. Только 1-я рота понесла потери.
К утру начал моросить мелкий дождик. Наша 9-я рота оказалась в кустах перед какой-то лесной поляной. Когда рассвело, в роту прибыл командир батальона Шутов и сразу же напустился на нас, командиров, стоявших вместе: «Почему не наступаете?!» Но я, да и, по всей видимости, и командир роты, понятия не имели, куда и когда наступать. Шутов, обращаясь ко мне, приказал: «Немедленно наступать! Вперёд!» Я не мог ничего сказать ему, крикнул взводу: «За мной! Вперёд!», и первым бросился вперёд. За мной цепью побежал взвод, но, выскочив на эту вспаханную поляну, мы тут же оказались прижаты к земле сильным огнём противника. Огонь вёлся столь плотно, что голову поднять нельзя.
Это на другой стороне поляны, метрах в двухстах, стояла избушка, из которой нас с остервенением поливал пулемёт. На ровном и открытом поле укрыться было совершенно невозможно, и через несколько минут сам же Шутов приказал взводу вернуться на исходный рубеж. Наш отход вынуждены были прикрывать огнём два других взвода.
После этого наша рота по зарослям кустарника и леса, обошла занятый немцами рубеж, и присоединилась к 7-й и 8-й ротам на нескошенном ржаном поле, на небольшой высотке. Когда прояснилось и показалось восходящее солнце, налетела немецкая авиация и начала нас бомбить. Но мы ещё не успели окопаться, и я лежал рядом с политруком нашей роты Кулаковым. Очень ясно помню, как ярко светило утреннее солнце, я лежал на спине, наблюдая за пикирующими на нас самолётами, сбрасывающими бомбы, но, то ли от усталости, то ли от нервного переживания, не в силах был стряхнуть с себя сон. Глаза сами собой закрывались, и Кулаков меня постоянно расталкивал. А я ему в полудрёме отвечал: «Зачем суетиться? Я хочу спать…»
После этой изрядной бомбёжки батальон лесом перешёл на противоположную опушку. Командир роты вывел нас четверых: политрука и трёх командиров взводов, на опушку леса, для рекогносцировки местности перед наступлением. Был ясный солнечный день, стояла звонкая тишина. Перед нами на поле, метрах в 400-500, виднелись плохо замаскированные немецкие окопы. Дальше за ними, метрах в восьмистах стояла деревня. В бинокль, да и без него, было хорошо видно хождение немцев из этой деревни в окопы. В окопах немцы тоже не прятались, продолжали оборудовать и маскировать свои окопы. Нас немцы не видели, и их ничто не насторожило. Наши бойцы остались в глубине леса, а мы соблюдали маскировку.
Тут я испросил разрешения у командира роты: «Товарищ лейтенант, разрешите, я поохочусь со снайперской винтовкой!» - «Давай!» Взял винтовку, четыре обоймы сунул в карман, и со всеми предосторожностями, на которые только был способен, пополз к немецким окопам вперёд и вправо, чтобы не демаскировать роту. Лес стоял так и так (рисует), вот здесь немцы, а тут я выполз, и залёг за два бугорка. Хорошо, удобно.
Стал наблюдать и вижу, что у них там бегает один маленький, но шустренький. Туда-сюда бегает, но я его не стал стрелять. Вдруг вижу, из-за крайнего дома выходят два немца, и пошли по кустам. Один что-то нёс в двух руках, вроде два котелка, и свой первый выстрел я сделал по нему. Выстрелил, он как-то замер, повернулся, так и осел… Второй выглянул из этих кустиков, я в него - он упал… Тут этот шустрый остановился. Я в него выстрелил, он свалился…
После этого выстрела немцы в окопах засуетились, но не попрятались. Тут я начал торопиться. Выстрелил в голову кричащему что-то немцу, и успел заметить, как голова его медленно скрылась за бруствером. Следующий выстрел по каске, которая также медленно опустилась в окоп. Вот тут уже все немцы попрятались по окопам. Только каски иногда мелькают, но в ответ не стреляют. Не поймут никак, откуда я стреляю. Смотрят в сторону то этого леса, то этого, потому что эхо отдаётся в нескольких местах. По звуку выстрела меня обнаружить не могли. Лес сзади и справа от меня, и звук выстрелов, отражаясь от леса, искажался и раздавался совсем не от места, откуда я стрелял. Это я знал ещё по училищу, когда изучали особенности баллистики в горах и в лесу. И вот только кто покажется из окопа, я стреляю.
Так я расстрелял одну обойму, другую, третью, и вдруг вижу – каска поднялась, а под ней противогаз, он у них стаканом таким. Вот тут я прекратил стрелять, сообразил, они же на противогазах их поднимают. Значит, меня уже начали обманывать, чтобы засечь. И видимо засекли, потому что открыли по мне огонь. Пули часто и коротко взвизгивали над моей головой. Но мне, не искушённому ещё в боевых делах, они не казались столь страшными. И все же я был вынужден оттуда отползти. Приползаю к своим, наши смеются. А по этому месту уже и из миномета лупят.
А что вы испытывали, когда убили тех первых немцев?
Мне не раз задавали такие вопросы. Но я всегда отвечаю так – мы ведь воевали не с немцами, а с захватчиками. С фашистами. Это не человек, не немец, это – враг! Повторюсь, у нас в училище во взводе было два немца, которые также как и я стали, командирами взводов.
Тут комбат вернулся от комполка и передал приказ – вести наступление вот на эти окопы. Быстро провели рекогносцировку, и отползли вглубь леса, чтобы командир роты обозначил задачи. Стоим вшестером: три командира взвода, старшина роты, политрук и командир роты. И вдруг, мы даже не сообразили, вь-и-и-ть, и отрывисто свистнув, в центр нашего полукруга шлёпнулась мина. Раздался взрыв. Старшина роты, бравый бывший фельдфебель, с криком упал и схватился за живот. Командир 1-го взвода лейтенант Юсупов, веселый, небольшого роста коренастый юноша, тоже повалился. У него весь бок изрешечён… А политрук стоит, ничего, только штаны разорваны. Я стою – ничего. Только лицо осколочками маленькими посекло, и кровь пошла. Командир роты и Жуков тоже ничего. А старшину побило осколками так, что и перевязать нельзя. Внутренности видны… Их с Юсуповым сразу на подводу и в санроту. Это были наши первые потери… Ротный говорит: «Я пойду вместо Юсупова с 1-м взводом!» В общем, начали наступать.
Наступали как на тактических занятиях, по уставу. Короткими перебежками. Наступление шло успешно, но когда до тех немецких окопов оставалось метров пятьдесят, они как открыли огонь и просто придавили нас к земле. Мы ползком, но мы же на ровной поляне, а они в окопах. Что делать? А метрах в десяти правее меня лежал политрук Кулаков. Он поглядел на меня: «Ротный молчит. Без него атакуем?» - «Атакуем! Нельзя время тянуть», - отозвался я.
Невысокий, круглолицый, он вдруг неуклюже привстал, затем поднялся в полный рост и закричал срывающимся голосом: «За мной в атаку!» Но рота, понёсшая первые потери, лежала неподвижно. И немцы молчали. Лишь политрук топтался, подняв над головой наган. – «В атаку!», снова крикнул он, и тут же схватился за живот и упал… Кажется, это ударил одиночный выстрел, а может, короткая пулеметная очередь. Я был слишком напряжен и не понял. Только я успел подумать, как бы ему помочь, он опять как-то приподнимается, хрипит: «Вперёд!» и тут ему пуля в голову… Я был просто шокирован. Многим! В том числе крайне необходимыми, но неумелыми действиями Кулакова. Он ведь старше меня лет на пятнадцать, что он делает? Он в своем уме?! По нам же шквальный огонь ведут… Понятно, что надо обязательно идти в атаку, но не так же! В атаку так не поднимают. Атаку надо подготовить.
Но понятно, что оставаться лежать нам здесь нельзя ни минуты. Промедление смерти подобно! Наш огонь почти прекратился, а огонь немцев усилился. Положение назревало критическое. По цепи я запросил: «Где командир роты?» Мне передали, что он «с группой управления на левом фланге, в кювете дороги». Но оттуда в данный момент он никак не мог никуда продвинуться. Немец отсёк его огнём, и руководить ротой он не мог. Посылаю связных – не возвращаются.
Тут ко мне подползает младший политрук со штаба полка. Тоже молодой, почти такой же «зелёный», как и я. И говорит мне: «Поднимай в атаку! Надо в атаку!» А поднять людей и повести за собой в атаку это большая ответственность. Это не одно и то же, что, скажем, повести на тушение пожара или преодоление других препятствий. Хотя мне и дано право распоряжаться судьбами и жизнями своих подчинённых, но каждый командир понимает, что он распоряжается живыми людьми, нужными ему не только сейчас, но и завтра, и послезавтра. Мысли в голове мелькали одна быстрее другой: «Что делать? Имею ли я право поднимать людей? Ведь есть же командир роты, который обязан принять на себя всю ответственность. Но сколько можно лежать? Инициатива у немцев и нас здесь просто перестреляют…» Но устав писали люди мудрее нас, только вступающих в жизнь. Они не раз поднимали войска в атаку и лучше нас знают, как это делать. И что в такой ситуации людям надо напомнить о том, что они могут в такой обстановке и забыть.
И вот тут я, не поднимая головы, скомандовал: «Рота, слушай мою команду!» И понеслось по цепи – «Слушай команду… Слушай команду…» - «Рота, подготовиться к атаке!» - «Подготовиться к атаке… Подготовиться к атаке…» Дальше командую: «Подготовить гранаты, вставить запалы! Дозарядить винтовки!» А в это время нетерпеливый младший политрук теребит меня: «Что ты медлишь? Даёшь какие-то уставные команды, на учениях, что ли?»
Наконец я скомандовал: «Рота, в атаку!» Тут все встают и пошли мы… За нами вскочила и 8-я рота, они же слышали мои команды. А у них был один помкомвзвода, я знал его по формированию, пожилой, лет за сорок уже, седоватый такой. И слышу, он кричит: «За Родину! За Сталина!» Вот тогда я впервые услышал этот клич «За Родину! За Сталина!» Подумал ещё – это же какая-то неуставная команда...
В общем, ворваться-то мы ворвались, но понимаешь в чём дело. Вот, что значит, люди призванные из запаса. Мы забросали эти окопы гранатами, и сразу проскочили дальше, побежали к деревне. Но огнём из деревни и справа нас остановили. Не положили, а остановили. Тут ещё и сзади по нам открыли огонь, немцы, которые остались в окопах. Мы залегли, но по кювету приполз один цыган с 3-го взвода и начал вести огонь по немцам в окопах. Вот это нас и спасло. Рванулись обратно к окопам. Вот тут я всё очень смутно помню. Нет, не из-за давности лет. Просто это был по-настоящему первый бой. Помню, что в окопах видел немцев, дерущихся с нашими бойцами, сам стрелял из «нагана», все кричали что-то… Но окопы очень узкие, и драться в них полутораметровыми винтовками было крайне неудобно. Тем более это же 41-й год и немцы сопротивлялись до последнего.
Наверное, мне следовало командовать, а не стрелять самому, но бой уже вступил в такую фазу, где никто никого не слышал и сам выбирал свою цель. Пять-шесть немцев, прячась в стрелковых нишах, вели беглый огонь. Нам повезло, что автомат имелся только у одного. Они успели убить и ранить несколько наших, но остановить остальную массу были не в состоянии. Люди, сумевшие преодолеть простреливаемое поле, оставившие позади погибших товарищей, переступили порог страха.
Когда у автоматчика опустел магазин, его пригвоздили штыком к стенке траншеи. Лихорадочно дергавший затвор винтовки унтер-офицер стрелял до последнего, но был втоптан в землю. Остальных закололи штыками.
Двое пулемётчиков разворачивали на треноге пулемет. В них стрелял из нагана в упор один из командиров взводов. Несмотря на ранения, они сумели переставить пулемёт, но смуглый боец, выскочивший вперёд, ударом приклада свалил одного пулеметчика. Второй упал, пробитый пулей.
Но десятка два немцев, перескочив через бруствер, отступали. Грамотно, перебежками, прикрывая друг друга огнём. За ними сгоряча кинулись наши. Упал один, второй боец. Я поймал за обмотку пытавшегося броситься в погоню парня: «Куда?! Стреляй отсюда!» Несколько фрицев остались лежать на поле, но остальные нырнули в овражек и исчезли. Хотя мы и выбили противника из траншеи, заставили его отступить, но и сами понесли значительные потери. Значит не всё предусмотрели, и не научились ещё воевать. Главная же ошибка состояла в том, что мы забросали эти окопы гранатами, и сразу проскочили дальше. Любая наука всегда даётся нелегко, а военная – тем более, дорогой ценой, жизнями людей…
Запомнилось большое число тяжелораненых. Не менее двух десятков. Те, кто угодили под пулемётные очереди, были ранены сразу несколькими пулями. Немецкие МГ-34 со скорострельностью пятнадцать выстрелов в секунду прошивали тела насквозь, дробя кости на мелкие осколки. Я впервые увидел действие разрывных пуль. Попадание в тело означало почти неминуемую смерть. Бойцы, несмотря на умело наложенные повязки, истекали кровью… Их торопливо грузили на подводы. С фланга подошёл командир роты. Глядя на тела погибших и подводы с ранеными, спросил: «Ну что, получили боевое крещение?»
Думаю, атака не удалась ещё и потому, что не было единого руководства батальоном. Нашу 9-ю роту поддержала только часть 8-й роты, которая вместе с нами пошла в атаку, а 7-я рота, находившаяся на правом фланге, вообще отстала и в атаку с нами не пошла. Но участи 7-й роты я не позавидую.
После того, как мы окопались на исходном рубеже, против левого фланга 7-й роты и правого фланга 8-й роты немцы на штыках начали поднимать белые флаги, махать ими. Наши прекратили стрельбу. Пять-шесть немцев вылезли из окопов и, стоя на бруствере, воткнули штыки своих винтовок в землю, что-то кричали и махали руками. Поднялись и наши красноармейцы. А старший сержант, помощник командира взвода, пожилой еврей, хорошо понимая по-немецки, начал с немцами разговаривать и двинулся к немецким окопам. Решив, что немцы хотят сдаваться, поднялась вся рота и лавиной двинулась за старшим сержантом. Немцы подпустили их метров на пятьдесят, попрыгали в свои окопы и открыли по этой толпе огонь со всех видов стрелкового оружия. Рота залегла, но очень многие остались лежать навечно…
Вечером, командир батальона, видимо, желая всё-таки выбить немцев из окопов, вызвал меня к себе и поставил задачу, произвести разведку с целью установления возможных проходов в обороне немцев справа в лесу.
Построил взвод, как и положено по уставу, для действий в лесу, двинулись вперед. Глубоко в лесу немцев действительно не было, но когда подошли ближе к поляне и деревне, они нас подпустили почти вплотную и открыли огонь. К счастью, взвод вернулся без потерь.
Доложил обо всём командиру батальона, а уже на рассвете батальон снялся и, пройдя по лесу скрытно несколько километров на запад, вышел на опушку вспаханной полосы, а за ней невспаханное поле. Помню, было туманное раннее утро, мелко моросил дождик. Мимо проходил знакомый лейтенант, и он рассказал мне, что вчера погиб Костя Каркашадзе. Что-то ещё рассказывал, но я словно оглох… Погиб мой сокурсник, с которым я учился в одном отделении в училище. Прекрасный товарищ, юморист, вспыльчивый, но отходчивый весельчак…
Тут пришёл приказ наступать, а утро туманное, ничего не видно, и мы, по сути, без боя вошли в село Красное. Село оказалось совершенно пустое, немцы уже бежали. Пустые окопы, блиндаж. В домах никого из людей нет. Немцы всех угнали с собой. И вдруг сзади из кустиков бежит старичок: «Товарищ командир, сюда! Скорее сюда!» Я ничего не понял, но со своими связными побежал за ним. Там лужайка такая, и на ней из песка торчат две пары голых ног. Мне даже вначале показалось, что пальцы этих ног ещё шевелятся…
Быстро стали откапывать, и откопали два обнаженных тела. Старичок показывает: «Вот этот – тракторист, а этот комбайнёр. Им и по восемнадцати лет ещё нет…» А на всю спину и грудь у них вырезаны огромнейшие звезды, и в ранах виднелись белые рёбра и лопатки… И закопали их ещё живыми вниз головой… Мы были поражены. Ведь немцы в своих листовках пишут, что они воюют не с народом, а с коммунистами. А это же мальчишки по сути дела. Вот так мы впервые увидели настоящее лицо фашистов. Тут уже никаких агитаций и никаких слов не нужно… Поэтому мы не называли немцев солдатами. Для нас они были фашисты, гансы, фрицы, а звание «солдат» они не заслужили. И те из немцев, кто считает, что армия Вермахта состояла из солдат, и гордятся своим ветеранским прошлым, пусть они вспомнят эту деревеньку Красную…
Наступление продолжалось, мы вышли далеко в поле за селом, но там немцы нас остановили. Мы получили приказ – «Закрепиться!» Тут небо уже прояснилось, видимость улучшилась, и мы занялись организацией обороны. Мой 2-й взвод оказался самым крайним. Слева в 150-200 метрах проходила железная дорога, а сзади и слева – железнодорожный мост. Здесь и дальше никого из наших войск не было, поэтому пришлось принимать меры, обеспечивающие безопасность обороны. Я выставил дозор к железнодорожному мосту, и постоянно высылал дозоры и разведку на своём незащищённом левом фланге. Вся балка, по которой протекала речушка, заросла высоким кустарником, который за железнодорожным мостом оказался, заминирован немцами. Немцы там установили не только противопехотные мины, но и как сейчас говорят – «растяжки». Хитроумно замаскировали тоненькие проволочки, скрепленные с обыкновенными ручными гранатами. Чтобы хорошо изучить свой открытый левый фланг, я лично пошёл в разведку и увидел там сплошное переплетение этих тончайших нитей. А внизу, после дождя что ли, тут и там высовывались едва заметные усики. Для неосведомлённого человека они просто незаметны. Но это были страшные для пехоты шпринг-мины - «прыгающие» мины. При нажатии на эти усики или натяжении проволочки, мину подбрасывало более чем на метр, и только тогда взрывалась. При взрыве сотни металлических шариков и осколков, поражали всё живое в радиусе до 30-40 метров.
Помню, что на опушке кустарника валялись отдельные трупы, зато весь склон поля был усеян трупами наших бойцов… Увидев на петлицах одного из них два кубика, я перевернул его и достал из кармана гимнастёрки документы. Хотел забрать и из другого кармана, но тут по нашей разведгруппе открыли ружейно-пулемётный огонь. Пули падали совсем рядом, и мы, что есть силы, бросились к кустарнику. Но если бы мы не разведали раньше, что он заминирован, то непременно стали бы жертвой своей опрометчивости. Как ни манила нас эта балка своими зарослями, но мы предпочитали продвигаться на полуоткрытой местности. Позже, став командиром 9-й роты, я посылал своих бойцов на усеянное трупами «поле смерти», чтобы собрать документы и медальоны убитых.
В батальон прибыло пополнение, и мне прислали 12 молодых адыгейцев. То ли для усиления левого фланга батальона, то ли посчитали, что раз я жил и учился на Северном Кавказе, то буду для них более удобным командиром. Так, одним отделением я и поставил их в оборону на левом фланге. Они почти совсем не разговаривали по-русски, но я запретил им говорить на своем языке в ночное время. Категорически! Потому что немцы производили разведку, не раз появлялись вблизи наших окопов и даже у нас в тылу. А наши бойцы ещё не привыкли отличать немецкий язык от других языков, и в темноте адыгейцы рисковали быть подстреленными.
Началась более-менее позиционная война, немцы стреляют, мы отвечаем. Время от времени, обычно утром и в полдень, нас обстреливали из батальонных 81-мм миномётов. Противная вещь. Мины с близкого расстояния летели почти отвесно, и хотя прямые попадания в окопы случались не часто, но эффект от миномётного огня был жутковатый. Я видел результаты таких попаданий. Одного бойца из соседней роты превратило в месиво, изрубленное осколками… Другого солдата выкинуло из окопа, ноги разлетелись в разные стороны. Смотреть на исковерканный низ живота было жутко…
В один ясный день в конце августа командир роты Пелех вдруг говорит мне: «Научи меня стрелять из миномёта!» И под вечер мы с ним взяли один миномёт и лоток с минами, и с бойцом миномётного отделения, ушли влево от роты за железнодорожный мост по западному склону балки, который немцами заминирован не был. Установили в этом овраге миномёт. Я показал, как устанавливать, как наводить. А мои бойцы одно слово, что миномётчики. За то короткое время их просто нельзя было обучить. Не то, что хорошо стрелять, мину нельзя доверить. В общем, показываю, объясняю, и прицелились примерно в то место, где у немцев стояла арбатарея, которая накануне буквально изрешетила наш левый фланг. Я ни разу ещё не видел фугасных снарядов в действии, а тут на себе его прочувствовал. При падении фугасного снаряда слышался глухой хлопок, пауза и снова такой округлый хлопок, с выбросом земли высоко в небо, как фонтаном. При этом земля как бы вздрагивала. Снаряды всё шлепались и шлепались, выбрасывая синюю гарь и выстреливая вверх горячую землю…А было почти безветренно, и окопы начало заволакивать синим ядовитым дымом. Пришлось даже воспользоваться противогазами.
И вот командир роты навел миномёт, я подал ему мину, он опустил её в ствол миномета. Мина полетела, услышали её разрыв. Он же недалеко стреляет. Судя по всему – довольно точное попадание, куда и хотели попасть.
Но даже не успели с ним обменяться замечаниями о точности выстрела, как вдруг, вьи-и-ть, и взрыв в нескольких метрах от нас… Пелех вскрикнув, схватился за плечо. Мины стали падать одна за другой, мы схватили этот миномёт и бегом-бегом отсюда. Я был просто поражён, с какой же точностью нам ответили после первого же выстрела… Командир роты оказался тяжело ранен осколками в руку и левый бок, и его пришлось отправить в санчасть. А мне приказали вступить в командование ротой.
Мне придали полковую батарею 76-мм орудий. С её комбатом – старшим лейтенантом Орловым мы постоянно держали связь и немножко подружились. Он, рассказал, что сам он из Москвы, и проявил упорство, чтобы попасть на фронт. Сам-то он зенитчик: «Но находиться в Москве, когда такое творится на фронте... Я извёл свое командование рапортами и всё-таки добился своего». И среди прочего он рассказал мне, как он в июле встречался со Сталиным.
Будучи командиром зенитной батареи под Москвой, их собрал командир бригады: «На полуторку сели и поехали!» Подчёркиваю, не заместителей, не политруков, а только командиров батарей, дивизионов и бригад. Причём, быстро всех по тревоге подняли.
Приехали в Кремль: «Нас остановили у Спасских ворот. Выходит майор, командир бригады – полковник, подал ему список. Тот по списку читает, сверили, и проходим. Когда все прошли, человек сто, наверное, другой человек нас повёл. Завели в огромную комнату, там стол стоит буквой Т. Сели за него, а на столе расставлены тарелки и бутылки с водкой. Тут заходит генерал и Михаил Иванович Калинин: «Здравствуйте товарищи! Сейчас подойдёт товарищ Молотов, а Иосиф Виссарионович несколько задержится». Тут заходит Молотов. Только он несколько слов нам сказал, как заходит Сталин, Ворошилов и с ними два генерала. Мы все встали – «Садитесь, товарищи. Извините, я несколько задержался». Потом обрисовал вкратце положение на фронте и говорит: «Товарищи командиры, я надеюсь на вас. Не допустите ни одного вражеского самолёта к Москве! Я надеюсь на вас, и хочу выпить за ваши успехи». Ну, выпили. Тут он говорит: «Извините, я больше не могу оставаться», и ушёл. Потом ушёл Молотов, за ним Калинин, и за столом остался один единственный генерал. И вот тут, говорит, мы же голодные. Пока доехали, в общем, кто выпил больше, тех чуть повело. А двух человек, которые перебрали, взяли под ручки и отвезли в гостиницу. Но никого не наказали, ничего». Вот это его рассказ почти дословно.
Но вот это стояние в обороне тоже принесло нам потери. Перед фронтом нашего батальона работал сапёрный взвод. Снимали немецкие мины, в том числе противотанковые и фугасы. Вернее всё это делал командир взвода: сам искал мины, сам их откапывал, вытаскивал взрыватель или, для быстроты действий, вставлял в него предохранительную чеку. А его помощники: старший сержант и старшина передавали эти мины бойцам, и те сносили их подальше, в балку. Скорость всей работы зависела от этого лейтенанта, потому что минная подготовка у бойцов была очень слабая. И вот ночью они почти все мины сняли, а днём их должны увезти. Но среди этих сапёров нашёлся один «знающий», который начал хвастать: «Да, я знаю как…» Как, что, зачем он вставил взрыватель, но как рвануло и семь человек в клочья…
А слева же от меня фланг открыт. Командир батальона приходит раз, второй, дозоры проверяет, секреты выставляем сразу за дорогой, и он принял решение заминировать там участок противопехотными минами. Этот же командир взвода начал минировать. Старшина и старший сержант копали для постановки мин ямочки, вставляют мину, а лейтенант устанавливал взрыватель, присыпал землей и укрывал дёрном. И всё это ночью, на ощупь… Больше половины он сделал, тут ночь кончается, и он видимо поспешил.
Помню, стояла светлая, тёплая ночь. Тихо, кажется, всё замерло. Иногда только у противника прострокочет пулемёт и нарушит свистом пуль ночную тишину. Вот-вот должен наступить рассвет. Вдруг слева, в кустах раздался взрыв, а за ним нечеловеческий крик. Кто-то так орёт, что просто невозможно… Я в это время находился во 2-м взводе и решил, что к нам слева зашли немцы, и разорвалась граната в районе дозора роты. Сразу побежал туда с группой бойцов.
Прибегаем к месту взрыва и при лунном свете вижу, стоит этот лейтенант, весь побитый, из ушей течёт кровь, машет культями вместо рук, а из них свищет кровь… Рядом полулежал, скорчившись, стонущий старшина. Он тоже весь побит осколками, но не так сильно, как лейтенант. Старшину сразу унесли на КП роты, а с лейтенантом пришлось помучиться. К нему подбежал старший сержант, этот бывший унтер-офицер, и давай его хватать. А он орёт: «Пристрелите меня! Немедленно пристрелите меня!» Тут немцы как открыли огонь по этому месту, и ружейно-пулемётный, и миномётный. Кое-как его утащили в овраг… Жестами показывали, чтобы он кричал.
А на 35-летии Победы на встрече ветеранов 299-й дивизии в Белгороде я встретился с бывшим командиром сапёрного батальона. Максимцов Михаил Данилович, он уже генералом стал, жил где-то в Саратовской области. Мы разговорились, я рассказал ему этот случай. А он мне и говорит: «Я знаю про этот случай. Он ведь жив остался и я с ним переписываюсь».
В общем, сколько-то мы простояли в обороне. Каждую ночь совершенствовали оборону, систему огня. Но однажды ночью комбат Шутов собрал командиров рот и сообщил, что мы … находимся в окружении. И приказывает: «В обороне вести себя также, как всегда. Но через полчаса начать отводить личный состав к КП батальона. Мы должны пройти по открытому полю и дойти до леса. Поэтому приказываю - подготовить роты к скрытному выдвижению в лощину, куда выдвигается батальон. Чтобы ни котелок не брякнул, ни лопатка, ничего! Ни в коем случае не курить! Никакого шума, никаких команд!» Его приказ мы выполнили в точности, и немец так и не узнал о нашем отходе. До утра мы шли, не зажигая спичек, без курева, на восток по лесу, через поля. Перед рассветом зашли в лес, там командир полка собрал командиров подразделений и объявил: «Наша 50-я Армия попала в окружение…»
Потом мы ускоренным маршем пошли на юго-запад. Причём, Кравченко вёл наш полк то на восток, то по совсем другой дороге в сторону запада, то обратно. Это длилось долго: дни, недели... Но если говорить о выходе из окружения, я не могу умолчать вот о каком моменте. Признаться, пренепреятнейший случай…
Когда нас обмундировывали в училище, то всё было подогнано, за исключением обуви. Когда примеряли сапоги, то я заказал 39-го размера. Чтобы строго в обтяжку, так красивее смотрится. А мне нужно как минимум 39,5 размер. Ну, кое-как на носок я надел их. Но ведь на фронте там и дожди, там и слякоть, болота. Я же не рассказывал, как мы вылазили по этим болотам… А сушиться там некогда, негде, да и невозможно. А у меня ноги болели ещё с детства, после работы в колхозе. Мы же на Кубани работали на рисовых чеках, и при прополке там человек по колено в воде. А я же ещё ребёнок – 6-7-й класс, и у меня стали опухать и болеть колени, суставы. В училище я даже несколько раз лежал в санчасти, не мог ходить.
А попал в боевую обстановку, там уже не до лечения. Но настал момент, когда я преодолел стыд, я же болен, а не ранен, и обратился к полковому врачу. Как-то в обороне оказались недалеко от КП полка и утром, когда в доме не было командира полка, зашёл к врачу. Полковой врач, женщина, лежала на русской печи и с явным неудовольствием выслушала мои сбивчивые жалобы на почти полную невозможность сгибать колени из-за отёка и болей. Попросила спустить брюки и показать ноги, т.к. сапоги я уже снять не мог. Краснея, я показал свои ноги, колени, но она ничего не могла утешительного мне сказать. Только руками развела: «Ну что я могу сделать? У меня же нет таких лекарств. У меня вот йод и бинты, вот и всё…» И вот превозмогая ноющую, нестерпимую боль в коленных суставах, я также ходил со всеми. Бойцы как могли, помогали мне ходить, добираться до повозки. Но настал момент, когда ноги просто отказали… Тогда ездовой моей роты Зубарь, здоровый крестьянин лет сорока из Черниговской области, брал меня на руки, клал на повозку и заботливо укрывал мои ноги. Вот так мы совершали марши каждый день, каждую ночь...
На короткие привалы, ночью, во время довольно сильных уже заморозков, личный состав заходил в дома населённых пунктов, а я один оставался лежать на ротной повозке. Зубарь всё сетовал на мою болезнь и свою участь, что ему приходится всё время нянчиться со мной и даже с земляками, не может поговорить. Командуя ротой, будучи не в состоянии передвигаться, я всецело был зависим от ездового, который вопреки всем уставам и наставлениям, ехал в колонне роты.
Шли организованно, и только просёлочными дорогами или просеками. На нормальные дороги не выходили. Однажды, остановились в лесу на привал, и командир дивизии собрал на поляне весь командный состав. После совещания комбат Шутов, командиров рот, не собирал и ничего нам не сообщил. Хмурый прошёл мимо подводы, на которой я лежал в шинели, затянутый ремнями, как положено, хоть и лёжа, но по стойке «смирно». Построившись ротными колоннами, двинулись в путь. И вот, значит, идём днем. На небольшой полянке дорога разветвлялась. Одна шла влево, в лес, на северо-восток, другая – прямо, на восток. Колонна двигалась по прямой дороге. На самой развилке стоял высокий, сухопарый, подтянутый полковник – заместитель командира дивизии по строевой части, и кое-кого направлял по левой дороге.
Наша 9-я рота идёт последней в полку, и он как увидел меня на подводе, закричал: «Влево! Влево!» Но тут Зубарь мой так хлестнул лошадей, что они понеслись галопом. Обогнал нашу роту, 8-ю, а вдогонку нам неслось: «Стой! Стрелять буду! Заворачивай налево!» Меня трясёт, мне больно, кричу ему: «Зубарь, прекрати! Что ты делаешь?» А он только сопел и ругался: «Товарищ лейтенант, лежите! Лежите!» В общем, уехали. Я спрашиваю: «Что такое?» Он ворчит: «Ничего! Будет тут каждый командовать...»
Ночью в какой-то деревушке встали на привал. Бойцы по избам разошлись, а я на подводе. Он подходит, стал получше меня укрывать шинелями, ворча всё время: «Вот связали вы меня… А хоть знаете, куда вас полковник хотел направить?» - «Нет». Зубарь как-то многозначительно выдавил: «В медсанбат!» Ну, для меня это не новость, меня же всё время хотели отправить в медсанбат. - «Ну и что?», говорю. Тут он как вскипит: «Да знаете ли вы, что медсанбат оставлен там, в лесу? Я же слышал всё, что говорил командир дивизии на совещании. Всех раненых и больных собирали и отвозили в медсанбат. Он остался в лесу, на каком-то острове, на болоте, не отмеченном на картах. Какое там болото, не знаю, но мы ведь уходим. И если туда наши добирались, то и немцы могут добраться…» Кроме слов благодарности я ничего не мог ему сказать… А он, подтыкая мне под бока попоны и шинели, все бурчал и бурчал. Получается, оставили раненых немцам, но мы же и не собирались до Москвы отступать…
К утру всё оказалось покрыто белым инеем раннего заморозка. Начали строить личный состав, и командиры взводов доложили мне, что семь человек из роты пропали… С тяжёлым сердцем я подъехал к командиру батальона с докладом: «В роте пропало семь человек…» Получил нагоняй, куда, мол, смотрю, и что делаю… Потом случился еще один неприятный эпизод.
Когда уже подходили к линии фронта и я встал на ноги, то заметил - мой Зубарь и трое бойцов постоянно кучкуются, о чём-то перешептываются. Потом Зубарь подошёл ко мне и, помявшись, сказал: «Воевали мы, как могли. А сейчас, лейтенант, может, без нас обойдешься?..» Это были бойцы в возрасте, из здешних мест. Наблюдая, как быстро наступают немцы, они решили отсидеться по домам. Вскоре все четверо незаметно исчезли… Но в целом, дезертиров у нас практически не было. Возможно, сыграло свою роль, что отступая, мы удачно наносили врагу чувствительные удары, и в роте, и в полку поддерживалась крепкая дисциплина, и не чувствовалось растерянности.
Двинулись дальше. То ли от установившейся хорошей погоды, то ли от тепла, в котором я находился на подводе, но через несколько дней я смог уже сидеть, а потом даже и самостоятельно слезать с повозки, и забираться на неё. Так я постепенно начал сам передвигаться возле подводы, а потом и без повозки ходить на совещания, по расположению своей роты.
Если же вернуться немного назад, то можно вспомнить ясный солнечный теплый день, когда в пору бабьего лета мы подошли с запада к станции Жуковка, и получили приказ - построить в лесу землянки. Вот тут-то неуклюжие, пожилые мои подчиненные, показали мне, что я совсем ещё младенец в этих строительных делах.
Как же быстро и сноровисто они работали! Через каких-нибудь час-полтора, землянки в три наката были закончены и замаскированы. Но ни одной минуты в них так и не пришлось отдохнуть… Снова выступили и по просёлочным дорогам пошли на восток. Здесь же, в лесу под Жуковкой, я выделял бойцов для оборудования штаба полка и уничтожения документации. Деньги и секретные документы затопили в сейфах в болоте. Ещё запомнилось, что там пришлось подорвать две «Катюши», которые не сделали ни единого выстрела…
Дивизия шла по тропкам и просёлочным дорогам тремя параллельными колоннами. За нашим 956-м полком следовал штаб дивизии. В один день, уже почти на рассвете, по приказу комбата Шутова наша 9-я рота осталась на опушке леса прикрыть отход всего полка. Два взвода я расположил по опушке леса, оседлав дорогу на запад. А 3-й взвод Жукова я расположил далеко слева, чтобы немцы не обошли нас лесом. Придал этому взводу один из двух оставшихся в роте «максимов». В оставшуюся часть ночи мы успели отрыть ячейки для стрельбы сидя.
Я пошёл на свой левый фланг к Мишке Жукову, когда раздалась беспорядочная стрельба, а потом заработал пулемёт из центрального участка обороны роты, где находился КП роты. Прибегаю туда, и оказалось что. Увидев, что на пригорке появились немцы на мотоциклах, политрук роты сразу дал команду открыть огонь. Но из трёх мотоциклистов подбили только один, остальные повернули назад. Я был крайне возмущён. Ведь вражескую разведку следовало пропустить, а открывать огонь потом уже, по главным силам противника. Но новый политрук не знал даже таких элементарных вещей.
Конкретной задачи, до какого времени мне находиться здесь, в арьергарде, в суматохе указано не было, и я надеялся получить указание об отходе после. В ожидании появления более крупных сил противника, мы форсировали рытьё окопов, а я отправился во взвод своего друга.
Из-за темноты, расставить людей Мишка ночью не мог, и поэтому к рытью окопов они приступили только с рассветом. Проверив расстановку личного состава в его взводе и надёжность прикрытия левого фланга, я уже возвращался на свой НП, как услышал передаваемое по цепи: «Немцы на дороге!» Со всех ног бросился вдоль опушки на НП, который располагался здесь же у дороги, в цепи взводов. А справа уже застрочил наш станковый пулемёт.
Оказывается, немцы шли по дороге взводной колонной, но были ещё далеко, метров за шестьсот, когда, как и в первый раз, политрук роты, остававшийся на НП, дал команду открыть по ним огонь. Преждевременно! Недопустимо! Они, конечно, развернулись в цепь, залегли и, сразу же к удовольствию моего политрука, начали отходить назад за пригорок, из-за которого и вышли.
Больше они на дороге не появлялись, а мне с политруком пришлось объясниться по тактике ведения боя. Своё столь преждевременное решение открыть огонь он оправдывал тем, что: «Увидел немца – бей его!» Но ведь «бить» надо умело! Правильно было бы появившихся немецких мотоциклистов пропустить. Это был всего лишь дозор, разведка, а шедшую колонну немцев нужно было подпустить на несколько метров и расстрелять в упор, внезапно и прицельно.
Через час-полтора слева, где находился взвод Жукова, поднялась неимоверная трескотня выстрелов. Пули начали свистеть и над нашими окопами, но огонь вёлся издалека и не прицельно. Стрельба слева всё усиливалась, а наш станковый пулемёт там почему-то молчал. Потом мне показалось, что трескотня выстрелов и разрывы гранат переместились в тыл, за расположение 3-го взвода. Я не выдержал и побежал к Жукову. Он, обычно невозмутимый, в ярости бегал с автоматом в руках. Наконец-то застрочил и его станковый пулемёт. Кое-где показались бойцы взвода, но некоторые вели огонь не из своих окопов, а из-за кочек, кустов. Отдельные бойцы побежали уже за свои окопы вдогонку убегавшим немцам, стреляя и бросая в них гранаты. Огонь усиливался, но сразу было трудно определить, что же произошло. Обзор в лесу ограничен.
А произошло здесь то, что так часто происходит на войне. Все мы ждали появления противника в любую минуту, в т.ч. и 3-й взвод. Для этого ведь нас и оставили. И, тем не менее, для 3-го взвода он появился внезапно. Наблюдатели слишком поздно заметили немцев, когда те уже цепью шли и первыми открыли огонь. У некоторых бойцов даже не оказалось оружия под руками. Они брились, подшивали воротнички, пуговицы, занимались ремонтом одежды… Да мало ли дел у солдата? Вот и залегли там, где их застал огонь противника. Некоторые поползли к своему оружию, а другие побежали, выбирая более выгодные для себя позиции, назад, в тыл. На команду Жукова: «Огонь!» ответило лишь несколько винтовочных хлопков. Станковый пулемёт молчал. Мишка сам подскочил к нему, но там что-то второпях перекосило, пулемёт заело, и немцы оказались совсем близко…
Взвод, бросил свои окопы и начал отступать. Мой друг открыл огонь из автомата, и подавая команды: «Стой!», «Ложись!», «Огонь!», всё-таки заставил взвод залечь. А в это время, после бросков гранат, немцы ворвались в наши окопы и пробежали за них. Но к этому времени Мишка уже остановил взвод, устранил панику, привёл его в порядок и организовал огонь. Организовал огонь в сторону 3-го взвода и исполняющий обязанности командира 2-го взвода младший сержант Николенко. Он не видел немцев, но приказал взводу открыть огонь на звуки выстрелов.
Когда огонь стал организованным, немцы начали отходить. Их раненые истошно кричали. Гортанно, противно!.. Немцы снова, уже отдельными группами, бросались подбирать своих раненых, но огонь взвода всё нарастал, т.к. уже почти не получал ответного сопротивления. Инициатива полностью перешла в руки Жукова, и немцы побежали. Заработал и наш «максим», погнавший немцев ещё сильнее.
Вот как раз в этот момент я и прибежал туда. Не в состоянии что-либо ответить мне, Мишка сел рядом с убитым немцем. Достал у него из кармана сигареты, и, ни разу не куривший до этого, закурил. Руки и лицо дрожали, да и весь он как-то дёргался…
Не помню точно, сколько тогда немцев мы насчитали убитыми, кажется восемнадцать. Но на всю жизнь запомнил двоих раненых. Один из них был ранен в грудь и живот навылет, и уже не мог говорить. Изо рта шла кровавая пена... Второго, унтер-офицера, подобрали с перебитыми ногами уже после боя. Он лежал под кустом метрах в 40-50 в нашем тылу. Значит, был в числе тех, кто прорвался за наши окопы. Тихо лежал, без стона. Затаился. А может, потерял сознание, а потом замаскировался и притих, выжидая удобного случая. Но двигаться он не мог, и нашли его случайно. Оба они умерли. Первый – сразу же, а второй – на третий день...
Для нас же этот бой закончился как нельзя лучше - ни одного убитого! Ни одного серьёзно раненого! Были незначительные ранения, царапины, но разве могли они идти в какое-то сравнение с нашей победой, одержанной нами, самими, без чьей бы то ни было помощи? Взвод ликовал - мы победили! Ведь для солдата любой бой – знаменательный, любая победа – завоёвывается с трудом. И не до допущенных промахов сейчас было. Гордился я и этой победой, и своей ротой, которая меня не бросила, когда я был беспомощен, и верила, подчинялась сейчас.
Так прошёл для нас первый день в отрыве от полка, батальона, от всех своих. Но день закончился, а никаких распоряжений не поступило. На следующий день пришлось перестраивать оборону и делать её почти круговой. Но немцы так и не появлялись. Весь день прошёл в тревоге и напряжении.
Наступившая ночь никаких изменений не принесла. Настроение бойцов из возбуждённого и приподнятого становилось тревожным. Приходилось отвлекать их от размышлений, шутить, смеяться, бодриться, не показывая вида, что у самого на душе давно уже «кошки скребут». Об этом я не говорил даже со своим политруком роты. Старался казаться уверенным и весёлым. Но ведь солдата не обманешь...
В роте кончились сухари — наша основная еда. Из продуктов у нас остались только набитые большими кусками сахара противогазные сумки. Килограммов пять-шесть. Но от такой пищи у многих начинала болеть голова и появилась тошнота.Пришлось отправить трёх бойцов в деревню за 3-4 километра в разведку, в надежде, что они принесут хоть немного хлеба. Так, в напряжённом ожидании прошла ещё одна бессонная тревожная ночь и третий день в отрыве.
Это сейчас кое-кому покажется – «подумаешь, трое суток!» Но то была война, а не турпоход с ночёвкой у костра. Мы одни, совсем одни, и ты, и никто другой, а именно ты должен решить, что делать дальше. А я и сам понятия не имел, что предпринять. Приказа на отход не было. А отойти без приказа, значит, нарушить присягу, не выполнить приказ командира – этого я сделать не мог. Оставаться же на месте не имело смысла. Во всяком случае, с моей точки зрения, ведь нас немцы могли просто обойти и уничтожить. Хорошо, если убьют в бою или пристрелят, а если возьмут в плен?! Представить это было невозможно…
Поэтому с наступлением третьей ночи я снял роту, и повёл ее форсированным маршем. Шли по брянским лесам днём и ночью, по еле заметным тропам, ведомые проводниками из местного населения. Наконец, через несколько суток, после обеда догнали свой полк. Меня переполняла радость, оттого, что всё так удачно закончилось. Но тут же получил выговор от комбата за то, что так долго оставался в арьергарде. Оказывается, нам надо было в первый же день оставить позиции и присоединиться к полку. Но я-то этого не знал! Мне никто не сказал, сколько времени прикрывать полк. И главное, никто: ни командир батальона, ни комиссар, ни начальник штаба, даже не поинтересовались у меня, как прошло всё это время. И вообще, ничего не спросили о наших странствиях.
Так мы продолжали своё движение, стараясь избегать встречи с противником и не вступая в бой. Причём, хочу отметить такой момент. Продвигаясь лесами по просёлочным дорогам и тропкам, будучи в окружении, командир полка Кравченко на каждом совещании командного состава строго следил за соблюдением формы одежды, её чистотой, чтобы подворотнички были свежими. Взыскивал с тех, кто не успевал побриться, имел какое-то отклонение от ношения формы одежды. Всему командному составу приказал пришить повседневные знаки различия, латунные пуговицы, надеть ремни со звездами. Одним словом держал полк в руках, несмотря на то, а может быть именно потому, что кругом были немцы, он требовал дисциплины, начиная с мелочей.
В одну из тех морозных ночей меня послали в разведку, чтобы выявить возможность прохода через профилированную дорогу. Вернувшись доложил комбату, что по ней всё время идут немецкие колонны танков и автомашин. Но оказывается, и другие командиры тоже ходили в разведку, а один из командиров 1-го батальона нарвался на немцев и вступил с ними в бой. В результате, полк немедленно был поднят по тревоге и пошёл строго на север в лес, далеко обходя стороной место стычки с немцами. Но как ни старался командир полка вывести полк без боев, всё-таки ему это не удавалось. То тут, то там он вынужден был принимать бой и даже идти на прорыв…
В одну из тихих морозных ночей мы вышли на станцию Жуково. И оказалось, что мы и сами не заметили, как вышли из окружения. Но здесь же получили приказ – немедленно выступать на юг и овладеть городом Белёвым. Никто не учёл, что мы столько скитались, ни часа нам не дали отдохнуть. Но хуже этого было то, что нас не пополнили боеприпасами. В полку к тому времени осталось две 76-мм пушки, одна «сорокопятка», 82-мм миномёты, но вот снарядов и мин к ним почти не было. У нас почти не осталось патронов и гранат.
И всё же нам удалось отбить Белёв. По всей видимости, немцы не ожидали от нас такого дерзкого манёвра, и мы сравнительно легко выбили их из города. Но в том бою я потерял своего последнего взводного – лейтенанта Жукова. Это была такая потеря… Ближайший друг, с которым мы столько прошли… Его взвод наступал по центральной улице, и когда он перебегал её, то снаряд немецкого танка разорвался у него под ногами. Множеством осколков ему побило ноги и низ живота.
Но удержать Белёв мы не смогли. Немец быстро опомнился и бросил на нас лавину пехоты, танки. Из окружения мы вышли без снарядов, гранат, почти без патронов, а последний бой совсем нас обескровил. Одиночными выстрелами из винтовок пытались сдерживать их, но потом квартал за кварталом, дом за домом стали переходить в руки немцев. Последние пушки и минометы были расположены в самом центре города, на самом высоком месте, но немецкие танки не позволили вывезти их. Установили на колокольне два станковых пулемёта, и их пришлось бросить. Всё растеряли…
В полутора километрах от Белёва, в доме маленькой деревушки, я нашёл своего друга. Мишка лежал в шинели возле раскалённой докрасна плиты. В этой же душной комнате лежало ещё несколько тяжелораненых. Глаза его были закрыты, но когда я стал его звать, медленно их открыл. Взгляд у него затуманенный, какой-то отсутствующий, но узнал меня. Начал что-то шептать. Я наклонился, еле услышал: «Холодно, замерзаю…» Я начал говорить, что в комнате жарко, что он укрыт хорошо. Он опять начал шевелить губами, и я снова наклонился к его посиневшим губам. Он просил: «Как друга прошу, не дай мне мучиться. Пистолет мой за бортом шинели. Сам я уже не могу… Пристрели меня. Прошу, умоляю…» Конечно, никакие мои слова не могли успокоить его… Из искрошенных ног кровь уже не сочилась, запеклась, но жизнь его угасала… Едва теплилась в нём, может только из-за тепла, исходящего от плиты и заботы девушки военфельдшера. Таким я оставил своего умирающего друга… Спокойного, выдержанного, начитанного тонкого юмориста и пересмешника. Мать его жила где-то в Казахстане…
Мы отошли, на несколько километров от Белёва и заняли оборону фронтом на северо-запад. Левый фланг батальона, там держала оборону 7-я рота, доходил до оврага. В центре стояла моя 9-я рота. А справа – обороняя жуткую в своём вымершем безмолвии небольшую деревушку – 8-я.
С вечера мы начали готовить окопы. Но, увы, на батальон не осталось ни одной сапёрной лопаты, даже малой. А земля замёрзла. В оставленной жителями деревушке нашли несколько лопат, 2-3 кирки, несколько ломов, забрали все топоры, лемеха от плугов и другие железные предметы, способные хотя бы ковырять землю, а бойцы пригоршнями выбрасывали её наружу. Всю ночь не прекращалась работа, а перед нами, также всю ночь, ревели танковые моторы немцев. А в батальоне не осталось ни одной гранаты, на каждую винтовку строго ограниченное количество патронов… К утру, пасмурному, холодному, недоброму, успели отрыть окопы всего на 50-60 сантиметров.
Я находился в одном неглубоком окопчике с командиром миномётной роты лейтенантом Бова. Его рота, оставшись без миномётов, заняла оборону вместе со стрелками. И как только рассвело, на наши неоконченные и незамаскированные окопы пошли в наступление немцы.
Два танка стали утюжить неглубокие окопчики, давя гусеницами наших бойцов… На более глубоких окопах немцы открывали нижний люк и бросали свои маленькие ручные гранаты-«лимонки». Ни в обороне, ни в наступлении они не наносили нам никакого вреда, но в этих условиях, когда граната разрывается в окопе непосредственно на человеке… За танками шла пехота. Как только могли, организовали по ней огонь, но он был слабый и далеко не плотный. Из-за отсутствия патронов молчали и уцелевшие ручные пулемёты.
Левый фланг батальона, не выдержав такого безжалостного уничтожения почти беззащитных людей, дрогнул. Сначала по одному, потом группами, бойцы с высоты побежали в овраг, казавшийся им спасительным… Но оказывается туда по лощине со стороны 2-го батальона зашёл ещё один танк.
К нам подбежал боец миномётной роты, потом боец моей 9-й роты, чудом уцелевшие при перебежках, и доложили, что в овраге стоит немецкий танк и почти в упор просто расстреливает бегущих в этот, как казалось, «спасительный» овраг… А они, увидев это, успели повернуть назад. Эту «новость» немедленно передали по окопам батальона, чтобы никто не бежал туда, а сражался до последнего. После этого, действительно, никто уже не покидал своих окопов. То ли наш огонь помешал, то ли немцы сами не пошли, но немецкую пехоту мы к своим окопам не подпустили. Полежав под нашим, хоть и жидким, но зато прицельным огнём, она откатилась назад. Ушли восвояси и немецкие танки.
Когда под вечер мы с лейтенантом Бова пошли в овраг, то увидели там множество трупов. Среди них мы нашли политруков 7-й и 9-й рот, и лейтенанта Бобкова, моего однокашника по училищу… Скромного, как красна девица, застенчивого и обидчивого юношу. Его нежную белизну щёк ещё не тронул даже пушок, а сейчас с его почти белыми волосами забавлялся пронзительный морозный ветер… Мы взяли у них документы и сдали командиру батальона. А планшет Бобкова, я оставил себе, в память о друге военной юности…
Оборонявшиеся на левом фланге показали нам, где стоял в овраге танк, и как он почти в упор расстреливал сбегавших со склона в овраг, т.к. они его просто не видели. Этот бой унёс много жизней наших товарищей. Нас осталось ещё меньше…
Вот так, мы снова отступали, всё дальше и дальше на восток. Оставляя наши города и сёла. Настроение было жуткое и тягостное... Стыдно было глядеть в глаза людям, особенно старикам. Деревенские женщины, долго и молча, с укором смотрели нам вслед. Лишь молоденькие девчонки, когда случалось заходить в сёла, собирались вечером в своем клубе или в какой-то большой хате, с весёлым задором говорили: «Вот хорошо, что вы к нам пришли! Теперь-то вы нас не отдадите фрицу! Мы-то боялись, что у нас здесь нет военных». Но, увы, мы отступали дальше…
Так мы оказались в обороне у села Дедилово Тульской области. Наш 3-й батальон, охватывал село с южной стороны. Передний край проходил по окраине рабочего поселка, а моя 9-я рота оказалась на левом фланге. Я расставил свою роту по фронту обороны, и зашёл в один из домов. Как оказалось, там жила учительница. Они с дочерью пили чай, и хозяйка любезно пригласила меня составить им компанию.
Несмотря на войну в доме было очень чистенько, комнаты опрятно прибраны, и чай они пили в почти торжественной обстановке: с блюдечек, с чинным поведением за столом. Дочка, курносенькая, вполне миловидная ученица 9-го или 10-го класса, была очень смешлива. То и дело она прыскала от едва сдерживаемого смеха. Когда я стал уходить, она вышла со мной в сени, чмокнула меня в губы и убежала в дом. Я почувствовал, что моё лицо горит. Это был первый девичий поцелуй в моей жизни...
Через день-два произвели перегруппировку, и весь наш батальон занял оборону на западной окраине и далее вдоль дороги, идущей на запад, фронтом на юго-запад.
Фронт обороны роты был небольшим, но людей осталось совсем мало, и чтобы занять его, пришлось располагать бойцов на расстоянии 15-20 метров один от другого. И так во всех ротах… Стояли морозы, но окопы отрыли в полный профиль. Днём немец вёл себя относительно спокойно, а его методичный артогонь нас особенно не беспокоил. Гораздо больше волновало, что левый фланг у нас опять остался открыт, и только километра за два, на окраине Дедилово и далее по высоткам занимала оборону какая-то часть.
Всю ночь в расположении немцев слышался шум работающих или прогреваемых моторов. С каждой ночью он всё усиливался, а у нас по-прежнему нет гранат… Чтобы выяснить, что делается в расположении немцев, командир полка приказывает комбату провести разведку. А тот приказывает мне – узнать, что за моторы там шумят? Но кого послать, если людей почти не осталось? Пришлось идти самому.
Но надо сказать, что это обстоятельство меня нисколько не смутило. У нас в училище особое внимание уделялось скрытому переходу линии фронта противника. Вот, например, занимает оборону такой же батальон курсантов, так надо найти место для скрытого перехода. Нужно скрытно подползти, чтобы никто не заметил. Маскировку, естественно, тоже изучали. Это первоочередное дело. Приучали к выдержке. Командир взвода Муса Салбиев учил нас: «Запомните, нет такого поста, который нельзя обойти!» Так и подползали. Но если кто-то из командиров, проводивших занятия, заметит, сразу команда: «Отставить!» Снова повторяешь.
А тут задача не самая сложная. Устоявшейся линии обороны ещё нет, ночи на редкость тёмные. Но в одну ночь пошли, моторы вроде работали, а ничего не нашли. Вернулись ни с чем. Днём их опять слышно. Тогда я взял двух бойцов и пошли уже значительно правее расположения нашей роты.
Передний край обороны миновали благополучно, и вышли точно к той деревне, куда и планировали. Да, слышим, гул всё сильнее и сильнее. Понаблюдали за последним домом, вроде все спокойно. Зашли в него, там одна молодая женщина. Рассказала нам: «Немцев в деревне нет, а их танки находятся километрах в полутора в овраге, откуда немцы днём иногда приходят. Ищут кур, молока».
Ну, мы поползли туда. Земля уже мёрзлая, но снега ещё нет. Подползли, действительно, такой крутой склон в небольшую балку. Заглянули в неё, а там внизу крик, шум. И танки, танки, гудят. То ли просто двигатели прогревают, то ли ещё что, кто его знает, темно ведь. Но то здесь, то там, то и дело блеснёт огонёк фонарей. Ну что, теперь всё ясно, где танки.
На обратном пути опять решили зайти в эту избу. Чтобы попросить хотя бы водички, или если есть, молока. Потому что на фронте человек всегда хочет пить. И не только летом. Почему-то и зимой, и всегда хочется пить, пить, пить. Видимо от нервного напряжения. В общем, зашли к ней.
А я одного бойца оставил на улице охранять, а второго поставил за домом со двора. Дверь открывалась наружу, за ней сени, и уже потом двери в избу. И только мы зашли, я даже не успел ничего спросить, но коптилку она уже зажгла, как вдруг услышали за окном лающую речь. Она вскрикнула: «Немцы!» И получилось что? Они открывают первую дверь, а я как раз открывал дверь в дом, и встал за неё. Три немца зашли в дом, закрыли за собой дверь. Тут я выскочил через другую дверь на зады, в огород, и мы как побежали от этой избы… Вот тебе и попили водички… Едва не попались в лапы немцам из-за своей беспечности.
Когда вернулись, я доложил командиру батальона, где танки. Ушёл в роту, но вскоре прибегает связной: «Явитесь к комбату!» Прихожу к Шутову, оказывается, меня просят лично явиться в штаб полка. Видимо их данные не сходятся с моими. – «А как я роту оставлю?» - «Ничего!» Ну, я и пошёл. Штаб полка находился в деревне северо-западнее Дедилово, в 2-2,5 километрах от КП батальона. Под сильным арт-огнём вышел на возвышенность, и увидел, как с юго-восточной стороны немцы с танками ведут наступление на соседа. Оттуда долетали уже и пули. Шквал огня обрушился и с фронта нашей обороны. Пришлось передвигаться короткими перебежками, но казалось, что расстояние не сокращается. Не просто усталость, а крайняя изнурённость давала о себе знать. Ведь две ночи подряд пришлось ходить в разведку. А после последней ночи не пришлось, не только вздремнуть, но и просто посидеть. Всё тело дрожало от усталости и перенапряжения, а тут надо идти под ураганным огнём в штаб полка...
Но что интересно, само Дедилово не обстреливалось. Артналёт как бы окаймлял село: с северо-востока на север, потом спускался до западной его окраины, т.е. до нашего района обороны, и дальше вдоль дороги, точно по нашим окопам, на запад. Значит, немец тоже вёл разведку и знал, что там наших войск нет.
По мере моего удаления от батальона огонь сзади не ослабевал, а, наоборот, усиливался. Усиливался он и слева, и справа от меня. Наконец, выбрался наверх. Оттуда до крайних домиков деревни – рукой подать, но тут уже пули вовсю летят с северо-востока. Пришлось ползти.
А пока я поднимался, пошёл снег. И так внезапно, прямо валит огромными хлопьями. Быстро занесло всё это место. И пока я дополз до места, где штаб полка находился, там уже всё белым бело. Пока добрался, некоторые дома по деревне уже запылали. А в том доме, где стоял штаб полка, разбитые окна, дверь. Подхожу, думаю, что такое? И главное, никого не видно. А я ещё по дороге нигде никого не встретил, думаю, странно…
Захожу сзади, вижу, из окна выпрыгивает человек в нашей шинели. Подхожу: «Вы кто?» - «Помначштаба 956-го полка». – «А где все?» - «Так ушли уже». – «А куда?» - «Не знаю». Как не знаю? Ну, ладно, нас уже двое. Тут от другого дома к нам подбежал боец комендантского взвода. Я обрадовался, что нас уже трое, но думаю, куда же идти? Идти на восток и север уже не имеет смысла, с той стороны уже всё пылает, значит там немцы. А южнее они и раньше были. Говорю им: «Вот что. Надо идти на северо-запад», потому что это наша территория и там пока никакого огня нет. Мне никто не возражал, не усомнился в моих действиях, полностью доверились мне. У меня же самого не было уверенности, просто какая-то интуиция подсказывала, как действовать в данной конкретной обстановке.
И вот повёл я их на запад. Подходим к какой-то снежной лощине, и видим внизу сбившихся в кучу человек тридцать в белых маскхалатах. На снегу их почти не видно. Если б не разговор, мы бы их и не заметили. Разговор вроде русский. Кричу им: «Вы кто?» - «А вы кто?» - «Мы такие-то». Подходим, разговорились, оказывается это взвод стрелков из сибирской дивизии, которая только вчера попала на передовую, и в этой кутерьме они заблудились. Говорю их лейтенанту: «Хорошо, я вас сейчас выведу! Пойдёмте на северо-запад». – «Нет, я туда не пойду! Там немцы». – «Немцы вот, - показываю, - сзади нас!» Он ни в какую: «Нет, я не пойду!», ну, это вполне логично для человека только прибывшего на фронт. Тогда я стал объяснять всему строю: «Товарищи бойцы, я командир 9-й роты. Воюю столько-то, так что кое-что понимаю. Предлагаю, подчиняться мне и я вас выведу». Они пошумели-пошумели, но согласились. Тут уже и младшему лейтенанту пришлось согласиться.
Повёл их, а сам понимаю, что из этого мешка надо успеть выбраться до утра. И вот когда с правой стороны увидел «тёмный коридор» среди пожарищ, сразу повернул туда и действительно вышли к своим. Причём, прямо в их дивизию. Эти бойцы были мне очень благодарны, но мы-то своих не нашли. Пошли искать, и только на исходе дня пристали к обозу нашей дивизии. Когда ездовых увидели, такая радость была. – «Где штаб дивизии?» - «А бог его знает…»
Отправились искать уже свой полк, и догнали его на подходе к Сталиногорску (ныне город Новомосковск Тульской области – прим.ред.) По дороге плетётся жиденькая колонна, по одному-два человека, изнурённых бойцов - жуткое зрелище… Мои разведданные и донесения понятное дело никому уже не нужны. А в роте у меня осталось два бойца, из которых один – ездовой, но чуть позже подошло ещё пять человек.
Заняли оборону в нескольких километрах юго-западнее Сталиногорска. Кажется, в районе электростанции, она оказалась сзади нас и справа. Но оборонять город пришлось недолго. К сожалению, об этих боях я очень смутно сейчас помню. Сказалось неимоверное физическое и нервное переутомление последних недель. Всё менялось как в калейдоскопе.
Моей роте определили участок обороны. Но что такое рота, в которой семь бойцов и командир? Мы копали окопы в мёрзлой земле, раскладывали по 4-5 винтовок, устанавливали ручной пулемёт и день и ночь дежурили, наблюдали. Потом долбили новые окопы и так каждую ночь. Но немец быстро нас сбил оттуда, и батальон отступил на станцию Узловая.
По приказу комбата моя рота оседлала дорогу, идущую от станции на северо-запад. У моста через речку отрыли несколько окопов. Канавку через дорогу прорыли, чтобы переползти если что. Ручной пулемёт я установил справа от дороги, а слева от неё два противотанковых ружья, которые нам дали в роту. Но как с них стрелять, бойцы, конечно, не знают. И вот тут мне пришлось встретить танки Гудериана из этих ружей.
Они спустились с возвышенности, их, по-моему, три было. Я стрелял по ним, они попятились-попятились и ушли назад. Разведка что ли была, или что, во всяком случае, больше они не появлялись. Тут мы узнали от коменданта, что искать свой полк и свою дивизию бесполезно. Её больше не существует… Получен приказ – всех бойцов передать в другие части, а комсостав отправить в управление кадров Западного Фронта. Вот этот Максимцов Михаил Данилович, который потом стал генералом, рассказал мне на 35-летии Победы, что от дивизии к тому моменту оставалось всего около двухсот человек. Это с ездовыми, писарями и прочими. Вот так нас расформировали, и закончился мой боевой путь в 956-м стрелковом полку 299-й дивизии.
В Москву мы отправились втроём: воентехник нашего полка, командир миномётной роты лейтенант Бова и я. Но никаких документов нам не дали: ни предписания, ничего. Сказали только, что нужно добираться в Серебряные Пруды.
Помню, подъехали к тёмной, холодной, молчаливой Москве на рассвете. Прежде чем выйти из вагонов, нас всех проверили. Когда вышли из вагонов, снова проверили документы. Перед входом в вокзал стоит огромная толпа, почти все военные – снова проверка документов. Вот тут мороз сразу дал о себе знать. На вокзале при переходе из одного зала в другой – снова проверка. А все спешат, таков уж военный человек - он не может пребывать в бездействии, надо ехать туда, куда направили.
Выходим с вокзала, а напротив как раз открылся продовольственный магазин, и нас мороз загнал в него. Где-то конец ноября, но холодно невозможно. Мы в шинелях, но в пилотках, и мёрзнешь просто немилосердно… Да и видок у нас был: форма вся порвана-перепорвана, я в ботинках, но вместо обмоток голенища хромовых сапог…
В общем, заходим в магазин, у-у-у, чего там только нет. Запах такой ароматный от этих конфет, печенья и хлеба… А мы же холодные, голодные, несколько суток ничего не ели. У меня оставались какие-то деньги, да ещё в планшете погибшего Бобкова, нашёл сколько-то тридцаток. Подходим к одной продавщице, дайте нам то-то. Та глаза округлила: «Вы что, товарищи военные? Вы откуда свалились? Всё же по карточкам!» - «Мы с фронта!» Она всё равно ни в какую: «Только по карточкам!» Я говорю: «Ну, продайте хоть что-то. 300 рублей даю!», хотя там цены на хорошие конфеты, допустим, пять рублей. – «Да вы что?!» Тогда мы пошли к заведующей. Та отвечает: «Товарищи военные, ни в коем случае! Не могу - хоть стреляйте меня! Такой приказ!» Так мы и ушли оттуда. Ничего, даже конфеточки нам не продали. Лучше бы совсем не заходили в этот магазин…
Пошли по Москве, а там на каждом углу патрули. Только и успеваешь документы показывать. А мы промёрзли до костей, пальцы рук окоченели, ноги уже перестали чувствовать холод. Одолевал голод, зло брало. Неизвестно куда идти, а патрули, ничего подсказать не могут. Где ни спросим: «Как нам выехать на Серебряные Пруды?», нам или не отвечают, или одни говорят в одну сторону, другие в другую.
Увидели трамвай, сели в него обогреться. Едем и спрашиваем: «Как выехать из Москвы?» Но все молчат, кругом одни настороженные взгляды. Хорошо в тамбуре попался капитан-артиллерист, он понял, куда нам нужно: «Вот, что товарищи. Садитесь на такой-то трамвай, едете на нём до конца, потом повернёте направо и подниметесь по переулку наверх. Там будет пивнушка с правой стороны. В ней спросите у старичка, он вам дальше дорогу объяснит». И действительно, он всё правильно объяснил.
Заходим, там старичок пиво продаёт. Спрашивает нас: «Вам холодного пива или подогретого?» - «Горячего!» Ой, какие же мы были дураки… Выпили этого пива, а мы же голодные. В этом тёплом помещении да после пива на пустой желудок, нас так разморило. Ноги ватные, в голове всё закрутилось, веки сами собой слипаются, есть захотелось ещё больше. Умоляли его, хоть что-то нам продать съестного, все деньги предлагали, но у него совсем ничего не было. Но хуже всего то, что в пальцах рук и ступнях так закололо, что хоть плачь, хоть кричи…
Посидели-посидели, а идти-то надо. Пошли на товарную станцию, там нам дежурный подсказал, на что сесть. И говорит: «Я машиниста предупрежу, чтобы он там притормозил, и вы спрыгнете». Это же товарный эшелон. Ну, так мы и доехали. Он притормозил, мы с тормозной площадки спрыгнули. Там нас приняли, подсказали куда идти. Там же таких как мы много приходило.
К моему удивлению управление кадров фронта оказалось весьма большой частью. Командиры разных званий и рангов сведены в роты, даже часовые и патрули тоже из числа командного состава. Это было странно для нас, чтобы дневальным стоял лейтенант или часовым – старший лейтенант. В строевой части с лейтенантом Бовой получили направления в разные роты и больше с ним никогда не встречались.
Все отделы работали круглосуточно. Для начала мне выписали направление в столовую. Около полуночи прихожу туда, мне сразу всё поставили. Всё горячее, э-э-э, думаю, да я, наверное, в рай попал… Поужинал и после оформления разных документов, только в два часа ночи лёг спать, как тут же меня вызвали в штаб.
За столом в комнате сидело человек пять-шесть суровых военных со шпалами старшего начсостава, знаками различия политработников, и со знаками НКВД на рукаве – в овале меч, пламя. Только строевых командиров среди них не было. Начали расспрашивать, нет, это не то слово. Они начали орать, кричать на меня, перебивая друг друга, оскорбляя меня и молокососом, и паршивцем за то, что я сказал, что дивизию нашу разбили, что нашего полка и батальона больше не существует. Кричали мне: «… можно разбить отделение, взвод, ну, в крайнем случае, «паршивую роту под командованием такого молокососа», - это дословно их выражение, - но не батальон, и тем более полк! Никогда!» И далее, что это моя провокация, что меня судить надо, и всё в таком же духе. А когда я рассказал, как выходили с полком, как дивизия потеряла один полк целиком, из второго вышел один батальон, а наш полк вышел из окружения и взял у немцев город Белёв, они с новой силой набросились на меня. Что я, мол, сплетник, паникёр, и что целая дивизия не может попасть в окружение и т.п. Я стою, молчу, им же виднее… А сам думаю, ведь при выходе из окружения нам командир батальона сказал, что в окружение попала вся наша 50-я Армия. Ладно, отпустили: «Ну, иди!» Но вышел я оттуда словно оплёванный, оскорблённый, морально убитый, униженный и угнетённый…
Вернулся в свою комнату почти под утро. Тут уже не до сна. После завтрака помылся в бане и получил направление на склад: «Идите, переоденьтесь!» Там мне полностью выдают абсолютно всё, от сапог и портянок до шапки. Причём всё новенькое, сумка аж скрипит. Показываю на своё старое: «А это?» - «Забирайте с собой!»
Перед обедом вызвали в строевую часть. Заполнил анкеты, документы. Тут мне капитан шёпотом сообщил, что здесь в отделе кадров находятся комиссар и командир нашей 299-й дивизии. Вернулся в комнату, только хотел уснуть, опять вызывают. Прихожу: «Вы за какое время не получали довольствие?» - «За такое-то». – «А документы есть?» - «Да какие документы?» - «Ну ладно, получите за два месяца», и выдали мне около 3-х тысяч рублей,
Прихожу, а со мной в комнате жили техник-интендант - тоже молодой, лет двадцати пяти, и чуть постарше - старший сержант интендантской службы. Я ещё удивился, почему в управлении кадров командного состава оказался сверхсрочник? Предлагают мне в карты сыграть. – «Нет, не буду. Я посплю». Всё-таки уговорили меня. Вначале схитрили, дали чуть выиграть, и тут же раздели до основания. Почти все эти три тысячи им проиграл… Но в планшете ещё оставалось около двух тысяч и после ужина они «мне дали отыграться». Проиграл и их… А когда отказался играть с ними на пистолет и новое обмундирование, они, пошептавшись, и ушли к новичкам в другую роту. И только после этого мне рассказали, что эти двое там уже больше двух месяцев живут. Отлынивают от фронта и целыми сутками играют в карты. Раздевают всех подчистую в «очко». Притом играют всегда только в паре, и в основном с такими же неопытными новичками, которые перед отправкой на фронт получают большие деньги. До сих пор не понимаю, как такие люди могли там окопаться? Ведь тут же мне рассказали, что двоих недавно судили и расстреляли. За то, что они присвоили себе звание лейтенантов, будучи старшими сержантами.
Около полуночи меня вызвали в строевую часть, и вручили предписание убыть в штаб 50-й Армии, из которой я и прибыл сюда: «Её штаб находится в Туле, там и получите назначение». Так мне и не удалось выспаться. Опять в Москву еду, а оттуда по узкоколейке до Тулы. Там ни одной минуты лишней, быстро всё расспросили и выдали предписание – «отбыть в 290-ю дивизию командиром стрелковой роты. Доберётесь до неё так-то». И вдогонку уже кричат: «Зайдёте сейчас на склады, может, там попутная машина окажется». Действительно, на складах нашлась попутка, и под вечер я уже был в штабе дивизии. Но часовой в штаб меня не пускает. Вызвал какого-то командира, тот в застёгнутом полушубке и звания я не видел: «Дайте предписание!», и ушёл.
Сел в сенях на сундуке, раскурил цигарку, тут мимо проводят трёх немцев. Часовой мне рассказывает: «Это антифашисты, они втроём перешли на нашу сторону, с ними часа три беседовал комиссар дивизии, и решили их отпустить обратно к своим. Чтобы они вели работу среди немцев, и те сдавались в плен». Тут вышел молодой штабист, и вручил мне предписание в 878-й стрелковый полк.
На попутных санях поехал в полк. Помню, выехали из реденького молодого лесочка, и сразу же оказались перед возникшей перед нами деревушкой. Тут как раз налетели два немецких самолета. Пикируют, обстреливают, хотя в этой деревушке и так почти все дома сожжены или разрушены. Пожилой ездовой указал мне, где находится штаб полка, но я попросил подвезти меня прямо к дому. Подъезжаем, а вокруг этого домика бегают люди. То за одну стену забегут, то за другую. Но они же в белых маскхалатах или в полушубках, а я в новенькой шинели, шапке и чёрных яловых сапогах. Прямо как мишень на белом снегу. Ну, я понимаю, что они так прячутся, но разве можно так командиру унижаться? Бегать так от какого-то самолёта? Тут один из них подбегает, и на меня матом кричит: «Вы что тут делаете?! А ну убирайтесь ко всем чертям!» Когда самолёты улетели, я представился командиру полка. Им оказался майор Штивель, тот самый, который на меня ругался…
Но у него оказывается, всего две стрелковые троты. Ни батальонов, ни батарей, ничего, вот такой там полк… Со мной он даже не поговорил. Хоть узнать, откуда я, кто такой, где, что? Сразу даёт указание: «1-я рота ушла к немцам в тыл, а ты пойдёшь во 2-ю. Сейчас же поезжай туда, рота ведёт наступление на деревню. Только там сейчас есть командир роты. Старший лейтенант, в годах, но он не тянет. Так что представься не командиром роты, а представителем штаба дивизии. Вмешивайся во всё, но во время наступления менять командира роты нельзя». И здесь же отдаёт распоряжение одному: «Вызови ему подводу!»
Поехал я на этих санях, а дело уже под вечер. Стало сереть, а стрельба всё сильнее и сильнее. Пули уже визжат и ездовой говорит: «Дальше не поеду!» Развернулся и что есть силы назад. А я вижу, как фигурки людей в белом перебегают, падают, и побежал к этим цепям. Бегу, тут крик: «Кто там бежит?» Я же в своём тёмном их выдаю. Но тут совсем стемнело, и бой уже шёл в деревне.
Ко мне подбежал мужчина лет 30-35, оказался старшина роты, кто-то из комсостава: «Вы кто?» - «Я представитель штаба дивизии Туров». Зашли в дом, где собрался весь комсостав. На меня все смотрели, как на пришельца с другой планеты. Они же все в маскхалатах, а у меня сверкают золотые пуговицы шинели, нашивки на рукавах, малиновые петлицы, два наплечных ремня скрипят. Всё на мне новое, непривычное для фронтовой обстановки.
Смотрю у политрука роты в петлицах три кубика и перекрёстные гаечный ключ и молоток: «Да, я старший воентехник. Работал мастером на заводе в Сибири, а когда война началась, меня призвали». И представляет: «Это старший лейтенант Семёнов – командир роты. А это военфельдшер – Капустина Шура, санинструктор Тося, старшина роты такой-то». В общем, всей компанией сели за стол, начали есть. А у меня же за эти дни: и недоедание, и сплошной холод, и не спал несколько ночей, голова вот такая, ничего уже не соображаю, и в этом тепле меня совсем развезло. А эта Шура такого же возраста, как и я. Говорю ей: «Шура, у меня голова болит невозможно. Ничего не соображаю. Что у вас есть?» А она так посмотрела с некоторым пренебрежением, и с иронией в голосе отвечает: «У нас здесь фронт. Мы тут раненых лечим, а больных у нас не бывает. Мы воюем!» Политрук это услышал, ухмыльнулся, подмигнул мне: «Вы курите? Давай выйдем!»
Вышли с ним, цигарки скрутили, закурили, он и говорит: «Значит, вместе будем воевать. Я тоже с Урала, леса знаю». А я же помню предупреждение командира полка, не выдаю себя: «Не знаю, надолго ли…» Он берёт меня за плечо: «Ладно-ладно, знаю. Я же вижу, что ты командиром роты прибыл. Я ещё там, в цепи догадался». Пришлось сознаться ему: «Да, но об этом объявим всем только завтра». И он мне рассказывает: «Рота у нас большая, и 250 и 280 человек бывает. Потому что комсостава нет и нет смысла батальон формировать. Так что командуй ротой, а Семёнов будет заместителем».
Зашли в дом, и он тут же попросил старшину выдать мне маскхалат и валенки. Потому что в сапогах я точно ноги отморожу. А старшина то ли понял, кто я, во всяком случае, тут же мне всё и выдал. А я-то валенки никогда не носил, сразу надел их, чтобы разносить, и удивился, что ходить в них совсем непросто. Вот так я стал командиром этой роты, и начал водить её в тылы. Дело вот в чём.
Это было уже начало декабря, 6-го началось контрнаступление, а я прибыл в роту 7-го, и сплошного фронта у нас не было. Поэтому практиковалось, что моя 2-й рота наступает с фронта, а 1-я рота, чтобы отвлечь, заходит с тылу и наводит шорох. Причём, наступали только по ночам. Только на эту деревню наступали засветло, потому что 1-я рота уже перекрыла все коммуникации с тыла, поэтому немцы особенно не сопротивлялись. А дальше наступали только по ночам. Чтобы не обнаруживать, что у нас не так-то много сил. Ну что такое триста человек на большое село? Тем более, справа-слева никого нет. А так 1-я рота зайдёт подальше в тыл, и у немца сразу впечатление, что мы уже далеко прорвались. Сразу, конечно, полегче.
Из-за нехватки командиров в роте было три взвода по четыре отделения. В каждом отделении по 18-20 человек. Вооружение - обычные винтовки, ручные пулеметы и всё. В полку была пулемётная рота – 4 пулемёта. И всего одно 76-мм орудие с двумя снарядами к нему... Так что это было мудрое решение – наступать только по ночам. Но я не знаю, кто его принял – комполка или кто. А иногда мы и двумя ротами в тыл уходили. Но 1-я рота на одно село наступает, а моя на соседнее. И в принципе мы всегда действовали раздельно. Совместно действовали всего раза три за два месяца.
Мы научились без потерь переходить линию фронта. Пригодился мне и опыт, когда я ходил в разведку. Но одно дело, когда идёшь небольшой группой, и совсем другое, когда идёшь целым подразделением. Это уже намного сложнее. Все-таки 280 человек, это не игрушки, тут надо основательно готовиться. Перейти-то можно, а вот чтобы нас и в тылу не обнаружили…
Процедура была такая: вечером я с политруком иду к командиру полка, где получаем боевой приказ на наступление на населённый пункт, который обычно находился в 4-8 километрах от нашего расположения. Данных о противнике – никаких. Здесь же, после получения задания, получали пополнение бойцов. Подчас по 40-60 человек. Тут же им всем выдаются валенки, масккостюмы, винтовки, патроны, гранаты. Но некоторые не умели даже из винтовки стрелять. Помню, случай, когда старшина, вручал одному винтовку, вдруг слышит от него вопрос: «А как с неё стрелять?» Старшина вырвал обратно винтовку, открыл затвор, вложил патрон, закрыл затвор, поднял ствол вверх, выстрелил: «Вот как надо стрелять!»
А в это время писарь старался записать новеньких. Но ведь всё это делалось на улице, ночью, на морозе, а иногда надо было спешно выступать на задание, поэтому даже не успевали их записать. Внезапно пришли, тут операция, бой и… Вот так мы и воевали. Мне запомнился один случай.
Брали какое-то большое село. Большой бой, немцы вначале оборонялись, но к середине ночи мы их переломили, и пошли вперёд. А это село тянулось с востока на запад, и немцы выгоняли людей из домов, вскрывали пол, выпиливали оконце на уровне земли и устанавливали там пулемёты. И если они своим огнём нас останавливали, то мы не могли двигаться. Так и лежали на снегу в белых масккостюмах. Не халатах, а именно костюмах – куртка и штаны. На голову капюшон, а на лицо марлевая накидка. Причём, эти костюмы заменяли по первому требованию. Если нужно, так сразу.
А в центре села с левой стороны стоял большой дом, крыльцо хорошее. Тут выбегает мой боец и кричит: «Товарищ лейтенант, идите сюда быстрее!» Я вернулся к нему, захожу. Как сейчас всё помню… На столе стоит немецкая стеариновая коптилка, круглая такая, и в ней ещё светится огонёк. А на полу распластавшись, лежала женщина. Мне показалось, огромная, а это на ней большущие юбки. Голова у неё, висок и лоб, прострелена, и оттуда растекается тёмно-красное пятно. Рядом лавка вдоль стены, а на ней тельце грудного ребёночка, с неестественной вытянутой ножкой. Голова его расплющена и вся в крови… На лавке и на стене серо-красное пятно, а весь стол забрызган серо-тёмной массой… Это значит, его за ножку взяли и об стенку головой… Вот так фашисты с нами воевали… Но в селе не оказалось ни одного человека, всех угнали. То ли женщина не успела собраться, то ли она отказалась, но её застрелили, а с ребёнком вот так вот… Подобные случаи мне встречались и потом.
Всех угнанных жителей немцы использовали на очистке дорог от снега. А морозы ведь сильные, снега обильные и вот эти тоннели высотой больше трёх метров. В них мы находили и брошенную технику, и замёрзших людей. Вначале мы думали, что это немцы, и не обращали внимания. И только потом заметили, что это местные жители: старики, женщины, дети… Но лишь некоторых успевали достать ещё живыми, измождёнными, так они рассказывали, как их угоняли. Ни пищи им не давали, ни воды, ничего, и они естественно, только снег ели…
Однажды наша разведка сообщила, что в соседних деревнях, за 6-7 километров, немцев нет. Я днём вывел роту и повёл по дороге по открытому полю. А с левой стороны от дороги на возвышенности лежали замёрзшие трупы. Несколько девочек лет по 10-12, простреленные… Несколько мальчишек лет 13-14 с простреленными головами… Женщины, совсем маленькие дети… А в самом конце лежал маленький старичок в кожушке с простреленной грудью. Мне запомнилось, как его реденькая бородка, развевалась по ветру… А ещё дальше бугор какой-то и у него женщина сидела. Она то ли сидя, то ли полулежа, прижимала к полурастёгнутой груди самый дорогой для неё закутанный комочек. Это был ребёнок, может даже грудной. Из его маленького носика надулись розовые кровяные пузыри, а из ротика текла тоненькая красная струйка… И у него и у неё в голове отверстие от пули… Все это видели, и тут уже никакой агитации, никаких слов не требовалось…
После этого рота брала пленных?
По поводу пленных у нас был строгий приказ – над пленными не издеваться и сразу отправлять их в тыл. А за издевательство над пленными полагалось суровое наказание. После первых боёв под Москвой вышел особый приказ – всех полицаев и пособников немедленно отправлять в вышестоящие штабы! Дело в том, что поначалу, когда мы захватывали деревни, немцы ещё не угоняли людей. В том числе оставались и полицаи со старостами. Случай вам расскажу. Он произошёл ещё в те дни, когда я только принял роту.
Поздно вечером ворвались в какую-то большую деревню, успешно заняли её, и на центральную улицу сбежался народ. Вокруг нас женщины, подростки, старики, всего человек двести. Бросились нас обнимать, целовать. Начался стихийный митинг. Политрук пару слов сказал, потом говорит: «Вот перед вами командир роты, которая вас освободила!» Ну что я мог сказать? Мы вас освободили и т.д. и т.п., а сам думаю, как мне роту покормить? Подводы-то наши с продуктами отстали. Спрашиваю людей: «А кто у вас тут за старшего?»
Тут одна из женщин кричит: «Так вот же староста стоит!» Толпа расступилась, вижу, стоит маленький, щупленький, но ещё шустрый старичок. Тут другая кричит: «Бабы, да вы что?! Он же председателем колхоза был!» Опять крики: «Да разве он по своей воле стал? Что он тебе плохого сделал?» - «Нет, ничего не сделал! Он хороший, ничего плохого никому не делал!» Я у него спрашиваю: «Действительно председателем колхоза был?» - «Да. А куда я по старости лет эвакуироваться могу?» - «Вы, как бывший председатель колхоза, сможете организовать, чтобы нам к утру испекли килограммов триста хлеба?» Он подумал-подумал: «Бабы, как вы?» - «Можем! Можем!» Говорю старшине: «Раздай им муку и развези по домам!»
Вдруг одна женщина как закричит: «А тут и полицаи ещё остались!» Бабы загалдели, закричали наперебой, что из деревни не успели сбежать два полицая, которые «были как звери». Я послал за ними. Один жил недалеко, а за другим бойцы долго ходили. Притащили их, перед нами поставили – оба среднего роста, коренастые, лет по 25-30. Тут уже сплошной крик, шум: «Они над нами издевались! Мы убьём их!» Каждая старается схватить и ударить… Я спросил, но скорее обращался сам к себе и политруку, чем к деревенским жителям: «Ну, что будем делать?» Тут все стали кричать: «Расстрелять подлецов! Смерть предателям! Нет им пощады!» Да, думаю, видать здорово вы людям насолили… Ну, и конечно, тут же их расстреляли… Ни одного слова в своё оправдание они не произнесли и ни о чём не просили. После я узнал, что в толпе женщин стояла жена одного из них, но и она за него не заступилась.
Сейчас я понимаю, что так поступать было нельзя. Потому что среди них вполне могли оказаться люди, которых специально оставили выполнять задание нашей разведки. Но что было, то было. Тогда и возраст такой, и обстановка не та. Шла война, а на войне законы суровые…
Ближе к утру от председателя колхоза поступили первые буханки хлеба. А буквально накануне вечером в штабе полка мы впервые получили посылки от тружеников тыла. Неизвестные нам люди от чистого сердца отправляли на фронт вышитые кисеты для махорки, курительную бумагу, портсигары, мундштуки, носки и вязаные перчатки, портянки. В отдельных посылках встречалось даже сало, случалось, клали и довоенные ещё поллитровки с водкой. Но самое главное - в каждой посылке лежали письма от женщин, девушек, школьников, с наказом крепче бить немца, и быстрее вернуться домой с победой.
Несколько посылок тут же открыли, прочитали тёплые, бесхитростные строки, рассмотрели любовно вышитые кисеты, но особенно нас поразили засушенные коржики из ржаной муки грубого помола на соде. Люди слали нам самое дорогое, отрывая от себя, от детей.
Эти посылки мы с политруком лично распределяли так, чтобы никому не было обидно, старались каждого осчастливить. Командирам взводов и особо отличившимся в боях, посылки вручал либо я, либо политрук. Для них мы специально выбирали посылки либо потяжелее, либо в которых что-то булькало. Знали, что они непременно поделятся со своими товарищами. И всегда мы вручали посылки торжественно, как награду. Да это и была самая настоящая награда, ведь в 41-м я ни разу не видел, чтобы кого-нибудь наградили. Даже когда пошло контрнаступление под Москвой, у нас тоже никого не награждали. Но мы не были в обиде. Мы считали своей обязанностью очистить родную землю!
Кроме того старшина роты раздобыл где-то сливочное масло, почти по 50 граммов на человека. И мы с политруком, заместителем командира роты, Шурой Капустиной, Тоней и старшиной устроили грандиозное пиршество с чаепитием. Тут и содержимое посылок, и только что испечённый, ещё горячий хлеб, и сливочное масло, и найденная в одной из посылок пол-литровая бутылка водки. Еще довоенная. Мне она показалась горькой, противной, а мой заместитель с политруком оценили её по достоинству. Они же постарше были, и знали в этом деле толк. В общем, во всей роте было настоящее пиршество и веселье.
На рассвете меня вдруг вызвал командир полка, и предупредил, чтобы мы взяли с собой побольше людей и три подводы. Уже рассвело, когда мы подъехали к избушке, где майор Штивель с комиссаром полка, подтвердил приказ на оборону и указал, что за это время надо усиленно обучать людей … ходить на лыжах: «Без лыж мы слишком медленно продвигаемся». Я понимал правильность решения командования, т.к. наступая по пояс в снегу, мы не только выбивались из сил, но и несли очень большие потери.
Получили на весь состав роты новые лыжи, палки, крепления, ватные брюки, телогрейки, полушубки, валенки, бельё, а новых белоснежных масккостюмов выдали аж почти на три состава роты, более 600 штук. Вернулись в роту, распределили лыжи по взводам, но оказалось, что из роты почти никто не умел даже стоять на лыжах. В том числе и я. В этом отношении только политрук, старшина да командиры взводов оказались «на высоте». Поэтому я приказал - отныне любое передвижение производить только на лыжах!
Все поочередно, группами учились ходить на лыжах в глубине обороны, в балке. Там же, кстати, прямо на открытой снежной полянке, защищённой от чужих глаз кустарником, старшина организовывал «баню», и всего за день успели помыть в ней почти всю роту. А меня взялся учить сам политрук, он, по-моему, прекрасно ходил. Но чтобы никто не видел, как я учусь, мы с ним спускались в балку за кусты, там я учился ходить, и весь взмокший возвращался на КП.
В этот же день, под вечер, я по собственной инициативе выслал на левом фланге роты разведку во главе с командиром 1-го взвода, чтобы разведать силы противника в деревне, отстоящей от нас на три-четыре километра. Но младший лейтенант произвёл разведку безответственно, плохо, почти ничего не узнал. Поэтому в последующие две ночи я снова посылал его в эту же деревню.
На третью ночь, нас с политруком вызвал командир полка, и приказал наступать на деревню, о которой мы пытались собрать разведданные. Получили пополнение человек тридцать.
Когда вернулись в роту, взводы уже были стянуты в центр деревни. Поставил задачи командирам взводов, и отдал приказ о наступлении. Наступление должны были поддерживать два «максима», под командованием политрука пулемётной роты.
Наступление началось успешно. Несмотря на то, что для многих передвижение на лыжах, особенно перебежки, были делом новым, мы без особых потерь достигли немецких окопов, такой снежный вал, облитый водой. Выбили оттуда немцев, да так, что на дороге они бросили свою малокалиберную скорострельную пушку, два станковых пулемёта, боеприпасы и даже винтовки. Удирали они здорово.
Наши «максимы» установленные на лыжи, крепко помогали на левом фланге. Цепь роты, растянувшаяся до полутора километров по фронту, хорошо была видна по теням, отбрасываемым ярко светившей луной. Многие бежали уже без лыж, проваливаясь в снегу, но мы уже подобрались близко к цели, примерно в двухстах метрах от деревни. Немцы нас тоже хорошо видели и вели шквальный ружейно-пулемётный огонь.
Когда нашу цепь накрыли их миномёты, у нас остался единственный выход – как можно быстрее ворваться в деревню. Вначале она была серой, тёмной, но вот загорелся один дом, второй, третий. То ли немцы зажгли их, собираясь бежать из деревни, то ли дома загорелись от наших пуль, но вся деревня, расположенная на склоне пригорка осветилась и мы видели беспорядочную беготню немцев по улице.
Я принимал все меры к тому, чтобы выйти из-под обстрела миномётов, как можно быстрее достигнуть деревенских построек и тогда уж, считай, деревня будет наша. Лыжи только мешали, и их давно пришлось бросить. Не обращая внимания на огонь противника, мы левым флангом вплотную подошли к южной окраине деревни, спускавшейся в низину, заросшую редким кустарником.
В зареве пожарищ было видно, как немцы колонной человек 20-30, а потом и отдельными группами побежали из деревни по дороге, поднимающейся на пригорок, на запад. Их огонь резко ослабел, а миномётный обстрел прекратился. Левофланговые ворвались в деревню, а наш центр, где находился и я, был уже почти у самой деревни.
И вдруг, справа от меня, примерно в 150-200 метрах в нашей цепи раздался душераздирающий крик: «Куда гонишь? Патронов нет, а нас на убой гонишь!» Один за другим залегли и бойцы, бежавшие рядом с тем, кричащим. Я, услышав это, тоже как бежал, так и остановился. Потом, там справа побежал за тем бойцом один, второй, третий… Всё больше бойцов начало ложиться. Я немедленно кинулся туда, кричал: «Стой! Ложись! Вперёд!.. Немцы уже из деревни бегут!..», и в таком духе всё. А на левом фланге наш станковый пулемёт уже строчил вдоль деревенской улицы из-за сарая деревни.
Но какая-то неуловимая сила донесла возникшую справа в центре панику и туда. Политрук роты, находившийся на стыке 2-го и 3-го взводов, левее меня, принимал все усилия остановить побежавших людей назад, но тщетно! Люди бежали назад... Я с помощью связных остановил возле себя несколько человек, но продолжать ими наступление не мог. Наш огонь по немцам прекратился.
Увидев наше бегство, немцы возобновили и усилили огонь по нам. Снова начался миномётный обстрел. Я заметил, как с пригорка в деревню начали возвращаться группы немцев, ранее удравшие из неё.
Раздумывать, что произошло, было некогда. Надо было действовать. Я, положив около двадцати человек, остановленных мною, организовал огонь по немцам, и послал расторопного связного к политруку с распоряжением - «любыми способами остановить роту!» А сам принимал меры к остановке бегущих бойцов.
Роту остановил политрук пулемётной роты, который заметил какое-то непонятное движение в центре правой цепи, потом увидел бегущих назад бойцов, и понял, что случилось что-то невероятное. Ведь немцы почти прекратили сопротивление, слева бойцы уже ворвались в деревню, немцы побежали и вдруг такое… С помощью двух своих бойцов он начал останавливать бегущих и приказал им вести огонь по противнику, но огня не получилось. Был оставлен и тот «максим» за тем сарайчиком…
Я доложил по телефону о случившемся командиру полка, он спросил: «Почему нет патронов?!» Я ответил, что патронов у каждого бойца достаточно, по 70-90 штук на винтовку. Он тут же задал вопрос: «Сможет ли рота наступать?» - «Привожу роту в порядок и если нужно, буду вести наступление». Он ничего не ответил и положил трубку.
Вызвал командиров взводов к себе, и поставил задачу – наступать только на левую окраину деревни с охватом её слева. В это время в роту приехали помощник начальника штаба полка и уполномоченный особого отдела. Помначштаба одобрил мой план, а особист пошёл в цепь, поговорить с солдатами, проверить наличие патронов у каждого. Потом подходит ко мне: «Почему ты не сообщил командиру полка, что по тебе стрелял тот, кто крикнул, что нет патронов?» Я удивился: «По мне стреляли?! Так я этого не заметил». - «Да, по тебе стрелял кто-то из цепи справа, но бойцы сейчас никак не могут найти его». Представляешь себе ситуацию?! Но у меня это был единственный случай за всю войну, чтобы так нас подвёл какой-то предатель или лазутчик… Сразу же было обращено внимание на повышение бдительности, и политрук заявил, что больше такого не получится, он примет меры к обеспечению безопасности командира.
Одного командира взвода я отправил к оставшейся группе бойцов, чтобы они усиленным огнём отвлекали внимание от действий главных сил роты. А одно отделение с двумя пулемётчиками отправил на левую окраину деревни, в которую они должны были проникнуть скрытно, раньше роты, чтобы они из «максима» открыли огонь вдоль улицы и по дороге, по которой обратно побегут немцы. Я же со всей ротой, по ложбине, прикрываясь мелкими кустами, насколько это будет возможно, обойду деревню слева, отрежу немцам пути отхода из деревни, и мы сразу же выйдем к ним в тыл, и сможем вести наступление дальше на запад. Сплошной линии обороны там не было, и можно было маневрировать, тем более что справа и слева от нашей 2-й роты никого не было.
В итоге всё так и получилось, деревню взяли. Правда, настроение у бойцов было злобное. Они злились на себя за своё малодушие. Весть о том, что кто-то стрелял в командира роты, стала достоянием всей роты. Почти каждый спрашивал меня и политрука: «Нашли того гада? Кто же он, и как оказался в роте?» Но на эти вопросы ответить мы не могли. Зато урок получили серьёзный. Сами убедились, что не все люди в красноармейских шинелях, наши, советские. Бдительность надо соблюдать всегда, а на фронте – тем более.
В одну из ночей, двигаясь на север, уже на рассвете мы вошли в маленький хуторок. Спасаясь от мороза, в две уцелевшие избы набилось столько народа, что в них можно было только стоять. Из-за табачного дыма ничего не видно, даже лица рядом стоящего, но хозяйке дома и детям сразу уступали дорогу, образуя узкий коридор. И на печь, где лежала семья, никто не залезал. Помню, изнурённый до крайней степени, я свалился на санитарные сани, и меня заботливо укрыла телогрейками Шура Капустина.
Вскоре прибыл командир полка и сообщил, что в новое наступление пойдёт весь полк, т.е. будут наступать обе роты вместе. Это было впервые за всё время моего пребывания в этом полку. Указал, кто соседи справа и слева, причём, это полки не только нашей 290-й дивизии. И сообщил, что нас поддержат артиллерия и танки. Село, на которое предстояло наступать небольшое, но сильно укреплённое, и почти полностью стояло на восточном берегу какой-то маленькой речушки.
Весь день прибывали войска, а к вечеру начали наступать. Но неудачно... С рассветом наступление началось снова. Людей наступало много, командиров тоже хватало, но продвигались медленно, неуверенно. Возможности для маневра сильно ограничены наличием соседей, я от этого уже отвык. Так я получил очередной фронтовой урок - много не всегда хорошо.
Артиллерия производила редкие выстрелы по тылам противника, а танки урчали где-то за нами. По глубокому снегу и сильно пересечённой местности они не могли пройти. В итоге, понеся большие потери, мы только к вечеру ворвались на окраину села, от которого, по сути ничего не осталось. Всё было разбито и сожжено… Освободив основную часть села, удалось захватить и небольшой плацдарм на западном берегу речушки, но немцы заняли заранее отрытые окопы, и дальше нас не пустили. Наконец, в село вошли наши танки. Скопилось много войск.
Всегда, когда я слушаю главу «На привале» из поэмы Твардовского «Василий Тёркин», мне почему-то вспоминается это сгоревшее село. Только два кирпичных дома сгорели не полностью, и они были набиты постоянно менявшимися солдатами.
Войска из села начали уходить и в обороне остались две наших роты. Но вечером и нас отвели с передовой к одному разбитому кирпичному домику. Возле него оказалась яма, накрытая досками. В ней мы увидели первых жителей этого села: две или три женщины, старик и несколько детей. Всех остальных немцы угнали с собой.
Командир полка собрал комсостав и поставил новую задачу – ночью перейти линию фронта, скрытно достичь станции Тихонова Пустынь (ныне в черте города Калуга – прим.ред.) и овладеть ею. Мы тут же организовали разведку и двумя колоннами успешно перешли линию фронта.
Встретившись в заранее назначенном месте, наметили путь дальнейшего движения. Говорю мы, потому что при постановке задачи майор Штивель не назначил никого из нас старшим, и все вопросы нам приходилось решать совместно. Я знал, что 1-я рота не раз ходила по тылам противника, её командир был значительно старше меня по возрасту, и я не мог оспаривать у него первенства, но он почему-то не хотел брать командование на себя.
Двигались одной колонной. Поля и открытые площадки переходили бросками, группами. Через каждый час менялись отделения, которые шли чуть в стороне, для разведки и охранения. И головное отделение, которое прокладывало дорогу в снегу. Все они шли на лыжах. А вот у остальных они остались только у половины. У многих поломались, а большинство с непривычки просто побросало их. Но четыре станковых пулемёта тоже катили на лыжах.
Когда совсем рассвело, мы оказались далеко за линией фронта, и уже к середине дня достигли станции. Остановились в километре западнее села, в лесу. Перекрыли все дороги. Тут задержали старика, который шёл к родственникам на станцию. Он сообщил, что вчера в Тихонову Пустынь прибыло очень много войск и большой штаб во главе с генералом. Причем, войска эти финские, на лыжах. Он знал точно, что это финны, т.к. служил в царской армии и знает их. Рассказал, что финны набились в дома, а всех местных выгнали на мороз, и топят печи день и ночь. Махнул на село рукой: «Да вы и сами посмотрите, как из труб идёт дым! Какая хозяйка будет топить в такое время?»
Стали совещаться. Идти в атаку на такой большой населённый пункт и железнодорожную станцию такими малыми силами – нельзя. Нам было приказано занять только железнодорожную станцию, где ограниченная охрана. Но что будет дальше? Мы понимали, что никак не смогли бы её удержать. Ведь тот же старик сообщил, что и все соседние деревни забиты немцами и финнами. На самой станции ходят группами патрули, а на водокачке установлен пулемёт.
Думаем, что же делать? Но самое главное - кому принимать решение? Никто из нас не хотел сказать решающего слова. В конце концов, отобрали лучших разведчиков, и послали их обратно через линию фронта, доложить командиру полка сложившуюся обстановку.
Ведь если бы мы даже захватили станцию, то, сколько времени смогли бы её удерживать? О подходе наших войск майор Штивель ничего не упомянул. А пройти свыше двадцати километров им потребовалось бы сутки. И это в лучшем случае. А если идти с боем, в течение ближайших двух-трёх суток. Так рассуждали мы, стоя на опушке. Наконец, приняли решение отойти от станции километра три на запад, и в домике лесника переждать до получения приказа комполка.
Уже в сумерки снялись, и к ночи пришли к дому лесника. Он стоял в лесу, посередине большой поляны, напоминающей квадрат. Мимо домика проходила просёлочная дорога.
Выставили станковые пулемёты по углам этой поляны и большую часть личного состава определили в охранение. Но через каждые два часа по очереди, ходили отдохнуть и обогреться в домик. Все жутко устали, измучились, замёрзли. Страшно хотелось есть.
Примерно в полночь, на дороге из лесу появились пять подвод с немцами. Охранение, сообщив об этом, пропустило их. Как только подводы поравнялись с домом, группа бойцов бросилась к саням, и обезоружили растерявшихся немцев. Всего взяли семь человек. Но в этой суматохе восьмой немец, спавший в сене на передних санях и незамеченный нами, подлез под сани, а когда бойцы перешли к другим саням, он вылез, выпряг лошадь, сел на неё и ускакал из-под самого нашего носа… Подводы стояли в 10-15 метрах друг от друга, была ясная лунная ночь, и человека, распрягавшего лошадь заметили, но не придали этому значения. Подумали, что кто-то из своих, а когда тот помчался на лошади, было уже поздно. Ведь был дан приказ: «Не стрелять!»
На двух подводах оказались кухни с противным немецким супом, но тогда он нам показался изумительно вкусным. Обнаружив себя и теперь уже ожидая нападения, мы стали быстро кормить людей захваченными продуктами, а сами приступили к допросу немцев. Они ничего не скрывали. По их словам, действительно, только вчера прибыла сюда финская дивизия, что это настоящие головорезы. Но сами они не финны, а «хорошие немцы», которые сочувствуют коммунистам и всё в таком же духе. В общем, обычная песня всех пленных. С пленными тоже надо было что-то решать. Решили взять их с собой.
Вдруг со стороны, видневшейся на бугре деревни, к нам в лес как в страшном кошмарном сне ворвались, как казалось, бесплотные тёмные существа. Они носились по лесу длинными вытянутыми фигурами, между деревьями, бесшумно скользя по снегу. Это были тени от несущихся с горы финских лыжников. Мы открыли огонь, но они, не снижая скорости и, казалось, не касаясь земли, носились между деревьями, словно не ощущая препятствий. И всё время, находясь в каком-то неистовом движении, начали обстреливать нас из автоматов. Это была умелая и стремительная атака. Не будь у нас опыта боёв, финны подмяли бы роту и уничтожили.
Но бойцы открыли ответный огонь, быстро развернули пулеметы, и стреляли едва не в упор. Финские лыжники, оставляя на снегу трупы, так же быстро разворачивались и уносились прочь, огрызаясь огнём автоматов.
В тот раз все решили минуты. Если бы мы растерялись, то мало кто остался бы в живых. Мы знали, что финские штурмовые отряды не щадят русских. Троих пленных финнов расстреляли. Охранять их в условиях ночного боя не было возможности.
Мы начали отводить бойцов в лес, в сторону села. Обнаруженные, мы уже не стали особенно скрываться и двинулись на восток к линии фронта. День, заставший нас почти на месте предыдущего сбора, провели на опушке леса, а с наступлением сумерек пересекли поле и с тыла ударили по немцам. Находившиеся в окопах немцы, не поняв в чем дело, открыли огонь по нашей обороне, а мы ворвались сзади, перебили их и с боем перешли линию фронта.
Только благополучное окончание похода, и то, что в наш прорыв вошли другие части, а немцы бросили свою оборону, спасло от самых серьёзных последствий командира 1-й роты. Именно этого лейтенанта обвинили в провале операции по захвату станции, и не раз вызывали к разному начальству. По мнению начальства, раз он был командиром 1-й роты, то, само собой разумеется, что он и должен был возглавить операцию. Меня же никто никуда не вызывал, я только письменно всё изложил в своём боевом донесении.
Вот к чему привела недопустимая оплошность майора Штивеля. Всё-таки при постановке задачи он обязан был назначить старшего, ответственного за проведение всей операции. Его оправдывает лишь то, что он был не кадровый офицер, а призванный из запаса перед началом войны. Так я сделал себе ещё одну зарубку - всегда и везде должен быть один руководитель!
Дальше мы наступали уже на север. Я послал свою разведку в одно из сёл, и она принесла раненого бойца, но совсем другого полка. К тому же он был сильно обморожен, и Шура Капустина не разрешила разведчикам занести его в избу: «Ему в тёплое помещение сразу с мороза нельзя!» Выйдя в сени, я увидел измазанного кровью, замёрзшего человека, который уже не мог говорить, а только что-то хрипел… Оказалось, что три дня тому назад разведка другого полка ходила в это село, его ранило, идти он не мог, но, чтобы не обнаружить всю разведку, не вскрикнул, не позвал на помощь, а пролежал без движения перед окопами немцев трое суток, истёк кровью и замёрз, как деревяшка. Спасти его уже было невозможно… Но этот солдат погиб не зря. Он пожертвовал своей жизнью ради успеха разведки, а по сути, ради жизни своих боевых товарищей. Но вскоре случился эпизод, после которого я с опаской относился к стонам раненых.
Проверяя как-то оборону и охранение, я проходил над заросшей кустарником низиной, когда услышал стоны. Казалось, стонет раненый. 3ная, что здесь уже были наши части, а потом село снова занял немец, я, как обычно, подумал, что это или их, или наш, оставшийся после боя, неподобранный раненый. Послал одного из связных узнать, в чём дело. А в это время мимо проходила санинструктор Тося, и я ей сделал выговор. Мол, почему до сих пор валяются неподобранные раненые? Приказал ей тоже идти на стоны. Вдруг тишину ночи прострочила автоматная очередь из лощины и матерный крик посланного мною вперёд связного. Второй связной свалил меня в снег, а сам побежал вниз. Через некоторое время подбежали ещё бойцы, и в лощине возобновилась стрельба. Обложив её со всех сторон, нам удалось захватить «раненого». Он оказался в немецкой форме без погон, какую носили полицаи, и с автоматом. Но выяснить, кто это, не удалось. В этой перестрелке его убили. А первый мой связной, оказался легко ранен в руку и с простреленным ухом.
Позже мне неоднократно приходилось встречаться с подобными «стонами раненых». Где-либо в лощине, овраге у себя в тылу, мы не раз захватывали немцев, подманивавших стонами на манер раненого. Видимо, это были их разведчики или диверсанты. Но этот урок был для меня первым. После этого я понял – на фронте надо оставаться бдительным всегда и везде!
С ежедневными, преимущественно ночными боями мы продвигались на запад. Как бы медленно мы не наступали, немцам приходилось бросать свою технику. На обочинах дорог стояли, подчас исправные автомашины, мотоциклы, валялось оружие, пушки, миномёты. Но дороги были усеяны и трупами наших людей, мирных граждан, угоняемых в Германию. Полностью выжигались деревни, и страшные пепелища открывались глазам наших бойцов. Месть за поруганную родную землю вела нас по заснеженным дорогам Тульщины…
Всеми возможными средствами, заставляя передвигаться бойцов только на лыжах, мы вырвались значительно вперёд. По нашим данным в одной деревне, расположенной на высоте, должны уже быть наши соседи справа. Нас подгоняла мысль, что в ней мы сможем помыться и сменить бельё. Но при приближении нашей колонны, из этой полусгоревшей деревни открыли ружейно-пулемётный огонь. Хорошо ещё, что нас не подпустили ближе, и мы смогли быстро и без потерь, развернуться в цепь. Но это дневное неподготовленное, и неожиданное для нас самих наступление окончилось неудачей...
Всё поле оказалось усеяно нашими лыжами, лыжными палками, а мы по пояс, утопая в снегу, как в замедленном фильме, двигались навстречу врагу. А многие и навстречу своей смерти…. Деревню смогли взять только ночью, обходом с юга.
Как и намечалось, в этой деревне, где не осталось ни одного дома, где торчали искореженные печные трубы, мы устроили баню. Только не в самой деревне, а в кустах. Настлали на снегу толстый слой соломы, из плащ-палаток соорудили три «стены» от ветра, а воду грели в железных бочках. Условия, конечно, примитивные, но зато мы помылись и сменили бельё. Такие бани нам устраивали почти регулярно, и всегда выдавалось новое бельё. Хрустящее. Личный состав обновлялся тоже часто, так что и тёплая одежда, валенки и масккостюмы на бойцах роты почти у всех новые. Винтовок и патронов в роте всегда с большим запасом.
Когда подошли к одной из деревень, мы с политруком получили приказ на наступление, но только после залпов «катюш». Они должны в два часа ночи подойти к штабу полка, дать залп и сразу же уехать. И нас строго-настрого предупредили, что, если немцы до или после залпа «катюш» пойдут на нас, то мы свою атаку прекращаем и всеми силами отбиваем немцев. И если нужно должны быть готовы повернуть фронтом к штабу полка. Мы обрадовались. Ведь мы обычно ходили в наступление вообще без единого выстрела орудия или миномёта, а тут сразу «катюши».
Примерно в три часа ночи раздался характерный залп, но снаряды «катюш» рвались далеко за деревней. В итоге деревню мы взяли, причём немцы всего два дома успели сжечь, и мирных жителей не угнали.
После этого, ещё до наступления ночи я получил приказ о наступлении на небольшую деревушку, находившуюся в 5-6 километрах в лесу. Командир полка приказал взводу разведки провести мою роту к этой деревушке.
Разведвзвод, выдвинутый вперёд, вошёл в лес, а рота шла за ним колонной на удалении 500-600 метров. С командиром разведвзвода мы заранее обговорили способы взаимодействия, сигналы и связь. Мне, как никогда, было легко идти ведомым, как говорят в авиации. Да и роте заметно легче идти, когда не нужно прокладывать тропу, не обращать внимания на маршрут и направление движения. Обычно на преодоление расстояния в 5-6 километров уходило до трёх часов, но тут мы шли уже более четырёх часов. Уже два часа ночи, а мы всё идём и идём. Я вынужден был догнать разведвзвод и спросить: «В чём дело?!» Лейтенант начал объяснять, что вот сейчас покажется деревня и надо разворачивать роту в цепь. Я послал связного к роте с приказанием подготовиться для наступления. Но прошли мы и 300, и 500, и 600 метров, а деревни всё нет.
В ответ на моё негодование командир разведвзвода отвёл меня в сторонку и признался, что он заблудился, и уже около 4-х часов никак не может сориентироваться, где мы находимся. Вот это новость… Сам-то я, считай вырос в лесу и умел прекрасно ориентироваться. Но для этого за маршрутом надо постоянно следить! А тут я с самого начала не следил. Понадеялся на разведку, считал, что командир разведвзвода знает своё дело... А теперь восстановить маршрут в голове просто немыслимо! И что теперь делать? Приказ надо выполнять, а как?! За какой ориентир в лесу зацепиться?! Ведь мы шли не по дороге, даже не стёжкой... Вот к чему привела кажущаяся лёгкость движения за спиной кого-то и доверчивость к «бывалым».
Я отстранил разведчиков, выдвинул свою роту вперёд и начал искать путь сам. На востоке уже начало сереть, а мои дозорные всё никак не могли нащупать ту злосчастную деревню. Наконец, командир охранения справа сообщил, что он видит какие-то белые валы, блестящие в свете луны.
Я лично отправился туда, но никакого присутствия немцев на обнаруженных валах не заметил. А т.к. перед этими снежными валами находилась открытая поляна, то мы с отделением опять углубились в лес, по опушке обошли их справа, развернули отделение и цепью пошли вдоль валов, приспособленных под окопы. Вот здесь мы обнаружили спящими двух немецких часовых, которых бесшумно прикончили. Обнаружили, что от вала шла тропка в тыл и влево, и тут-то в лесном просвете мы увидели деревенские постройки. Это была та самая деревня, которую мы так долго искали.
Это отделение я оставил на валу в немецких окопах, а сам вернулся к роте. Развернув её в цепь, мы почти вплотную подошли к деревне. Но люди были измучены, и я нервничал. Стало уже почти светло, когда я послал отделение на разведку в деревню, т.к. никаких признаков присутствия немцев не заметил. Отделение прошло небольшую полянку перед деревней, миновало стоявший слева у дороги сарай без ворот, казавшийся заброшенным, и только поравнялось с первыми избами на деревенской улице, как по ним из сарая хлестнула длинная пулеметная очередь. Прямо в спины, а из сеней домов автоматчики на наших глазах почти в упор расстреливали это отделение…
Я дал команды: «Огонь!» и «Вперёд!» Утопая в снегу, мы выбежали на опушку, но по роте немцы открыли такой сильный огонь из пулемётов и автоматов, что рота залегла, успев пройти всего несколько десятков метров. Продвигаться перебежками по глубокому снегу невозможно, поэтому я приказал: «По-пластунски – вперёд!» Но и ползком продвигаться было невозможно.
Тут уже стало совсем светло, и мы оказались перед немцами в непосредственной близости. Что называется – «на ладони»… Чтобы не нести бессмысленные потери, я приказал отойти к лесу. Фактор внезапности был утерян, а главное, стало уже светло. Как же я проклинал командира взвода разведки… За неудачу, за неоправданные потери. А себя проклинал за излишнюю доверчивость. Наступление наше сорвалось, но главное, за двух немцев мы заплатили слишком дорого. Одиннадцать наших бойцов остались лежать у входа в деревню... Да и во время наступления тоже понесли потери.
Началась перестрелка с противником. Через некоторое время политрук роты приподнялся из снега и сел боком к немцам, прислонившись спиной к большой разлапистой ели. Он был метрах в 30-40 левее меня, и я видел, как он достал кисет, бумагу и стал закуривать. Занятый распоряжениями, я отвлёкся, а когда через некоторое время снова посмотрел в его сторону, то увидел, что он сидит всё в той же позе. Прошло ещё некоторое время, но политрук мой всё сидел. Позвал его, но он не откликнулся. Я подумал, что видимо он не слышит меня из-за стрельбы.
Тогда послал к нему связного. Я его особо предупредил об осторожности, поэтому он перебегал, насколько позволял снег, от дерева к дереву, приблизился на 10-15 метров к ели, а дальше пополз. Но, не доползая метра полтора-два, вдруг замер и перестал двигаться. Я даже не понял в чём дело. Послал второго связного, который тоже видел всё это, но приказал ему зайти за ель слева. Он сделал большой крюк, вернулся и доложил, что там возле политрука лежат ещё два убитых бойца, а у политрука из виска по щеке и масккостюму течёт струйка крови...
Я был в ярости. Как?! Как можно так бессмысленно потерять такого человека?! Я не находил себе места. Ведь это был очень душевный, внимательный и отзывчивый человек, с которым у меня сложились отличные отношения. Мы никогда с ним не делили обязанности на командирские и комиссарские. Если он видел, что я устал и валюсь с ног, то предлагал мне отдохнуть, а сам в это время шёл и проверял оборону, выставлял охранение. Мы оба отвечали за состояние роты, за жизни людей, и делали всё, что нужно.
Этому связному, и ещё двум бойцам я приказал вытащить тело политрука. А роте приказал открыть самый интенсивный огонь. Тело его всё-таки вынесли, но моё состояние нельзя описать … Погиб добрейший человек, прекрасный товарищ, замечательный воспитатель и настоящий большевик… Из-за чьей-то беспечности мы потеряли столько людей, и каких людей…
С наступлением темноты пришёл приказ командира полка отвести роту к домику лесника, что в нескольких километрах у нас в тылу. Там я подробно доложил ему о крайне неудачном наступлении и потерях.
Все бойцы были злые, замёрзшие и голодные. Ведь целый день мы пролежали под огнём противника, а до этого провели ночь в бессмысленном блуждании по лесу. Такого у нас ещё не было… Подойдя к подводам, на которых старшина привёз питание и водку, я заметил, что он как-то странно, испытующе посмотрел на меня. Протянул мне полную кружку: «Выпейте!» Я выпил, но вкуса никакого не почувствовал. Меня качало, соображал, словно в тумане. Как уснул прямо за столиком, не помню.
Сколько проспал, не знаю, но показалось, что меня сразу же растолкали – вызывал командир полка. Ругаясь, на чём свет стоит, майор Штивель, сказал, что в полк прибыло пополнение, но в роту он сейчас дать никого не может. И отдал приказ на наступление. Но уже не на ту деревушку, а на село, расположенное юго-западнее, и стоявшее на высоком месте. С тяжёлой головой, убитый горем утраты, потерь и неудачи, я сел в сани и повёл роту лесом в обход той проклятой деревушки.
Морозный воздух немного освежил голову и мы, не плутая, обошли немецкие посты, и вышли к селу. Перед рассветом, в леске в низине, я развернул роту в цепь и начал наступление. Обозлённые неудачей предыдущего боя, бойцы действовали чётко и слаженно, бесшумно приблизились к селу, и охватили его подковой.
Когда немцы обнаружили нас, было уже поздно. Их неорганизованный огонь не помешал нам ворваться в крайние строения, а это значит, что немцы в селе уже не удержатся. Так оно и получилось. Мы так стремительно продвигались, что немцы не успели ни дома сжечь, ни угнать жителей. Всё село осталось целым.
Уже к рассвету село оказалось очищено от немцев. Рота сразу же заняла оборону, а на площадь, сбежались жители села, тащившие с помощью бойцов двух молодых мужчин. Они оказались полицаями, не успевшими удрать с немцами. Требование на этом стихийном митинге было единое: «Смерть немецким холуям! Смерть предателям!» Тут же обоих и расстреляли… Тогда мы ещё не получили приказа о том, что всех лиц, сотрудничавших с оккупантами, следует в обязательном порядке передавать в контрразведку.
После этого боя в лесу я получил пополнение. Вместе с семьюдесятью бойцами, но без единого младшего командира, я получил и нового политрука роты. Да, я не оговорился, именно получил. Это был совсем молоденький «младший политрук», только окончивший ускоренные курсы политсостава и не имевший ни жизненного опыта, ни опыта политработы. Он вообще не мог разговаривать с бойцами, которые были вдвое старше его. Просто стеснялся с ними разговаривать. Но принял я его доброжелательно и тактично, как бы советуя и советуясь, начал его учить. Обо всём, что нужно сделать, он всегда у меня спрашивал, даже ждал указания. О выпуске боевых листков, о том, что в них надо написать, о каких событиях в роте. После того первого политрука, который сам мне многое подсказывал, советовал, этот чувствовал себя моим неопытным подчинённым.
Но частично я увидел в нём самого себя периода августа 41-го, поэтому, не задевая самолюбия, обучал его руководству людьми, всегда выставлял его перед подчиненными, даже командирами взводов и своим заместителем, как политрука роты, равного по власти со мной.
Но недолго он пробыл в роте. В одном из ночных боёв, мы с ним бежали почти рядом. Переговаривались. Вдруг он ойкнул и осел на снег. Я подбежал к нему, он, скорчившись, обеими руками держался за живот и совсем по-мальчишески стонал. Когда связные его уносили в тыл, он вскрикнул и сказал: «Больно! В животе всё горит...»
На рассвете, когда бой уже почти закончился, я пошёл к сараю, куда свозили раненых. Там военфельдшер Шура Капустина и санинструктор Тоня оказывали им первую медицинскую помощь. Раненых набралось человек 10-12, но своего политрука я среди них не увидел. Шура мне сказала, что он умер ещё там в поле…
Сама же она стояла возле одного раненого, который протягивал к ней раздробленную кисть, и ножницами отрезала ему пальцы, вернее то, что от них осталось. Какие-то кусочки висели на белых ниточках-жилках, и она по очереди состригала их. Мне же стало не по себе, и я вышел из сарая. Но тут как раз двое бойцов подтащили волоком по снегу бойца, у которого весь живот был располосован, разорван. Лохмотьями тянулась за ним окровавленная одежда, а может и растерзанное тело… Многое мне пришлось увидеть за время войны, но вид девушки, которая как мне показалось, совершенно спокойно отрезавшей пальцы, и спокойно подошедшей к бойцу, у которого кишки волочились по снегу... Наверное, моё присутствие среди раненых было неуместно, и Шура, подойдя ко мне, тихо, но властно сказала: «Уйдите отсюда!»
Я непременно должен сказать несколько слов о Шуре. Как мне рассказывали, осенью 1941 года эта смелая 19-летняя девушка в одном бою отстреливалась от наседавших немцев, а когда они приблизились, не успев убежать, спряталась в кучу хвороста, лежавшего у дороги. Немцы, забросали её гранатами, и, решив, что она погибла, побежали дальше. Но Шура, вся побитая осколками, выползла из-под этой кучи, и нашла в себе силы добраться до леса. В память о том бое она получила отметину - всё лицо у неё было, как бы поклёвано синими впадинами. А Тоня по секрету мне рассказала, что и грудь и тело у Шуры тоже всё побито осколками...
Через несколько дней в роту прибыл новый политрук, лет двадцати пяти, ещё не бывавший в боях, но смелый, хороший, душевный человек и товарищ. С ним мне удалось построить такие же тёплые отношения как с моим первым политруком.
Но вот я вам сейчас это всё рассказываю, и сам удивляюсь. Сколько всего там пришлось пережить, а я же в 878-м полку провоевал всего полтора месяца. 6-го или 7-го декабря принял роту, а уже 23-го января меня ранило. Но время на передовой до того спрессовано, что когда начинаешь считать, оказывается, прошли всего дни, недели, а пережито на годы...
Когда фронт уже подходил к Калуге, командир полка дал мне очередной приказ – перейти с ротой линию фронта, и, не заходя в населенные пункты, избегая дорог, напрямик по лесу, двигаться в сторону Калуги, и выйти с северо-запада на улицу Ленина, где слева и справа будет по 2-этажному дому. Именно конкретно к этим домам. В ночь на 25-е декабря вступить в город и вести наступление по улице Ленина к железнодорожной станции Калуга-1. Одновременно большой группой овладеть товарной станцией Калуга-2.
В ночь на 19-е декабря моя 2-я рота незаметно перешла линию фронта. С нами пошёл и весь наш обоз: 7 саней с оружием и боеприпасами, походная кухня, трое саней с вещами и продовольствием и одни санитарные. Всего 12 саней. А следом за моей ротой линию фронта перешёл штаб полка с 1-й ротой. Она должна была охранять штаб полка.
Маршрут движения преимущественно проходил по лесам. Порядок построения роты был такой. Впереди – стрелковое отделение в головном походном дозоре. Из него на расстояние прямой видимости высылается головной дозор в составе 3-4-х бойцов и на фланги по два бойца. Взвод, идущий впереди роты на расстоянии видимости головного походного охранения, выделяет на фланги по 2-3 бойца, поддерживает постоянную связь с отделением и боковыми дозорами и прокладывает дорогу для движения всей остальной роты и обоза.
Конечно, труднее всего головному взводу. А дозорному отделению ещё тяжелее, так как оно идёт, утопая по пояс в снегу, и прокладывает для всех путь. А снег был ужасный, по пояс, и выпадал почти каждый день. Да ещё сильнейшие морозы. Поэтому дозорное отделение менялось очень часто, а когда все четыре отделения взвода сменятся, то взвод тоже заменялся другим, а этот перемещался в середину роты. Вслед за головным взводом шли санитарные сани, на которых везли медикаменты, перевязочный материал и два меховых спальных мешка. В хвосте колонны двигались остальные сани, а замыкало колонну тыловое охранение.
Поздно ночью 20-го декабря мы вошли в какое-то село. Немцев там не оказалось, и я решил расположить роту в домах по северо-восточной окраине, и дать всем отдохнуть до утра. Вместе с заместителем и командирами взводов пошёл организовать круговую оборону. Но только мы вышли по гребню высотки на западную окраину, как на восточной поднялась ружейная, автоматная, а потом и пулемётная стрельба. Что ещё случилось? Мы, конечно, сразу помчались в роту.
Стрельба по селу велась справа, от двух скирд соломы на возвышенности, мимо которых мы уже проходили с командирами взводов. Туда я отправил отделение, со своим заместителем и командиром взвода с задачей занять там оборону по высотке и оседлать дорогу, идущую из села на юг.
Прибегаем в роту, все уже рассредоточились за домами крайних изб, и стрельба почти прекратилась. Только в районе двух скирд ещё слышны выстрелы. По всей вероятности, огонь вело стрелковое отделение, посланное мной.
Стали выяснять, что же произошло и выясняется. Когда мы с командирами ушли, в это время на дороге с юга показались сани. Одни, другие третьи... Они спускались с высоты и быстро приближались к тому месту, где стояла рота. Некоторые заметили эти сани, но никак не могли понять, чьи они. Уставшие от такого перехода бойцы, расслабились, что мы сутки не встречались с немцами, и бдительность притупилась. А когда сообразили, что это не наши, по колонне пронеслось: «Немцы!» Раздалось несколько выстрелов по уже близким саням, на которых сидело по 5-6 человек немцев. Но они сразу же открыли ответный огонь и развернули свой санный строй. Колонна роты шарахнулась в разные стороны. Началась паника…
Ситуацию спасла Шура Капустина. Выхватив наган, она бегала между лежащими бойцами и кричала: «Ложись! Огонь!» Огонь стал более-менее организованным, и семь саней с немцами кинулись наутёк. Но здесь по гребню высоты им наперерез побежало отделение. Оседлать дорогу оно не успело, но открыло по немцам огонь. В итоге немцы бросили трое саней с подбитыми лошадьми и двух своих убитых, и скрылись за гребнем. Так я получил ещё один фронтовой урок - ни одной минуты без командира! Урок был и бойцам.
Я срочно увёл роту в лес, на запад. Надо было успеть как можно дальше уйти от этого села. Конечно, на отдых тут уже никто не рассчитывал. Вот так обернулось наше желание передохнуть в нормальных условиях, поэтому в дальнейшем я уже не заводил роту в населённые пункты.
Вторые сутки прошли без отдыха, лесом, не выходя на дороги. Люди утомились, но шли. Никакой горячей пищи не было. Хлеб, весь промёрзлый, кончался. Перешли на сухари и сахар.
На третью ночь, с 20-го на 21-е декабря, рота вошла вглубь леса и расположилась на привал. Здесь нас догнал майор Штивель со штабом. Срочно затопили кухню, т.к. стало известно, что будем здесь отдыхать до 3-х часов ночи.
Я подробно доложил командиру полка о проделанном марше, обо всех происшествиях. Кое о чём частично он уже знал. Откуда – не знаю. Устроив разбор моих действий, майор отдал приказ –«Ускорить продвижение на Калугу!» Причиной нашего медленного продвижения он обозначил тот факт, что я вёл роту сам, не пользуясь проводниками из местного населения.
Надо признать я действительно измотался. Мне же надо было постоянно быть в курсе всего, что делается в роте, лично видеть её всю. Поэтому идти мне приходилось и с головным взводом, часто выходил в дозорное отделение, потом пропускал мимо всю роту, растянувшуюся на несколько сот метров, нас же было 280 человек, снова пробирался в голову колонны... И при всём при этом не быть унылым, не «вешать носа», а наоборот, подбадривать других. И всё время, не отвлекаясь ни на минуту, знать, чувствовать место, где мы находимся! Ведь шли мы без дорог, не заходя в деревни. А в лесу ведь не к чему привязаться, чтобы определить, где ты находишься.
Но моё детство прошло в лесу, поэтому мне не сложно было ориентироваться. За мной же никто никогда не следил, и я лет с трёх привык везде сам ходить. И других детей сколько водил в лес, и даже взрослых женщин, и ни разу не блудил. Помогло и то, что в военном училище мы тоже постоянно и в лесу, и в горах. И повоевать первое время довелось в лесистой местности.
В эту ночь мы смогли вкусить наскоро приготовленную горячую пищу и попить чаю. Горячего! После этого кое-кому даже повезло поспать на свежем снежке. Целых два часа. Мне же вздремнуть не удалось.
В три часа я повёл роту дальше, но к утру погода испортилась. Мела позёмка, видимость ограниченная. В таких условиях я всё-таки решил найти проводника. С одним отделением и командиром взвода пошли в небольшую деревушку, где стояли немцы. Пробрались в полуразвалившуюся крайнюю избу, и взяли там проводником дряхлого старичка. Попросили его провести нас лесом до следующего села. Он согласился, но предложил идти полем напрямик, т.к. в такую погоду немцев на дороге нет, и никто нас не увидит.
Вначале мы со старичком шли в головном дозоре, но уже скоро и он и я выбились из сил в этом глубоком снегу. Тогда поступили так - ставили задачу на небольшой отрезок пути командиру отделения разведки, а сами двигались в голове передового взвода. Продвижение стало не таким утомительным, но по времени, за счёт частых остановок, мы ничего не выиграли.
Помимо всего прочего я устал и от постоянного нервного напряжения. Надо было беспрерывно следить за курсом движения, да и бой мог начаться в любую минуту.
Устали и люди. Таких длительных привалов в три с лишним часа, как в ночь на 21-е декабря, мы больше не делали. Не имели возможности. Бойцы засыпали на ходу и буквально валились с ног. Я приказал строго следить, чтобы не оставить никого в снегу. Человек непременно замёрзнет. Для того чтобы разбудить упавшего бойца и поднять его на ноги, применялись все методы...
Меня тоже несколько раз поднимали, когда я засыпал на ходу и валился с ног. Шура Капустина видела в каком я состоянии, и предложить мне лечь в санитарные сани и немного поспать. Политрук поддержал её предложение, и даже начал настаивать на моём отдыхе, мотивируя это необходимостью дела.
Перепоручив вести роту своему заместителю, старшему лейтенанту Семёнову, я сел на сани, шедшие за передним взводом. Помню, что на меня натянули спальный мешок, и сразу провалился в глубокий сон. Но странное дело! Уже через полтора-два часа я проснулся, и ощутил, что по бокам от меня кто-то лежит. Оказалось, с одной стороны – Шура, с другой – Тоня-санинструктор. Выбравшись из саней, я побежал в голову колонны. Наступало утро 24-го декабря 1941 года.
Весь день мы пробирались по мелколесью. Было пасмурно, дул ветер, шёл небольшой снег. Вечером в одной из маленьких деревушек оставили третьего за день проводника, и стали искать нового. А ветер всё усиливался. Повалил снег, и нельзя было понять, то ли он сверху падает или же его поднимает ветром снизу и с неистовой силой бросает на людей, в лицо, забивая им глаза. Вести роту в такую снежную пургу сам я не решился. То ли сказалась усталость, то ли я уже привык к проводникам и избаловался. Но посланный за проводником командир отделения вернулся ни с чем: «В деревушке всего несколько домиков и проводника нет! Есть только один старичок, но он отказался, потому что уже немощный, и не может идти, тем более, в такую пургу». Обозлённый, я лично пошёл в деревню. Старик, который отказался, сказал разведчикам, что через два дома от него живёт женщина Дуня, которая хорошо знает дорогу до Калуги.
Захожу в избу, мне навстречу встала женщина лет тридцати. Зажгла фитилёк, выслушала просьбу: «Мне нужен проводник до Калуги». – «Когда надо?» - «Прямо сейчас!» Она ни слова не сказала, только занавесочку отвела, и стала одеваться. Тут я осмотрелся. А знаете, что такое русская печь в деревенских избах? Смотрю, с неё глядят три пары глаз детишек от полутора-двух лет до четырёх. Тут я предложил ей остаться, но она продолжала собираться. Удивительно, но дети смотрели на нас, на мать строго, серьёзно и даже не захныкали. А ведь их мама, ни слова не говоря, одевается, чтобы уйти неизвестно с кем. Можно сказать в небытиё… Она ведь рисковала не только собой, но и своими детьми. Одевшись, она укрыла ребятишек, рукой погладила их головки, наказав спать, а она, мол, скоро вернётся. До сих пор без слёз не могу это вспоминать... Их глазёнки у меня до сих пор перед глазами…
Вместе с ней мы пошли в головной дозор. В это время мы уже увеличили дозоры до 8-10 человек, т.к. очень многие засыпали прямо на ходу. Люди просто валились от усталости, некоторых не могли разбудить даже привычные методы – пощёчины и растирание ушей снегом. Я отдал приказ – собирать таких в сани. Вскоре все сани оказались набиты спящими, как кулями. А ездовые шли с обеих сторон, и следили, чтобы никто не остался лежать на дороге.
Ветер не утихал, снегом забивало глаза, и я полностью положился на свою проводницу. И не зря я на неё понадеялся. Даже в такую ужасную пургу ориентировалась она прекрасно, то и дело, называя местными названиями курган, высотку, рощу, а то и просто место. Но в этом снежном аду мы продвигались очень медленно. Люди изнемогли до крайней степени. Ведь шли мы не по дороге, а напрямую, т.к. опасались напороться на немцев.
Уже перед самым рассветом мы подошли. Ничего не видно, но она сказала: «Прямо перед нами крутой спуск в овраг. Не подходите к нему! Возьмите чуть правее, садитесь и прямо скатывайтесь в него. А там вы поднимитесь наверх и выйдете прямо к тем двум домам на улице Ленина». И действительно, скатившись вниз, мы свободно, не считая снега по пояс, поднялись к этим домам. Как только последний боец поднялся из оврага, она, попрощавшись, бесследно исчезла в снежной круговерти. К огромному сожалению, я даже не догадался спросить её фамилию…
Обгоняя колонну роты, я видел, как две или три группы бойцов силились поднять уже заснувших и упавших товарищей, как, держась под руки, двигался строй только что сменённого головного взвода. Словно призраки в снежной мгле…
Почти упёршись во вдруг возникшие городские постройки, я остановил роту и послал разведку. Она вернулась почти сразу же и с хорошим докладом: «В двух первых двухэтажных домах немцев нет». Я приказал занять двум взводам эти дома и организовать отдых, а одному взводу нести охрану группами по 10-12 человек.
Когда мой заместитель с одной из таких групп прошёл дальше по улице, то в соседнем небольшом одноэтажном доме обнаружили немцев. Без единого выстрела и крика вывели их из дома. Но пришлось поднять оба взвода и начать прочёску улицы, оказавшуюся проспектом Ленина, на которую мы вышли, точно выполнив приказ.
Своему заместителю Семёнову я выделил 40 человек и послал на товарную станцию в правую сторону. А сам распределил людей, чтобы с обеих сторон прихватить по две параллельно идущие улицы. Пока готовились и пошли уже рассвело. И что вы думаете? Мы застигали немцев голенькими в постелях. Шли-шли, прочёсывали каждый дом, каждый закоулок, и никакого сопротивления в первое время. Они никак не ожидали нашего появления у себя в глубоком тылу. Многие пьяные. Оказывается, это было католическое Рождество. Так вот почему мне строго-настрого приказали войти в Калугу именно в ночь на 25-е декабря! Наше командование учло этот фактор.
Получил донесение от Семёнова: «К станции подошли, но она забита полностью. Начинаю окружать». И вдруг оттуда раздалась стрельба. Спереди, справа, с центра города, но мы продолжали прочёсывание. Потом стрельба усилилась. Мы уже почти дошли до станции Калуга-1, когда увидели по улице на возвышенности, что там сани с немцами тянутся сплошной кавалькадой. Как потом выяснилось, это бежал жандармский полк. А комендантские подразделения на станциях и в центре города сопротивления оказать не могли. Они же отмечали праздник в глубоком тылу, и тут такой внезапный удар.
Я приказал открыть огонь по немецкой колонне, но, к сожалению, наш огонь был малоэффективен. Уставшие люди не могли вести меткого огня на дальние расстояния, а ручные пулемёты, побывав в тепле, на морозе заклинивало – замерзали затворы.
Около 10 часов утра прибыл штаб полка, и майор Штивель сразу вызвал меня. Но, даже не выслушав мой доклад, устроил мне разнос за то, что я не организовал действенного огня по отходящему противнику. Я объяснил, что люди устали до крайности, а сейчас они растянулись почти на половину города и их просто не хватает. Тем не менее, я лично отправился и снова организовал огонь засыпающих на ходу бойцов по бегущим немцам.
Хорошо хоть старшина роты проявил изворотливость, приготовил уже горячий обед, присовокупив к нему содержимое из немецких новогодних посылок, которых на станции оказалось три эшелона. И сдал в штаб полка почти замёрзших после бурной рождественской ночи пленных немцев, чем развязал руки всей роте.
Мы надеялись, что нам дадут хоть небольшую передышку, но уже после обеда командир полка дал новый приказ – срочно выступать на северо-восток, пересечь железнодорожное полотно, овладеть селом, которое находилось в 7-8 километрах от Калуги, и в дальнейшем освободить деревню, что в 3-4-х километрах восточнее того села. Для выполнения задачи мне придавалась единственная в полку 76-мм пушка во главе с командиром батареи.
Когда начало чуть сереть, мы пересекли железную дорогу, и, не особенно скрываясь, мы-то были уверены, что Калуга уже полностью очищена от противника, быстро пошли по хорошо накатанной дороге. Уже где-то к десяти часам вечера подошли к селу.
Высланная мной разведка вернулась с утешительными данными: «В селе семь полицейских и человек 15-20 немцев». Даже указали три дома, в которых они располагались. Никакого патрулирования замечено не было.
Мы стояли на высотке, а село за маленькой речушкой – в низине, и я приказал командиру батареи выкатить пушку на прямую наводку, и выстрелить по одному из этих трёх домов. Но лейтенант согласился сделать это только после долгих препирательств.
Когда рота подтянулась к околице села, пушка выстрелила, разорвав тишину морозной ночи взрывом снаряда в центре села. Почти всё село было охвачено цепью бегущих бойцов и криками: «Ура!» Ошеломлённые немцы почти не оказали сопротивления. Видимо совсем не ожидали нападения, были уверены, что фронт от них находится за сотню километров.
Не задерживаясь в этом селе, мы сразу же пошли, опять-таки дорогой, на восток. Но в той деревушке немцев не оказалось, и мы, даже не заходя в неё, повернули на северо-запад для освобождения других населённых пунктов.
Уже после войны я узнал, что Калуга была освобождена нашими войсками только 30-го декабря 1941 года. Но я-то ведь со своей ротой уже в ночь на 25-е декабря устроил там большой тарарам, и сразу же можно было ввести войска в город. Во всяком случае, можно было оставить мою роту в Калуге, и мы бы не только сеяли панику среди немцев, но и удерживали в своих руках огромную часть города и железнодорожную ветку. Я до сих пор в этом уверен! И мне до сих пор не понятно, почему командир полка майор Штивель не сообщил об этом командованию. Не понимаю, почему так получилось…
Ну, что дальше. За Калугой шли тяжелые бои. Наступательные действия мы преимущественно проводили ночью. А днём шли по дорогам, заваленным брошенной немецкой техникой. Подчас дорога представляла собой снежный тоннель выше человеческого роста.
С боями освобождали наши родные села и деревни. Нет, не деревни как таковые, а только названия на топографических картах, да остовы труб русских печей, угрюмо торчащих из-под снега… Но попадались и уцелевшие деревни. Поспешно отступая, немцы просто не успевали их сжечь. В таких деревнях мы хоть несколько часов могли побыть в избах, в тепле. Ведь всё время приходилось быть на морозе, на снегу. Как бы тепло мы ни были одеты, но отогреться у домашнего очага всегда надо. Спали впокат на полу. Я, как правило, забирался на печь, где справа и слева от меня укладывались Тоня и Шура. Если позволяла ширина печи, туда же забирался и политрук. Но никто не возмущался нашей привилегией, все видели, что по времени нам доводится отдыхать и обогреваться меньше, чем бойцам. К тому же такой порядок был установлен давно, ещё по предложению моего первого политрука роты. Я ему годился чуть ли не в сыновья и он очень заботился обо мне, о моем личном отдыхе, и в своё время предложил, чтобы я ложился именно между двух наших девушек. Они же весьма ревниво относились к тому, где я лягу. Их, кстати, несколько раз забирали в санроту полка, но потом возвращалась одна, а следом за ней и другая. Когда они получали приказ убыть в санроту, были и слёзы, а когда это распоряжение касалось одной из них, то к слезам уходящей добавлялись и колкие слова по отношению к остающейся. Обе они заботились обо мне хорошо, мне же приходилось оказывать им одинаковое внимание. Но это была чистая, невинная, юношеская дружба. Может быть, это была у них и первая любовь, ревность, кто знает... Если и любовь, то чистая и бескорыстная, а ревность безосновательная.
Но по кем-то пущенному нелепому слуху наши чистые взаимоотношения с Шурой и Тоней были истолкованы старшим врачом полка как предосудительные. Эту ложь он доложил комиссару полка, который приказал, в какой уже раз, отправить девушек в санроту, т.е. поближе к штабу полка. Как ни доказывал политрук роты, что это глупость, ложь, они убыли в санроту. Но уже через день в роту вернулась Шура, а на следующий день сбежала из санроты в свою родную 2-ю роту и Тоня. Это был очередной урок для меня – оказывается, и на фронте ходят «слухи»…
Вот так мы всё дальше и дальше удалялись на запад от Калуги. На одно из сёл нам пришлось наступать целую ночь. Заходили на него с южной стороны до самого утра. Казалось, вот-вот и ворвёмся в него, захватив хотя бы один сарайчик. Но, утопая в снегу, под сильным ружейно-пулемётным огнём противника, мы не смогли этого сделать. Рассвет застал нас в нескольких метрах от сельских построек, под которыми немцами были оборудованы огневые точки. Пришлось прекратить наступление. Ведь по снегу не побежишь, а медленно продвигающийся боец – это хорошая мишень. Но во время отхода надо вынести раненых, из-под носа у немцев забрать убитых. Понесли новые потери…
Отведя роту, я был вызван с докладом к командиру полка. Он приказал двумя взводами занять оборону, а одним взводом, около 80 человек, приготовить две радарные дороги слева от деревни. Площадку очистить от снега, чтобы могла развернуться автомашина. И другую дорогу от неё вправо. И по секрету сказал, что приедут две «катюши». А я их видел ещё в августе-сентябре 41-го в 299-й дивизии.
К вечеру мы уже всё подготовили, проверили, и часов около десяти вечера по этой дороге приехали две «катюши». А чтобы в темноте было видно куда ехать, дорога была сделана ёлочками. Только приехали, моментально развернулись, навели, и буквально через 2-3 минуты начался залп. А как отстрелялись, сразу свернулись и по второй дороге ушли. Это всё заняло от силы 10-12 минут. Причём, залп они произвели не по тому селу, на которое мы наступали, а куда-то правее и западнее.
А «наше» село мы взяли в эту же ночь силами всего полка. Но немцы успели сжечь его, и остались целыми только два кирпичных дома. После этого роты снова стали действовать раздельно.
На следующую же ночь, не задерживаясь, рота повела наступление на соседнюю деревню, расположенную южнее в З-4-х километрах. Одну ночь, вторую - неудачно…
Вначале я решил зайти с фланга, но там же открытое поле, боевое охранение немцев нас заметило, и пришлось под шквальным огнём метр за метром продвигаться к селу. Потом послышался рокот моторов, и к ружейно-пулемётному добавился огонь танковых пулемётов и пушек. Танк ходит по улице, сделает несколько выстрелов и прячется за дом. Потом опять выскочит, стреляет, и ничего ты с ним не сделаешь. И главное - осветительные ракеты всё время висели над нами. Немец умело их применял. Из-за них мы утратили фактор скрытности и внезапности. До села оставалось 150-200 метров, но глубочайший снег сделал нас неповоротливыми. С большими потерями мы всё ближе и ближе подбирались к деревне, но стало понятно, что овладеть ею мы не сможем. Об этом я докладывал командиру полка, просил отвести роту, но он требовал продолжать наступление. Нельзя сказать, что все бои, и особенно наступательные, проходили без нервотрёпки. Нет!!! Но этот... Я видел всю бессмысленность нашего положения, немцы просто расстреливали наших бойцов из всех видов оружия… Мне постоянно докладывали о потерях во взводах, на что я, разъярённый в своём бессилии, мог ответить только одно: «Вперёд!», с добавлением наикрепчайших слов…
Перед самым рассветом я по телефону снова, как мне казалось, убедительнейшим образом подробно доложил обстановку комполка, и попросил разрешения прекратить наступление, чтобы успеть вынести раненых, убитых и отойти, чтобы не нести ненужных потерь. Но майор Штивель был неумолим: «Продолжать наступление!»
Когда рассвело, мы оказались в ста, а то и ближе, метрах перед немцами. На таком расстоянии мы даже в своих масккостюмах были видны как на ладони, и немцы, находясь в оборудованных огневых точках под домами, в тепле, вели по нам прицельный шквальный огонь… Малейшее движение в снегу – и по тому месту сразу бъёт огненный смерч... Продвигаться мы уже не могли. Да и вообще, не могли двигаться.
И вот поступает распоряжение: «Вынести всех раненых, убрать убитых, и только после этого - начать отход роты!» Сколько мы ещё потеряли людей, вытаскивая людей по раскопанным траншеям в снегу, одному только богу известно…
Рассвирепевший, еле сдерживая себя, я докладывал майору о прошедшем бое, о потерях. Смотрел на него и думал, сидишь здесь в тылу и ни разу, даже в обороне, не пришёл в роту, даже ко мне на КП. В самые критические моменты даже не реагируешь на доклады, зато после боя указываешь на ошибки, с расстояния 3-4-х километров от переднего края… А ведь у тебя целый штаб по штату, хотя в подчинении всего две роты…
Да, чего я тогда только не передумал! А может быть что-то и высказал, не помню, но комиссар полка как-то по-товарищески, начал меня здесь же успокаивать, хлопая по плечу, мол, на войне без потерь не обойдёшься, а вот что раненых и убитых не оставляю на поле боя – это хорошо, не то что в 1-й роте... Мой политрук стоял рядом, хмурился и молчал. Интересно, о чём он думал?..
Не помню, чем занимался остаток этого дня, но вечером, нас с политруком снова вызвал командир полка, и приказал наступать на эту же деревню, но только уже с юго-западной стороны. При этом в голосе майора я не услышал никакой уверенности в успехе. А это ведь очень важно! Не знаю, как другие командиры, но я интуитивно чувствовал по тону отдаваемого мне приказа, выполню ли я его.
Получив около 70 человек пополнения, мы с политруком на санях тронулись в обратный путь. Подошло время роте выступать, а вновь прибывшее пополнение ещё даже не получило оружие. Но хуже того, многие из них ни разу не держали в руках оружия. Получая винтовку, они спрашивали: «А как из неё стрелять?» Тут же им кто-то показывал. Кругом слышалась беспорядочная стрельба… Кое-как успели раздать винтовки, патроны, но не успели всех переписать, и я снова повёл роту к той деревне…
Как мы ни старались скрытно подойти поближе, но немцы нас заметили. Видимо потому, что из пополнения многие шли в шинелях, а не в масккостюмах. Развернув роту в цепь, я начал наступление, нисколько не надеясь на его успех.
Наступление шло вяло. Немцы опять осветили всю местность ракетами. Одна только падает, сразу другая взлетает. Бойцы в шинелях чётко выделялись чёрными пятнами на белом снегу. Снова нас встретил шквальный огонь пулемётов и танков, стоявших за домами. Я доложил создавшуюся обстановку командиру полка и просил его помочь артиллерией, т.к. ни огневые точки под домами, ни тем более танки противника у меня нечем уничтожить, а они ведут губительный огонь по роте. Майор Штивель обещал помочь, но наступление не приостановил. В скором времени, один за другим прозвучали два выстрела нашей полковой пушки с закрытых позиций. В деревне грохнули два разрыва, но вряд ли они принесли какой-то вред противнику. И на этом «помощь» закончилась…
Когда время подходило к рассвету, я снова доложил комполка обстановку и свои соображения, что деревню мы не возьмём. Там же каменные дома, танки... И попросил разрешения приостановить наступление. На этот раз он разрешил прекратить наступление и отойти на исходные. Роту пришлось приводить в порядок, особенно пополнение. Они все разбрелись так, что целый день пришлось собирать. А кого собирать – мы не знаем. Ведь даже фамилии не известны.
Противоречивые мысли одолевали меня. С одной стороны – «неужели снова придётся вести наступление на село и бессмысленно класть людей?» С другой стороны мне уже самому интересно - «а что если перебросят на другой участок и не придётся увидеть своими глазами, как же там немцы устроили оборону?» Озадаченный такой упорной обороной и ожесточённым сопротивлением немцев в этой деревне, мне было очень интересно увидеть систему их обороны, организацию огня. И весь день я думал, как бы взять эту деревню? Но высланная мною разведка вернулась ни с чем. Её просто не подпустили. Наблюдатели тоже сообщили немногое.
Когда мы наступали, всё население этой деревушки пряталось в погреба и вырытые ямы. А как только мы возвращались в деревню, то со всех своих нор и щелей женщины с детишками и своими узлами набивались в дом, в котором остановился я с политруком. Когда я в первый день проснулся, и услышал многоголосый женский гомон, то был поражён: «Что это? Откуда?» Но политрук мне объяснил, что жители села считают себя тут в безопасности, т.к. здесь разместился «главный» командир. С нескрываемым деревенским интересом они разглядывали меня и тут же, нисколько не стесняясь, что я всё это слышу, обсуждали мою молодость, мои действия, боевитость, быстроту... Я, конечно, старался держать марку. Представляете, всё время, ещё с 8-го декабря 1941 года я носил … командирскую шашку. Я нашёл её в один из первых дней наступления в какой-то деревне, в брошенном немцами сундуке, среди прочего барахла. На эфесе у неё герб РСФСР, видимо наградная. Ну, забрать я её забрал, это понятно, но вот почему я её постоянно носил? Чем это объяснить сейчас – не знаю. Конечно, она мне мешала в движении, а уж тем более при перебежках и переползании по глубочайшему снегу, но я с ней никогда не расставался.
Вечером 22-го января 1942 года мы с политруком получили приказ на наступление. Опять-таки на эту злосчастную деревню. Третий раз за три ночи… Только наступать предстояло с северо-востока, и в помощь мне придали пулемётную роту в составе четырёх «максимов».
Взяв проводником одного уже очень дряхлого старика, по небольшой балочке подошли поближе к деревне. Развернулись в цепь, поставили между взводами «максимы». А ко мне только недавно политруком прибыл молоденький парнишка, даже, наверное, моложе меня. И он на этот раз был как-то беспечен, словно на прогулку идёт. Я же шёл как отрешённый… Мне уже всё было безразлично, вперёд так вперёд… Даже шквальный огонь почти нисколько не беспокоил меня. Мною овладело тупое безразличие… Придерживая шашку и планшет, не останавливаясь и не ложась, я зигзагами вправо-влево медленно двигался за цепью роты.
Приданные нам «максимы» старались вовсю, но немцы стреляли по нам с закрытых огневых точек и из танков. Они нас видели, а мы их – нет… Озлобившись на всех и вся, я безжалостно отчитывал бойцов из пополнения, отстававших от взводов. И вот когда я разослал связных по взводам с требованием ускорить продвижение и не залегать, меня словно кирпичом с огромной силой ударило по колену правой ноги. Крутануло на 180 градусов, и всем телом, плашмя, рухнул на спину, глубоко провалившись в снег. Пытался перевернуться, но даже пошевелиться не могу, жуткая боль. Только тут сообразил, что меня ранило.
Промелькнула мысль – хорошо, ранен в коленный сустав разрывной пулей, значит, ампутируют ногу… Инстинктивно схватился за пистолет - стреляться или нет? Решил, что не буду. А может, протез, какой сделают? А ещё в августе 41-го я дал себе слово – никогда при ранении не кричать и не стонать! Просто насмотрелся тогда, как некоторые кричат: «Товарищ лейтенант, меня ранило!» Особенно эти сельские призывники старших возрастов в первые дни боев. Они же не умели обращаться с индивидуальными пакетами, и не верили тому санинструктору, который был из их же среды, поэтому кричали мне, т.е. иди и оказывай ему помощь. И вот насмотревшись на это, я и дал себе зарок – «Не кричать! Не стонать! Терпеть!»
А совсем недалеко от меня бежал политрук, и я его тихо позвал: «Политрук, ко мне!» Даже вяло как-то, чтобы никто не узнал о моём ранении. Он кричит, даже весело как-то: «Что лёг? Притомился? Ладно, пошли вперёд!» Я опять ему: «Ко мне!» Он, снова лёжа, ничего не подозревая, ответил: «Ладно, пошли, пошли вперёд!» Тут я не выдержал и крикнул: «Политрук! Немедленно ко мне!» Он подбежал и, упав рядом, шутя, спросил: «Что закурить захотел? Перекурим?» Даже не обратил внимания, что я лежу вверх лицом, добавил: «Тебе свернуть?», и достал портсигар. Чтобы не слышали связные, говорю ему: «Меня ранило». Он даже не поверил: «Да брось ты…» Я почти криком: «Меня ранило, ты понимаешь?!» Только тут он как-то испуганно спросил: «Как? Куда?» - «Разрывной пулей в колено. Но никому не говори! Только связным прикажи вытащить меня. Я даже повернуться не могу». – «Да?» - «Веди бой как командир роты!»
Ну, связные тут же подползли ко мне, связали свои ремни, зацепили за мой, и ползком, волоком потащили в тыл. Планшет и шапку я держал на груди, чтобы они не мешали бойцам. Протащили меня метров триста, у склона в овраг вдруг подбегает Шура Капустина, и чуть не кричит: «Что, лейтенанта убило?» - «Нет! Ранило в колено». Она бросилась ко мне, потом опомнилась. Куда-то крикнула: «Сюда подъезжай!» Не сдержавшись, разрыдалась, бросилась ко мне, и, суетясь, что было так не похоже на неё, стала помогать затаскивать меня на подъехавшие сани. Вырвала вожжи у ездового, и сама повезла меня. Потом склонилась надо мной и стала говорить, говорить, что она знала, что это случится со мной. Я улыбнулся, а она: «И не смейтесь, я предчувствовала! Я уже третью ночь езжу встречать вас убитого или раненого…»
Когда подъехали к окраине деревни, а там у сарая уже моя рота толпится, и, молча, с виноватым видом встречает меня. Значит, связные всё же проговорились, и наступление опять сорвано… Занесли меня в один единственный уцелевший дом. Положили на ту самую деревянную кровать, на которую я накануне решился прилечь. Дом сразу же начал набиваться местным населением. Но как ни пытались всех выпроводить, никто из женщин уходить не хотел.
Шура разрезала валенок, располосовала окровавленные ватные брюки. Превозмогая боль, я приподнялся посмотреть на свое колено. И о, ужас! Какой стыд! Я думал увидеть там развороченное колено, а там всего-навсего маленькая дырочка в коленном суставе. Словно кто-то торцом карандаша поставил кляксу. Меня от стыда прямо в жар бросило. Красный весь лежу. Думаю, такая малюсенькая дырочка, а я так раскис, что меня даже тащили на руках.
Но прибывший врач, осмотрев рану, отдал распоряжение Шуре: «Раздроблен коленный сустав. Наложить шины и немедленно отправить в медсанбат!» Но я ему категорически заявил: «Никуда из роты не уеду! Даже в вашу санроту. С такой ерундой я и здесь вылечусь. Я уже командовал ротой, не вставая с подводы!» Он на меня так посмотрел: «Вас, лейтенант, мы и спрашивать не будем!» Я вспылил: «Нет, это мое дело, и я не дам, чтобы меня из роты куда-то увозили!» Подтянул к себе свою шашку, снаряжение с пистолетом... Все молчали. У Шуры и Тони на глазах слёзы. Политрук топтался у кровати, а старшина то и дело куда-то уходил, заходил снова. Женщины выжидающе смотрели на происходящее. Некоторые утирали слёзы.
Врач стал меня уговаривать ехать в медсанбат, но я категорически отказался: «Из-за такой ерунды никуда не поеду! Я тут в роте побуду и через пять дней буду опять в строю!» Он говорит: «Вы что такое говорите? Вы, может, и через пять месяцев не встанете на ноги! Кто знает, что у вас с коленом?»
Ну, короче говоря, проходит день, меня никуда не забирают. К вечеру позвонил командир полка: «Почему не уезжаешь в госпиталь?» – «Я уже вам докладывал, что из роты никуда не уеду. Не такая уж большая у меня рана!» Он снова повторил: «Я приказываю сдать роту и уехать в медсанбат!» Тут я взорвался: «По вашему приказу здесь столько бойцов погибло ни за что, ни про что! Дайте мне возможность, и я самостоятельно возьму деревню!» Майор молча положил трубку…
К вечеру приехал комиссар полка. Толковый такой, рассудительный. Сел ко мне на кровать и начал уговаривать. Причем по дружески, как равного: «Слушай, ты понимаешь, ты же будешь обузой для всех. Для роты в первую очередь!» Наклонился и на ушко прошептал: «И для Шуры…» Тут политрук не выдержал: «Поезжай! Там быстро подлечишься, может из медсанбата никуда тебя и не отправят, и скоро вернёшься обратно в роту». Шура тоже выдавила: «Надо ехать!» В общем, уговорили меня...
Говорю комиссару: «Нагнитесь!» Он склонился ко мне, и я надел ему свою командирскую шашку. Как сейчас перед глазами: стоит он 30-летний, стройный, высокий, затянутый в ремни в белом полушубке, и с моей шашкой… Некоторые даже заплакали. Но пистолет я не отдал, пообещал: «Стреляться не буду!»
Шура заявила комиссару: «Я сама его повезу!» Было почти уже совсем темно, когда мы отъехали от каменного дома. Впервые я ехал на санях не к командиру полка по вызову. Так непривычно, без политрука, без связных. Ездовой сидел впереди, а Шура, примостившись рядом. От бессонных ночей меня клонило в сон, но стоило только закрыть глаза, как она меня начинает тормошить: «Ты, (впервые я услышал от неё «ты»), даже в последние минуты не хочешь смотреть на меня…»
Началась позёмка, с лица у меня марлевую накидку ветром откинуло, и чувствую, мне на лицо капают слёзы. - «Шура, что такое?» Пытаюсь прикрыть лицо пологом, она ещё сильней расплакалась: «Дурак, ты дурак…» Ясное дело, влюбилась…
Поздно ночью доехали до медсанбата дивизии, он располагался в каком-то большом селе километрах в восьми от передовой. Для нас это был глубокий тыл. Ведь здесь не свистели пули, не рвались снаряды, и люди могли свободно, не пригибаясь, ходить по улице. Вскоре Шура вернулась с высоким в летах мужчиной, военврачом 2-го ранга. Она ему что-то доказывала, горячилась, а он тихо, флегматично, безразличным голосом отвечал ей: «Нет! Не могу!»
Вся изба уже была заполнена ранеными, и меня оставили в холодных, тёмных сенях. Шура снова начала чего-то требовать, и через открытые двери я слышал возмущённый голос начальника медсанбата: «Вы сдали раненого?! Так почему не уезжаете к себе в полк?! Я приказываю вам, военфельдшер, немедленно уехать!» Видимо, Шура плакала, потому что я снова услышал его негодующий голос: «Возьмите себя в руки и немедленно возвращайтесь в полк!» Шура запальчиво ответила: «Никуда я не уеду!» Расстроенная, шмыгая носом, подошла ко мне, наклонилась и начала ругать своё медицинское начальство: «Тыловые крысы! Сидят здесь, и знать ничего не хотят, бюрократы!»
Я стал успокаивать её, что вот немного побуду здесь и через несколько дней опять вернусь в полк. Она в сердцах бросила: «Да как ты не понимаешь?! Ведь у тебя ранение не просто в кость, а в колено! Оно раздроблено, и завтра тебя надолго увезут в госпиталь. И даже не армейский. А ты говоришь...» Я стал прощаться, но Шура заявила, что до отправки меня в госпиталь она отсюда никуда не уедет.
Всю ночь она куда-то бегала, суетилась, ругалась с женщиной-врачом. Опять прибегала, садилась возле моих носилок на корточки, достала ваты, и ещё больше укутала мою ногу, хотя она и так выглядела как толстое бревно.
С рассветом подъехала полуторка, и мои носилки поставили в кузов к правому борту. Я оказался единственным лежачим, все остальные, человек 10-12, были легко ранены в руки, ноги, голову. Так я оставил свою 290-ю стрелковую дивизию и распрощался с Шурой. Шура… Насколько неласково она мне ответила в первый же день, настолько же хорошими отношения стали потом. Но в силу молодости и неопытности я не заметил и не понял, что её дружеское отношение ко мне переросло в нечто большее. Да, она постоянно заботилась обо мне, следила, чтобы я смог отдохнуть, и я считал это вполне нормальным. И ничего особенного не заметил, когда они с Тоней оспаривали право на мелкие услуги мне, и не обратил внимания на спор подруг, кому везти меня в медсанбат. И вот только теперь, прощаясь с Шурой, я понял, что она чувствовала… К огромному сожалению, я совершенно ничего не знаю о дальнейшей судьбе этой славной девушки. Осталась ли она жива…
К исходу 24-го января мы доехали до Калуги. Всю дорогу, не обращая внимания ни на что, я молчал. В первый госпиталь сдали несколько человек «ходячих». Поехали в другой. Там, после длительных препирательств медсёстры с сотрудниками госпиталя, ещё несколько человек покинули автомашину. В третий госпиталь тоже группу раненых устроили. Когда уже начало темнеть, в четвёртом или пятом по счёту, сняли последних двоих, и я остался один. Расстроенная медсестра стояла в задумчивости передо мной. Я не выдержал, начал требовать, чтобы меня тоже, наконец, куда-то определили.
Она, ни слова не говоря, пошла к подъезду здания, и вернулась с мужчиной в белом халате. Я стал кричать на этого врача, что целый день меня возят и не могут даже в госпиталь определить. Он пытался объяснить, что нет мест, что это госпиталь не по профилю моего ранения, что он меня понимает, но... Я вскипел: «Как это так «не моего профиля»? И как это мест нет?! Кладите где-нибудь, не могу же я вечно кататься по городу по прихоти разных тыловых бюрократов!» Даже выхватил из-под шинели пистолет, и пригрозил им…
На это врач, ничего не ответил, отошёл от машины, и распахнул входную дверь вестибюля. Там, при ярком, как мне показалось, электрическом свете, носилки с ранеными густо стояли прямо у входных дверей, и между оставался лишь узенький проход… Тут из подъезда выбежал другой врач: «Успокойтесь, лейтенант! Вас сейчас повезут в только что прибывший госпиталь. Там вас точно примут», и начал объяснять шофёру дорогу.
Наконец доехали в тот госпиталь. Он располагался в здании школы, выходящую фасадом на городскую площадь. А через площадь стоял храм. И действительно, госпиталь только прибыл в Калугу, и в нём не было ни одного раненого. Я оказался самым первым. При приёме у меня обнаружили пистолет и стали требовать сдать его: «Вы поступили в госпиталь, а больным оружие не положено». Я возмутился: «Какой же я больной?!» - «А кто же вы сейчас?!» Но пистолет так и не отдал, да ещё остричь волосы отказался.
Меня осмотрел начальник госпиталя, я же первый раненый. Это был высокий, стройный военврач 1-го ранга. Уже в годах, кавказской наружности и с явным нерусским акцентом. Медперсонал его уважительно называл профессором. Осмотрев мою рану, он взял какой-то никелированный стержень и, держа одной рукой мою ногу, вдруг резким быстрым движением вонзил его в рану. Начал ширять туда, вот тут я не выдержал, вскрикнул. Он говорит: «Всё ясно!» Назначил лечение.
Это, получается, уже третья ночь идёт, а я ни разу не мочился, не оправлялся. Рядом сидит девчушка в форме, ну не скажу же я ей… Потом уже невозможно стало терпеть, говорю ей: «Позовите профессора!» - «Зачем?» - «Позовите профессора!» Тот приходит, я ему говорю: «Пускай она уйдёт!» Он на неё: «Ты что натворила?» Та вскочила и побежала. Я ему объясняю: «Вы знаете, я уже третьи сутки не оправлялся, у меня уже живот распирает…» - «Ах ты боже мой! - И кричит ей, она под дверью стояла, - неси утку быстрее и катетер!» Она принесла, сам вставил. Одно судно наполнилось, а моча ещё льётся. Он кричит: «Неси ещё судно!» Вот так я стеснялся. Деревенский же по сути дела парень. Но как оправиться по тяжёлому? Хоть я и ограничиваю себя в питании, но всё равно нужно. Тут уже я ей сказал: «Позовите санитаров!»
Они приходят, говорю им: «Мне бы оправиться надо, только я встать не могу!» - «А, ну это устроим». Койки раздвинули, меня посредине… Но чувствовал я себя просто ужасно: каким-то неприспособленным к жизни, к элементарным личным житейским вопросам.
На четвёртый день поездом, в теплушках нас повезли в Москву. Приехали ночью, везде всё затемнено, но в самом вокзале нормальное электрическое освещение. На небольшой санитарной машине привезли в больницу Боткина и поместили в бомбоубежище. Меня сразу на операционный стол. А мне в медсанбате наложили шину, а в калужском госпитале уже гипс наложили. Но он же большой, от живота и до самого низу, а гипс живот раздражает, больно, и я под него заталкивал вату. Врач стоит надо мной с поднятыми руками, медсестра рядом стоит, а другая разрезала гипс на животе, раскрыла его, и слышу её голос: «А вшей-то сколько…» Я видимо сильно покраснел, потому что врач ей как даст правым плечом: «Уйди отсюда!» Сама начала снимать гипс, и ласково меня успокаивает: «Что ж мы не знаем, как там у вас на фронте?! Ничего-ничего, ещё больше привозят. Всё нормально!» Короче говоря, рану мне почистили, сделали рентгеновский снимок, и снова наложили гипс.
Палата наша располагалась в бомбоубежище, и в ней нас лежало пять тяжелораненых командиров. Все лежачие. Только один младший лейтенант, лет двадцати пяти, раненный в правую руку, плечо и грудь, мог вставать и передвигаться. В противоположном от меня углу лежал командир кавалерийского эскадрона. Спокойный, скромный старший лейтенант, лет 30-35. Ранение его было ужасное. Осколками снаряда ему счесало всё ниже живота… Бёдра ног тоже были подбиты, но я ни разу не слышал его стона.
Его жена с дочкой лет пяти жили в Москве, и часто навещали его. Но когда они приходили, он тихо, чтобы мы не слышали, гнал от себя жену: «Я же сколько раз говорил тебе – уйди от меня! Забудь обо мне!»» Она плакала, рыдала, бросалась к нему на грудь: «Да что ты говоришь такое? Вот же доченька наша…» Маленькая дочурка хваталась своими ручонками за щёки матери, целуя её, тоже рыдая, тихо упрашивала: «Мама, ну не плачь, не надо…» На всю палату раздавались вздохи, всхлипывания… Мы все, чувствуя свою вину перед ним, замирали, стараясь ничем не нарушить тишины. И видели как старший лейтенант, укрывшись с головой одеялом, беззвучно плакал. Тело его под одеялом дрожало, дёргалось…
Когда она уйдёт, опять разные разговоры начинаются. Спать никому не хотелось, а лежать и бездействовать было тягостно. Помню, первым начал рассказывать анекдоты этот младший лейтенант с «самолётом» на руке. Долго он мычал однотонно, ворочался, стараясь не выдать своего страдания, потом приподнялся на постели и без всякого перехода от стона, рассказал анекдот. Мы рассмеялись, забыв о боли, и на время отключились от своих переживаний. Тут уже все стали травить анекдоты. Рассказал пару скромных анекдотов и старший лейтенант – кавалерист. Где-то там в углу лежал очень тяжёлый, весь израненный, мне сказали, что это комиссар полка, он тоже что-то рассказывал. Но тихо. Когда попадался особенно смешной анекдот, все смеялись с искажёнными от боли лицами… Одним словом палата у нас оказалась веселая. То тише, то громче, но из неё почти постоянно доносился хохот.
А в этом подвальном помещении воздуха не хватало, и у нас постоянно была открыта дверь в большую смежную солдатскую палату, где лежало человек пятнадцать. Оттуда всё время доносились стоны, жалобы, крики, причитания. И как начнём травить, у них на время воцарялась тишина. Прекращались стоны, жалобы. Потом вдруг крик: «Прекратите хохот! Сестра, закройте дверь!» Появлялась сестра, которая, сама еле сдерживалась от смеха, и начинала уговаривать, чтобы мы не смеялись или хотя бы смеялись потише.
Некоторое время в палате было тихо. Раздавались приглушённые стоны, вздохи и вдруг, после довольно громкого стона, младший лейтенант затянул громко, прямо выкрикнул: «Раскинулось море широко...» Мы подхватили песню, и снова явилась сестра, опять тишина…
Наступает отбой, погасили свет, а у нас снова взрывы хохота. Двенадцать часов ночи, но спать не хочется. Два часа, раны болят, все ворочаются, сдерживают стоны, а кое-кто и рыдания. И снова хохот над очередным рассказанным анекдотом. Пришла дежурный врач, пригрозила доложить начальнику госпиталя. Наконец все уснули…
Утром на врачебном обходе мне сказали, что у меня сквозное пулевое ранение правого коленного сустава с отщеплением внутреннего мыщелка. Мой лечащий врач, женщина в годах, дала посмотреть рентгеновский снимок колена, но я же ничего в этом не понимаю. Спрашиваю: «Что же будет дальше?» Она ответила: «Вылечитесь, будете ходить без костылей. Ну, а с палочкой придётся примириться. Ведь ходят же многие с палочками. А пока надо лежать, лечиться». Для меня это была катастрофа… Значит всё, возвращения в родную роту не будет...
На следующий день младший лейтенант освоился, произвёл разведку и подходит ко мне: «Ну, эти лежачие ладно. А ты-то можешь ходить?» Оказывается, он узнал, что в одиннадцать часов на третьем этаже состоится концерт московских артистов. Конечно, мне было бы интересно пойти: «Но как же я пойду? Я даже повернуться не могу!» - «Ничего, на костылях можно. Я сейчас достану!» - «Так я в белье!» - «И халат сейчас достану!» И действительно, приносит откуда-то по халату нам, и костыли.
Мучился-мучился, чтобы мою ногу спустить, у меня же гипс до пупка. Всё-таки посадил меня на койке. Но пока накинул на меня халат, пока надевали, вспотели оба. Боль неимоверная… Взял один костыль под мышку, второй, но подняться, оторваться от койки не могу. Он заходит с одной, другой стороны, пытаясь помочь мне приподняться, встать на костыли, которые разъезжаются в разные стороны. А все молча наблюдают за нашими манипуляциями.
Младший лейтенант стонет, но приподнять меня не может. Потом, взял меня за спину, ставит на ноги и заходит сзади, чтобы помогать мне идти. Я делаю первый шаг, а потом как упал и прямо на его руку в гипсе. Он как заорёт, я сломал ему самолет, а сам лежу на полу…
Почти сразу же прибежали сестра и врач. Подняли, положили меня на койку. Сестра причитает: «Ой, что ж вы натворили…» Ну, этого сразу в операционную. А врач, оценив обстановку, как рванёт с остервенением кальсоны с меня: «Вот ходи теперь по концертам!» Так и не пришлось побывать на концерте московских артистов. А часа через два внесли на носилках нашего младшего лейтенанта. Жёлтого, притихшего…
Наш лечащий врач поправила у него постель, а на меня только злобно посмотрела. Вечером снова пришла к нам в палату, осмотрела младшего лейтенанта, выслушала всех и только тогда подошла ко мне. Уже без злости спрашивает: «Ну, как дела, любитель искусства? Хорошенький новогодний концерт вы мне устроили! А знаете ли вы, что у него сместились осколки в плече и опять придётся оперировать?!» Что я мог ей ответить?..
А вечером к нам пришли пионеры. Поздравили с новыми успехами Красной Армии, спели несколько песенок, рассказали сатирические стихи, поговорили с нами. И снова начались рассказы анекдотов, случаев, песни. Опять вызывались для успокоения сестра, врач...
Но в Боткинской больнице я провёл всего пять дней, а потом тяжелораненых стали отправлять в глубокий тыл. Сколько я ни упрашивал меня оставить, нет, тоже отправили. В плацкартном вагоне положили на нижнюю полку. А надо мной на верхней полке ехал политрук, раненный в руку и лицо. Штык прошёл ему через нос и повредил слезоточивый канал, поэтому казалось, что он всё время плачет. И на обходе он врачу говорит: «Доктор, он не ест ничего!» А у меня, действительно, ни в больнице, ни в поезде аппетита не было. Врач отвечает: «А, ну это поправимо! Сейчас спиртику принесут, выпьете и закусите!» Я с возмущением отказался: «Я не пью!» - «Ну, хоть водочки можно?» - «Нет!» Политрук мне со второй койки шепчет: «Соглашайся! Соглашайся!» Тут врач говорит: «Тогда вот что. У нас есть вино хорошее. Портвейн! Сто граммов не помешает». Я говорю: «Зачем он мне нужен?» Этот опять сверху: «Соглашайся! Он будет, будет!» Так вот, перед едой мне приносили портвейн, политрук его мгновенно выпивал и каждый раз сетовал: «Дурак, от спирта отказался! Ведь это было бы целых сто граммов водки мне…»
Так мы доехали до самого Новосибирска. После тотальной светомаскировки, которая применялась на фронте и в прифронтовой полосе, мне странно было видеть освещённые ночью города, сёла, станции.
Началось лечение в новосибирском госпитале, но мои надежды на скорое возвращение в полк рухнули окончательно. В конце февраля с меня окончательно сняли гипс, но ходить я не мог. Нога не сгибалась и не слушалась! Я ужаснулся, как так?! Особенно, меня беспокоил коленный сустав. Будет ли он сгибаться? Действовать? На этот вопрос врачи давали противоречивые, неопределённые ответы.
Начались новые процедуры по разработке суставов ноги, атрофированных мышц. С большими усилиями, через мою сильную боль, молодые, сильные парни помогали мне восстанавливать ногу. И постепенно, миллиметр за миллиметром колено начало чуть сгибаться. Тут уже я с утра до вечера, несмотря на боль, постоянно ходил, бегал по лестницам, сгибал и разгибал руками ногу. Одним словом усиленно разрабатывал её, и уже числа 10-го марта меня выписали.
Из госпиталя меня направили в управление кадров Сибирского Военного Округа. Попал на прием к одному капитану и начал настойчиво требовать отправки на фронт. Но он посмотрел на меня, на мои документы и начал отговаривать: «На фронт мы никого не отправляем. Да вам, лейтенант, не надоело там? Отдыхайте, восстанавливайтесь, вы же с палочкой ходите, нога ещё не сгибается. Поработали бы военруком в школе». Но я был категоричен: «Нет, только на фронт!» С этим я от него и ушёл.
А утром я не позавтракал, решил пообедать в городе. Но ни в одном магазине и столовой я пообедать не смог. Там обслуживали по талонам, а их у меня не было. Решил купить чего-нибудь на рынке. Подхожу к женщине торгующей яйцами, оказывается, десяток яиц стоит сто рублей. Для меня это слишком дорого. В госпитале меня рассчитали из расчета 725 рублей в месяц, и у меня оставалось около восьмисот рублей. А в управлении кадров узнал, что некоторые командиры ждут нового назначения больше двух недель. Я было возмутился такой ценой, как тут меня нахально так оттолкнула женщина, по виду еврейка, и нагло так заявила: «Если нет денег, то нечего и спрашивать!» Говорит продавщице: «Сколько ещё осталось? Я заберу все», и стала перекладывать яйца в сумку.
Оскорблённый и злой, я подошёл к мужчине, продававшему печёный хлеб. Но не успел даже узнать цену лежавшей полбуханки, как какой-то мужчина в штатском, судя по облику и акценту тоже еврей, оттолкнул меня, схватил полбуханки и четвертинку лежавшие на прилавке, засунул их в огромный портфель и спросил: «Что там у тебя ещё есть?» У продавца имелась ещё большая буханка весом 2 кг 200 грамм, так он и её взял. И только после этого спросил: «Сколько стоит?» Оказалось, что буханка стоила 400 рублей, половину моей зарплаты. Я был потрясён, что здоровый, холёный мужчина лет тридцати находится не на фронте, а в тылу, и так себя ведёт. Я же с палочкой, в форме, понятно, что раненый, а он меня ещё так грубо оттолкнул плечом, а там же скользко, и я чуть не упал. Я даже представить себе не мог, что столкнусь с таким отношением к раненому защитнику Родины… Хотя ещё в госпитале ходили всякие разговоры, но здесь я лично увидел, как много здоровых, холёных мужчин, так нагло, не стесняясь своего нахальства, своего штатского платья, сорят деньгами. Я не антисемит! У нас в семье никогда не делили людей по национальности. Я же вам рассказывал уже, что, сколько себя помню, с двух лет, наверное, то каждую неделю у нас останавливался на ночлег старьёвщик Лазарь Моисеевич. Его всегда без разговоров принимали, хотя нас в одной избе жило двенадцать-четырнадцать человек, и хлеб из мякины. Но увидев такое, мне стало казаться, что весь Новосибирск заселён только наглыми и богатыми евреями…
Голодный и разъярённый я пошкандыбал обратно в управление кадров. Не обращая внимания на очередь, ворвался в кабинет к тому капитану и потребовал: «Товарищ капитан, немедленно отправляйте меня на фронт!» Он видит, что я не в себе: «Что такое?» Я рассказал. – «Ну, всякое бывает…» Но выдал мне направление в гостиницу и талоны в столовую. Прихожу туда, а там обед уже кончился, и стоит очередь на ужин.
Зато в этой гостинице я встретил пухленького, с наголо подстриженной головой, молодого старшего лейтенанта, показавшегося мне знакомым. Я не ошибся, это оказался мой однокашник по Буйнакскому училищу, только из другой роты. Разговорились, оказывается, после училища мы одновременно попали в Белгород на формирование 299-й дивизии, только меня направили в 956-й полк, а его назначили помощником начальника штаба по разведке в 958-й. За ужином решили отметить встречу. Купили по сто граммов пива. И зря. Ни он, ни я ничего не пили, и всё отдали соседям по столу. Зато он мне рассказал, как они выходили из окружения осенью 41-го. Ведь их полк шёл отдельной колонной.
В одном из боёв был тяжело ранен командир полка. Ранило и его заместителя. Прорваться из окружения полку не удалось, и тогда на совещании командного состава начальник штаба предложил пробиваться из окружения, разделившись на мелкие группы. Но мой однокашник не согласился с этим предложением, и напомнил всем про приказ, запрещающий дробить подразделения и части, попавшие в окружение, на мелкие группы, а выходить в полном составе. Со стороны молодого лейтенанта это была неслыханная дерзость, и начальник штаба его осадил: «Приказы начальников не обсуждаются!» Тогда этот лейтенант выхватил пистолет, арестовал начштаба, и взял командование полком на себя. В конечном итоге, с боями он вывел из окружения 958-й полк. Правда, от полка остался всего один батальон, зато вынесли с собой знамя полка. За это ему и присвоили звание старшего лейтенанта.
После этого он служил то ли в штабе 50-й Армии, то ли Западного Фронта, откуда провёл сформированный отряд через линию фронта к партизанам. А сам вернулся назад и был ранен, но как, и куда, так ничего и не рассказал. Здесь в Новосибирске лечился в госпитале, и вот уже более двух недель беспечно ждёт нового назначения. Всё это он рассказывал самоуверенно, похвастался, что его представили к ордену «Красной Звезды», и что умудрился сохранить в госпитале свой пистолет. Я же похвастаться ничем не мог и довольно скупо рассказывал о своих делах. Да они его и не интересовали. На следующий день я снова пришёл в отдел кадров с требованием отправить меня на фронт. После напряжённейших фронтовых будней, у меня не укладывалось в голове, как может быть в армии во время войны такое бездействие и безделье? Терпеть этого я не собирался. В итоге мою просьбу удовлетворили, и направили меня на курсы «Выстрел», на которых готовили командиров батальонов.
К вечеру доехал туда, они располагались под Новосибирском, и тут узнаю, что учиться надо шесть месяцев и ни дня меньше. О, боже мой, целых шесть месяцев! Когда люда на фронте воюют, умирают, я буду в тылу прохлаждаться шесть месяцев?! Отсиживаться?! Да за шесть месяцев и война может закончиться, и какими глазами я буду смотреть на людей!? За что такой позор мне принимать?! Неужели уподоблюсь тем, кто, спасая свою шкуру, бежал в Ташкент, и которых я увидел здесь в Новосибирске? Нагло, без зазрения совести отталкивающих раненых на рынке?!.. Надо защищать Родину на фронте, а «любить» её в тылу и так хватает разных наглецов... Нет, здесь я не останусь!
Поэтому я тут же написал рапорт с просьбой направить меня на фронт и вручил его командиру роты. Но он мне объяснил, что комиссия курса по разбору рапортов об отчислении заседает всего раз в неделю, по понедельникам. А я приехал в субботу, и в воскресенье всей ротой мы вышли на тактические занятия в поле.
Как я ни старался, как ни крепился, но успеть за ротой во время марш-броска с больной, ещё не окрепшей ногой и палочкой не мог. Не помогли мне ни хорошая физическая подготовка, ни закалка полученная в училище. Прыгал, прыгал, но всё время отставал. Вернувшись вечером в казарму, я еле двигал правой ногой. Она вся распухла, поэтому, несмотря на всю строгость военного времени, на понедельник меня освободили от тактических занятий и строевой подготовки. А занятий в классах почти не было, фактически все занятия проходили в поле, независимо от погодных условий.
Вечером, с распухшей ногой и палочкой, я предстал перед курсовой комиссией, председателем которой был комиссар курсов в звании полковой комиссар. Членов комиссии человек девять. Все старшие командиры: подполковники, майоры и капитан.
Зачитали мой рапорт, все смотрят на меня. Полковой комиссар объясняет: «Командование курсов не может и не имеет права никого и никуда отправлять раньше окончания учебы, кроме как по разнарядке Генштаба. А на фронт – тем более». Кто-то задал мне вопрос: «Почему хотите уйти с курсов?» - «Хочу на фронт!» Мне ещё раз разъясняют, что время военное, а я военный человек и обязан выполнять приказы. В данном случае – учиться. Я опять настаиваю на моём откомандировании обратно, хотя бы в управление кадров округа. - «Нет, не имеем права!»
Потом, когда я переступил с ноги на ногу, видимо скривился от боли в ноге, полковой комиссар спросил: «А почему вы с палкой?» - «После ранения в коленный сустав болит нога, и ходить я могу пока только с палочкой». Тут он, уставший уговаривать меня, наклонился к сидевшему рядом подполковнику: «Вот и хорошо! Напишем, что отчислен по состоянию здоровья». Все члены комиссии с этим согласились, и комиссар объявил мне, что я откомандирован с курсов по состоянию здоровья в управление кадров Сибирского Военного округа.
Уже утром следующего дня я в Новосибирске докладывал о своём прибытии знакомому капитану. На этот раз он предложил мне сесть и рассказать, где я воевал, как был ранен. Вкратце я рассказал, какое училище окончил, где воевал и как был ранен. Где мои родители сейчас, и какие знаю языки, кроме русского. Последний вопрос капитан задавал мне несколько раз, а потом спросил, знаком ли я с польским языком. Я ответил, что в 1939 и 1940 годах встречался с польскими солдатами, но языка их не знаю. Он спросил: «Может, знаешь эстонский, латышский или литовский языки? Ну, хоть немножко?» Но порадовать его я ничем не мог. Наконец он заявил мне: «Вот что, в Барнауле формируется стрелковая дивизия. Поедешь туда!» Так я в марте 42-го оказался в Барнауле.
Там полным ходом шло формирование 315-й стрелковой дивизии. Лично представился командиру дивизии, генерал-майору Князеву. Михаил Семёнович принял меня просто, доброжелательно. Расспросил, почему я с палочкой, где и кем воевал. Потом спрашивает: «Ты знаешь противотанковые ружья?» А я же на фронте под станцией Узловая получил их два в свою роту, хотя у меня тогда оставалось всего три человека, и стрелять из них мне пришлось самому. - «Вот и отлично!» И назначил меня командиром роты ПТР 2-го стрелкового батальона 724-го стрелкового полка, которым командовал майор Андреев.
Несколько месяцев мы там формировались, проводили обучение солдат. А надо сказать, это уже совсем не тот состав, что там на фронте. Это настоящие сибиряки, молодые здоровые парни. И стрелять они умели, это же бывшие охотники. Ещё характерно, что физически очень развиты, и уже не нужно их столько тренировать. А в моей роте так вообще настоящие здоровяки, ведь противотанковое ружьё 16 килограммов весит. Попробуй такое потаскать. Но иногда случалось, что и один таскал. А казах был – Танибек Салдулаев, просто огромный, под два метра ростом, так он это ружье, как циркач палочку, одной рукой крутил над головой. И всегда улыбался, как бы ему тяжело ни было.
Закончили формирование и в июне дивизию отправили на фронт. Выгрузилась под Камышином, вроде в Ольховке, и сколько-то там пробыли. Всё это время занимались с солдатами. А моя рота всегда была на виду, и командир дивизии не раз отмечал её. Но тут командиру полка стало меня жалко: «Тяжело ведь тебе с ногой!» И он мне предложил должность ПНШ-6 по шифрованию. Ну, я согласился.
Два дня пробыл, изучал шифры, коды, но меня эта штабная работа не совсем устраивала. Я же привык к строевой работе и общению с людьми. И уже на второй день майор Андреев снова вызывает меня, и без объяснения причины назначил обратно в свою роту. И только вернувшись обратно, я узнал, что комдив Князев, во время тактических занятий остался крайне недоволен действиями роты под командованием моего заместителя - младшего лейтенанта Рубцова. И приказал Андрееву немедленно вернуть меня в роту.
Тогда же на совещании комсостава зачитали приказ Сталина №227 - «Ни шагу назад». Лично для меня ничего нового там не было. Там была всего лишь расшифрована одна из статей, 9-я что ли, часть 1-я. Она гласила – «никто не имеет права оставлять свои позиции без приказа вышестоящего начальника». Всё! Я ещё удивился, зачем нужен этот приказ? Но раздумывая, понял. Ведь как происходило в 41-м? Командный состав-то – кадровый, но пополнился командирами из запаса. Людьми, которые ещё в Гражданскую воевали. А тогда же многие отряды Красной Гвардии подчинялись сами себе, и в любое время могли отойти или наступать, и они перенесли то своё видение на новые реалии, что пагубно сказалось на наших действиях в начале войны. Вот такое моё суждение. А о том, что сейчас говорят… Я убеждён, этот приказ был крайне необходим, что и показал Сталинград. А в конце совещания зачитали приказ о присвоении очередных воинских званий, в том числе и мне – старшего лейтенанта.
Наконец 16-го августа маршем выступили к Сталинграду. Шли с задачей переправиться через Дон, и там, в 60 километрах встретиться с противником. Марш выдался непростым. Каждый боец нагружен по полной: скатка шинели, вещмешок с боеприпасами, винтовка, противогаз, а у меня в роте на плечах каждой пары бойцов – противотанковые ружья. Гимнастёрки мокрые от пота, серые от пыли. От усталости и недосыпания подкашиваются ноги, а я шагаю, опираясь на палочку. Идти тяжело, болит, недолеченная нога, ноет, кружится, гудит голова. А надо не просто идти, но и показывать пример, подбадривать бойцов, и приходится через силу, словно чугунную, тянуть несгибающуюся ногу...
Чем ближе к фронту, тем чаще встречаются изнурённые люди, эвакуированные из прифронтовой полосы. Шли старики, женщины, на скрипучих тележках, нагруженных скарбом, сидели дети. Больно было смотреть на них, этих несчастных, оставивших свои дома, которых немецкие самолёты бомбили и обстреливали с не меньшей злостью, чем воинские части. Погибших оплакивали и тут же наспех хоронили...
20-го августа полк вышел к речушке Иловля. Только расположились на отдых, стали обедать, как вдруг в небе показалась «рама». Для меня, например, всё ясно – это немецкий разведчик, значит, жди нападения. Да и командир полка уже повоевал, и в финскую кампанию. И комбат уже воевал. Поэтому сразу пошла команда – «всем рассредоточиться!» Некоторые забежали в камыши, благо вода была тёплая. И действительно, буквально через некоторое время налетели «юнкерсы».
Я же сразу пошкондыбал с палочкой к своей ротной повозке. Ещё перед началом марша на ней по моей команде установили приспособление для стрельбы по самолетам. Установили вертикально кол, на нём закрепили запасное колесо, в которое, между спицами вставлялось ружьё, и с такого упора можно было свободно стрелять в любую сторону. И когда появились «юнкерсы» и головной пошёл на снижение, я сделал упреждение, как нас учили в училище, и сделал один выстрел, второй, третий. Кругом взрывы, тарахтят пулемёты, кони ржут, вдруг слышу крик: «Попал! Попал! Ура-а!» Смотрю, на правом крыле появился такой яркий голубоватый свет, вспышки, но самолёт продолжал лететь. И тут позади него, появился черный дым, стал крениться-крениться, и резко пошёл вниз… Но лётчики успели выпрыгнуть с парашютами, их тут же взяли в плен. Это были самые первые пленные дивизии. Вторая группа самолетов снизиться не рискнула, полетела дальше, и сбросила бомбы на село Кондраши и хутор Красноярский. Вот такой незабываемый случай…
Когда почти подошли к Сталинграду, наш 2-й батальон был выделен в головной походный отряд и ушёл вперёд на несколько километров. К полудню 23-го августа мы вышли к рабочему поселку Городище. Бойцов оставили на привале в балке, а весь комсостав собрался на возвышенности возле церкви. А почти над нами, чуть севернее, разгорелся большой воздушный бой. Это был целый комок самолётов. В бинокль их хорошо видно. Десятки самолётов друг за другом носятся, крутятся в замысловатых фигурах, и все вместе медленно перемещаются в восточную сторону. Мы бурно радовались, когда падали немецкие, и огорчались, когда наши…
Вдруг на эту площадь перед церковью выскакивает с западной стороны машина – чёрный ЗИС-110. Резко остановилась на той стороне площади, и из нее вышло три военных. Заметив нашу группу, один из них громко позвал: «Командира ко мне!» А наш комбат с распухшей ногой находился в санвзводе, его заместитель уехал в полк по делам снабжения, и нас стоит пятеро командиров рот, и пятеро политруков – все равны. Переглядываемся, кому идти? А недалеко стояла выпряженная из повозки лошадь моей роты, и старший лейтенант Ушаков говорит мне: «Вот тебе и ехать!» Ну, что делать, вскочил на лошадь.
Подъезжаю, и понимаю, что самый старший из них это высокий плотный мужчина во френче военного образца, но без знаков различия. Только на фуражке у него кокарда, т.е. генерал, у остальных же только звёзды. Один из двух других, полковник, сказал мне: «Перед вами член ГКО (Государственного Комитета Обороны) генерал-лейтенант Маленков». И тут же он меня начал расспрашивать: «Какой части? Где дивизия, где полк?» Отвечаю, что полк идёт за нами в 6-7 километрах, а где дивизия, я не знаю. Но видимо мои ответы его не удовлетворили, потому что он ошеломил меня вопросом: «А где противник?» Я опешил: «Как, генерал и не знает, где противник?!» Ясно где - за Доном. Но он не дал мне ответить, разворачивается, показывает на воздушный бой: «Видишь самолёты?» - «Так точно, вижу!» - «Так вот там уже прорвавшиеся танки противника! Приказываю немедленно развернуть батальон фронтом на северо-восток, оседлать дорогу, зарыться и остановить противника! Не пропустить немецкие танки в Сталинград! Всё ясно?» Я пожимаю плечами: «Ясно!» Хотя самому ничего не понятно. У нас же приказ идти на Дон, а нас тут разворачивают в оборону. Да, а рядом стоял майор, который записывал всю нашу беседу, говорит мне: «И учтите - вы лично отвечаете! Это приказ члена ГКО! Повторите свою фамилию и номер части». Я повторил, он записал, и машина умчалась.
Медленно хромая, держа под уздцы лошадь, возвращаюсь к ребятам: «Ну как?» Я всё рассказал, что нам приказано здесь занять оборону. Но командир пулемётной роты Титоренко лишь отмахнулся: «А, это генеральская шутка!» Но старший лейтенант Ушаков, грузин по национальности, красавец с чёрными усами, говорит: «Нет, приказ надо выполнять!»
Ну что, оседлали мы эту дорогу, начали окапываться. Но там же частный сектор, огороды с арбузами, и бойцы не так уж спешат рыть окопы. Да и мы их не особенно подгоняли. Всё как-то не верится, непонятно что такое. Нам же надо идти, а нас тут остановили…
Но буквально через 30-40 минут со стороны Сталинграда примчалась другая машина – «эмка». Заскрипела тормозами, остановилась возле церкви. Я подхожу, там стоит высокий стройный, полковник. Представился: «Я начальник гарнизона Сталинграда полковник Сараев! Где ваш левый фланг?» (Директивой Ставки ВГК №170562 командир 10-й дивизии войск НКВД полковник Сараев Александр Андреевич был назначен начальником гарнизона Сталинграда - https://ru.wikipedia.org ) Я показал: «По церковь включительно». А с ним рядом подполковник, он к нему обращается: «Правый фланг по церковь включительно», т.е. он у меня забирает церковь и передаёт ему. И быстрым шагом пошли в сторону запада. Прямо по огородам, через заборы. А буквально через две-три минуты выскакивает военная машина, из неё высыпали штабисты, и побежали их догонять. Вот тут мы поняли, нет, это не генеральская шутка… И бойцы уже, увидев это, бросили эти арбузы, и начали копать вовсю.
Но уже под вечер ко мне пришёл боец, с запиской от полковника Сараева, где было сказано, что наш батальон должен покинуть свои позиции и немедленно выдвигаться к селу Орловка. Пока дошли, уже стемнело. Но зато туда уже прибыл наш комбат - капитан Никитин со своим заместителем старшим лейтенантом Семёновым, и начал уже командовать. И он получил приказ от Сараева – «до наступления рассвета начать наступление и не дать немцам укрепиться на занятых ими Орловских высотах!» Там есть пять высот, которые господствуют и над Краснослободском и над Сталинградом. Ну, представь, Мамаев курган высотой 102 метра, а у той 146 метров. - «Захватить эти высоты и отрезать прорвавшихся к Волге немцев». Так мы узнали, что немцы прорвались до самой Волги… А это же как раз 23-е число, и мы видим, что со стороны Сталинграда несёт черный дым, но мало ли что там горит… (Налет на Сталинград 23-го августа 1942 года стал самой массированной операцией бомбардировочной авиации Люфтваффе с начала войны. В течение дня немецкие самолеты, сменяя друг друга, сотнями налетали на город. В результате Сталинград, как город и промышленный центр, был уничтожен. Точное количество погибших так и осталось неизвестным,но по разным данным в этот день погибло от 40 до 60 тысяч мирных жителей и защитников города – прим.ред.)
ИЗ ИСТОРИИ 315-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
315-я стрелковая дивизия формировалась в Сибирском Военном Округе весной 1942 года и с начала лета была передана в состав 8-й Резервной Армии. 14-го августа перешла в подчинение Сталинградского Фронта.
Из района Камышина дивизия выступила вечером 16-го августа, чтобы, следуя вдоль реки Иловля, к утру 20-го августа сосредоточиться в районе хуторов Макаров, Сучков, Кондраши. Проходя по 35 и более километров в сутки части дивизии 20-го августа вышли в район: Красноярский, Кондраши, Сучков, Чернозубовка.
Дивизия выдвигалась в район Сталинграда пешим маршем по степи, под ударами авиации противника. Вечером 22-го августа, за день до немецкого наступления, дивизия получила приказ к рассвету 24-го августа занять оборону на южном фасе Сталинградского оборонительного обвода в районе Бекетовки. Приказом генерал-полковника А.И.Еременко предписывалось изменить маршрут в сторону Садки и к исходу 23-го августа сосредоточиться юго-западнее Сталинграда в районе Воропоново. Части дивизии, имея в авангарде 724-й стрелковый полк, с приданным 3-м дивизионом 1012-го артполка, вышли по маршруту: Кондраши, Лозное, Садки, Городище, Воропоново - примерно 100 километров. Генерал-майор Князев по радио дополнительно распорядился: «Дивизии к исходу 23-го августа сосредоточиться южнее Сталинграда в районе
Бекетовки, в готовности занять юго-западный внутренний обвод
Сталинградской обороны. 1328-му полку с приданным 2-м артдивизионом составить правую колонну и изменить маршрут на Садки, Кузьмичи, Гумрак, Верхняя Ельшанка и выйти в район совхоза «Горная Поляна». Всем остальным частям следовать за 724-м полком в прежнем порядке по ранее указанному маршруту. Таким образом, из района Садки дивизия совершала марш по двум маршрутам. Всю ночь с 22 на 23 августа шли без остановок.
Растянувшиеся по степи колонны оказались как раз на пути немецкого наступления. Ранним утром 23-го августа войска 6-й немецкой Армии силами пяти дивизий перешли в наступление, нанося главный удар в направлении Вертячий, Бородин, 564-й километр (Котлубань) и к 16 часам вышли к Волге в районе поселков Рынок, Акатовка.
315-я дивизия, не имея радио связи, и ни о чем не догадываясь, выходила под удар 14-го Танкового Корпуса врага. 724-й полк (командир полка - майор Н.А.Андреев) оказался к югу от вбитого до Волги клина и принял участие в обороне северной окраины Сталинграда. Остальные два полка (362-й, командир - майор Г.И.Ухов; 1328-й, командир - майор И.В.Щеголев) и основные силы 315-й стрелковой дивизии оказались к северу от направления удара 14-го Танкового Корпуса.
724-й стрелковый полк, 3-й дивизион 1012-го артполка,
31-й отдельный противотанковый артдивизион, 900-й отдельный батальон связи, отдельный пулеметный батальон, 499-я рота химзащиты, штаб дивизии и часть551-й отдельной автороты подвоза, опередив наступавшего врага, вышли к
Сталинграду и стали сосредоточиваться в районе Городища. 188-я отдельная
разведрота прибыла к исходу 22-го августа. С наступлением темноты 2-му батальону 724-го полка было приказано передать район обороны частям 10-й дивизии войск НКВД и следовать к Орловке. Ещё до рассвета 24-го августа 2-й батальон сосредоточился для наступления северо-западнее Орловки.
Ещё до рассвета мы сосредоточились там в балке Водяная. Вышли наверх, и пока оставалось время, начали писать, кто письма, кто заявления в партию. Но вот это время ожидания атаки самое жуткое, томительное и напряжённое. Чувствуешь себя очень нервно, скованно. В это время к нам подошли рабочие – с винтовками, но в своей рабочей одежде: комбинезонах, некоторые в телогрейках. Это были ополченцы с тракторного завода, с «Красного Октября». Они тоже пошли в наших цепях.
Наконец сигнал – «в атаку!» Все дружно вскочили и пошли. Первое время или немцы нас не заметили, или кто его знает. Но нас же хорошо видно, только начало светать, и солнце оказалось у немцев сзади. Мы ведь идём фронтом на восток, отрезаем немцев. Вот тут немцы открыли ураганный огонь, и в самом начале боя были убиты командир батальона и его заместитель… Видимо немцы их сразу заметили. А я находился рядом с начальником штаба батальона старшим лейтенантом Ивановым и командиром пулемётной роты Титоренко, мы все видели гибель комбата и его заместителя, но я их сразу же предупредил: «Никому не сообщать о гибели командира батальона!» А Иванов был старше меня лет на десять: «Как так?» - «Ни в коем случае! Это я уже по опыту знаю. И все приказы будем отдавать от имени комбата!» По сути, мы втроём руководили боем.
Дальше больше… Когда солнце взошло, по нас уже вёлся конкретный огонь. А на такой местности – ровной, как на ладони и выжженной, как в гончарной печи глине, он приносил страшный урон… Но наступление продолжалось. Вначале миномётного огня не было, только ружейно-пулемётный. Подчеркиваю, местность открытая. Даже если бы мы захотели окопаться – это невозможно. Лопата такую выжженную землю просто не берет. Не было ни одного кустика, вся трава засохшая. Тут еще казус вышел с бутылками с горючей смесью. Ведь каждому бойцу выдали по такой бутылке, и у некоторых они разбились в карманах. То ли от пуль и осколков, то ли при падении, но когда бутылка разбивалась, жидкость вспыхивала и её уже ничем не погасишь, пока она вся не выгорит. Ничем! Люди, облитые густой липкой жидкостью, которая способна плавить металл, бежали, как горящие факелы, катались по земле, но огонь сбить было невозможно и ничто не могло спасти человека от страшной, мучительной смерти… Многие поторопились избавиться от бутылок, хотя по сути это было единственное эффективное средство против танков. Поэтому мы сразу приказали собрать все бутылки в ящики, которые бойцы тянули с помощью обмоток вслед за наступающими.
Несмотря на значительные потери, батальон всё-таки ворвался в немецкие окопы. Немцы просто не выдержали нашего натиска и побежали. Мы за ними. Чтобы задержать наше продвижение, немцы вызвали авиацию. Под страшный вой сирен «юнкерсы» пикировали один за другим, а мы же считай на открытой местности, ничем не прикрытые, незащищенные… Но самолёты быстро пробомбили, обстреляли и улетели. А вот когда справа и спереди появились 20 танков, вот тут мне подумалось – да-а-а… Как же так? Я-то в 41-м видел, как утюжат танки. Они страшны не только пушками и пулемётами, но на этой открытой местности нас могут просто давить… Вот тут наше наступление приостановилось.
Я видел, как слева чуть впереди упал сражённый пулей Ушаков. К нему подбежала санитарка, перевернула его на спину, и, положив себе на колено, расстегнула гимнастерку, а изо рта у него течёт кровь… Бойцы ей кричат: «Тоня ложись!», но она не обращала внимания.
А надо сказать, что в каждой стрелковой роте было по шесть санитаров. Санинструктор – девушка и пять санитарок. Все они добровольцы, которые днями и ночами стояли в военкоматах Барнаула, чтобы их взяли на фронт. Но брали только тех, кто имел среднее образование или медицинское. Вот такие девушки были у нас в ротах. В батальоне был санитарный взвод, он тоже состоял из одних девушек. Только командир взвода мужчина – военфельдшер Иванов. Остальные 27 человек – все девушки-добровольцы. Но одно дело служить в санвзводе, и совсем другое в роте.
Вот допустим, немцы пошли в атаку. Санитарка во время боя тоже ведёт огонь из винтовки. Когда атаку отбили, мужчина достает кисет, сворачивает цигарку и отдыхает. А санитарка откладывает винтовку в сторону, и ползёт по окопам. А надо учесть, что сплошных окопов у нас тут под Сталинградом не было. И вот она везде ползком-ползком, а немцы стреляют и по ней. Ещё такой момент. Ведь сотни мужчин её окружают, и где ей оправиться? Ведь ровное место, куда идти, где поправить что? Вот я, например, под Сталинградом всего раз нормально помылся, и то, до пояса. Будучи замкомбата пошёл проверять хозвзвод, а там в овраге ручеёк, я снял гимнастерку и на меня полили. Вот так помылся, и всё… А бойцы даже так помыться не могли. Ведь нам не хватало воды, чтобы напиться, мы постоянно страдали от жажды. Так что санитаркам в пехоте приходилось очень трудно. Если в артиллерии за несколько километров от передовой там у них и блиндажи, и кустики, там можно хоть куда-то уйти и спрятаться. А у нас ей просто некуда уйти! Так что женщине на фронте и так не сахар, а уж Сталинградская битва особенно…
По танкам открыли огонь из всех видов нашего оружия, но они продолжали неудержимо надвигаться. Наше наступление приостановилось. Кое-где началось замешательство... И вдруг ближайший танк задымился, чуть развернулся и встал. Остановился рядом и второй, из него повалил густой чёрный дым. Пламя охватило первый танк, а второй так рвануло, что его башня отлетела в сторону. А третий танк завертелся на одном месте, видимо перебило гусеницу. Оказывается, там находились два моих расчёта, одним из которых командовал тот самый казах Танибек Сайдулаев. И этот спокойный, невозмутимый богатырь своими меткими выстрелами подбил эти танки.
Тут танки остановились, стали стрелять с места, но и по ним стали вести огонь наши «сорокопятки» и даже миномёты. В итоге танки попятились-попятились и ушли за железнодорожную насыпь. Но и мы не смогли больше наступать. В этом страшном бою полегла почти половина батальона… Погибли комбат и его заместитель, два командиры роты и большинство командиров взводов… Вот этот бой стал первым для всего состава батальона. А очень важно, чтобы первый бой прошел удачно. Тогда будет больше уверенности и дальше пойдёт по инерции. И пусть мы не смогли отрезать немцев и соединиться с частями, которые наступали нам навстречу с северо-востока. Но своими решительными действиями мы оттянули на себя те танки, которые шли на Сталинград, и не дали им развивать наступление в этот критический для города момент.
Вместо погибшего Никитина комбатом стал командир 6-й роты Бедняков, а я вступил в должность заместителя командира батальона. На следующий день опять приказ – до рассвета перейти в наступление! Тут уже мы были умнее. Бутылки с горючей смесью с собой не брали, и вели наступление более осмотрительно. Постарались ещё до рассвета, как можно ближе приблизиться к немецким позициям. Успели в темноте подойти к скатам вершин, на которых засели немцы. 4-я рота даже охватила одну высоту, но удержаться там не смогла, и мы снова были вынуждены остановиться после появления танков. Но потеряв одну из машин, они почему-то не стали нас давить. Снова попятились, ушли, но и мы отошли на исходный рубеж…
Пошли мы в наступление и 27-го августа, причем, не батальоном, а всем полком. Левее подошла полковая артиллерия, и мы воспряли духом – командир полка с нами! Это большое дело для простого бойца. А левее нас подошла 2-я Мотострелковая Бригада. Они имели и бронемашины и прочую бронетехнику. От этой бригады ко мне пришел старший лейтенант, представился офицером связи. В это время рабочих у нас уже не было, зато мы получили пополнение. Оно уже не столь подготовленное, но настоящие бойцы, на которых можно положиться. Пополнился и сосед справа – полк НКВД.
В общем, пошли в наступление уже всем полком. Местность северо-западнее Орловки была совершенно открытой, и укреплённые опорные пункты противника хорошо просматривались. Но и наши перемещения и приготовления не остались незамеченными, и немец незамедлительно открыл огонь из миномётов. Появились раненые, убитые. Но нашему полку придали два артиллерийских дивизиона, и в 5-30 они начали артподготовку. Длилась она всего полчаса, но это большое дело, огонь немцев значительно ослаб. Стремительным броском все роты бросились вперёд…
С криком «Ура!» сибиряки ворвались в первую немецкую траншею, по всему фронту полка шли рукопашные схватки, и уже вскоре мой 2-й батальон во взаимодействии с 26-й Танковой Бригадой почти полностью очистил от врага высоту 144,2. Первой её достигла 6-я рота политрука Ралдугина. Гитлеровцы сопротивлялись отчаянно, их приходилось уничтожать гранатами, добивать штыками и прикладами, отвоёвывая окоп за окопом. Когда немцы перешли в контратаку, и вдруг замолк наш пулемёт, сам политрук сменил убитого пулемётчика и заставил фашистов залечь.
Западными скатами высоты овладела 5-я рота лейтенанта Петренко. Когда путь роте преградил закопанный в землю танк Т-4, и небольшой заслон немцев. Если заслон мы сумели загнать на дно траншеи пулеметным огнем, то танк не давал атакующим подняться. Немногие «сорокапятки» и полковые пушки действовали на другом участке, а противотанковые ружья оказались бессильны. Танковая пушка била по вспышкам. Один из снарядов угодил прямо в окоп бронебойщиков. Оба красноармейца из расчёта были убиты, а исковерканное ружьё отбросило на несколько метров…
Командир роты Петренко, молодой лейтенант, мог послать кого-то из бойцов, но он взял две бутылки с горючей смесью и пополз сам. Сумел приблизиться к корме танка и поджечь его. Экипаж выскочил и лейтенанту, с одним пистолетом пришлось туго. Стреляя в упор, он уложил двоих танкистов, но трое оставшихся залегли в стороне и открыли ответный огонь. Увидев поднявшихся в цепь наших бойцов, танкисты скрылись. Танк горел, как скирда соломы, облитая бензином, затем взорвался боезапас, а башню отбросило в сторону.
Сам Петренко был тяжело ранен. Лейтенанту помогала выбраться совсем ещё юная санитарка Маша Меркулова. Она погибла чуть позже…
Наступление продолжалось, и, казалось, победа близка. Как вдруг над полем боя появилась большая группа пикирующих «юнкерсов». По своей ожесточённости бои под Сталинградом в те последние дни августа превосходили то, с чем мне приходилось сталкиваться раньше. Бомбёжки, артиллерийские удары, снова пикирующие прямо на тебя «юнкерсы»… Немцы рвались к Сталинграду, и использовали все накопленные силы. В тот день полк несколько раз бомбили и обстреливали самолёты. Порой группы «Юнкерсов» достигали 15–20 штук, их поддерживали «Мессершмитты». Наших же самолётов практически не было…
Едва самолёты ушли, как противник, усилив артиллерийский и миномётный огонь, на отдельных участках перешел в контратаку. Бой принимал всё более ожесточённый характер. Немцы не могли смириться с потерей столь важных опорных пунктов и около полудня они снова обрушили на полк массированные удары авиации. На этот раз бомбили отвоеванные нами высоты и отроги балки Водяной, где скопилось много раненых. Через некоторое время послышались крики: «Танки с фронта!»
Около 50 машин с десантом пехоты приближалось к позициям наших 2-го и 3-го батальонов. Вой пикирующих бомбардировщиков, гул танковых моторов, взрывы бомб и снарядов слились в единый грохот. Казалось, не хватит сил, не выдержат нервы, чтобы отразить такой удар.
Наши батареи открыли огонь, подожгли семь танков, но остальные продолжали двигаться, расчищая путь пехоте. «Сорокопятки» расстреливали их прямой наводкой, но более 30 танков вклинились в оборону 6-й и 8-й рот. Бой распался на отдельные очаги, где происходили жестокие схватки, исход которых зависел от мужества и стойкости расчетов, отделений, взводов, а подчас и отдельных бойцов. Сменив убитого наводчика, я сам стал вести огонь из противотанкового ружья. Старался стрелять только наверняка, целясь по уязвимым местам танков. Удалось подбить один из танков. Его пытался оттащить на буксире другой танк. Сразу несколько противотанковых ружей открыли такой плотный огонь, что оба танка загорелись. Бойцы же подпускали танки и, выбрав удобный момент, забрасывали их бутылками с горючей смесью. И тут же, среди горящих танков, вступали в рукопашную с гитлеровской пехотой.
Два немецких танка шли к окопу, где замаскировался командир отделения бронебойщиков сержант Игнат Панин. Ему удалось подбить один из них, но у него кончились патроны. Под второй танк он бросился со связкой гранат…
Совместно с соседом справа, 26-й танковой бригадой, успешно отразив все атаки врага, наш, теперь можно говорить, мой 2-й батальон, в командование которым я вступил в этом бою вместо выбывшего по ранению старшего лейтенанта Беднякова, мы вынуждены были прекратить наступление, удерживая захваченную высоту 144,2...
Пусть мы и не смогли соединиться с двумя полками нашей же 315-й стрелковой дивизии, 362-м и 1328-м, наступавшими навстречу нам с севера, но противнику был нанесён значительный урон. Только в этом бою наш 724-й полк подбил 20 танков, 4 бронетранспортера и уничтожил много гитлеровцев.
Фронт обороны полка сократился до 2,5-3 километров, боевые порядки батальонов уплотнились. В эту же ночь на 28-е августа мы получили пополнение до 600 человек. Правда, эти бойцы были обучены наспех. После этого батальон передал свои позиции 26-й танковой бригаде и получил новый участок обороны левее. Опять долбили твёрдую землю, отрывали окопы, оборудовали новые огневые позиции.
28-го августа батальону пришлось отражать контратаку врага, а 29-го перед рассветом началась наша 15-минутная артподготовка. Как только артиллеристы и миномётчики перенесли свой огонь на гребни высот, стрелковые роты стремительным броском ворвались в окопы врага. На рассвете бой ожесточился. Миномётный и ружейно-пулемётный огонь прижал нас к земле. На высоту 147,6 с большим трудом прорвалась 5-я рота лейтенанта Петренко и 8-я. Они медленно, но упорно, с двух сторон охватывали высоту.
4-я рота лейтенанта Малахова залегла внизу под сильным миномётным огнем. Медлить было нельзя, Малахов сумел поднять роту в атаку, и бойцы ворвались в немецкие окопы. Особенно упорно немцы удерживали позиции миномётной батареи, но 5-я рота разгромила её и взяла в плен больше десятка гитлеровцев.
Разъярённый неудачей, немцы обрушили на высоту сотни снарядов и мин. До 15 его самолётов бомбили стрелковые роты, но сибиряки держались. Отразив несколько контратак, мой 2-й батальон прочно закрепился на высоте 147,6. Победа была значительной не только для 724-го полка.
Дорого мне досталась эта высота 147,6... Оставшись ответственным за судьбы и жизнь более пятисот человек, мне не раз приходилось в критические моменты боя, самому ложиться то за пулемёт, отстранив убитого наводчика, то за противотанковое ружьё. Надо было уничтожать танки, или они раздавили бы нас.
Вот я вам рассказал, что 27-го августа подбил танк. Но это тот, в котором я уверен, ведь он был почти рядом со мной. А те, которые вспыхивали в тридцати, ста метрах от меня, по которым вёл огонь я, а может и кто-то другой. Так кто их подбил? Мы подбили!
А из пулемёта? Когда в критические моменты боя хватаешь пулемёт, ведёшь огонь по бегущим на тебя фашистам, и при этом слушаешь доклады связных, взором не теряешь из вида общую картину боя, отдаёшь приказания – и всё это одновременно, то, как можно сказать, кто и сколько уничтожил? Главное – высота 147,6 взята! Несмотря на потери, несмотря на все ужасы боя, я всё-таки был доволен. Радовался тому, что высота наконец-то у нас.И взята мною! Моими людьми! Моим батальоном!
После этого батальон ночами совершенствовал оборону, а днём вёл сдерживающие бои и отражал контратаки противника. И каждый день потери, потери, потери...
В ночь на 3-е сентября участок 724-го полка передали 115-й бригаде полковника Андрусенко, а части 315-й дивизии сместились влево на рубеж высота 145,1 – перекресток дорог восточнее высоты 143,6. Мой батальон занял оборону на левом фланге полка, имея соседом слева 2-ю Мотострелковую Бригаду. Местность была абсолютно открытой и танкодоступной.
В воздухе постоянно барражировали большие группы фашистских самолётов, бомбивших и обстреливающих наши позиции. Каждый день приходилось отбивать танковые атаки. Особенно тяжело нам пришлось 5-го сентября, когда противник силами 25 танков и батальона пехоты после сильного артиллерийского налета, перешёл в наступление на мой левый фланг на стыке с 2-й Мотострелковой Бригадой.
В самом начале боя был ранен командир роты Малахов. Среди бойцов началось замешательство, но положение спас комсорг батальона, мой боец из роты ПТР, Алексей Сайганов. Он бросил две бутылки с зажигательной смесью в головной танк. Тот вспыхнул, а отважный комсорг вернулся в свой окоп и вместе с бойцом Брагиным в упор расстреливал наступающую пехоту.
Фланкирующий огонь пулемётной роты лейтенанта Лебединского вынудил залечь немецкую пехоту. Но шесть немецких танков прорвались к нам в тыл, а там обе наши оставшиеся «сорокопятки» выдвинулись на прямую наводку, открыли огонь, и немцы не посмели нас утюжить и повернули назад… Батальон выстоял.. А один из подбитых танков рухнул в овраг и долго-долго потом лежал там.
7-го сентября с утра до вечера вражеская авиация группами по 20-40 самолетов беспрерывно бомбила боевой участок полка. Весь день, пикируя, они обстреливали из пулемётов наши одиночные окопы. Одновременно противник наносил массированные артиллерийско-миномётные удары. Казалось, в этом аду не уцелеть ничему живому. После этого в атаку на нас пошли 22 танка, а за ними пехота. Я находился на наблюдательном пункте, и прекрасно сознавал, что никак нельзя допустить прорыва немцев. Но при виде этой наступающей лавины мне стало не по себе. Смотрел и думал, устоим ли? Ведь у нас и людей-то кот наплакал. Начал сворачивать цигарку, и опёр руки на бруствер, чтобы никто не заметил, как они дрожат... Начал сыпать махорку и как бы про себя говорю: «Отсекать пехоту огнём! Подготовить гранаты и бутылки для борьбы с танками!» И услышал, как слева и справа понеслось по позициям – «Отсекать пехоту огнем! Подготовить гранаты…» А я совсем не ожидал этого. Я же говорил просто так, для себя, а мои слова сразу несутся по цепи. Потом: «Приготовить гранаты! Вставить запалы!», и опять по цепи понеслось. Вот тут я понял – всё, отстоим!
В итоге немецкое наступление захлебнулось, и шесть танков осталось гореть перед нашими окопами. Но этот бой был выигран дорогой ценой. Многие бойцы навсегда остались в заваленных окопах… Вот что рассказал мне старшина миномётной роты Пётр Тихонович Жильцов: «Иду по позициям роты уже после боя, и никого не вижу: овраг, где стояли миномёты, весь изрыт. Уже темнело, и я споткнулся. Гляжу, бугорок земли. Пригляделся – вроде шевелится земля. Рукой копнул, что-то шевелится, и волосы почувствовал в руке. Стал разгребать землю, а там оказалась голова. Быстро раскопал и вытащил залитого кровью, всего в грязи, с болтающимися перебитыми руками, с разбитой головой, без одного глаза, но что-то мычащего наводчика Капитонова…»
После войны изувеченный Капитонов, всё лицо в шрамах, одноглазый, однорукий, постоянно приезжал из Кемерово в Волгоград на встречи ветеранов 315-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии.
Одним словом каждый день бои, бои и никакой передышки! Днём или наступаем или сами отбиваем атаки противника, а ночью совершенствуем оборону. Не могу не рассказать и о тяжелейшем для меня и для всего батальона дне – 9-го сентября.
К полудню немец открыл массированный артиллерийский огонь по позициям 1-го и 2-го батальонов. Одновременно, группы по 20-25 самолетов наносили бомбовые удары. От разрывов бомб и снарядов земля ходила ходуном… После чего в атаку на нас пошли 45 танков и до двух полков пехоты. Но их встретила стена огня. Два танка подбили политрук роты ПТР Николай Демидов и Танибек Сайдулаев. При этом Демидов был тяжело ранен. А сразу пять танков подорвались на минах и сгорели от бутылок с горючей смесью, закопанных между минами перед фронтом обороны. Об этой моей «уловке» на послевоенных встречах часто вспоминали ветераны дивизии. И всё же к нашим окопам прорвались бронетранспортёры. Завязалась рукопашная…
Санитарка 4-й роты Люда Андреева – боевая чернявая дивчина, бросилась на спрыгнувшего в её окоп немецкого офицера. На помощь ей кинулся командир роты старший лейтенант Александров, но не успел. Офицер в упор выстрелил в Андрееву, и тут же схватился с Александровым. Они сцепились мёртвой хваткой, но дело в том что Александрову было уже лет 45, и, чувствуя, что ему не одолеть молодого натренированного гитлеровца, бывший учитель математики из Барнаула вцепился ему в горло зубами… И вот расхристанный, дрожащий, весь в грязи и в крови, он прибежал после этого ко мне… Насколько я знаю, он погиб уже после Сталинграда.
6-я рота под командованием политрука Ралдугина смелой контратакой выбила немцев из окопов на левом фланге, и не давала им подтянуть дополнительные силы для расширения прорыва. Бой распался на отдельные схватки. Оставив за себя начальника штаба батальона, старшего лейтенанта Иванова, я, собрав связистов, связных, пулемётчиков и стрелков, занимавших оборону вокруг НП, повёл их в контратаку, чтобы выбить немцев из окопов 4-й роты. Бежавшие со мной человек сорок бросились в контратаку. Ценой новых потерь немцы были выбиты из окопов и положение восстановлено.
Обессиленные и физически, и от нервного переутомления бойцы тут же валились с ног. Всех мучила жажда, но воды не было даже для раненых. Я помню, как санинструктор 6-й роты Анна Исаева в изнеможении прислонилась спиной к стенке окопа, но она понимала, что позволить себе даже расслабиться – непозволительная роскошь в данной обстановке. Надо помогать раненым. И, поправив сумку с красным крестом, она поползла от окопа к окопу, перевязывая раны бойцам, успокаивая, помогая им добраться до более безопасного места.
Все попытки врага потеснить наш 724-й полк провалились. Но немец наседал и на наших соседей слева, и с тыла – со стороны Городища, и значительно потеснил их. Поэтому нашему полку было приказано в ночь на 10-е сентября занять новый участок обороны в районе высоты 108,8 длиной по фронту до четырёх километров. А в полку-то оставалось не более 350 активных штыков – это неполных три стрелковые роты... В воронках солдаты рыли себе ячейки через каждые 20-30 метров. Для более плотной обороны просто не было людей…
А утром снова бой. Вначале сотни мин и снарядов обрушилось на позиции батальона. Потом появились большие группы фашистских самолётов, которые остервенело пробомбили передний край обороны. Сразу же после появления самолётов, уже с северо-запада, послышался гул танков. К нашим реденьким позициям вышли 35 бронированных машин и примерно полк пехоты… Несколько вперёд были выдвинуты расчёты противотанковых ружей. Среди них был командир взвода младший лейтенант Посунько. Когда до головного танка осталось около двухсот метров, он первым же выстрелом подбил его. Подбит был ещё один танк, но в этом бою Посунько погиб. Это был последний из шести командиров моей роты ПТР, которые прибыли под Сталинград…
По гитлеровской пехоте, отсекая ее от танков, открыли огонь стрелки и пулемётчики. Наводчик «сорокапятки» Картушев, подпустив вражеский танк, почти в упор выстрелил в него. От второго снаряда танк загорелся. Экипаж пытался выскочить, но был уничтожен стрелками.
Но потеря трёх танков не остановила немцев. Около десятка машин прорвались на позиции 4-й и 5-й рот. Три из них подбили два уцелевших расчета батареи лейтенанта Острогляда.
С высоты 120,5 по противнику открыли огонь соседи слева - артиллеристы и стрелки 2-й Мотострелковой Бригады. Но гитлеровцы не считались с потерями.
И в этот день мы устояли, хотя в батальоне осталось немногим более сотни человек… Был тяжело ранен командир полка Николай Александрович Андреев. Как я потом узнал, его почти насильно эвакуировали в госпиталь.
В эти дни 724-й полк переживал самый тяжёлый период своей короткой истории. Связь моя с командным пунктом полка давно прервалась. Батальоны оказались почти в полном окружении, остались почти без боеприпасов, но всё равно дрались в этих сложнейших условиях… В моём архиве есть копия объяснительной записки подполковника Склярова, который сменил на посту комполка раненого майора Андреева:
«Путем опроса личного состава, оставшегося из подразделений, и по сохранившимся раздаточным денежным ведомостям финчасти полка установлено:
-
Убитых – 121;
-
Пропавших без вести – 2502;
-
Раненых – 125;
-
Передано в 115-ю отдельную стрелковую бригаду – 107.
Итого: 2855.
Дополнительных сведений о потерях личного состава установить не представляется возможным, т.к. в большинстве из подразделений стрелковых батальонов части не осталось ни одного человека. Учетные документы уничтожены в бою 11-го сентября 1942 г.
Список на убитых и пропавших без вести предоставляется в 2-х экземплярах.
Командир 724-го СП подполковник Скляров.
Начштаба ст. лейтенант Шиков.»
12-е сентября стал для меня самым тяжёлым днём за всю войну… Бой шёл весь день. Мы отражали одну атаку за другой. В батальоне оставалось человек сто двадцать, но какие это были люди! Каждый из них сражался за себя и за товарищей, готов был пожертвовать собой.
На всю жизнь я запомнил Танибека Сайдулаева… В разгар боя он подбил танк, но снарядом с другого его ружьё разбило и ранило помошника. Он вытащил из окопа его, и в это время очередной снаряд разорвался у него в ногах… И вот этот богатырь, оставляя кровавый след за собой, приполз ко мне, и, виновато улыбаясь, доложил: «Тавариш камандир, я стрелял – танк падбил. А второй разбил мой ружьё и ранил мой помошник. Я его из окопа тащил, а танк его совсем убил, и меня ранил…» А я стоял и ничего не мог сказать: «Как?!» Меня ведь тоже ранило, и такая маленькая дырочка в коленном суставе, а я даже пошевелиться не мог… А его перебитые ноги остались держаться на обмотках, кость из-под них выступает белая, и ещё докладывает мне… А в наш санвзвод в тот день из артполка прислали военфельдшера Батурину. И вот она на послевоенной встрече рассказывала: «Я его хорошо запомнила. Привезли его, переложили, я смотрю, а у него кости торчат… Ну, обмотки разрезала, сухожилия перерезала, сделала укол и после него он попросил закурить. Отвечаю, я не курю. А рядом стоял раненый в руку, он сумел одной рукой свернуть цигарку, прикурил и дал ему. А Танибек лежал, не стонал, не кричал, ничего. Он затянулся, закашлял, а потом затянул песню казахскую. Тягучую-тягучую, степную. И если до этого со всех сторон были стоны, крики: «Сестра, пить! Пить!», то после того как он запел, все затихли». Потом его отправили на переправу, но ни в госпитальных списках, нигде нет его фамилии… Я искал его и через архивы, и так, и сяк, ничего не нашёл. Что с ним случилось, где он погиб? А ведь пять танков на его счету под Сталинградом. Такого героя следовало бы наградить самой высокой наградой, но кто там думал о наградах…
Вдруг днём, во время очередной немецкой атаки, на мой НП прибежало человек десять из штаба 2-й Мотострелковой Бригады: «Комбат, выручай! Нас отрезали от батальонов…» А чем я помогу, если у меня самого оставалось очень мало людей? Думаю, что же делать? И вдруг, не знаю, откуда, танки противника появились сзади меня. Кого тут ещё спасать, тут себя бы спасти, и разговор закончился на этом. Тут уже нам пришлось отбиваться не только с фронта, но и с тыла.
В батальоне оставалось 2-3 противотанковых ружья и чудом уцелевшие две «сорокапятки». Командиры расчётов Астафьев и Пустовой успели подбить четыре танка. Бутылками с горючей смесью подожгли ещё три машины, но немец продолжал наступать. Танки обошли юго-восточные скаты высоты 108,8, и батальон оказался в полном окружении… На позициях рот начались ожесточенные рукопашные схватки. Командир 5-й роты Петренко сам лёг за ручной пулемёт, но был смертельно ранен. Два взвода немцев окружило мой НП. Мы могли бы пробиться к ротам, но в это время тяжело ранило комиссара батальона Умрихина. Я не мог ьросить его и решил отстреливаться до конца. Чтобы не попасть в руки врага живым, оставил два патрона в пистолете – для себя и него. Но все-таки надеялся на помощь начштаба батальона, на командиров подразделений и на счастливый случай. Вдруг рядом раздался оглушительный взрыв, и пришёл я в себя уже в санроте. Узнал, что Умрихин погиб… (На сайте https://www.obd-memorial.ru есть данные, что комиссар 724-го СП 315-й дивизии политрук Умрихин Василий Леонтьевич 1909 г.р. погиб 27.08.1942 г.р. Но уже в 1943 году приказ о его гибели был отменен, т.к. он служил в другой части – при.ред.)
С этого времени, 13-е или 14-е сентября, мы все: наша дивизия, 2-я Мотострелковая и 115-я стрелковые Бригады окончательно потеряли связь друг с другом.
А настроение в этот момент, какое было?
Что касается морального состояния и боевого духа, я бы не сказал, что он изменился. Другое дело, устоим ли мы или нет? А в том, отстоим ли Сталинград, в этом все были единодушны. Были уверены, и никто не сомневался – не сдадим! И военные и гражданские. Но я говорю за те участки фронта, где я воевал. Надеюсь и думаю, что и на других было также. Вот сосед слева у меня был - 2-я Мотострелковая Бригада, так оттуда ежедневно вечером приходил старший лейтенант – офицер связи. Рассказывал, что у них, и узнавал, что у нас. И по нему я видел, что у них боевой дух на высоте. Мы не ощущали сомнений, и у нас в полку не было ни одного дезертира.
Но надо признаться, я всё время думал, ну зачем? Мы же такие сильные как 27-го августа уже не будем. А в тот день мы просто сократили до полутора километров разрыв между нами и двумя полками дивизии, которые наступали в нашу сторону с северо-востока. В бинокль было прекрасно видно, что они продвигаются в нашу сторону. Это же чепуха, но соединиться мы так и не смогли… Ни завтра, ни послезавтра… Вот у меня лично, получая очередной приказ на наступление, было понимание – ну не дойдём мы, не отрежем… Ну, сил же у нас просто нет. Зачем это нужно? И только значительно позднее, после окончания войны, когда в 1954 году я заехал в Сталинград и зашёл в музей обороны Царицына-Сталинграда, мне там начальник военно-исторического отдела майор, забыл его фамилию, рассказал, что в то время войск для обороны Сталинграда просто не было! За исключением дивизии НКВД. И если бы мы ежедневно не отвлекали немцев на себя, то Сталинград бы сразу был захвачен…
И другой момент мне объяснил. Что сам командир немецкого корпуса понимал, что идти на Сталинград только танками, с малыми силами пехоты, в Сталинград бессмысленно. И вот эти два фактора меня удовлетворили. А в августе 42-го я действительно не понимал – ну почему же, зачем нас гонять вперёд? Когда мы только теряли людей, а результата нет… А результат, оказывается, был! Только в последнее время историки стали писать, что эти пять дней спасли город. За это время с юга сняли войска, перебросили их в Сталинград и тем самым успели закрыть брешь. И только потом я узнал, что немцы уже захватили Мамаев курган, и вышли к железнодорожному вокзалу, а вот эта наша группировка сражалась на Орловских высотах до 17-го сентября… («В боях в районе Орловки с 23-го августа по 17-е сентября 1942 года воины 724-го стрелкового полка уничтожили 48 танков и более 2 000 солдат и офицеров противника» (Архив МО СССР, а315 сд. Оп 484181, д.1, лл 2-3). Но у нас от полка осталось чуть больше двухсот человек… После войны в книге Верховцева З.П. «Солдаты Сибири 1941-45 гг.» Кемеровское книжное издательство 1978 г. я наткнулся на такой абзац: «За 25 дней ожесточённых боёв, с 23-го августа по 17-е сентября 1942 года в районе Орловка, Городище, Котлубань 315-я стрелковая дивизия уничтожила 49 вражеских танков и вывела из строя свыше 3 500 солдат и офицеров противника. Но и сама понесла большие потери и вышла из этих боёв значительно ослабленной».Видите, как можно сказать – значительно ослабленной…
А всех оставшихся 227 человек, это, включая и штабных, и всех остальных, передали в состав 3-го батальона 115-й стрелковой бригады полковника Андрусенко. Причём официально, по акту комдива Князева. И с условием, что после окончания Сталинградской битвы нас снова вернут в 315-ю дивизию. Я когда в архиве искал данные про нашу дивизию, видел этот акт. И там же есть данные про сбитый мною самолет. Правда, там не написано, кем он сбит.
Вас за него как-то наградили?
Хороший вопрос. Ну как можно в таком положении ещё писать наградные листы? Кому писать, когда писать? Когда мне иногда некогда даже просто подписать дневное донесение. Ведь я каждый день отправлял донесения в штаб. Ротные мне ежедневно присылали данные: сколько человек у них в строю, сколько солдат, офицеров. На обороте пишут, сколько у них за день погибло и сколько ранено. Мой начштаба Иванов эти данные объединяет, пишет донесение, я подписываю и ночью отправляю в штаб полка. И вот раз отправляю, связной не возвращается. На второй день отправил, опять не вернулся… На третий день приползает помначштаба полка: «Почему не присылаете строёвки?» - «Как не посылаем? Посылаем!» - «Нет, ни вчера, ни позавчера ничего не приносили». Но связные-то погибают… Так что некогда было наградные писать. Только бой кончился, для командира сразу начинается другая работа. Надо везде ползать, смотреть, где какие повреждения в линии обороны, где, кто убит. Надо организовать план огня к следующему бою. И вот ползаешь везде, ползаешь… Так вот когда я там ползал, в один момент вдруг подумал – если только жив останусь, приеду после войны жить в Сталинград. Здесь же похоронены тысячи моих бойцов. Потому что раз пополнение получили, другой, третий. А сколько ещё неучтенных, этих рабочих, так что сколько там на самом деле полегло, одному только Богу известно… И так я и сделал. Когда по состоянию здоровья пришлось уволиться в запас, приехал жить в Сталинград.
Когда меня контузило, то меня вывезли за Волгу. Правда, быстро оклемался и попал на переправу. Но через Волгу в первую очередь переправляли подразделения, боеприпасы, питание, а всех одиночек, как правило, отправляли или севернее, к Саратову. А большинство – на юг. Так я попал на Северо-Кавказский Фронт. Там уже бои совсем другие. Никакого даже сравнения со Сталинградскими боями, или с 41-м годом. Ни по напряжению, ни по чему. Тем более против нас стояли румыны. Снабжение у них отвратительное, они все голодные, и мы наступали довольно успешно. Переправились через Керченский пролив. А осенью 43-го нас отправили в 33-ю Армию на 2-й Белорусский Фронт.
Вначале мы стояли в обороне, а в конце октября наш 3-й Отдельный Штурмовой Батальон отвели на несколько километров и стали тренировать на прорыв сильно укреплённой обороны противника. Подобрали место, похожее на то, где нам предстояло наступать, и целую неделю там тренировались. А руководил всей этой подготовкой заместитель командующего 33-й Армии. Фамилии уже не вспомню. И вот он каждое утро приходит на исходные позиции батальона, и наблюдает.
Вначале миномётная рота открывает огонь по «позициям противника» - заранее подготовленным кем-то окопам с мишенями, и только после этого начиналось наступление. Миномёты стреляют, пулемёты строчат, и все боевыми. И вдруг команда – «Отставить! Вернуться на исходные позиции!» Этот генерал недоволен: «Слишком медленно!» А как быстрее, если снег почти по пояс? И снова идём, опять команда «Отставить!» и так за светлое время суток по 4-5 раз. Иногда уже у самых окопов останавливали. И какой бы ни был мороз, а с нас пот прямо течёт. Ведь нам тогда выдали кирасы. Это такие стальные пластины толщиной примерно пять миллиметров. Крепились они на левом плече стальным загибом от пластины, закрывавшей всю грудь. Ниже крепилась узкая стальная пластина, закрывавшая весь живот, а к этой пластине крепилась еще одна – треугольная, защищавшая низ живота и пах. В местах крепления была возможность сгибания, хотя и незначительного. Они были довольно тяжелы, да и движение, достаточно сильно сковывали. Поверх панциря надевалась шинель, а на поясе у каждого бойца по два подсумка патронов, сумка с двумя гранатами РГД, малая сапёрная лопатка, а за плечами вещмешок, в котором кроме разного скарба: портянок, белья, туалетных принадлежностей, у каждого ещё по 120 патронов и котелок. А на ноги – валенки. И только тогда, на всё это надевался белый маскировочный костюм: свободные белые штаны и такая же свободная куртка с капюшоном и марлевой сеточкой-шторкой на лицо. И вот в таком одеянии мы ежедневно на рассвете выходили на тактические учения. И каждый день меняем позицию, чтобы нетронутый снег лежал… Конечно, с нас пот ручьём, но панцири снимать не разрешают. Всё светлое время суток «наступаем», а уже в темноте разбор занятий руководителем, потом командование батальона конкретизирует замечания на уровне командира роты, взвода. На следующий день всё повторяется снова. И с каждым днём действия личного состава всё больше оттачивались, легче и быстрее преодолевалось шестисотметровое заснеженное поле, миномётчики почти сразу «клали» мины в цель, а «сорокопятки» поражали макеты. Но за эту неделю занятий мы потеряли семь человек. Пятеро погибли из-за того, что миномёты не успели перенести огонь, а двое подорвались на своей гранате.
Наконец, наступил последний день. Наступаем, генерал уже ни разу не остановил, успешно первую линию прошли, всё нормально. – «Отбой!» Когда построились, впервые нас похвалил: «Молодцы!» А мы уже знали, к чему нас готовят. Знали, что нам придется прорывать три линии обороны противника, после чего в прорыв будет введена свежая дивизия. Генерал пошёл вдоль строя, спрашивал командиров рот, взводов – выполнят ли они задачи своими подразделениями? Уверены ли в успехе? Подошёл к командиру 1-й роты капитану Матета: «Задачу знаешь?» - «Так точно!» - «Сколько пройдёшь своей ротой?» - «Три линии прорву, и возьму железнодорожный разъезд у станции Орша». На что генерал ему говорит: «Если ты с ротой захватишь железнодорожный разъезд, обещаю наградить тебя орденом Ленина. И всю твою роту награжу!» Вот примерно так он беседовал со всеми командирами.
Утром следующего дня батальон выступил к фронту. Но как раз резко потеплело, и стоял туман, накрапывал дождик, а мы идем в своих валенках по мокрому снегу. Батальон вёл офицер связи. Причём, несмотря на туман, повёл нас не по прямому маршруту, а какими-то зигзагами. Всё время менял направление движения и уже в темноте мы прибыли к месту назначения.
5-го ноября 1943 года перед рассветом батальон скрытно выдвинулся на передний край. На рассвете началась массированная артподготовка, я такой никогда не видел. Когда туман несколько рассеялся, и видимость стала достаточной, налетела наша авиация. Пикировщики бомбят, Илы по головам ходят, но огонь артиллерии был настолько плотный, что один самолет, пикируя на окопы фашистов, был разбит снарядом нашей же артиллерии…
Наконец дали сигнал – «Вперёд!» Тут все как один выскочили из окопов, и быстро, значительно лучше, чем до этого на учениях, побежали к немецким окопам. Быстрому продвижению поспособствовало и то, что пошёл такой дождь, что снега как такового не стало.
Немцы сопротивления почти не оказывали, и в первую линию ворвались, по сути, с огневым валом. Завязалась рукопашная схватка. Но наши валенки ещё на марше разбухли от воды, а в этих окопах прямо чавкает грязь и вода стоит… Бежать и так неудобно, всем жарко, а тут ещё эти панцири. Все их сразу и сбросили, ну неудобно в них действовать. На вторую линию побежали уже без шинелей и панцирей. Если только это можно назвать бегом. В разбухших валенках по этой грязи…
Ворвались туда, но огонь немцев уже заметно усилился. Слева стали косить пулемёты. А у нас из-за перебежек по такой грязи, у многих стали отказывать автоматы и пулемёты. Но всё равно ворвались, и снова рукопашная… Надо драться, а даже просто идти в размокших, тяжеленных валенках, очень трудно. Ноги в них казались, пудовыми. В валенках прямо чавкала ледяная талая вода, брюки и телогрейки мокрые, все в грязи, но мы не чувствовали холода. Некоторые уже остались в одних гимнастёрках, от них валил пар. Все понимали, что задерживаться нельзя, но до третьей траншеи добирались значительно тяжелее и дольше.
Но приблизившись к окопам, вдруг почувствовали, что огонь немцев прекратился, и это ещё больше воодушевило нас. Попрыгали в окопы, немцев в них не обнаружили, и быстро, насколько осталось сил, стали продвигаться в сторону железнодорожной станции. Мы уже знали, что дальше у них ничего нет, и двинулись сплошной цепью. Но по мере приближения, ещё издали нас стали обстреливать слева из пулемётов. Всё ближе виднелись дома, постройки, а пулемётный огонь всё усиливался.
Достигнув будки стрелочника, мы остановились. Но залечь нам невозможно – кругом сплошная грязь. Решили осмотреться и подумать, что же делать дальше. Ведь мы прошли уже три километра, даже больше, чем определено нам приказом. И не видим, чтобы свежая дивизия вошла в прорыв после нас. Комбат послал связного – доложить командиру дивизии, что немецкая линия обороны прорвана и батальон находится уже на подступах к Орше.
Начало темнеть, и вдруг позади нас, метрах в ста, откуда-то появилась группа человек до полусотни. И кричат нам: «Эй, идите сюда!» И видно, что люди не из нашего батальона. Почему они кричат, зачем к ним идти, непонятно, но вроде в наших шинелях и слышна русская речь. Ну, кто-то пошёл, а они по ним из автоматов… Все бросились туда, смотрим, а у них на рукавах такие шевроны бело-сине-красные. Тут кто-то догадался, крикнул: «Власовцы!», и как началось… У нас же патронов почти не осталось, и дрались кто, чем. Кто прикладами, кто штыками… А один схватил свой ручной пулемёт за дуло, и как былинный богатырь начал им словно дубиной крушить направо и налево… Дрались с особым ожесточением, ведь это были не просто враги, а предатели. В плен никого не брали, да они и сами не просили пощады… Вот так я впервые встретился с власовцами и с этим бело-красно-синим флагом. Для меня он навсегда олицетворяет предательство своей Родины, своего народа. И главное, немцы убегают, а эти подонки остаются прикрывать отход…
Но что в итоге получилось? Свою задачу батальон выполнил – прорвал немецкую линию обороны. Комбат несколько раз посылал сообщение – «задача выполнена», а генерал ему не верит. Комбат суёт связному горсть немецких крестов, которые нашли в каком-то блиндаже: «На, пусть убедится!» Но та дивизия так и не была введена в бой по причине недоверия их комдива. Мол, как так, больше года там не могли прорвать, а тут сразу же… Уже после войны я читал в воспоминаниях Жукова про эти бои. Там всего-навсего один абзац – «предпринятые нами действия успехом не увенчались. Нами были произведены соответствующие оргвыводы…» И всё! А ради чего, спрашивается, там столько людей положили?! Ради бездействия или неумелого действия командования 33-й Армии… К сожалению, и такие случаи на войне были.
В итоге мы отошли во 2-ю линию обороны, и только в июне 44-го пошли оттуда в наступление. Но сам бой, если говорить только о прорыве, получился изумительный. Многих, и меня в том числе, даже представили к наградам, но результата ведь нет, и всё это заглохло.
А меня после этих боёв перевели в 222-ю дивизию. В 757-м полку принял стрелковую роту вместо старшего лейтенанта Алтусова. Мне рассказали, что он погиб в наступлении, когда перекатывался по наброшенным на проволочное ограждение шинелям. И после его геройской гибели меня его бойцы тоже проверяли. Было дело. Уже в июле, в наступлении, слышу, как один говорит другому: «А он ничего…» Солдаты в бою всегда смотрят на своего командира.
Наше наступление в июле 1944 года развивалось очень успешно. А почему? Потому что нас не беспокоила немецкая авиация. Представляете, мы даже днём могли идти строем! О таком ни в 41-м, ни в 42-м даже мечтать не приходилось. А тут шли строем и были уверены, никого не будет. А если один и появится, то это он случайно оказался. В воздухе было полное преимущество нашей авиации. И, наверное, сказалось, что к этому времени мы научились воевать.
Если в 41-м моя рота достигала 180 человек, а когда шел в рейды и 280 человек, то в 44-м у меня редко бывало больше 60 человек, но успех был значительно выше. Правда, к этому времени мы уже не наступали прямым фронтом, а двигались только на населенные пункты. Ведь как мы делали в 41-м? Одна рота заходит с тыла, а вторая наступает в лоб. В 44-м такого уже не делали. Если попадается какой-то хутор, мы его просто обходим и пошли дальше. С ним разберутся войска идущие за нами.
Но за Минск бои шли тяжёлые. От города фактически ничего не осталось, одни развалины. Когда мы шли по улицам, они все были завалены щебнем, битым кирпичом, это и улицами даже нельзя назвать. Казалось, там нет никого живого. И тут из каких-то щелей поднимаются серые, сгорбленные даже не люди, а силуэты. Со слезами бросаются нас обнимать, смотришь, а это же не старуха, а молодая девушка, просто сгорбленная этим фашистским рабством…
От Минска мы пошли на северо-запад, и там уже не было таких разрушений. Город Лида, например, остался целым. Но когда вошли в Литву, снова начались бои. Причём, чем дальше на запад, тем ожесточённее, я бы даже сказал изуверские. Но по сравнению с боями под Москвой и, особенно, под Сталинградом бои за Литву можно назвать прогулкой.
Помню, три дня и три ночи мы ходили каким-то запутанным маршрутом. Там местность по сути дела не лесная. Отдельные бугры, леса мало, и мы идём то в одну сторону, потом в другую, и вот так проходили по 50 километров в сутки. И всё быстрей, быстрей. Комдив - полковник Юрин стоит, и всех подгоняет: «Быстрее! Бодрее! Песню запевай!» Ну что, ладно. Потом пришли, и там где развернулись в цепь, разведка донесла – «Здесь немцев нет! Отошли!» Оказывается, комдив специально так нас гонял, и у немцев создалось впечатление, что на этот участок стягиваются большие силы. Тем более, специально делалось так, чтобы подразделения максимально растягивались. И это сработало – немцы отошли.
А подошли к Неману, и остановились в лесу. Офицеры выдвинулись на опушку леса, и оттуда в бинокль прекрасно видно: высоченный берег, отлогий, как обрыв, а там наверху окопы. Да и сам Неман довольно-таки широкая река. И быстрая. А я пловец, мягко говоря, плохонький. Я же рос там, где не было водоёма. Ну, думаю, даже если и доплывём туда, это же открытое место…
Позавтракали, а приказа никакого нет. Но перед обедом скрытно пошли на юго-восток. Никаких разговоров, куда идем, зачем. Когда отошли подальше, и когда уже солнце садилось, пришёл командир полка: «Будем форсировать!» Тут река тоже широченная, но зато противоположный берег ровный и даже бугорка нет. И никакой обороны в бинокль не видно.
В полку никаких лодок не было, поэтому начали форсировать на подручных средствах. В ход пошло всё подряд: заборы, калитки. Если находили сено или солому, вязали и на них переправлялись. Телефонисты скрутили кабель, и в реку, чтобы натянуть, но он порвался. И вот поплыли…
Несколько человек из азиатов потонули. Я тоже не ахти плавал, но мой старшина нашёл возможность соорудить несколько плотиков. Всю одежду сняли с себя, на плотик, и за него держишься. На тот берег вышли, когда уже стало темно. Все обессиленные, хорошо немцев не оказалось. Все расположились на заболоченном берегу, и прямо там отдыхали.
А рано утром пошли дальше. Расширяли этот прорыв на север, в сторону Алитуса. И только часов в десять немцы нас обнаружили, открыли огонь, но мы уже далеко отошли от Немана. Вот тут на нас бросили гренадёров. В какой-то тёмной форме они развернулись в цепь, и пошли на нас. Тут нам пришлось остановиться. Стали рыть окопчики, как-то укрепляться. Но по нам открыли сильный огонь: и миномётный, и пулемётный. Разбили одну нашу «сорокопятку». У другой остался один-единственный командир орудия - сержант Горячев. До сих пор его помню. Стоит у своей пушки, и сам себе командует: «Осколочным – огонь!» Сам же хватает снаряд, заряжает, стреляет… А командир пулемётной роты, когда бегал расставлять расчеты, полез на флигель дома. Тут немец как даст, только щепки полетели. Он из дома выскакивает ошалелый. Отряхивается: «Во как, а я жив…»
В общем, отбили мы этих гренадёров, начали продвигаться дальше, и уже на следующий день смотрю, по моей цепи справа идёт сам комдив Юрин. И по рации что-то говорит. Потом начался артобстрел, он с радистами бросился под кустики, а мне не положено. Подгоняю свою роту: «Вперёд! Вперёд!» Вот такой случай – в одной цепи оказались и командир роты и комдив.
Двинулись дальше, и почти дошли до границы с Восточной Пруссией. Ведём наступление и одновременно отгоняем немца к северу от Немана. Заняли оборону, а перед нами немцев вроде нет. Я выслал в разведку двух человек. Один – ефрейтор, солидный такой, деловой, воюет с 41-го. И вдруг утром нас снимают с позиций, и ведут на север. Потом проезжает комбат на лошади: «А где этот?» - «Я его в разведку послал, но к рассвету они не вернулись». – «Да как ты посмел?! Его же представили на Героя! Если он погибнет, нам же головы снимут…» К общей радости, вскоре они нас догнали. Но я что хочу особо отметить.
Тот, кто сегодня говорит о советской оккупации прибалтийских республик, нагло врёт! Везде в литовских городах нас встречали аплодисментами, как воинов-освободителей. Я никогда не забуду, как нас восторженно встречали в Каунасе и Мариамполе. Немцы отступили без боя, мы идём строем, а нас приветствуют целые толпы местных жителей. У всех неподдельная радость на лицах, сияют от счастья. Обнимали нас, дарили цветы, кто конвертик подарит, кто листик бумажки, кто огрызок карандаша, хоть что-нибудь, но дадут каждому. Вот в сельской местности было немного по-другому. Перед тем как меня ранило, моя рота занимала хутор не то Бальвержишки, не тоВолковышки. Когда мы зашли на его территорию, он казался абсолютно пустым. Потом откуда-то появился небольшого роста старичок и на
на ломаном русском языке обращается: «Здравствуй товарищ!» - «Ты кто такой?» - «Солдат его Императорского Величества такой-то!» Оказывается, литовец, который служил в царской армии. – «А почему никого не видно?» - «Так все попрятались!» - «А чего? Вас же не обстреливают!» - «Так говорят же, что у вас рожки на головах…» Я не поверил. Но потом из подвала начали вылезать члены его семьи, и ко мне подошла молодая девушка. Сняла с меня пилотку и что-то начала искать в моих волосах. А старичок объяснил: «Немцы говорили, что большевики не люди, а черти с рогами…» Вот как действовала немецкая пропаганда но жителей глухих селений. Тем не менее, в Литве мне не приходилось сталкиваться со случаями агрессии и нападения на наших солдат со стороны местного населения. Но мы пройдём, а сзади остаются группы, поэтому приходилось думать и об угрозе с тыла.
В этом же селе случилось так, что наша разведка доложила, что впереди немцев нет – можно идти. Но пока приказа не поступило, вдруг, по нам с левой стороны, почти с нашего тыла, стали стрелять немецкие пушки. И огонь всё усиливается и усиливается. Начинают отходить артиллеристы. Ко мне подбегает полковник: «Вы кто? Разворачивай свою роту – немцы прорвались!» А сам начинает останавливать бегущих артиллеристов.
Но тут надо отдать должное нашей связи. Всего через несколько минут подъехал на мотоцикле старший лейтенант - лётчик: «Где передний край?» И он по рации передал координаты, быстро появились штурмовики, и в полутора километрах от нас стали бомбить те орудия. Причем стали штурмовать эрэсами, это я в первый раз тогда увидел. И видимо и танки туда бросили, потому что как контратаку немцев отбили, мы сразу перешли в наступление. Но до границы с Восточной Пруссией я не дошёл буквально 300-400 метров.
А когда перед этим наступали, в одном месте на склоне в овраг стояло огромное дерево. Я бежал, а за мной ячейка управления. И вдруг слышу шелест тяжёлого снаряда. Только успел пригнуться, как взрыв и я полетел в овраг. Именно полетел, как пёрышко… Вижу, на меня падает это огромное дерево, и успел сообразить, что оно меня сейчас придавит. Пытаюсь вылезти оттуда, а у меня правая нога как ватная, не слушается. Слышу, наверху санинструктор кричит: «Командира роты убило!» Я тут же кричу: «Не убило меня! Живой я!» Подскочили, меня вытащили, но идти я не могу, нога не слушается. Посмотрели, а у меня брюки-галифе изорваны осколками и на колене маленькая дырочка. А у меня был случай, что солдата ранило в палец на ноге, но он умер. От заражения крови. Поэтому я знал, что нужно сделать укол от столбняка. Пошёл в санвзвод, мне сделали. Но стыдно – ведь малюсенькая дырочка на колене. И говорят мне: «Надо эвакуировать!» Тут приезжает комдив, его за форсирование Немана представили к Герою. (За успешные бои при освобождению Белоруссии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21.07.1944 командир 222-й стрелковой дивизии полковник Юрин Алексей Николаевич был удостоен звания Героя Советского Союза. Но получить награду не успел. Погиб в бою 26.07.1944. Похоронен в Минске на Военном кладбище - http://www.warheroes.ru/hero/ ) Обращается ко всем раненым: «Товарищи солдаты! Мы у самых стен гитлеровского Рейха! До границы осталось всего несколько сот метров. Приказывать я вам не могу, но если кто может вернуться в строй, то для вас будет большая честь перейти границу!» Тех, кто ходить не мог, положили на повозку, а я иду и держусь за неё. Нога плохо работает, но стыдно же с такой малюсенькой дырочкой кому-то жаловаться… Тем более я же командир. А там уклон в сторону границы. Прошли дорогу, ведущую в сторону границы, и подошли метров на сто пятьдесят к небольшому городку. Вдруг из домов по нас открыли ружейно-пулемётный огонь. А меж домов ходит танк, покажется, выстрелит, и сразу прячется за дом. И выстрел такой, что обязательно или пулемёт разобьёт или в группу людей попадёт…
Потом пришли два наших танка. Представляете, я столько времени на фронте, но в первый раз увидел в бою наши танки. Они стали на вершине этого ската и начали вести огонь. А по ним стали стрелять из этого городка, то ли артиллерия, то ли этот танк, и подожгли вначале один, а потом и другой…
Я лежу в кювете, посылаю связного, но только он пополз по кювету, как его убило… Другой бежит с той стороны, тоже убило… Один боец только приподнялся, его убило… Значит, снайпер работает. Но где он? Думаю, надо что-то делать. А с правой стороны дороги, метрах в двадцати кустики, и я пополз туда. Этот санинструктор кричит мне: «Старший лейтенант, что вы делаете? Вернитесь!» Я всё-таки дополз, но лёжа ничего не видно. Только приподнимаюсь, веток не касаюсь, но кто его знает, где я ошибку совершил. То ли блеснул мой бинокль, или ещё что, но тут же удар по голени правой ноги и я свалился. Тут уже большая дырочка с другой стороны и кровь в сапоге… Кричу сержанту: «Меня ранило!» - «Я же говорил…», и ползком ко мне. Я ему кричу: «Не подходи! Я сам!» Подполз к нему. Он начал меня перевязывать, а сам клянёт меня: «Да что ж ты делаешь…»
И меня по этому кювету ползком протащили и вытащили в санчасть. Там сделали укол морфия, потому что пуля раздробила мне кость. Когда пытаюсь шевелиться – больно. И когда укол сделали, мне стало так хорошо, аж весело. Всех раненых погрузили на машину, повезли. Но там же по лесу вся дорога в выбоинах. А шофер спешит, чтобы быстрее уехать оттуда, машину подбрасывает, кидает, все раненые кричат, а мне хоть бы что…
В медсанбате меня сразу на стол. Две санитарки подхватывают, а мне смешно. А чего так смешно, и сам не знаю. Но потом я отключился… Очнулся, лежу в теплушке. Ко мне подходит пожилой такой санитар: «Что нужно?» - «Пить хочу!» Дал. Потом говорит мне: «Можно мне вашу гимнастерку? А я вам почти новую дам!» Снимает её с меня, и тут я вижу, что она на спине прямо вся исписана, изорвана осколками… И только потом в госпитале мне объяснили: «Понимаете, у нас же санитарами и профессора служат, и учителя, и музейные работники, и видимо он взял её как музейный экспонат». Мол, как посекло гимнастёрку, а человек остался жив…
Привезли вначале в Караганду, а уже оттуда в Кокчетавскую область – город Щучинск. В санатории «Боровое» располагался госпиталь №4110. Но в Караганде вот, что получилось. Рана у меня никак не заживала и постоянно гноилась. И перед операцией врач – молодая женщина, лет 30-35, говорит мне: «Мы вам дадим общий наркоз». Но я отказался: «Нет, не надо!» Я ведь насмотрелся уже, как тяжело люди отходят от него. Идём с ней в операционную и договариваемся. Попросил её: «Вы местный наркоз сделайте!» - «Да, придётся так и сделать».
Положили меня, и она так всё сделала, что ни боли, ничего не почувствовал. Пожалела меня. Но эта жалость её мне в дальнейшем только повредила. Вместо того чтобы очистить мне кость как следует, она всего-навсего удалила секвестры - осколочки кости, которые постоянно гноились. В итоге начался остеомиелит, кость стала гноиться и разрушаться. И когда в Щучинск меня привезли, там хирургом была Ольга Петровна, ох и строгая женщина. Говорит мне: «Ну, терпи, я буду долбить кость». Одну операцию долбила – не заживает. Вторую – тоже не заживает… И кварцем и как угодно, но в итоге была вынуждена устроить мне комиссию. Ну не заживает рана, и всё тут, гноится. Утром и вечером с обеих сторон гноя полным полно…
 |
|
В Щучинском госпитале (25.10.1944 г.) |
В итоге военно-врачебная комиссия предоставила мне с 15-го декабря 1944 года отпуск на 30 суток. А в этом госпитале я познакомился со своей будущей женой. Надя там работала медицинской сестрой в терапевтическом отделении. Мы стали встречаться, и я решил жениться на ней. И когда меня выписали, мы с ней ночью напрямик, по замёрзшему озеру, ушли на станцию в Щучинск. Благо вещей у нас особых не было. У неё - одно чёрное шифоновое платье в маленьком фельдшерском чемоданчике, а у меня – полевая сумка да кобура от пистолета, набитая бинтами. Раненые офицеры собрали нам денег на дорогу. Они же нам очень помогли в Петропавловске-Казахстанском, закомпостировали у военного коменданта билет для Нади. Несмотря на штамп в паспорте об увольнении с работы в госпитале, у неё не было пропуска, а без него выдача билета не разрешалась. Этот пропуск мне с большим трудом удалось получить на неё в областном управлении НКВД Челябинска. Пропускной режим был очень строгим, проверки частыми, и без такого пропуска я бы её точно не довёз. А получив его, мы спокойно доехали к её сестре в Черниговскую область, на станцию Ичня.
 |
|
С женой – Надеждой Петровной (1946 г.) |
Там 30-го декабря 1944 года мы отпраздновали свою свадьбу. Но Надя сразу же устроилась фельдшером на военную базу, а я уехал в Брянскую область к своим родителям. А у нас же связь оборвалась ещё до войны. Я ещё в училище учился, и тут такое время, и финская война, одно, другое, и мы были очень заняты. Не очень-то часто писал, но никто мне не отвечал. Я даже не знал, что родители вернулись в Брянскую область. А потом война началась, тут уже совсем не до писем.
А в госпитале я написал на радио, там шла такая передача «Ищите родных». И в один из дней иду на костылях, а ребята мне кричат: «Туров, иди сюда!» - «Что такое?» - «Слушай скорее!» А там по радио мне передают сообщение – адрес моих родных Брянская область деревня Большой Крупец.
Приезжаю домой, и узнаю, что мою старшую сестру Татьяну, якобы за связь с партизанами, немцы расстреляли, а хату нашу спалили… Отец сильно покалечил ногу и ходил на костылях, но начал строить дом. Пола ещё не было, потолка нет, но железная печка уже стояла. Вот так и жили… И когда однажды отец из дома вышел, мать спрашивает: «Слушай, Володь, ты в бога веришь?» Что ей ответить? Я не мог ответить по-другому: «Да, верю. И верю в дружбу, в людей, в наш народ, в то, что мы делаем». – «И правильно, верь! Верь!»
5-го января на комиссии в Брянском олбвоенкомате меня признали негодным к службе в мирное время, но ограниченно годным к нестроевой в военное, и направили в Липецк, где шло формирование воинского эшелона в Германию. Но при отправке произошла путаница с моими документами, эшелон ушёл без меня и пришлось догонять его своим ходом. Путь проходил через Черниговскую область и я, конечно, заехал в Ичню к моей Надюше. И вот тогда мы официально оформили наши отношения в ЗАГСе.
В тот же день я уехал в Харьков догонять свой состав, но догнал его только в немецком городе Лигнице. Там таких же как я, годных к нестроевой, собрали на 2-месячные курсы по подготовке комендантских работников. Там и одноглазые, и однорукие офицеры, и призванные уже из запаса, и всех нас готовили к тому, что нужно постоянно поддерживать контакт с местным населением и оказывать ему любую помощь. И пресекать любые незаконные действия наших солдат. А после курсов меня назначили командиром 285-й отдельной стрелковой роты при военной комендатуре города Гинденбург (ныне польский город Забже – прим.ред.) Но в начале марта приехал туда, а нога опять гноится. Косточки срослись так, что впереди образовался большой бугор, и даже сапог нельзя носить. И нерв, касаясь брюк, доставлял мне боль. Шесть операций прошло, а мне ничего не помогает. До того измучился, что просто не мог уже. Каждый день должен был менять и белье, и брюки, все в гное. И только в конце 1947 года, начальник хирургического отделения военного госпиталя в Германии говорит мне: «Я тебе сделаю 7-ю, но это будет уже последняя операция! Только терпи! Можешь кричать, ругаться, что хочешь, только терпи!» Лежу и вижу вверху в зеркало, как он никелированным зубилом и молотком сбивает этот образовавшийся нарост, а потом начал чистить саму кость. Я даже не скажу что больно, но как ударит, меня всего прямо корёжит. От головы до пят…
Когда на перевязке глянул, а там на голени не кость, а прямо ямка, углубление: «Что ж вы натворили?» - «Ничего-ничего, ещё спасибо скажешь!» И с тех пор я хожу с такой ногой. Правда, до сих пор чувствую, как штанины касаются нерва. Или не дай бог, кто-то заденет или сумкой коснётся, меня как током дёргает. Но я продолжал службу.
Расскажите, пожалуйста, о комендантской работе.
Вот, например, наша комендатура в Гинденбурге. Во главе военный комендант - подполковник Агниошвили. Военный комендант представлял в городе всю военную и гражданскую власть, и ему подчинялись любые наши проходящие части. У него есть замполит, помошник по спецработе, разведка, дежурные помошники, начальник продпункта, начальник радиостанции, даже юрист был, бывший прокурор района. И человек по работе с репатриированными, он помогал быстрее отправить их в тыл. В состав комендатуры входила и отдельная 285-я стрелковая рота, которой я командовал. В ней было пять взводов. Но в комендатуру входило и три районные комендатуры, поэтому там стояло по взводу. А два взвода непосредственно в Гинденбурге.
Причём весь штат подбирался и готовился заранее. Ещё до освобождения изучался план города, думали, где лучше разместить военную комендатуру, где радиостанцию, где продпункт, на каких столбах расклеивать объявления. Но была всего одна переводчица, правда, мы уже и сами как-то наловчились общаться с местным населением.
Предварительно была собрана информация о жителях города, и на её основании были назначены сначала десятники - старшие по подъезду, потом старшие по дому, и так до городского головы. В Гинденбурге им был, как ни странно, один из бывших лидеров местной ячейки национал-социалистической партии. Все эти назначения были необходимы для оповещения населения города нужной информацией и для скорейшего установления контактов и наведения правопорядка. Например, существовало такое правило: когда наши войска занимали город, то все его жители должны вывешивать из окон белые флаги. Если флаги висят на всех окнах, то город берётся без единого выстрела. Так что контакты с местным населением были налажены, как полагается.
Как-то получили мы сообщение – в таком-то доме, в квартире на 4-м этаже скрывается шпионка. Я со своими людьми быстро туда. Оцепили дом, поднимаемся в квартиру, а там уже никого нет, только сестра этой. Но створка открытого окна ещё шатается. Она через него на крышу, оттуда на соседнюю перелезла, там они почти вплотную стоят, и всё…
Другой случай расскажу. Ещё когда война шла, как-то через город проходила часть связи, видимо правительственной, потому что они запеленговали передатчик. И подсказали нашему майору – заму по спецработе, Хвостиков что ли фамилия, где искать. Быстро подняли людей и туда. В квартиру врываются, а там один передаёт по передатчику… Ну, его сразу в комендатуру, но он покончил с собой на гауптвахте. Вскрыл себе вены стеклом от очков… Его даже не успели допросить. Стали выяснять, оказывается, это гауптман, которого специально оставили, чтобы сообщать данные.
А через некоторое время опять сообщение, что та немка, которая сбежала, нам её фотографию показывали, опять появилась. Только в другом доме. Тут мы уже умнее сделали. Больше людей взяли и оцепили не только тот дом, но и соседний, и арестовали её. Привезли на гауптвахту. Ну, женщина есть женщина, и её поставили мыть посуду, для тех, кто там сидел. Там камеры по коридору и вроде столовой.
Вдруг коменданту вздумалось проверить охрану гауптвахты. С неё был выход в помещение комендатуры, где дежурный сидит, и другой выход во двор. А со двора выезд через металлические ворота, которые всегда были закрыты на замок. И комендант со своей свитой пошли кавалькадой за начальником караула. Прошли мимо этой столовой, там эта шпионка мыла посуду. Но прошли по коридору дальше, смотрим, а женщины нет. И часовой как раз отлучился. А караул и начальник караула был постоянный, у меня не было людей их подменять. И часовые на разных объектах тоже, приходилось по ночам ездить и проверять их. Кинулись, нет её нигде. Но мимо дежурного не выходил никто. Кинулись во двор, а там открыта металлическая дверь, которая всегда была закрыта. Как, кто её открыл? А нас там обслуживал слесарь, немец из этого же дома, у него были ключи от всех квартир. Его, конечно, сразу в оборот: «Как, что?» - «Не знаю… Не понимаю…» Но ведь кто-то же ей ключи дал? Короче говоря, задержали её только в 1946 году в Лигнице.
А в конце апреля мы получили сообщение, что через город будет прорываться отряд эсэсовцев, который действовал восточнее города, и который никак не могли уничтожить. Хотя знали даже его командира, некий обер-лейтенант СС, что среди них есть и польские офицеры, и полицаи с Украины с власовцами. Всего их человек шестьдесят. А речка под Гинденбургом была забетонирована, и выходила на поверхность только возле комендатуры и возле моста. И по полученным разведданным они хотели за городом войти в русло, и выйти в центре, чтобы напасть на комендатуру и разгромить склады. А на продовольственном складе работал огромнейший холодильник. Это я вам скажу, было что-то. Там мясные туши висели еще с 1933 года. А после этого по той же реке скрытно выйти на западную окраину Гинденбурга, и дальше идти на соседний город Гляйвиц, который был забит госпиталями. Напасть на них и только потом уйти в леса на запад. В связи с этим мне было приказано усилить охрану всех объектов в городе: водопровода, электростанции, всех подстанций, складов, железнодорожного вокзала и железной дороги, гостиницы, радиостанции, управления комендатуры и выставить скрытые посты на выходе реки под автомобильным мостом. Но засаду надо было организовать так, чтобы это осталось незаметным для местных немцев. Ведь наверняка у них здесь были свои глаза и уши. В итоге я в соседних домах установил два станковых пулемёта, замаскировали их. Ориентировочно нападение этого отряда планировалось примерно на 30-е апреля.
30-го ждём – их нет. 1-го, 2-го – их нет. Но дополнительных сведений нет, и снимать засаду нельзя. Поэтому днём я занимался делами, а ночью сам сидел в засаде. В общем, за эти дни измотался до крайней степени. И в один момент не выдержал, отошёл к соседнему дому, где на ступеньках «прикорнул». Мгновенно провалился в сон…
И вдруг слышу стрельба. Я сразу за пистолет, бегу туда, а навстречу бегут люди. А ещё не рассвело, но я разглядел, что впереди группы солдат бежит мой старшина Онищенко и стреляет из пистолета в воздух. Бросается ко мне, обнимает, я ему: «Отставить! Что такое?!» Тут он кричит: «Победа! Ура! Ура!» Все остальные тоже жутко кричат. Я спрашиваю: «Какая победа?» - «Победа! Война кончилась! По радио передали!» Это была ночь с 8-го на 9-е мая...
 |
|
Туров В.С. |
Все солдаты с расставленных постов прибежали к нам, возбуждённо кричат, обнимаются, смеются. А люди-то у меня все не годные к строевой. Всем за 53 года. Ну, солнце взошло, и погода такая ясная, солнечная, просто чудесная. Казалось, сама природа радуется нашей Победе…
Но хочу сказать, что в Гинденбурге не было никакого организованного сопротивления, немцы в подавляющей своей массе, люди очень дисциплинированные. Помню лишь единичные случаи нарушений, и то незначительных. Например, один молодой немец спрятал несколько единиц оружия в своем доме. Я был тогда в Гинденбурге членом военного трибунала и помню, что все его члены настаивали на смертном приговоре, но председатель военного трибунала пожалел парня, сославшись на его молодость. Ещё был случай. Как-то прочёсывали леса под Гинденбургом, искали подземные военные предприятия, замкомандира батальона разговорился с одной немкой, повстречавшейся в зоне поиска, и получил от неё удар ножом в шею. Эту женщину арестовали, но тоже не стали расстреливать.
Но комендатура не только этим занималась. Случай расскажу. Сижу я на дежурстве, часа в два ночи звонок. Что-то на немецком быстро-быстро, я ему: «Руи! Руи!» в смысле медленнее говорите. Потому что различаю только отдельные слова – майне доктор, руссише зольдат. Я кричу: «Где?», и вдруг такой истерический женский крик. Я кричу: «Где? Штрассе?» В общем, как-то понял, что он стоит в телефонной будке на окраине города. Но ничего не пойму, всё сбивчиво. Командую – «В ружьё!» И пять человек со мной на «додже» на эту окраину. Приехали, а там заросший пустырь, какой-то забор и кустики. Солдаты разбежались, смотрю, вот так почти лежит и корчится женщина. Я подбегаю к этому немцу: «Что такое?» Тут женщина опять как заорёт, и показывает, что рожает. Кричу: «Все ко мне!» Погрузили её в кузов, и быстрее в госпиталь. Заскакиваем в холл, там медсестра, я к ней: «Принимайте быстрее роженицу!» Санитары с носилками побежали, и врач выходит. Её несут. Она опять как закричала по-немецки… Санитары тут же положили носилки, медсестра говорит: «Так она немка? Что ж вы…» Врач говорит: «Быстрее в операционную!», и её унесли. А меня медсестра спрашивает: «Капитан, а мне что сейчас делать? Госпиталь-то военный». – «Я не знаю». – «А вы откуда?» - «С комендатуры». – «Тогда утром привезите справку, что вы мне немку привезли». Так и сделали.
Так вот, а когда в 70-х годах я уже жил в Волгограде, то как-то с призывной комиссией центрального райвоенкомата, прибыл на сборный пункт ДК «Строитель». Рядом со мной в автобусе сидит женщина. Смотрит-смотрит на меня, потом вдруг спрашивает: «А вы в Лигнице не были?» - «Был». – «А вы не в комендатуре служили?» - «Да, а что?» Тут я на неё внимательно посмотрел, вроде что-то знакомое есть, но не узнал. Она говорит: «Так это же вы немку привозили рожать!» - «Да, был такой случай». Вот так мы встретились с этой медсестрой через тридцать лет.
А что вы испытывали к немцам? Всё-таки прошли всю войну, родные у вас погибли.
Вот сколько я всего насмотрелся на фронте, но я всегда был против жёстких репрессивных мер в отношении мирного немецкого населения. И я отлично помню, насколько меня неприятно поразила в «Правде» статья Ильи Эренбурга «Убей фашиста!» В ней он обращался к советским воинам с призывом: «Увидишь немца - убей!» Причем, вроде как неважно кого: мужчину или женщину, ребёнка или старика. Я читал тогда и думал: «А зачем ребёнка или старуху, они-то в чем виноваты?» Слава Богу, эта идея не нашла поддержки у нашего руководства. Наоборот, как только вступили на территорию Германии, почти сразу вышел приказ Верховного Главнокомандующего, в котором наша армия называлась армией-освободительницей, несущей немцам свободу от фашизма. В приказе четко была прописана линия ненасилия по отношению к мирному населению Германии. Никаких репрессий, никакого мародёрства, мы не оккупанты, а освободители.
Но вы же знаете, что после перестройки стало принято выставлять всю Красную Армию дикарями. Мол, почти все поголовно насиловали, грабили и убивали.
Со стороны наших солдат я не припомню случаев мародёрства и жестокого отношения к жителям Гинденбурга. Во всяком случае, ничего серьезного. Но могу рассказать один курьёзный эпизод. Получил я как-то сообщение, что в пригороде, в восьми километрах от Гинденбурга, «русский генерал» стреляет по курам местных жителей. Сразу помчался разбираться. Приезжаем, действительно, стоит наш военный в генеральском плаще и из парабеллума расстреливает кур. Попросил его пройти со мной в помещение нашей районной комендатуры. Там он вальяжно сел к столу, закину нога на ногу, и под этим плащом я увидел обычные солдатские галифе без всяких там генеральских лампасов. Оказалось, что это подвыпивший сержант - ординарец генерала, надевший его фуражку и плащ… Так что по сути, комендатуры служили для защиты местного населения, охраняли порядок в городе. Причем интересно работала система оповещения. Если в каком-либо из домов города случались инциденты с участием наших солдат, то немки сразу же начинали стучать, либо крышками от кастрюль, либо ложками. И так от окна к окну, от дома к дому сигнал доходил до комендатуры и на место происшествия выезжал комендантский наряд.
Как-то нам поступил сигнал, в одной квартире живут какие-то непонятные военные. Двое в русской форме, но без погон. Приходим туда, там хозяева: мужчина и женщина, сравнительно молодые: «Нет, мы не знаем…» А этот доноситель настаивает: «Вы проверьте, может, они чего оставили». А я даже не знаю, как проводить такие обыски. Стали всё открывать, и нашли три монетки, как сейчас 2-рублевые. – «Это же 20 марок». Я говорю: «Ну и что?» - «Так они же золотые!» - «Ну да». – «Да вы что? Это же мне целый месяц можно жить семьей!» А у него жена и трое детей. – «Ну, на тебе одну!» А для меня что золото, что серебро, я его ценности никогда не понимал. Я даже жене золота никогда не покупал. Единственный раз только, жена брата меня попрекнула: «Что же вы жене не купите кольцо?» Ну, я и купил. Но это уже когда у нас внуки были…
Поэтому с немцами сложились нормальные, рабочие отношения. Жили мы, можно сказать дружно, совместно решали возникающие проблемы. Но всё изменилось в июле 1945 года.
Дело в том, что по Ялтинскому договору эта территория отходила Польше, и все немцы должны были уехать за Одер. Вот тут началось… Вопросами депортации полностью руководили поляки, и они сделали всё возможное, чтобы процесс отъезда с родной земли оказался для немцев долгим и крайне мучительным. Независимо от статуса и состояний, все немцы обязаны были покинуть свои дома, оставить почти всё имущество. Поэтому к нам в комендатуру очень часто стали обращаться немцы с просьбой помочь остаться или уйти в советскую зону оккупации. Помню, к нам обратился мой сосед по дому, профессор медицины. Вся его семья: и жена и дочь были врачами, и не раз лечили меня и других советских военнослужащих. Более того, они относились к нам крайне благожелательно. И этот профессор долго упрашивал коменданта помочь ему остаться в городе или переехать в советскую зону оккупации, но подполковник Агниошвили никак не мог помочь доброму немцу. И как вчера помню, когда к нам пришел сапожник, шивший обувь для советских офицеров. Это был русский эмигрант, поручик белой гвардии. В Гинденбурге он держал сапожную мастерскую с пятью наёмными работниками, был женат на немке. Мы с комендантом вдвоём вышли на крыльцо комендатуры ему навстречу. Ясно помню, как он обратился к Агниошвили: «Господин, комендант!» - «Я не господин, я - товарищ!» - перебил его подполковник. «Хорошо. Товарищ комендант, прошу вас, помогите остаться или попасть в зону советской оккупации. Я ведь тоже русский человек!» Агниошвили ему ответил: «Да какой вы русский? Вы бежали из России, предали её!» - «Но в душе я остался русским человеком!», - сказал сапожник и вдруг, рухнул перед нами на колени. Начал умолять, что если выселить, только в советскую зону. Агниошвили закричал: «Встаньте немедленно! Вы же русский офицер, не позорьте себя!» Но, к сожалению, у нас тогда уже не было никакой возможности помочь этим людям.
В Гинденбург стали массово приезжать поляки, и заселять оставленные немцами дома. Вот тут себя поляки показали… Начали открываться польские кафе и магазины, стали даже продавать мороженое. Но один наш майор из сапёрной части решил полакомиться и чуть не умер. Стали разбираться и в мороженом обнаружили битое стекло...
Потом нам сообщили, что в одном из польских ресторанов устроили настоящий бордель. Комендант отправил меня проверить этот факт. Я переоделся в гражданское и пришёл туда с одним из своих сослуживцев. Да, действительно, не успели мы зайти, как к нам подлетели девицы с «предложениями». Мы посмеялись, посидели для приличия, поблагодарили и ушли. Доложили Агниошвили, а он в свою очередь польскому коменданту. Бордель прикрыли, но с тех пор этот комендант стал посматривать на меня с явной недоброжелательностью. Причём, этот польский майор с самого начала с высокомерием относился к нам и к немцам. Он никогда не снимал перчатку с правой руки и здоровался только левой.
А ведь эта чванливая панская Польша кричала, что у русских фанерные танки. И когда в 39-м наши освобождали Западную Украину и Белоруссию, то их солдаты, действительно, тыкали штыками в наши танки…
Ещё запомнился случай с мельницей. Там работала отличная 4-этажная мельница с автоматизированным управлением, и наше командование решило демонтировать с неё оборудование и отправить в счёт репараций в Россию. Но поляки пожаловались на самый верх, и наш комендант получил письмо от самого Сталина. Мол, мельницу не демонтировать, оставить полякам. Это письмо подполковник зачитывал каждому и с гордостью показывал собственноручную подпись Сталина.
В конце 1945 года я сдал свои обязанности в Гинденбурге, и после отпуска получил назначение в Гросхейдау, это недалеко от Бреслау. Поселился в доме немецкого крестьянина с большим хозяйством. У него своя земля, сельхозтехника. А в конце марта туда ко мне приехала моя жена. Для меня это был большой сюрприз. Я пришёл на обед, и только начал отчитывать одного из своих подчинённых, как тут открывается дверь и на меня смотрит моя Надюша. Она на меня, а я на неё... А лейтенант в это время шмыг за дверь и убежал. Как она меня нашла? До сих пор в голове не укладывается. Там в мае 46-го у нас родился первый сын. Но я к чему это рассказываю?
С этим бауэром у нас сложились добрые отношения, но и эти земли тоже отошли к Польше и постепенно их начали заселять поляки. Однажды захожу во двор, а этот немец зарывает в яму посуду, ещё какие-то вещи. Объясняет мне: «Выселяют нас, уезжаем в Германию… Дали два дня на сборы, а эти вещи хочу сохранить. Вдруг вернёмся…» Он говорил по-немецки, но я почти всё понимал. Через два дня я пришёл проводить их. Они погрузили вещи на тачку и всей семьей отправились на железнодорожную станцию.
А перед самым отъездом он мне признался, что является ефрейтором немецкой армии. Воевал на западном фронте, попал в плен к американцам, но бежал и, переодевшись в гражданскую одежду, вернулся к своей семье, пока ещё шла война. А когда мы жили в его доме, я заметил, что на любую мою просьбу он невольно вытягивался «в струнку»: «Яволь гер официр!» Звал сына и просьба исполнялась немедленно. Нельзя сказать, что по-дружески, но расставание прошло тепло и грустно…
В это время у нас начальником штаба дисциплинарного батальона служил майор Шатоба. Однажды его вызывает к себе командир части подполковник Рыбин и представляет ему первого поляка, переселившегося в Гросхейдау. Оказывается, поляк обратился к Рыбину с просьбой выделить ему землю. Видимо другого начальника поблизости не нашлось. Не имея никаких на это полномочий Шатоба выделил ему четыре гектара понравившейся поляку земли. На следующий день поляк попросил отмерить ещё два гектара, и сразу же установил на своем участке колышки, что эта земля принадлежит ему. Позже он объявил себя старостой села.
В общей сложности я прослужил в Польше четыре года, последнее время служил в комендатуре при штабе маршала Рокоссовского в городе Лигниц. И вот там приключилась такая история.
Работники комендатуры и их семьи жили между собой довольно дружно. Комендант - полковник Процко и майор Измайлов были лет на двадцать старше меня, но жены у нас были почти ровесницы, и дети-ровесники. Так что жены наши сдружились между собой. И вдруг однажды Измайлова вызывает к себе сам Рокоссовский. Вернулся майор расстроенный и злой. Оказывается, Рокоссовский дал ему неделю на сборы и 30 дней отпуска, чтобы молодую жену отвезти, а привезти жену настоящую. И по приезду доложить об исполнении лично.
Позже вызвали и коменданта Процко. Он тоже был вынужден расстаться со своей боевой подругой и отправить её на родину. И сам маршал перевёз в Лигниц свою настоящую семью, жену и дочь. Я часто видел их в театре, на разных спортивных мероприятиях и соревнованиях, проводившихся каждое воскресенье. Дочь маршала очень любила бокс и не пропускала ни одного боя. Она всегда садилась в первый ряд и очень эмоционально, вскакивая и громко крича, выражала боксеру своё отношение, будь то одобрение или недовольство.
И такой интересный случай могу рассказать. В дисциплинарном батальоне у нас служил пропагандист Проценко. Очень грамотный и душевный парень. Он полюбил немку по имени Эмма и у них родился сын, почти ровесник моему Александру. А связь с немкой тогда каралась очень строго, вплоть до увольнения. Но никто из нас, даже командование батальона, его не выдали. И когда поляки выселяли семью Эммы из Гросхейдау, Проценко плакал... Все до единого, вплоть до командира батальона, мы сочувствовали лейтенанту, но помочь ему ничем не могли.
Такой ещё момент могу рассказать. В 1946 году в Лигнице мы получили приказ Министра Обороны о повышении бдительности в частях. Там был приведён в пример случай, произошедший с заместителем командира по тылу одной из дивизий. Со складов в Лигнице он вёз на автомашине обмундирование для своих бойцов. В лесу его остановили поляки переодетые в русскую форму, и отобрали всё, вплоть до личных вещей и документов. Конечно, полковника сразу уволили из армии.
А ещё до этого, в конце 1945 года всему офицерскому составу Советских войск в Германии был зачитан приказ Министра Обороны СССР о повышении бдительности и о запрете на переход демаркационной линии союзных войск без разрешения вышестоящих командиров. В приказе говорилось о командире стрелкового полка, который принимал у себя в гостях британского полковника, тоже командира полка. Вечеринка получилась весёлой, и англичанин пригласил нанести свой ответный визит на следующий вечер, только никому об этом не говорить. На следующий вечер, никому ничего не сказав, наш полковник, по доброте душевной, отправился в гости, где его действительно встретил английский полковник. Но он сразу удалился, а появившиеся британские контрразведчики взяли его в оборот. Долго склоняли к добровольному сотрудничеству, а когда ничего не вышло, перед рассветом просто вывезли на самолете в Англию. Но по счастливой случайности на пустой дороге с аэродрома навстречу появилась машина с советским флажком. Полковник разбил боковое стекло и закричал: «Я советский полковник!» Англичане, конечно, навалились на него, зажали рот, но было поздно. Советская дипломатическая машина развернулась и поехала вслед за ними в Лондон. Дипломаты передали сообщение в Москву, и британцы были вынуждены освободить нашего полковника. В итоге он был уволен из армии без права ношения формы и без выходного пособия. Но если бы не большие заслуги за годы войны, наказание могло быть куда более строгим.
А ведь в 46-м что ли году у нас среди офицеров пошли такие разговоры, что англичане и американцы думают создать свой блок и армию. И мы, молодые офицеры думали, а какая у нас форма будет? Понимаете, воспринимали нас как единое целое! И вот начинаем придумывать, кто какую форму хочет. Потом приезжает лектор, подполковник, ох как он лекции читал, и сообщает нам: «Наши предложения не приняты!» Тогда спрашивается, против кого они объединяются и создают свой военный блок? Так кто же начал эти блоки создавать и против кого? Так что отношения с немцами были чище и честнее, чем с теми же англичанами, американцами или поляками. Как говорится, с такими друзьями и врагов не надо…
А сейчас, допустим, какое у вас отношение к немцам?
Я вот как раз хотел рассказать. В октябре 2002-го года я был делегатом 2-й Международной Конференции Ветеранов II-й Мировой войны в Минске. И вот когда в первый день во время экскурсии в автобусе сидели, проезжаем филармонию, немец слева говорит: «Это мы построили. Я же здесь шесть лет в плену пробыл. Условия хорошие». И видно, что хорошо по-русски говорит. Тогда я спрашиваю: «А в плен, где попали?» - «В Литве». – «А где конкретно?» - «В Байвержишки». – «Что?! А когда?» - «В августе 44-го». А ведь именно в это время моя рота стояла на этом хуторе. – «А каким образом?», спрашиваю. - «Я был механиком-водителем танка, и мы прорвали вашу оборону, но ваши танки нас отрезали». Оказался немецкий писатель. Он хорошо выступал. Рассказывал, что когда они ехали на фронт, то его сослуживцы хвастались друг перед другом сколько кто задавил своим танком детей, женщин, и это считалось как героизм в расправе над коммунистами… - «И я, - говорит, - тоже был воспитан в таком фанатическом духе, и готов был давить всех подряд: детей, женщин, стариков, ведь все они русские… И только в плену к нам пришел обер-лейтенант и стал проводить беседы, приносить газеты от организации «Рот фронт», разъясняя какую мерзость и зверство мы чинили в России. Я поначалу ему не верил, считал пропаганда, но месяца через полтора начал сомневаться – а ведь правда. Что же творит наше правительство? Мы вроде богов, а все люди, оказывается, вроде никто. И, - говорит, - только здесь в Минске я понял, что делал и в чем участвовал…» И особенно в своём выступлении он говорил об отношении советских солдат к немецким военнопленным и немецкому народу вообще. В частности, отмечал, что если бы реально существовали факты массового жестокого отношения, о чем сегодня так громко трубят разные СМИ, то они наверняка были бы описаны в сотнях существующих сегодня мемуарах немецких солдат и офицеров. А таких описаний просто нет. К тому же, у него самого есть собственный горький опыт шести лет плена: «Отношения советских охранников к нам были добрыми. Особенно строго следили за нашим здоровьем медики и военврач майор Анна, которой я очень благодарен».
На этой конференции постоянно присутствовал посол Германии в Белоруссии, он прекрасно говорил по-русски. Даже без акцента, все пословицы наши знал. И когда он выступал в начале конференции, то сказал: «Настало время примиряться!» Потом извинился, что ему надо уйти по делам. Тут я попросил: «Разрешите мне вне очереди! Прошу всего две минуты, пока посол не ушёл!» Вроде как нельзя, но спрашивают меня: «Откуда вы?» - «С Волгограда». Кто-то кричит из зала: «Такого города не знаем!» Я встаю со своего места: «Я из Сталинграда!» – «О, вот так и говори!», и весь зал зааплодировал. Мне предоставили слово, я вышел на трибуну: «Я очень доволен вашим выступлением, господин посол. Вы правильно оцениваете обстановку, только в отношении примирения я считаю, что мне не с кем примиряться. Я воевал не с немцами. Я служил в комендатуре в немецком городе Гинденбург, и мы все важные объекты: склады, продовольственные магазины, пекарню, телефонную и электростанцию, и депо трамвайное, сразу взяли под охрану, чтобы никто их не смог повредить. И у нас на второй день пошёл трамвай. И нам приходилось останавливать проходящие с частями полевые кухни, чтобы кормить из них население. Так что примиряться мне не с кем! Вот я разговаривал с бывшим военнопленным. Он хорошо относится к нам, действительно всё понял, так чего нам с ними примиряться? Воевали мы на фронте, а здесь сидим рядом. А те, кто в земле лежит, это захватчики, и с ними примиряться нечего. Это не мы напали на Германию! Это Германия напала на нас, и мы освободили её от фашизма. Так что это вы можете просить о примирении, а мы нет!» Ну, зал зааплодировал, я пошёл на свое место, тут ко мне подходит посол. С улыбкой пожал мне руку: «Спасибо! Мы ещё обязательно встретимся!» И каждый день мы встречались, общались. Оказалось, что он очень хорошо знает и Волгоград, и губернатора Максюту.
Вы прошли фактически всю войну, в таких боях участвовали, но у вас всего две награды. Не обидно?
Так я же когда воевал? В начале войны, когда про награды даже разговора не шло. Но и потом тоже не очень везло. Вот, например, за форсирование Немана в составе 757-го полка, и быстрое расширение захваченного плацдарма, я был представлен к награждению орденом. Об этом мне по большому секрету сообщил помощник начальника штаба полка. Но каким именно орденом, он сказать отказался: «Пусть это станет для тебя сюрпризом!». Сказал лишь, что командир взвода моей 1-й роты был представлен к ордену «Красного Знамени». И находясь в госпитале в Щучинске, я написал письмо тому помощнику начальника штаба с просьбой сообщить о моем награждении. На что получил ответ, что после того, как меня ранило, командир полка полковник Гонтар приказал ему ехать в штаб дивизии и забрать наградные листы на всех убывших из полка по ранению и на убитых. Якобы для того, чтобы наградили тех, кто остался в полку. Видите ли, слишком много отправили материалов на награждение от полка. Так что он забрал документы, в том числе и на меня. Но любой настоящий фронтовик вам скажет – мы воевали не за награды. Живой остался, вот это есть главная награда.
А на фронте у вас какое чувство преобладало, верили, что останетесь живым, или думали что погибнете?
Я почему-то даже мысли не допускал, что погибну.
Но как сами считаете, что вас уберегло на фронте: случайность, судьба, опыт, Бог?
Видимо уже полученный опыт. Про Бога и то видение в детстве я ни разу не вспоминал. И не помню на фронте никого с крестиками. Я же командир роты, и при помывке всех голенькими видел.
Говорят, на фронте у многих перед ранением или гибелью возникает какое-то недоброе предчувствие. У вас перед ранениями было что-то подобное: дурной сон, плохое предчувствие?
Нет, у меня ничего такого не было. Но перед первым ранением, когда мы в третий раз пошли в наступление на ту деревню, то командир полка … Там бы по уму надо действовать, как-то обойти, ведь немцы сидят в укреплениях, а мы наступаем по открытой местности. И сколько я там положил людей за две атаки, а тут командир полка Штивель гонит в третий раз… И вот я был прямо озлоблен на него, не мог ему этого простить. Гоню людей: «Вперёд! Вперёд!», а сам не верю в успех… (По данным https://www.obd-memorial.ru/ командир 878-го полка 290-й стрелковой дивизии майор Штивель Юзеф Овсеевич 1901 г.р. погиб 7.4.1942 года, и похоронен на городском кладбище в Мосальске Смоленской области).
Тогда я хочу задать вам самый главный наш вопрос – могли мы победить с меньшими потерями? Знаете как сейчас говорят, мол, завалили трупами.
Так могут говорить только самонадеянные люди, которые думают, что военное дело это так себе. А я напоминаю, что нам в училище каждый божий день с утра твердили: «Товарищи курсанты, готовьтесь к войне! Готовьтесь к войне!» И здесь невозможно сказать, что мы не готовились к войне. Я же вам говорю, мой брат 1904 г.р. был призван в 1939 году и служил на западной границе. Но спрашивается, как мы могли с меньшими потерями победить? Как?! Пускай скажут! А я как военный человек, скажу, что мы делали всё возможное. Другой вопрос, что мы не всегда могли поступить иначе. Не было у нас опыта, и финская война это ясно показала.
Но если мы не умели воевать, то как, спрашивается, мы смогли остановить и разгромить немцев, на которых работала вся Европа? Это же какая махина была! Да, кое-где опирались на опыт Гражданской войны, и наступали только в лоб. Такое в начале войны было, и у меня тоже… Но с Москвы мы стали воевать по-другому. Стали обходить, окружать, в том числе и я. Мы ведь незамеченными прошли в тылу у немцев двести километров. Это называется, мы не умели воевать?! Умели! Научились! Смогли! Но кому-то же надо оболванивать нашу молодёжь. Сочиняют всякую чушь и про №227-й приказ, и про заградотряды, и про штрафные роты. Вот у меня два раза соседями были штрафные роты. Несколько дней вместе стояли в обороне, и я беседовал с их командиром роты – старшим лейтенантом. Он рассказывал, что кто на семь, кто на восемь лет осужден, но там ничего такого изуверского не было. Он также разговаривал со своими подчинёнными, как и мы. Только жаловался, что писанины много. Ведь если кто-то отличился, то на него надо сразу характеристику писать. И человек уходит - его освобождают, и судимость с него снимают. И питание у них такое же, как у нас.
А про заградотряды сколько всего наврали? Дошло до того, что разные деятели на всех углах трубят, мол, под Сталинградом войска не отступили потому, что позади них стояли заградотряды с пулемётами. Да где бы они располагались?! Возьмите наш батальон, он же со всех сторон был окружён немцами. Из 870 человек в нем осталось 120, а ведь фронт оставался таким же. Но оставшиеся бойцы стояли насмерть. В жутких нечеловеческих условиях: без еды, но самое страшное, без воды, без патронов... Или ещё пример: передний край обороны 62-й Армии Чуйкова проходил в сотнях метров от берега Волги. Куда там было ставить заградотряды? Да если бы за мной стоял хоть один заградотрядчик я был бы только рад! Я поставил бы его на открытые участки обороны батальона. И вот сейчас это всё муссируется, высасывается из пальца, нагло перевирается…
А эти современные фильмы? Ведь этот Никита Михалков просто издевается над нашей историей! Спрашивается, как же ты, воспитанник советской власти, тем более дворянин из древнего рода, как же ты посмел клеветать и лить грязь на советскую власть? Которая тебя обучила, воспитала, дала такую возможность реализоваться в жизни… Как это можно снимать такую мерзость?! Такой идиотизм снимать это же уму непостижимо… Благодаря таким «художникам» многие наши молодые люди оказались, оболванены этой лжепропагандой Именно поэтому я считаю очень важным заниматься патриотической работой с молодежью. И пока живы – мы говорим правду! Пусть молодежь знает, что их предки не дураки, не идиоты, не преступники, а честные труженики и герои.
В наших огромных потерях обычно принято винить Сталина. Какое у вас сейчас к нему отношение?
Что касается Сталина, то я считал и считаю, что это человек, который укрепил и вывел наше государство на ведущие позиции в мире. А если говорить насчёт перегибов и ошибок. Так у нас же было первое и единственное социалистическое государство. Опыта ни у кого не было. Откуда его возьмёшь? Помощи ни от кого не было, а только вредительство, предательство и шпионаж. Но мы строили государство своим умом и трудом. Вот трубят коллективизация, раскулачивание… Так я ведь вам рассказал подробно, что в детстве, когда ещё существовали личные хозяйства, после нового года наша семья никогда не ела чистый хлеб. Там уже одна мякина, картошка, и всё… И вот что могло наше хозяйство дать промышленности? Да ничего! Поэтому я убеждён, что правильно провели коллективизацию, и с 27-го года страна усиленно развивались. Провели индустриализацию, построили огромное количество заводов. Давайте считать: промышленность, сельское хозяйство, науку, образование, медицину, армию, всё это он не просто поднял, а вывел на передовые позиции в мире! Сумел подготовить страну к самой страшной войне в истории человечества, в которой мы не просто победили, но и всего за пять лет восстановили страну! Сами! Без всякой посторонней помощи! Да ещё сколько помогали новым соцстранам. А самые «свободные и демократические страны» нам только вредили и подножки вставляли. Поэтому Сталин для меня – это гениальнейший человек! Да, были Петр I-й, Екатерина II-я, да, недаром она Великая, но таких руководителей как Ленин и Сталин мир ещё не знал. Он же знал пофамильно и имени отчеству всех руководителей в самых разных областях, досконально вникал в то, чем они занимаются, и направлял их. Разве это не гениальный человек?! А почему был культ? Потому что к такому человеку невозможно не прислушиваться. Но как точно заметил Шолохов: «Да, был культ, но была и личность!»
Но сколько же на него клевещут! А что натворил Хрущев? Просто оболгал Сталина! Умудрился заявить, что Сталин командовал армией по глобусу… И Сталинград он переименовал незаконно! Все это знают и понимают, а исправлять не хотят. Ведь тогда на тракторном заводе три дня шёл митинг, людей убеждали – надо переименовать, но люди так и не согласились. Так почему же сейчас не вернуть это название? Это же не для нас ветеранов, это России слава! Символ величия нашего государства! Если за границей скажешь, что ты из Волгограда, почти никто не знает. А скажешь из Сталинграда - все знают! Весь мир знает, что в Сталинграде решалась судьба войны и всего мира!
Когда президент Медведев приезжал к нам и был на Мамаевом кургане, я его спросил прямо: «Вы же сами понимаете, что для того, чтобы переименовать город обратно, нужна только политическая воля!» Но он ничего не ответил, только плечами пожал… А ведь воля народа есть, у нас собраны миллионы подписей за переименование, так почему нет политической воли?! Я считаю, с такой политикой мы не поднимем страну. Сельское хозяйство загублено… Вот кому, спрашивается, повредили колхозы? Промышленность угроблена! Что сейчас построено? Хоть один завод в Волгограде создан за это время? Нет! А разрушены почти все…
При капитализме главная демократическая ценность – деньги. Ни чести, ни совести, ни порядочности нет при демократии. Нет законов – деньги главное!
Но я всё-таки верю, что найдётся настоящий патриот, который по настоящему дорожит своей Россией, своим народом, который не только название городу вернёт, но и утраченные позиции в экономике. Мы не можем быть политически самостоятельными, не имея своей экономики. Даже Китай и тот намного перегнал нас. А чем мы можем похвастаться? Теми ненасытными миллиардерами, которые грабят, грабят, грабят, и даже в кризисы богатеют? У многих руководителей деньги и недвижимость за границей, поэтому и возмущается народ. Но мы очень терпеливый народ. Мы не можем сравниться с другими, которые за малейшею копеечку сразу шум поднимают.
Но должны же эти чиновники хоть когда-то понять, что их кормит народ! Почему они всё время вставляют палки в колеса? Культивируется культ наживы – богатей, богатей! Рабочий человек перестал быть человеком! Он быдло для новых хозяев жизни… Ну когда же они поймут - не работает эта система у нас! Так почему же твердят категорически – нет, возврата к прошлому нет! А почему не возвратить действительно народную власть?!
Сколько человек в войну потеряла ваша семья?
Нас было шесть братьев: Алексей, Василий, Петр, Владимир, Михаил и Серафим, и пятеро воевали, двое погибло. Пётр погиб под Москвой в октябре 41-го, а Василий под Брестом в 44-м… Самый старший - Алексейвернулся с фронта без правой руки. Мишка был 1927 г.р. его призвали в 44-м, он прошёл курсы шоферов, и успел повоевать в Восточной Пруссии. Старшую сестру Таню расстреляли немцы… В самые первые месяцы войны погиб муж сестры Ани…
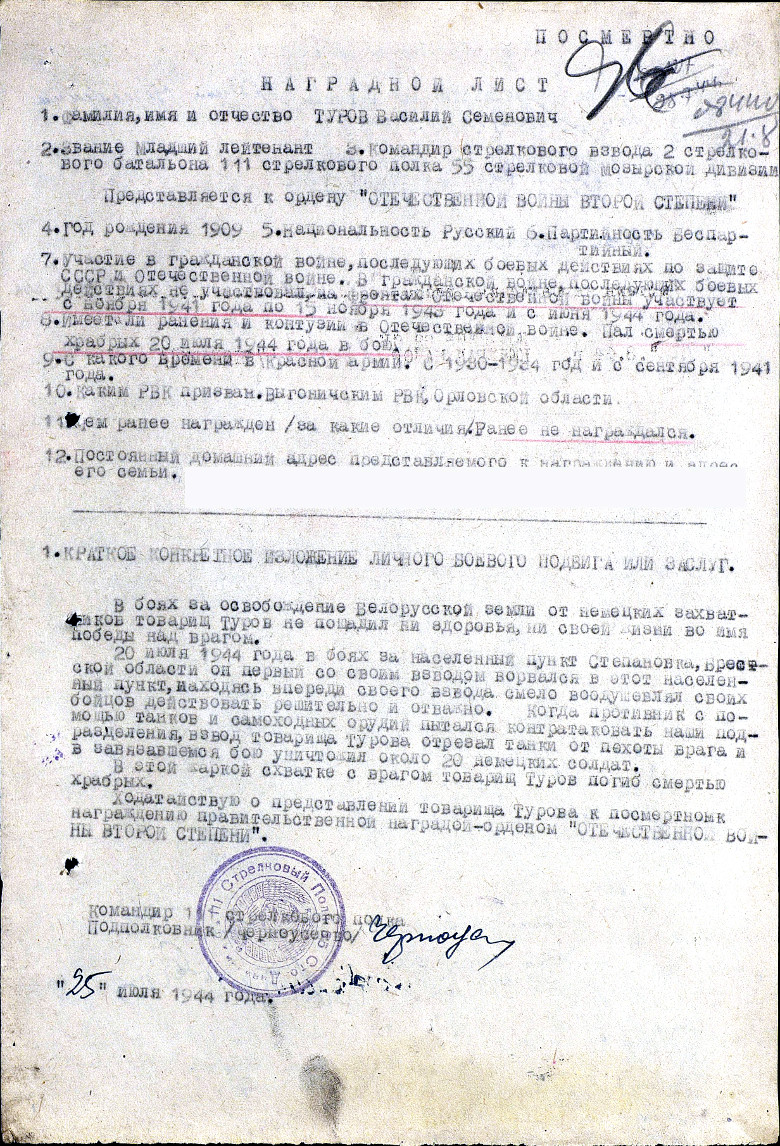 |
|
Наградной лист на погибшего брата |
Как сложилась ваша послевоенная жизнь?
В Польше я прослужил четыре года, а потом поступил в высшую интендантскую школу. Дело в том, что война закончилась, а как вести войсковое хозяйство, как снабжать части, толком никто не знает. В снабжении началась полная вакханалия, вот маршал Василевский и создал такую школу для перспективных офицеров. Меня, правда, три раза приглашал к себе на беседу наш военный комендант – полковник Процко. Я уже рассказывал, что наши жены были ровесницы, хотя ему 53 года, а мне чуть за двадцать. И вот он меня предупреждал: «Туров я прошу тебя, не надо, не ходи!» И когда уже уехал в Ленинград получаю письмо – оказывается, я должен был занять место начальника наружной охраны. Но спрашивается, чего же он мне прямо не сказал? Короче говоря, я не жалею, что окончил это училище.
Учился я отлично, только с одной четверкой окончил, поэтому при распределении мне предложили в Белоруссии подполковничью должность, хотя я был капитаном. Но я отказался, потому что там надо сидеть и перекладывать бумажки. Потом предложили заведовать складом, опять отказался. Я хотел с людьми работать, а на складе же раз-два и обчелся. В итоге попал в воинскую часть, которая стояла в Барановичах. Отдельный полк центрального подчинения – пять с половиной тысяч человек.
После этого служил во Владимировке, где служил Комаров - будущий космонавт, который трагически погиб. Служил в Копьяре, потом на Чукотке. Там на мысе Шмидта на авиабазе стоял полк, радиотехнический батальон и батальон ПВО. И вот однажды бежит дневальный: «Товарищ подполковник, там две подводных лодки всплыли! Я сам видел. Я сам из Владивостока и прекрасно их знаю. А дежурный по роте говорит, что это киты».
Побежал туда, смотрю, да, действительно идут две лодки. Идут на запад. Потом кончились наши постройки, они так медленно-медленно продвигаются вдоль берега обратно. Мы радировали об этом, нам подтвердили, что наших подводных лодок в этом районе нет. Но прилетели два капитана 1-го ранга с рацией, начали вызывать тех, они не отвечают. В общем, проплыли и ушли. Мы двое суток в огромном напряжении, а Москва молчит.
А ещё до этого несколько раз по два американских самолета проскакивали над нами на большой высоте, в батальоне ПВО сразу тревога. Сообщают в Москву – два самолета идут таким-то курсом. Москва постоянно отвечает – «Ведите наблюдение!» А месяца через полтора после этих подлодок собирают весь офицерский состав нашей базы и контрразведчик – майор нам сообщил: «А знаете, зачем приходили эти американские лодки? Вы же каждый день отправляете в Москву сообщения, и в них пишете, что строите объект Ш-18, построили объект С-10, объект Ю-5 в стадии окончания. Но ведь американцы все радиограммы перехватывают, расшифровывают, и прислали эти лодки, чтобы всё сфотографировать». Там же берег низкий, на нём никакой растительности, и всё видно как на ладони. Это я к тому, что сейчас, сколько говорят, мол, зачем мы так вооружались?
Ну а после у меня вдруг схватило сердце. Оказалось, у меня нижнее давление 110, для меня, сравнительно молодого мужчины это было неприятно, и врачи положили меня в госпиталь. А госпиталь же недалеко от моего дома, так на выходные я уходил домой. И вдруг приходит начальник медсанслужбы майор Андреев: «Я увидел, что ты пришёл. Ну как в госпитале?» И вдруг говорит моей жене: «Если хотите, чтобы ваш муж прожил с вами ещё годика четыре, пусть он немедленно увольняется. У него же сердце…» А она же сама медик, тем более женщина, начала на меня наседать: «Немедленно увольняйся! Увольняйся…»
Ну, меня сразу отправили в санаторий. По пути заехал в Москву в управление кадров, а там меня начинают уговаривать: «Ну что вы, послужите ещё… Мы вам подыщем более спокойную должность…» И вот, спрашивается, ради чего он так сказал? Я потом много раз думал об этом, и не понимаю, как можно так говорить человеку? Это же врач! Я считаю это недопустимо, а для врача тем более. Но тогда я естественно послушал его и постарался как можно быстрее уволиться. Но это случилось в 1962 году, а я до сих пор живу. Вот вам, пожалуйста, прогноз врача…
И когда пришлось увольняться, мне предложили на выбор шесть городов: Алма-Ату, Ташкент, Калинин, подмосковный Пушкин, Калининград и Пятигорск. В этих городах я по приказу об увольнении сразу по приезду получил бы квартиру. А если хочу в другой город, то по закону того времени мне обязаны были предоставить квартиру в течение 3-х месяцев. С этими нелегкими мыслями я поехал в санаторий Пятигорска. Заехал погостить к родным в Брянск, и когда уезжал, ко мне в купе подсаживается высокий молодой мужчина. Дорогой разговорились. Рассказал ему, что собираюсь увольняться. Он и говорит: «Так приезжай. Ты же местный, у тебя тут родные. Чего тут думать?» И говорит: «Ты знаешь, кто я? Я 2-й секретарь Обкома партии. Я гарантирую – приедешь, в течение месяца будет тебе квартира. Ну, а если захочешь в хорошем районе, то извини, придется месяца три подождать». Я думал-думал, и всё-таки решил, что надо сдержать то слово, которое я дал себе, ползая по окопам на Орловских высотах. Вернулся в Волгоград, правда, квартиру мне пришлось ждать более полугода. И тут я живу до сих пор, и не жалею, что приехал в ставший мне родным Сталинград.
Мне предлагали разные должности, связанные с торговлей, но я категорически отказывался - ни в коем случае! Пошёл работать старшим инженером в межрайонное управление «Втормет».
 |
|
С женой и сыновьями Александром и Владимиром (1950 г.) |
Воспитали с женой двух сыновей. Есть внуки, правнуки, жизнь идёт нормально… Сам я до сих пор занимаюсь общественной работой. Руковожу городской общественно-патриотической организацией «Сталинград». Стараюсь воспитывать молодёжь в духе патриотизма и преданности своей Родине. Прививаю ребятам моральные ценности и говорю правду, о том, что лично видел и пережил.
Не могу не спросить – в 95 лет вы в прекрасной физической форме, изумительная память, работаете, в чём секрет?
Я не курю, почти не употреблял алкоголь, а с 60-х годов совсем не употребляю, в том числе и пиво, активно занимался спортом. До последнего времени я каждый день вставал в 6 часов утра, 30 минут бегал в любую погоду, а затем 40 минут занимался физическими упражнениями по йоге. Асаны йоги я освоил самостоятельно уже в довольно солидном возрасте.
До этого меня мучили сильные головные и суставные боли, я почти не спал по ночам. И вот тогда по совету приятеля я обратился к йоге. Врачи, жена, ругали меня, запрещали такие занятия, но, несмотря на возраст, перелом шейки бедра и два инфаркта, подкосивших меня, до сих пор иногда занимаюсь. Благодаря йоге, я навсегда избавился от разных болей, у меня нормализовался сон, и я до сих пор в строю. Питание тоже предпочитаю здоровое - меньше жареного и жирного. По утрам - каши с растительным маслом, в обед обязательно первое - лучше борщ. Без сахара, правда, не могу, а вот от соли совсем отказался лет в шестьдесят.
При слове война о чём, прежде всего, думаете?
Мне и в самом страшном сне не могло присниться то, что сегодня происходит в мире и в России. Кто бы мог подумать, что наша страна развалится? Разве мог я хоть на секунду представить, что разные высокопоставленные лица будут высказывать в адрес тружеников и защитников Родины оскорбительные речи под видом борьбы… С кем? С нами? Советскими людьми! С людьми, создавшими народное государство, разгромившие агрессора и уничтожившие фашизм. Разве можно без боли согласиться с тем, что даже символы нашей Победы заменяются безликими именами? А нас, защитников страны даже не хотят слушать… И всё это происходит в самой России и у нас, в городе-Герое, незаконно названном Волгоградом. Это ведь тоже является искажением истории II-й Мировой войны. Ведь воевал Сталинград, и от него началось наступление Советских войск, и после Сталинграда Советская Армия уже не отступала, и в мае 45-го наши солдаты на стенах поверженного Рейхстага с гордостью писали: «Мы из Сталинграда!»
Поэтому правильно говорят, что нашу страну возвеличил и прославил на весь мир Сталинград. Весь мир следил за этой битвой, потому что понимали, если падёт Сталинград, Гитлер пойдёт завоевывать весь мир. Сталинград - это же знамя нашей армии! И даже сейчас весь мир знает город Сталинград. Одна только Франция имеет 77 улиц, парков, скверов, одну площадь в Париже и станцию метро, которые носят имя Сталинград. А у нас такого города нет…
 |
|
В наши дни |
И очень глубоко сожалею, что силы, отданные своему народу, своей Родине в борьбе за свободу народа во время Великой Отечественной войны и после, были попраны лживыми, мерзкими и подлыми кругами, ограбившими и предавшими народ. Поэтому я стараюсь как можно больше встречаться с молодёжью, и рассказать правду о пережитом с детства мной, моей семьей, окружающими и в некоторой степени нашей страной без искажения и без прикрас. Надеюсь, что это правдивое изложение позволит молодому поколению критически относиться к своему прошлому и к тем фальсификаторам истории, которые хотят оболванить народ идеологически, оболгав всё доброе, хорошее, подменив на низкие помыслы, правду на ложь, оболгав дружбу народов, как основу прочности государства, подменив её ненавистью друг к другу. Рассказываю о том, что под руководством Сталина нашему народу в невероятно короткий срок удалось совершить невиданный скачок в своём развитии. И не устаю повторять – «Гордитесь! Гордитесь, ведь вы наследники их славы, славы победителей! Не позволяйте фальсификаторам и негодяям разных мастей оскорблять и лить грязь и клевету на нашу страну и её руководителей!»
| Интервью: | А.Чунихин |
| Лит. обработка: | Н.Чобану |