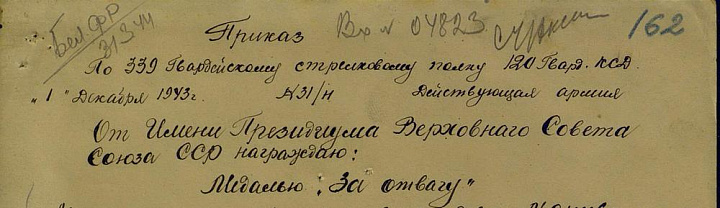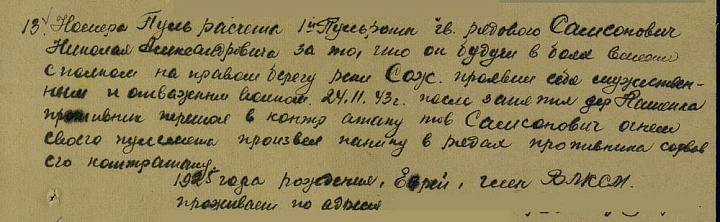Н.С. - Родился 2 марта 1925 года в местечке Оратов. Родители - оба выходцы из бедных семей. В 6 лет пошёл в первый класс украинской школы. В 1932 году семья переехала в г.Ленинград. Отец устроился вахтёром на стройке Молкомбината (Международный проспект, № 65), мама - там же, вначале уборщицей общежития (барачного типа), затем, приёмщицей, в цехе приёма молока. Пять лет жили в комнате в бараке , где соседствовали около сорока семей, и, примерно в 37-ом году, родителям, как стахановцам, выделили отдельную комнатушку, в том же бараке.
В октябре 1932 года мама меня привела в русскую школу, во второй класс. Приняли, потому что решил все примеры, за исключением одного - 20: 2, так как деления ещё не изучал. Во втором классе оставили на второй год. Может, из-за того, что путал украинский с русским, или оттого, что был мал. В Ленинграде в первый класс переходили с нулёвки девятилетними.. Во втором - всем было по десять, а мне - семь.
До сорок первого года успел окончить 9 классов. Запомнился 34-ый год, 1-е декабря -день убийства Кирова. Нас собрали в актовом зале 18-ой средней школы на траурный вечер, сделали что-то наподобие митинга. Помню, что весь этот вечер сидел на полу и дремал. И ещё хорошо запомнилось - начало финской войны. Затемнённый город, я с друзьями - Володей Бессоновым и Колей Родионовым - идём вечерним, заснеженным городом и с гордостью решаем, что молодец наш вождь Сталин, и что сейчас всыплем белофиннам по самые-самые. А потом мы понять не могли, почему весной по Неве на льдинах плыли трупы красноармейцев. Я этого не видел, но так говорили.
Г.К. - Как относились в Ленинграде к переселенцам из Украины и Белоруссии? Что Вам запомнилось из событий довоенной поры?
Н.С. - В начале тридцатых годов в большие города из сельских районов и провинциальных городов западной части страны приехали сотни тысяч людей на строительство заводов, дорог, метро и так далее . Одним словом - "лимита" тридцатых, ютившаяся в окраинных бараках и рабочих общежитиях - казармах ...
Как относились?.. Например, нам никогда не давали забыть, что мы - "жиды пархатые". Особенно в общежитии, где собрались "аборигены" со всего Советского Союза. Меня и моего братишку Изю называли жидёнками, за что обидчики получали по мордасам. Я был драчуном. Маму обижали около "плиты", где варевом занимались около двухсот семей. В одной из школ, (а учился я в трёх - вначале в 69-ой, затем - 59-ой и 18-ой), - меня пацаны преследовали, как еврея. Это было в первой - 69-ой.
Почему-то именно такие моменты врезаются в память на всю жизнь.
Ученик моего же, второго класса, Крохин, с друзьями, на Новый 1933 год, в каникулы, не пустил меня в школьную столовку, где бедноту кормили завтраком - котлета и манная каша. Я топал за этой котлетой километров шесть, от Варшавского вокзала до Литейного и ушёл ни с чем, услышав от Крохина - "Русским жрать нечего, а тут ещё жиды!".
Правда, потом я подружился с Крохиным, он меня научил прогуливать уроки, и как-то привёл в хибарку, жил со своей матерью - дворником. В других школах этого не было. Родители мне дали имя Вениамин-Симхе. А в быту называли Нёмой. О том, что я Вениамин, узнал только, когда пошёл за получением паспорта. А к тому времени меня уже называли Колей, так решили друзья - Володя и Коля. Сказали, что еврейское Нёма - это русское Коля. Я с удовлетворением принял эту перемену. Потому что, когда меня первая русская учительница Полина Ивановна представляла школятам, и я назвался Нёмой, класс так "грохнул" смехом, что пришиб меня. И с тех пор я понял, что еврей и Нёма - это плохо. Может, это впоследствии и угораздило меня узаконить аферу, о чём до сих пор жалею, что вместо Вениамина-Симхе Ароновича стал Николаем Александровичем. Но, слава Богу, фамилию и национальность не сменил.
С Ленинградом связаны не только хорошие воспоминания, но и горе - в 1936 году погиб под проезжавшей машиной мой брат Изя, девяти лет. В 1943 году, январе, в блокаде умерла моя мама, а сестрёнка Дора, пяти лет, была направлена в детский дом.
Отец пропал без вести, под Ораниенбаумом, будучи солдатом.
17 июня 1941 года, после окончания девятого класса, я приехал на каникулы в Оратов, в гости к деду и бабушке. Там меня и застала война.
Г.К. - Как Вы лично восприняли известие о начале войны с Германией?
Н.С. - Не было никакого ощущения надвигающейся трагедии для всей нашей страны. Скорее наоборот, ведь мы были воспитаны "по-сталински": "Если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы:" - бодро и залихватски пели мы эту песню - "... на земле, в небесах и на море, наш ответ и могуч и суров.."., и были уверены, что за два-три месяца война закончится нашей неминуемой победой. В военкомат я не побежал, через четыре дня после начала войны, он сам пришёл ко мне, вернее, за мной.
26-го июня нас всех, подростков и юношей, (по-моему, с 1922 по 1926 годы рождения) Оратовского района с котомками, под командованием майора Бреуса, на вооружении которого состоял револьвер и ручной пулемёт, колонной направили на Восток., и там, как мы все были уверены, из нас быстро сделают солдат, и мы ещё успеем принять участие в разгроме фашистов. Поэтому я не взял чемодан и пальто, с которыми приехал в гости.
А родственникам с апломбом заявил, что через два месяца приеду с победой, заберу манатки, и вернусь в Ленинград, заканчивать десятый класс. А маме, когда она как-то сумела дозвониться в Оратов и попросила, чтобы я срочно вернулся домой, написал архи-патриотическое письмо, и закончил такими словесами: "Некогда думать о личном, когда Родина в опасности!". И потом, в походе, с восторгом читал это письмо своим друзьям.
А те с восхищением слушали и всячески меня нахваливали. Да: я не понимал, как этим письмом ранил самого дорогого человека - маму. Каюсь, но вину свою перед ней ни загладить, ни замолить не могу. Я её больше никогда не видел.
Как я уже говорил выше, она умерла в блокаде от болезни. И виной тому не только блокада и фашисты, но и чёрствые люди. Она лежала истощенная и больная, с температурой, а комендант общежития, некая Лебединская, как я узнал в сорок пятом году, её заставила подняться с постели и идти расчищать снег.
26-го июня, в час дня, колонна, насчитывавшая около "трёхсот штыков", тронулась в нелёгкий путь: В путь тронулись бойко. Долго за нами тянулся шлейф пыли, и шли плачущие матери и родственники. К семи часам вечера мы изрядно устали, и патриотический пыл несколько приугас. Кстати, нам, на выручку, пришёл хороший ливень. Промокли до ниточки, в связи с чем Бреус вынужден был прервать марш (хотя заявлял, что будем двигаться днём и ночью), и расположил нас на ночлег, в одном из ближайших сёл. Заночевали в школе. Классы опустошены, уже не было даже парт, на полу валялись обрывки плакатов, и прочая макулатура. Утром, на построении колонны, Бреус не досчитался трети призывников День выдался жаркий, знойный. С нас лил пот, мучила жажда. И всё же проделали значительный путь, дойдя до Жашкова. Этот город находился от Оратова, примерно, в сорока-сорока пяти километрах. В каждом селе местные жители, с печалью и горечью смотрели на нас, жалели, подкармливали, чем могли - картошкой, молоком, салом, хлебом. Женщины плакали. Вскоре поползли слухи, кто их распускал? - неизвестно, что, мол, на днях шла такая же колонна, и немецкие самолёты её разбомбили, осталось одно лишь месиво. И следующей ночью наша колонна уменьшилась ещё на полсотни "штыков". Маршрут у нас лежал на Черкассы, где должны переправиться через Днепр. Напрямую от Оратова до Черкасс около двухсот километров, но прямой дороги нет.
Мы шли сёлами, полями, лесами. На третьи сутки я, непривычный к таким переходам, затёр ноги. У кого такое было, тот понимает, что это такое. Однако, крепился, не показывал вида: я же готовился стать надёжным защитником страны, тем более, что ленинградец, и старался быть примером для своих друзей в стойкости и выдержке. Поэтому, не утолял голод зелёным горошком, росшим на полях, не пил воду до больших привалов, хотя зверски мучила жажда. Внушал ребятам, что на фронте ещё не такое будет и надо к этому готовиться загодя. Нас обгоняли отступающие подразделения Красной Армии. Однажды, после очередного дождя, мы в одном из оврагов увидели застрявший орудийный расчёт. Тогда я понемногу начал разочаровываться в нашей мощи. Лафет орудия оказался на деревянных колёсах, которые по ступицы погрузли в украинском чернозёме, и шесть битюгов, вместе с артиллерийским расчётом, не могли вытащить его, орудие, из оврага наверх. И тогда мы совершили первый "боевой подвиг" - оказали дружескую помощь нашим боевым товарищам. И очень гордились этим. Не помню, сколько шли до Черкасс, но торопились очень, потому что по сведениям, которые доходили до нас, немец шёл по пятам, кроме того, Бреус опасался, что фашисты разбомбят мост через Днепр, и тогда "золотой фонд", как сразу окрестили нашу колонну, достанется фашистам. Нас не бомбили, но самолёты с крестами барражировали над нами, и армады "юнкерсов", в сопровождении "мессеров", пролетали на восток. Особенно тяжело было двигаться по лесным тропам, зачастую преодолевать топи. В Черкассы мы входили ранним утром, едва засветилась заря. Город, словно вымер, лишь цокот наших ботинок звучал эхом, как пулемётная очередь. Но около переправы все бурлило. Толпы беженцев осаждали группу красноармейцев, охранявших мост. На мост никого не пускали. Мужики крыли матом, женщины и дети плакали, лошади ржали. Бреус с трудом пробрался сквозь толпу, к посту. Начальник охраны, помнится командир с тремя кубарями в петлицах, отдал честь майору. Видно было, как майор его уговаривал, тот долго сопротивлялся, однако согласился. Потом мы узнали, что ожидались воинские части с левого берега, которые должны были занять оборону на правобережье, поэтому и не допускали "цивильных". Нам дали десять минут, чтобы бегом форсировали Днепр, по четырёхкилометровому мосту. Как нам это далось, рассказывать не стану. Наверно так чувствует себя рыба, выброшенная на берег. Так как мы не рыбы, то это чувство трудно передать. За Днепром колонна двигалась не так ретиво. Не больше двадцати километров в сутки. Частенько днём отдыхали. Больше, для конспирации, двигались ночью. Помню, в одном селе дали нам дневной привал, около небольшого озера. За много дней мы искупались, сделали постирушки, благо жарило солнце. Потом наловили раков, у хозяйки, одного из домов, попросили ведро и соли, и устроили настоящий "сабантуй". И снова марши. Миновали очень большие сёла: Чапаевку, Кобеляки и оказались в Кременчуге.
Почему-то так "зигзагировали". Прошли километров триста. По пути теряли друзей и товарищей: потихоньку военкматы выхватывали тех, кто достиг нужного для призыва возраста. Из Кременчуга "паровозом" доставили в Полтаву, оттуда - так же - в Ворошиловград. Здесь колонну расчленили. Часть ребят направили на производства в городе, часть - в колхозы. Мои оратовские товарищи Нисим, Рувим и я, попали в село Колядовка Ново-Айдарского района. Мои друзья вскоре списались со своими родственниками, которые сумели эвакуироваться куда-то в Среднюю Азию.
Я провожал пешком до железнодорожной станции, аж в Новый Айдар. И впереди меня ожидали полтора года крестьянской жизни и работы.
Г.К. - Об этом "тыловом периоде" Вашей жизни есть желание рассказать подробно?
Н.С. - Почему бы и нет, ведь и моя "тыловая жизнь" тоже часть военного лихолетья.
Я прошёл все стадии становления истинного колхозника. От профессионала по очистке половы из-под молотилки, до "аристократической" должности "доставщика" зерна на элеватор. Был и пастухом. Правда, говорят, что в сильный ливень утопил в бурной речушке семь коров, но врут: думаю, что не больше двух.
Сильнее всего, в Колядовке, мне запомнились вывозки зерна в государственные закрома. До Нового Айдара, где находился элеватор, от Колядовки считалось вёрст тридцать. Каждый из нас мечтал попасть на вывозку. Но нам, молодым, как мне думалось, пока не доверяли. Но по мере утечки кадров, стали прибегать и к нашей помощи. С каким восторгом я любовался звёздным небом, когда первый раз был послан на это святое дело. Как хорошо было лежать навзничь на тёплом зерне в бестарке, так назывался воз, похожий на гроб без крышки, и смотреть в бескрайнее небо, казалось, что паришь в лёгкой синеве и хватаешь за рожки месяц. Но потом: На мои плечи взгромоздили "чувал" весом, наверно, с тонну. Я едва дотянул до входа в "лабаз". Но от того, что я там увидел, мне стало нехорошо: эту "тонну", которую с трудом дотянул до склада, нужно было, по деревянному трапу, поднять на восьмиметровую высоту, а там её "опростать". И мне не верилось, что, после всего этого, я вернулся живой за очередной "тонной". Тогда я понял, почему дядя Свирид, пред. колхоза, не посылал нас на элеватор. Такой труд нам ещё не под силу. Возвратились на ток на второй день, поздней ночью, и я завалился под скирду, и, не обращая внимания на попискивание мышей, уснул мертвецким сном. В ту пору для меня любая кочка была родным углом. Правда, дядько Свирид и тётка Секлета, у которых я был на постое, относились ко мне, как к родному сыну. Вечная им память. Постепенно я привык к нелёгкой работе по сдаче зерна государству, помнится как при подъезде к Новому Айдару, который находился в котловане, волы, как скаковые лошади неслись с крутого склона холма к посёлку, того и гляди бестарки с зерном - вразнос. А нам, шестнадцатилетним, это нравилось. Где-то в октябре сорок первого угроза оккупации нависла и над восточной окраиной Украины. Колхоз получил приказ срочно эвакуировать скот. Возглавил группу скотогонов хозяйственник Герасько. Мужичонка лет пятидесяти, с носом кулика, очкарик. С гуртом следовало несколько доярок. Погонщиками назначили нас - пацанов из колонны. Из евреев осталось двое - Миша Дубровинский и я. Миша года на два был старше меня и на две головы выше. Красивый парубок с огромным "шнобелем". Помню ещё Ваню Котенко:Погонщикам дали лошадей. Мне попался старый задёрганный мерин. "Мосол на мосле". Я в жизни не сидел на лошади. Кое-как взобрался на хребет Робеспьера, так я назвал своего четвероногого друга, и мы потрусили. Вскоре я потерял из виду гурт. Остался один в чистом поле. Мой Робеспьер еле переставлял ноги. И каждый его шаг - клин между моими ягодицами. Пришлось сделать больший упор на руки, и, чтобы догнать своих, начал ногами колотить конягу по рёбрам и понукать. После долгих усилий тот поднатужился и пошёл мелкой рысью. Мне показалось, что его хребет вошёл в меня и уже добирается до груди, я закричал - "тпр-р-ру"! Он резко затормозил, и я свалился с него, оборвав верёвочную уздечку. Несколько опомнившись, с трудом поднялся с земли. Очухавшись, взнуздал снова свою "кобылу-жеребца" и пешком мы продолжили путь. На поле, насколько позволял обзор, ни живой души. То и дело попадались огромные бурты проросшего зерна пшеницы. Но даже Робеспьер не стал его есть. С одного из буртов мне удалось взобраться на хребет Робеспьера, и больше мы на рысь не переходили. Поздно вечером конь сам принёс меня к бивуаку. Сердобольные доярки накормили меня и уложили спать в какой-то палатке. Так закончился мой первый рабочий день погонщика.
Постепенно я втянулся и в эту работу. Сменил Робеспьера на ладную кобылку Марту, тем более, что по белому свету бродили бездомные лошади, и научился гарцевать на ней, как всамделишный циркач. Струпья на "опорной плите" зарубцевались, и всё пошло в лучшем порядке. Больше месяца мы гнали скот на восток. Когда нас застал снег, Герасько организовал стойбище. Отрыли несколько землянок. Герасько и его помощник забрали себе по землянке и по доярке. Все остальные, то есть мы, "приблудные" погонщики из колонны, ютились в одной. Брошенных скирд сена в поле было вдосталь, и мы, хлопцы, наворовав сала из огромной бочки, что стояла на одной из телег, как НЗ, жарили на костре шашлыки. А скот пасся у скирд. Неплохая была житуха в то время, когда вокруг грохотала война. Но всё чаще и чаще наведывались чужие самолёты, и мы поняли, что пора уходить. Однако, Герасько об этом и не помышлял. Тогда Миша Дубровинский кинул клич - кто с ним. Я вызвался первым, с нами пошёл Котенко и ещё два парня. В первом же селе мы узнали, что до нашей Колядовки, от которой мы месяц угоняли скот, всего двадцать пять километров. Оказывается, всё это время мы кружили вокруг села. Мотивы Герасько стали понятны.
Несколько дней мы шли подальше от грохота, который слышался у нас за спинами. Еды не было никакой, вскоре наступила оттепель, на полях открылись кочаны капусты, кое - где попадались подсолнухи - этим и пробавлялись. Как-то набрели на военный городок. Невдалеке от него красноармейцы учили собак залезать под танки. Мы подошли к ним, разговорились. Узнали, что так готовят овчарок подрывать вражеские танки. Попросили красноармейцев нас взять к себе. Те посоветовали обратиться к командиру полка. Мишу Дубровинского одного пропустили через КПП. Но он вернулся ни с чем. Командир полка велел идти в Чертково, а мы уже были невдалеке от него, и обратиться в военкомат. Там решат, куда нас отправить.Через три дня мы вошли в Чертково. Снова выпал снег, закрутил мороз. Было начало декабря сорок первого. Над Чертковом летали немецкие самолёты. В военкомате Мишу от нас забрали. Нас же, что моложе, сгруппировали в подразделения, и "паровозом" отправили в Сталинград. Там нас поселили в Красные казармы, так, по крайней мере, местное начальство их называло. Полмесяца строем водили через весь город в какую-то столовую на кормёжку. В последний день распарили в бане. Часть парней, что постарше и посильнее оставили в городе, а всю мелюзгу отправили по колхозам. А я, при двадцатиградусном морозе, в одном летнем костюмчике и разношенных ботинках, правда, была у меня и тёплая "одежда" - кубанка, которую подарил мне дядя Свирид. Поездом нас подкинули до Калача-на-Дону, оттуда пешком мы, тридцать, а, может, и немного больше, гавриков были откомандированы в казацкое, большое селение Мариновку. До Мариновки, наверняка, километров двадцать пять. За нами приехали две розвальни. У кого были пожитки, погрузили на них. Самые слабосильные тоже пристроились. А я, хоть и слабосильный, в лёгком пиджачке, бежал всю дорогу и всё равно согреться не мог. Приняла нас председатель колхоза, расторопная казачка, средних лет. Кажется, её звали Анной, отчества не помню. С постоем мне и на этот раз повезло. Я попал в семью Сбойчаков. Семья из пяти человек - дед Тимофей, бабушка Ефросинья, их дочь Сима, зять Пётр и внук. По давности лет запомнил только своего погодка - Колю Сбойчака, за точность имён остальных членов семьи - не ручаюсь, что непростительно мне, после того, что они для меня сделали. В первый же вечер посадили за общий стол с собой. На сковороде лежал зажаренный заяц, которого накануне подстрелил, как мне стало известно из разговоров, Коля. Вся семья скромничала, глядя, как я уминаю дичь. Мне отвели уютный закуток за печью, было тепло, и "блохи не кусали", и я тотчас уснул беспробудным сном. Проснулся, когда солнце уже палило в задницу. В доме остались лишь бабушка и дед. Бабушка стряпала, а дед занимался скорнячеством. Дед оказался без одного глаза. В быту называется кривой. Где потерял глаз, не знаю. Но думаю, в гражданскую войну на Дону была такая бойня, что было, где потерять глаз. Колхоз нам, "бегунцам" выделил определённый паёк, не очень что бы, но всё-таки. Его мы и получили с Колей. Зиму, в основном, я проторчал около голландки - это такая печь, отделанная вкруговую листовым железом. У меня на шее и спине вспухли около двух десятков фурунколов, не совру, каждый величиной с детский кулачок. Бабушка, царство ей небесное, лечила меня какой-то мазью, после чего я разогревал чирьи около голландки и выдавливал их. Работать в колхозе я из-за этого не мог, но записался на курсы трактористов и регулярно их посещал. Учил нас пожилой тракторист , кажется, Ступин. Дома я помогал деду по хозяйству - чистил от навоза хлев, кормил телёнка и корову. А ранней весной, когда с кормами стало плохо, с Колей бродили по полям и из-под снега выгребали валки соломы.
Так дотянули до весны. Семья, в том числе и я, по тем временам, питалась неплохо. Коля часто приносил зайцев, а зять работал на железной дороге в Сталинграде и часто привозил оттуда сайки хлеба. К весне мы с бабушкой, как-то отделались от чирьев, и я пошёл на практические занятия. А практические были - одна поездка на тракторе по кругу диаметром не больше ста метров. Так мы и сдавали зачёты. Анной и Ступиным мы были аттестованы. Удостоверения нам выписали на клочках бумаги. Десятка полтора парней и девушек, скороиспечённая тракторная бригада. Из опытных трактористов - один лишь Ступин. Вот такую бригаду получил наш механик Лагвей - мужчина лет сорока пяти, прихрамывавший на одну ногу, оттого и не взяли в армию. С наступлением посевной всех нас вывезли на стан и поселили в передвижной фургон. Где были верхние и нижние нары.
Там мы и жили вместе - парни и девушки. Местные парни имели уже своих девушек, и ночами иногда "халабуда" содрогалась от их любви. Некоторых вскоре призвали в армию, и остались одни огольцы, вроде меня, и девушки. Можно себе представить, какую "грыжу" заимел Лагвей, хромая от одного трактора к другому, где трактористы не могли даже крутануть рукоять, чтобы завести заглохший трактор. Земля была ещё сырой, техника "нулевая". Застревала по самые диффера. Я думаю, что Лагвею фронт был бы спасением. В отряде, так теперь называлась бригада, был один ЧТЗ, на нём работал наш учитель Ступин. Остальная техника - десятка полтора колёсных тракторов - ХТЗ и СТЗ, два "белорусса", вроде - НАТИ.. Вся техника не первой свежести, почти полное отсутствие запасных частей. Наша Аннушка, видя, что под угрозой посевная, обратилась в артиллерийский полк, который формировался где-то за пределами Мариновки и готовился к отправке на фронт; как-то сумела договориться с командиром полка, и на помощь пришли гусеничные тягачи. Они не грузли во влажной земле. Радость для Аннушки не стала радостью для наших парней: военные быстро "зафаловали" наших девчат. Однако, посевная была спасена. Месяца через полтора я уже овладел своим "шпористым", мог сделать подтяжку подшипников, отрегулировать магнето и гарцевал на нём, как в бытность на волах. Фронт приближался всё ближе и ближе. Ночью сверкали зарницы, и доносился отдалённый грохот, и мы знали, что это не гроза, а работа артиллерии. О самолётах и говорить нечего: каждый день армады направлялись в сторону Сталинграда, до которого от Мариновки не меньше сорока километров. В начале июля все работы в поле прекратились, и в МТС пришёл приказ готовить технику к эвакуации. Нас, трактористов и прицепщиков распустили по домам, чтобы подготовились к эвакуации. Был тёплый летний день. Я проснулся поздно, бабушка накормила меня пышками с молоком. Я поинтересовался, где, мол, вся семья. Оказалось, что на покосе, готовили сено для коровы на зиму, а мне велели принести им обед. Косили сено километрах в трёх-четырёх от селенья. Я знал эти места. Бабушка собрала обед в туесок (плетёная корзинка с закрывающимся верхом). И отправила меня к косарям. Ярко светило солнце, селение замерло, ни одного человека не видно. Надо оговориться, что Мариновка была богатым селом. Дома сплошь пятистенные,из кондовой сосны, под железными и черепичными крышами. Казаки, в отличие от простых крестьян, жили зажиточно. Хорошо трудились на колхозных полях, и свое хозяйство имели прочное. За околицей селения тянулся глубокий овраг, по дну которого протекала небольшая безымянная речушка. В ней частенько дедушка Тимоха вентерями ловил жирных, очень вкусных, но страшно костлявых, линей. Коля, окончивший тоже курсы трактористов, на тракторе проработал недолго, сломал руку и пока что не был у дел. Зато он привозил мне, на велосипеде, в поле жареных линей. Это так, между прочим, вспомнил я, бодро шагая вдоль оврага, поросшего густым кустарником, где внизу посверкивала речушка. Вдруг услышал нарастающий гул, а затем увидел десятка два самолётов, появившихся над Мариновкой, и тотчас раздался страшный свист. Не успел я сообразить, что же творится, как меня взрывной волной сбросило в овраг. От взрывов оглох.. Немного оклемавшись, я выбрался из оврага. Самолётов в небе уже не было, плато вдоль оврага было исклёвано воронками. До сих пор недоумеваю, то ли немецкие лётчики ошиблись, то ли преднамеренно не стали разрушать такую прекрасную станицу, как Мариновка. А, может, Гитлер дал спецзадание уничтожить меня?! Шутка сквозь слёзы?! Испугался ли я?! Не успел. Правда, до этого уже приходилось бывать под обстрелом самолётов. Но обед своим косарям всё-таки доставил вовремя, хотя сам был страшно исцарапан и испачкан. Я, конечно, рассказал косарям, что случилось. И не преминул похвастать, какой храбрый. И тут же подумал, а как мои родители и сестрёнка, которая родилась через год после гибели Изика?! Их же бомбят каждый день и не по разу. Я о них никогда не забывал, и мне было больно думать о них. Напряжение на фронтах нарастало, доходили слухи, что бои идут уже на подступах Дона, где-то около хуторов Вертячем и Гнилом, может и не так назывались селения, но так доносили слухи. Вскоре в колхозе начался делёж зерна между колхозниками, чтобы оно не досталось врагу. Я, на свои трудодни, получил мешок отборной пшеницы, и с гордостью передал её моим вторым родственникам.
Насколько помню, в первой половине июля наш отряд тронулся в путь. Голову колонны, на ЧТЗ, возглавлял сам Лагвей (Ступин уже где-то воевал), замыкали колонну Ваня Котенко и я. Наш с ним колёсник тащил две бестарки. На переднем возу лежали мешки с мукой (то ли десять, то ли пятнадцать, не помню, но много.) для нужд отряда. На втором - бочки с керосином, лигроином. Фактически наш, с Ваней, обоз имел для отряда стратегическое значение. На других тракторах - между головой и хвостом, сидели трактористы слабее нас с Ваней и девчата. Одна из них, красавица Маруська, была зазнобой Ваньки. У меня зазноб не было, был ещё зелен, тем более, что ещё с седьмого класса безответно любил одну соученицу - и только о ней и мечтал. Война подключилась сразу. Самолёты постоянно вились над нами, особенно мессершмиты. Помню, остановились как-то на большой привал в одном овраге, чтобы привести в порядок технику, пролетали два мессера и открыли по нам огонь. Правда, всё обошлось. На третьи сутки довольно близко подошли к Сталинграду, потому что хорошо слышалась бомбёжка. Уже появились траншеи, очевидно первая полоса обороны, которая пустовала, и не было видно ни одного красноармейца. Наш трактор забарахлил, и мы отстали от нашего отряда. Принялись с Иваном искать причину неисправности, и вдруг появились самолёты. Ваня хотел залечь около трактора. Но я его потянул к траншеям. Едва успели нырнуть в них, как раздались взрывы. Когда самолёты улетели, вернулись к трактору. Около него зияла воронка, и вокруг валялись осколки. Осколок пробил и бензиновый бачок. Ваня понял, что я был прав, не подвела интуиция. Иначе нас уже не было б. Вскоре отремонтировали трактор и тронулись в путь. А ещё вскоре нас догнал грузовик, кузов полностью заполняли красноармейцы. Они забрали у нас бочки с лигроином, сказали, что немцы прут следом и предложили нам пересесть к ним. Но мы не могли, потому что везли горючее и муку для своего отряда. Грузовик исчез, а мы продолжили путь, надеясь догнать отряд. Солнце клонилось к закату, но отряд так и не догнали. Зато догнали разрозненную массу, так называемых, в ту пору, окопщиков. Это были старики, для нас с Ваней, потому что людей старше сорока мы считали уже стариками. Они пытались преградить нам дорогу, и не просили, а требовали муку, которую заметили по забелённым мешкам. Кое-как отбились от них и подъехали к перекрёстку дорог. Одна шла направо, другая - налево. Наугад поехали по левой. И тут на нас налетело два двукрылых самолёта, очень похожих на наших ПО-2 (кукурузников). Чуть ли не колёсами пытались давить окопщиков. Мы с Ваней испугались, заглушили трактор, отбежали от него метров на пятьдесят и залегли в выжженном от зноя травостое. Когда двукрылые стервятники улетели, мы поднялись и, с трудом поверили своим глазам: на бестарках хозяйничали те же самые окопщики. Пока мы добежали - не осталось ни единого мешка, не оказалось и нашего с Ваней личного имущества,"выходной" одежды, сумки с едой: Я остался в промасленных, брезентовых брюках, лёгкой рубашонке. Мне подвернулась лопата, и я кинулся за грабителями, догнал одного, замахнулся, он закричал, чтобы я его не бил. Тогда я отобрал у него ещё добротную шинель, английского сукна. Вот и вся одежда, что осталась у меня. Мы попытались завести трактор, но лигроин забрали вояки, из пробитого бачка вытек бензин. На одном керосине ХТЗ не заведёшь, муки для отряда нет, а на горизонте всё ближе и ближе поблескивало, и мы с Ваней, сняв магнето, пешком пошли догонять своих ребят. Потом мы узнали от Маруси, что отряд пошёл по правой дороге, и ночью его остановили фашистские танки. А что дальше было, она не знает, потому что побежала, куда глаза глядят. Двое суток мы шли по пыльной дороге, на ней виднелись следы от тракторных шпор, и посчитали, что идём в правильном направлении. Есть у нас нечего было, на полях тоже ничего съедобного. Селения, если и попадались, то никто нам ничего не давал. Это не Украина сорок первого. На третьи сутки, чуть живые, догнали тракторную колонну. Но это был не наш отряд, а МТС. Замполит, а в МТС была и такая должность, не помню его фамилию, но симпатичный и добрый мужчина, единственный, кто пожалел нас и помог, чтобы не умерли с голоду, дал нам кирпичик хлеба. Правда, я потом по-свински "отблагодарил" его. Об этом ниже. Через двое суток наша колонна, теперь уже "наша" подошла к переправе через Волгу. Название села, откуда мы должны переправляться, не помню, а куда - помню. Это село Луговое. Мы вышли к Волге выше Сталинграда. А ниже по течению, на горизонте, клубились облака дыма, оттуда доносился глухой рокот. Было понятно, что бои шли в Сталинграде. Над нами то и дело пролетали немецкие самолёты, мы уже по рокоту их распознавали. Нас пока не трогали, потому что технику замаскировали в густых зарослях и древостое, близко примыкавших к Волге. Как-то будет на реке, где уже готовились плоты для переправы комбайнов, молотилок, тракторов и другой техники?! Тут - то и встретилась нам Маруська. Она бросилась к Ивану, они стали целоваться. От неё мы и узнали о захвате нашего отряда. Она же рискнула убежать, потому что искала Ивана. Сейчас я понимаю, что переправляться надо было бы ночью. Однако, тогда начальство решило по-другому. Очевидно, опасалось, пока дождёмся ночи, немцы могут прорваться и к нам. Я переправлялся на плоту вместе с молотилкой, и едва не перевернулся вместе с ней. Одна колодка выскочила из-под колеса и её развернуло. Хорошо, что переправлялись два здоровых мужика, они чудом сумели не дать ей скатиться в реку и нас увлечь за собой, ну и я, конечно, помог. Не припомню, кто и как меня пристроил в бригаду, где руководителем был механик Владимир, а помощником у него тракторист гусеничного трактора ЧТЗ Барабаш - это его фамилия, имени не помню. В бригаде, кроме гусеничного, пять колёсных тракторов. Владимир и Барабаш - мужики в годах, лет по тридцать пять. Остальные ребята молодые, может, на год-два старше меня. Все они с Западной Украины. Володя, на вид добрый, приветливый человек, отнёсся ко мне по-отечески. Барабаш - одноглазый, живой глаз жёлтый, злой.
В управлении колхоза работала комиссия, под чьим руководством - не знаю. Нас вызывали по одному, спрашивали, есть ли у нас претензии к прошлому руководству МТС. Для чего это - не знаю. Когда я собирался войти в кабинет, где заседала комиссия, меня отозвал в сторону Барабаш, и сказал, что замполит, тот самый, что спас меня с Ваней от голодной смерти, присвоил себе целую бестарку пшеницы - около тонны, а, может, и больше, и я имею право на определённую долю. А без хлеба сейчас пропаду, да пшеницу и продать можно, и заиметь много денег. Поэтому надо заявить претензию. Я отнекивался, но в конце-концов он меня уговорил. И мне до сих пор стыдно за ту подлянку, что совершил. Хлеба мне, конечно, не дали, потому что у замполита его и не было, пристыдили. И с этим я ушёл. Куда девались Иван и Маруся я не знал. Нашу бригаду загнали на самый дальний стан, от Лугового в двадцати пяти километрах. Здесь находилась полевая бригада. Она жила в большом деревянном бараке. Была здесь небольшая кухонка, был амбар, где хранилось посевное зерно, крытый ток, отдельная хибара, там жил бригадир стана Баглай, со своей то ли женой, то ли сожительницей. Бригада Владимира осталась в своём передвижном фургоне. Для меня там места не нашлось, и я устроился на верхних нарах в бараке, со мной, там же, проживал местный комбайнер. Очень хороший парень лет двадцати пяти. Его тоже звали Иваном. Он сразу взял надо мной шефство. Я был совершеннейший оборвыш. Мои единственные штаны не только промаслились, но и продырявились на самом неприятном месте, на ширинке. А рубашка совсем вышла из строя - одни лохмотья. Иван выпросил у одной из женщин полевой бригады ночную хорошо потрёпанную, на выброс, домотканую сорочку, без правого рукава, оторвал нижнюю часть, а из верхней, где выделялись чашечки для грудей, соорудил мне рубашку. Так я и щеголял в этой обнове. Ну что ж, не в светское же общество мне в ней появляться! Единственная добротная вещь, что оставалась у меня - отвоёванная у окопщика шинель. Лёжа на голых досках нар, с головой накрывался шинелью, и по её швам уничтожал вшей, пока не засыпал. Кормёжка была по-колхозному проста: утром, чуть свет, супчик из "обрата" - это сыворотка, которая остаётся после переработки молока. И чаёк без сахара и заварки. Сыворотку нам привозили из МТФ (молочно-товарная ферма), что находилась от стана, примерно, в двенадцати километрах, как раз, на полдороге к Луговому. На обед - кашица из пшеницы. На ужин супчик из пшеницы, где зернинка догоняла зернинку. Хлеба выдавали четыреста граммов. Бригада Владимира питалась отдельно. Что они ели - не знаю, но у них жила приблудная корова, которую привезли с той стороны Волги.
Шла уборочная. Агрегат из двух комбайнов тянул ЧТЗ, ведомый Барабашом. На заднем комбайне стоял комбайнер Ваня, на переднем - штурвальным - я. Иван меня понатаскал, и я усвоил эту специальность. Остальная техника стояла из-за отсутствия горючего. Чем занимались ребята Владимира - не знаю. Со штурвального мостика мне виделись на горизонте густые облака дыма, вздымавшиеся ввысь. Там шли бои в Сталинграде.
ЧТЗ часто ломался и пока Барабаш ремонтировал, мы с Иваном сидели на хедере и, сняв рубашки, били вшей. Барабаш раньше успевал отремонтировать трактор, чем мы расправиться со своей "живностью". Иногда вечерами, на бричке, приезжала к нам учётчица, замерить скошенную площадь. Девушка такой красоты - с ума сойти! Я взирал на неё в "четыре глаза", но с мостика комбайна не сходил, потому что у меня из прорехи светило то, что не всегда гоже видеть женщине, а девушке - тем более. Вскоре Ивана призвали, уходя, он мне подарил свои рубашки и брюки, хоть и велики, но зато - исправны. Мы расстались с ним, как родные братья. По окончанию жатвы Владимир посадил меня на трактор, даже не дал прицепщика, и я один и единственный, из тракторной бригады, поднимал "пары", всё по той же причине дефицита горючего. Сталинградские степи безбрежные. Гон не меньше трёх километров. Не помню, как уж я добирался до деляны, но то, что пахал от рассвета до вечерней зари, под знойным солнцем, с пустым желудком - это помню прекрасно. Но я не унывал. Всю дорогу пел песни... Наступили промозглые осенние дни. В один из таких дней пришла повестка и на Владимира. Бригада, теперь уже под руководством Барабаша, устроила ему богатую, по тем временам, отвальную. Зарезали ни в чём неповинное животное - их единственную кормилицу, и устроили пир. Пригласили даже меня. Я забыл уже вкус мясного навара, а о мясе и говорить нечего. После такого пиршества неделю бегал в определённое место.
Всю технику перегнали в Луговое, на сезонную профилактику. Там находилась наша МТС. Полевая бригада вернулась на зимние квартиры, на стане остался Баглай со своей сожительницей и я. Но вскоре из Лугового прислали пять наших ребят, в смысле эвакуированных, вроде меня, допризывников. Я быстро возглавил эту команду, и подружился с самым младшим - Володькой. Правда, был среди них и заводила, не помню, как его звать, назовём Митькой. Но старшим назначил меня Баглай, и Митька, скрепя нервы, подчинялся. Наша задача состояла в том, чтобы с утра до вечера, с небольшим перерывом на обед, веялкой очищать семенную пшеницу и развозить по другим полевым станам. Кроме нашего стана, центрального, были ещё два, поменьше. До них, в разные стороны считалось около семи вёрст. Выпал снег и зерно развозили на санях, запряжённых волами. Хлеба нам уже не давали. На каждый "нос", в дневной паёк, Баглай выдавал не то двести, не то двести пятьдесят граммов пшеницы. Его дама готовила нам из неё кашицу. Баглай как-то меня спросил, сколько у меня трудодней, и почему я не требую у председателя колхоза, чтобы меня рассчитали. Есть приказ Сталина трактористам обязательно выдать по три килограмма зерна и по три рубля на каждый трудодень.
Я сказал, что не в курсе, и ничего не знаю. Тогда он меня хорошо "настропалил" и отправил в Луговое. В бухгалтерии колхоза я узнал, что заработал сто десять трудодней. Три дня я ходил за председателем. Но я был патологически упрямым или настойчивым, как хотите, считайте. Не буду рассказывать, что у нас с ним было, но, в конце концов, угрозой, что дойду до самого Сталина, я его донял. Хотя, это мои домыслы, просто глядя на меня, оборвыша, он, наверно, сжалился. Мне выписали триста двадцать кг. ржи. Двадцать пудов! В то время - целое состояние, кто понимал! А я не понимал. В кладовой выскребли все сусеки, и набрали мне три центнера. Двадцать килограммов зерна я пожертвовал бухгалтеру. Он меня попросил, показывая на культяпку руки. Стою у складов с мешками, думая, что с ними делать. А тут сразу и друг сермяжный нашелся. Некий Котельников - механик МТС, невидный мужичонка, прихрамывавший, как наш Лагвей. Механик живо раздобыл тележку, мы на неё погрузили, не помню, пять или шесть мешков ржи и повезли в дом, где тот стоял на постое. Там жила женщина с восьмилетним, кажется, ребёнком. Муж её воевал. Сгрузили мешки в дом, хозяйка приняла меня приветливо, и живо начался бартерный обмен: надо же одеть меня по-человечески! Она нашла неплохой, хоть и изрядно поношенный полушубок, с немного надорванными рукавами. Вместе с Котельниковым надели его на меня. В восторге чуть ли не зубами цокали, что шит, мол, прямо на меня и запросили скромную плату - два пуда зерна; нашлись и старенькие ватные брюки - всего за пуд, и пошло: Я проторговал два мешка, зато был одет "с иголочки", и теперь мне чёрт не сват, зима не страшна! Это так, к слову пришлось. Но зато, у меня теперь, в Луговом, появилось надёжное прибежище. Баглай с подругой и ребята были поражены моим преображением, когда я возвратился на центральный стан. Дня через три приехал нарочный, о чём-то переговорил с Баглаем. После чего Баглай вызвал меня. Велел выбрать себе помощника, вместе с ним на возке нарочного отправиться в распоряжение председателя сельсовета для выполнения важного задания. Я взял с собой Володьку. Точно сейчас не помню, то ли на пароконных розвальнях, то ли на телегах, мы с Володькой поехали в распоряжение тоже председателя Совета, кажется, селение называлось Рахинкой, а, может, и не Рахинкой. Дело давнее - ноябрь сорок второго. Я уже умел управляться лошадьми. Запрягать, ухаживать за ними, вовремя накормить напоить и т.д. Володя пересел на моё транспортное средство, его лошади не отставали. Я за пуд ржи выменял полкило масла, хлеб нам на дорогу выдали в колхозе, и сейчас мы с дружком пировали. Надо же - чистое сливочное масло, которое нам и во сне присниться не могло. А я вот не только во сне, наяву его ел и кормил своего напарника. Я богач, я всё могу! Первый раз в жизни заработал такое богатство своими руками! Гордился, а Володька смотрел на меня с обожанием. Тогда он был готов за меня, что угодно сделать, хоть в петлю залезть! В Рахинке, или не в Рахинке, мы неделю эвакуировали целые семьи, с пожитками, из селения на полевые станы, в поле. Видно, опасались, что бои из Сталинграда перекинутся сюда, или боялись бомбёжек. Кроме нас здесь работали передвижные средства и из других районов. Через неделю отпустили. Там кормили плохо, жили впроголодь. На обратном пути собрались переночевать в каком-то селе, чтобы дать отдохнуть лошадям. К нам подошла молодая женщина и попросила перевести её скарб в поле, не очень далеко. Мы отказались, потому что свою задачу выполнили и торопились "домой", да и есть нам нечего было. Тогда она обещала нас накормить хорошо, и ещё на дорогу обеспечить провизией. В конце концов уговорила. Дома у неё был мужик. Вместе с ним мы нагрузили столько скарба, что лошади еле везли. Как раз в эти дни потеплело, снег растаял, дороги развезло: Да, всё-таки мы ехали на телегах, а не на санях. "Недалеко" - оказалось километров пятнадцать, в поле. Часа четыре тащились туда. Там оказалась одна лишь землянка, ни одного жилья поблизости. Помогли этой паре разгрузиться и занести скарб в землянку. Хозяйка велела подождать на улице, куда она выйдет и рассчитается с нами. Целый час прождали её, продрогли, но та не появлялась. Я попробовал открыть дверь. Но дверь оказалась на запоре. Колотил по ней, но отклика не последовало. Хотелось вышибить. Но как, и чем?! Она, видать, дубовая. Так ни с чем и уехали. Отчитавшись перед председателем сельсовета, вернулись к Баглаю, на пшеничную кашицу. Правда, я у своей хозяйки, где стояли ещё мои два с половиной мешка с зерном, за полпуда выменял два каравая хлеба, которым и угостил всю нашу команду. Вскоре снег окончательно залёг на зиму. О том, что творится на белом свете, как идёт война, мы никаких сведений не имели. Только то, что узнали в Рахинке, то и рассказали нашим однокашникам и хозяевам. Бои, мол, под Сталинградом, идут самые страшные, и, видать, немцы переберутся за Волгу, если идёт эвакуация уже и с левобережья. В один прекрасный, зимний, солнечный день, я запряг волов, ребята на сани погрузили чувалы с семенной пшеницей, и я тронулся в путь. Волы лениво вышагивали так, словно продавали каждый свой шаг. А я и не торопился, так же, как и волы. Семь километров до малого стана одолеем часа за три, обратно - столько же, и день к вечеру. Вначале покрикивал "цоб-цэбэ", потом стал мурлыкать песни и немного вздремнул. Очнулся, когда мои волы резко затормозили так, что затрещали ярма. Я спохватился и: не помню сейчас, какое чувство тогда меня охватило. Страх, изумление, растерянность?! Только не любопытство. Метрах в тридцати, перед нами, гуськом неслась стая волков. Они неслись нам на перерез. Я насчитал семь голов. Может, если бы они неслись на нас, я бы их и несчитал. Вскоре "незваные гости" скрылись из виду, и мы продолжили путь. Больше происшествий не произошло.По возвращении на стан доложил Баглаю о случившемся. Он сказал, что у волков был гон. У волчицы течка, и стая играла свадьбу, иначе вряд ли бы яс ним сейчас беседовал. Впредь, при подобном случае, надо немедленно распрячь волов. Они защитят себя и седока.
Во второй половине декабря на стан, мне и моей команде, за исключением Володьки, привезли повестки. В течение трёх суток явиться на призывной пункт, в районный центр, Нижнюю Пролейку. От Лугового - километров восемнадцать-двадцать, так кажется. В тот же день, около двух часов дня я повёл команду в Луговое, до которого, уже говорил, насчитывалось около двадцати пяти, говорили местные, вёрст. Баглай меня отговаривал: зимний день короток, да и начинало вьюжить. Завтра, мол, с утра пойдёте, как раз к вечеру и дотопаете. Так же настаивал и Митька. Но я был ужасно вреден. Решил - и баста! Ребята меня послушались и мы, собрав свои манатки, которых почти и не было, тронулись в довольно рискованный путь. Поначалу шли бойко. Но постепенно вьюга усиливалась, ветер не попутный, а дул в лица, становился всё сильнее, всё чаще и чаще теряли твёрдую тропу под ногами, которую быстро заносило снегом. Часа через четыре сгустились сумерки, а ещё, минут через тридцать, наступила полная темнота. На небе ни звёздочки, да и неба за пургой не видно. Вскоре в стороне от тропы сверкнул огонёк, то была МТФ. Значит, полдороги позади. Это подняло настроение. Однако, на развилке, моя группа остановилась, и Митька, соперник, по "власти", заявил, что дальше в такую круговерть идти бессмысленно, и он повернёт на ферму, где переночует, и доярки ещё и напоят молоком. Остальная команда молчала, ожидая, что скажет старший. Я же, в пику Митьке, заупрямился и сказал, что продолжим путь. Хотя и сам колебался. А Митька шёл уже по направлению к ферме, и группа, ослушавшись меня, последовала за ним. Я остался на месте, пойти следом - значило потерять свою значимость "атамана". Крикнул вдогонку предателям нелестные словеса, упрямо зашагал навстречу усиливавшейся буре. Через некоторое время воротился Володька, догнал меня и разнюнькался. Он бы, мол, пошёл со мной, но не такой смелый и решительный, как я, поэтому просит его простить. Я его не простил, но он всё же побежал к ферме.А я шёл. Куда торопился?! К родимой мамочке, к жене, к любимой девушке?! Кто меня ждал в Луговом?! И сейчас думаю, какого чёрта попёрся?! Но "попёрся" из спеси, что едва не стоила мне жизни. Ночь темна, ветер валил с ног, снег порошил лицо, забивал глаза. Первые километры меня несла обида и злость. Но постепенно усталость давала знать. Я даже не подумал, отправляясь в своё дурное "соло", что могу стать добычей волков, которых в степи шлялось предостаточно. Становилось всё труднее и труднее нащупывать твердь дороги, всё чаще стал с неё сбиваться и пробираться по колено в снегу. Темп ходьбы всё замедлялся и замедлялся. Сколько прошло времени от распутья, где расстался с друзьями, не знал, но понимал, что много. Я уже не помню, то ли шёл, то ли полз, но, о содеянном, не раскаивался. Мне казалось, что вот-вот свалюсь от усталости, и уже теряю сознание: И наступил момент, когда я "пал"! Меня замуровывал снег, меня морил сон, и я стал засыпать: Последними усилиями разлепил веки, бессмысленным взглядом окинул небо и увидел длинные светлые полосы, и тотчас поднялся на ноги. Понял, что находился на самом краю плато, откуда спускался склон к Луговому, а полосы - от фар машины. Луговое расположилось в распадке, спускавшемся к Волге. С трудом переставляя ноги, я добрёл до дома, где квартировал Котельников. Долго стучал в одно из окон, пока услышал недовольный голос хозяйки. Жаловалась, что кого-то носит чёрт, в три часа ночи. Потом сделала вид, что обрадовалась: "А, это ты, Веня?! Проходи". Я скинул полушубок, постелил на полу, накрылся шинелью, которую оставлял тут, у хозяйки. И успел только подумать: "И ради этого, ты нёсся сюда?!" И отключился до утра. Проснулся, когда солнце смотрело в окно, обул стоптанные валенки, за которые ушло два пуда ржи, надел шубу, купеческую, кубанку и пошёл в управление колхоза, куда нам было приказано явиться. На прощание сказал хозяйке, что меня призывают в армию, и прошу её, чтобы приготовила что-нибудь с собой, на путь следования к части. На дворе было солнечно и тихо, от ночной пурги и следа не осталось. Едва подошёл к правлению, как явились мои ребята, словно огурчики. Удивились, что я живой, и, перебивая друг друга, принялись хвастаться, как их встретили доярки, и как их кормили, поили молоком: и всё прочее. Вскоре явились председатели колхоза и сельсовета, какая-то старая женщина большевичка, с нами провели агитбеседу, пожелали успешно разбить врагов. Дали сутки на отдых, а утром, назавтра, явиться всем в управление для отправки в Нижнюю Пролейку. Я вышел на крыльцо и нос к носу столкнулся: с Ваней Котенко. Мы замерли, разглядывая друг друга. Потом разом воскликнули - Ванька-Венька! Не стали обниматься, целоваться, как в таких случаях трактуют романы. А обрадовались от души - это точно! Наши обветренные рожи расплылись в улыбках шире щёк. Оказалось, что Ванька остался на правом берегу Волги, назвал село, названия которого я не запомнил. Там, вначале, он работал агрономом в колхозе, а потом и сейчас - председателем. Я удивился и спросил, не учился ли он сельскому хозяйству, что так вспрыгнул?! Он рассмеялся и сказал, что вырос на земле, и никакой учёбы ему не нужно. А председателем его сделали потому, что в колхозе, кроме баб и маломощных стариков, мужиков не осталось. И прибыл сейчас сюда, чтобы кое-что выпросить у председателя нашего колхоза. А я ему сказал, что завтра призываюсь. Он меня тотчас пригласил к себе на ночь. Я особо отказываться не стал: мне не очень-то хотелось идти в не очень приветливый дом, и очень хотелось побыть вдвоём с Иваном. У нас есть, о чём поговорить. Договорились, что в четыре часа вечера встречаемся здесь, около управления. Оставшееся время я позвал с собой Володьку заглянуть в МТС. Там встретил Котельникова. У меня с ним были самые дружеские отношения. Тот пожурил, что убежал, не позавтракав, хозяйка настряпала пышек. Спросил, что думаю делать с оставшимся зерном. И если ему доверяю, то он присмотрит за ним. А когда, после войны вернусь - оно никуда не девается. Я с ним согласился. Хотя оба знали, что сюда уже никогда не вернусь. Я подвёл Володьку к своему трактору, и, как бы негласно, передал его ему с рук на руки.В четыре вечера я был около управления. Ванька меня уже ждал. Мы спустились к Волге. Она сплошь была усеяна торосами льда, в которых искрами дробились лучи заходящего солнца так, что от этих разноцветов слепились глаза. А посмотришь вниз по течению - словно золотое руно стелилось по Великой реке, а над ним голубое небо, чуть-чуть подправленное белыми мазками кучевых облачков, ну прямо картина Репина. Прыгая с тороса на торос, мы перебрались через Волгу. Смеркалось, когда подошлик Ванькиному дому. В сенцах пахло свежеиспечённым хлебом, от духа которого почувствовал, насколько голоден, и подумал, что Иван, наверно обзавёлся тут бабёнкой, раз единственный мужик на селе. Он толкнул дверь в избу, я - за ним, при свете керосиновой лампы: нет, я второй раз, штампом говоря, потерял дар речи. При тусклом свете каганца узнал красавицу Маруську, цветастый фартучек ловко охватывал её ладную фигуру. С ней уж мы облобызались. Мы хорошо отметились "дружеской" самогонкой, долго и много говорили, было что рассказать им мне, мне им. Прощаясь, Маруська прослезилась, пожелала мне уцелеть в войне. На прощание они мне дали огромный каравай хлеба. Сейчас думаю, почему я не им подарил те мешки с зерном, что оставил Котельникову, с его сожительницей. Но мы всегда, хоть и не русские, задним умом крепки. И снова утром нас собрали в управлении колхоза. Каждому была приготовлена из мешковины небольшая сумка с лямками. В ней лежало по булке хлеба, небольшому куску сала и немного сливочного масла. Бухгалтер, по распоряжению председателя, выдал ещё по какой-то сумме денег. Около правления стояли две запряжённые лошадьми кошевы, так там назывались сани. Я успел забежать домой, хозяйка мне передала сумочку с ржаными сухарями. Прохладно попрощался и ушёл. К обеду добрались до военкомата.
Тут я совершил чудовищную глупость. Из прежней жизни у меня сохранился лишь паспорт, полученный перед самым отъездом из Ленинграда в июне сорок первого года. Я его раскрыл, посмотрел на имя-отчество - Вениамин-Симхе Аронович, и подумал, как скажу своим ленинградским друзьям, что я не Коля, как они привыкли, а - Венька, когда вернусь с войны домой?! Стыд-то какой! И тут пришло "мудрое" решение - я бросил паспорт в туалетное очко дворовой уборной, и вошёл уже на военкоматскую комиссию Николаем. Но Николай Аронович?! Поэтому я и стал Александровичем, мне казалось, что это созвучно Арону, да простит меня отец за это кощунство.
Но тогда, когда мне было семнадцать лет, об этом не думал.
Г.К. - Что происходило с Вами после призыва?
Н.С. - Комиссии, мандатную и медицинскую, мы, несмотря на нашу классическую худосочность, прошли, скажу опять штампом - без сучка и задоринки. Пять суток нас везли в теплушке, которую лучше назвать "мерзлушкой", где чуть не врезали "дуба", через Камышин, Пензу в город Кузнецк. Это было с декабря сорок второго на январь сорок третьего. А расстояния-то всего каких-то полтыщи километров. По сто вёрст в сутки. В Кузнецке нас, полуживых "кочерыжек", в открытых грузовиках, при двадцати градусном с хвостиком морозе, привезли прямо к городской бане. Какова была наша радость - рассказывать не стоит. После помывки переодели во всё новенькое, даже ботинки с обмотками с фабрики. Правда, обмундирование, на большинстве из нас, висело, как на огородных чучелах. Я мог свободно просунуть в ворот своей гимнастёрки кулак. Но всё равно мы стали надёжными защитниками родины и бойцами Красной Армии, правда, не надолго. В середине января преобразились в солдат Советской Армии, и вместо петлиц получили погоны. Но это потом. А пока что нас, распаренных в бане, снова на открытых грузовиках повезли далеко-далеко, аж в село Бутурлиновка Пензенской области. Есть Бутурлиновка и Воронежская, та видна на карте, а наша настолько мала, что на карте не видна. Грузовики остановились за околицей села, около единственно приличного здания. Здесь нас спешили, построили по ранжиру, разбили повзводно. Мы оказались одной ротой. Сразу появились командиры, вплоть до отделенных. Пришло высокое начальство, поздравило с призывом в армию. Мы недружно прокричали "ура", после этого нас завели в помещение, которое оказалось, как впоследствии узнали, командирской, а затем - офицерской столовой. "Какой обед нам подавали:" помнятся слова Периколы. У нас - глаза из орбит. На первое - суп с настоящими макаронами, на второе - гороховая каша (музыкальная - в солдатской среде) порция мяса и компот. Глаза вернулись в орбиты и счастливо блестели. Это я видел по глазам Митьки и Петьки Нетудыхата. Из нашей бывшей команды мы трое оказались вместе в одном, третьем, взводе, и одном и том же отделении. Я посчитал, что, наконец, хронический голод для нас кончился. Из всех командиров помню только одного - командира роты - младшего лейтенанта Николаева. Разместили нас в землянке примерно 20х8 метров. В ней - два ряда "двухэтажных" нар. Проход между ними такой, что рота могла выстроиться в две шеренги. Вдоль нижних нар имелись сплошные скамьи, в две доски. Часть называлась запасной бригадой, номера не помню. Её задача состояла в том, чтобы готовить маршевые роты. После трёхмесячной подготовки роты отправлялись на фронт. Вся часть, а скорее, соединение размещалось землянках, за исключением штаба и офицерской столовой. Офицеры жили в самой Бутурлиновке. Рядом с нашей землянкой размещалась, так же в землянке, солдатская кухня. Около неё лежали большие бурты мелкой, мёрзлой картошки и мёрзлых кочанов капусты. Началась суровая армейская служба. Подъём в пять утра отбой - в одиннадцать ночи. В первый же вечер нас учили, как складывать обмундирование, тренировали выполнять команды "отбой" и "подъём". С верхних нар я летел, как "орёл", чтобы вовремя уложиться в положенные секунды, за которыми следил старшина по своим карманным часам. На следующее утро, когда так ещё хотелось спать, прозвучала команда, и я, едва не свернул себе шею, падая на Митьку. После команды старшины: "Смирно и не шевелись!" Кто-то стоял без брюк, но в ботинках и намотанных обмотках, кто-то, в том числе и я, в одной гимнастёрке и ботинках на босу ногу. Сколько ушло времени, пока нас не вывели на зарядку, трудно сказать. Но на улице была ещё ночь, в небе сверкали звёзды, а вокруг трещали деревья от мороза. На нас из тёплой одежды, только шапка. Мороз сразу пробрал до костей. Зарядка началась с пробежки, а на большом плацу уже слышались громкие команды старшин других рот. Голоса гулко разносились в разреженном воздухе. Мы бежали и бежали, открытыми ртами ловя холодный воздух. Наконец остановились и стали буравить жёлтыми норками сугробы.
А затем пристроились на плацу, к другим ротам и тоже, под команды нашего старшины, стали размахивать руками и т.д. Сосковые умывальники стояли во дворе, вода в них замёрзла, и мы умывались снегом. Зато в землянке было тепло. Дрова весело потрескивали в двух печах. Нас рассадили на скамьи, каждого против своих постелей. Землянка напоминала длинный, тёмный тоннель, где в конце сверкал светлячок в виде керосиновой лампы. Там же маячил командир роты, читавший нам информацию. Кто сидел поближе, тот старался слушать, а у нас, на "камчатке", слипались глаза и ронялись головы. После политинформации наступило оживление. Принесли еду. Пока что - хлеб и сахар. Командир отделения, на своей постели, разрезал кирпичики хлеба, кажется, на восемь частей. Точно не помню, сколько было человек в отделении, но помню - во взводе тридцать три. Четыре отделения плюс помкомвзода. На восемь кучек отделённый разделил и сахар. Потом приказал мне повернуться к продовольствию спиной. Я вначале воспротивился, подумав, что солдаты расхватят лучшие пайки, а мне достанутся отбросы.
Но командир объяснил мне, для чего это делается. Когда я усвоил процедуру, он стал спрашивать "кому", и я называл счастливцев. Словом, полная демократия в распределении съестного. Нам выдавали по семьсот граммов хлеба. Не знаю, почему, как сообщает Шойхет, служивший невдалеке от нас, в лагере Селиксы, помнит - по пятьсот.
Но всё равно, нам оголодавшим, и семьсот казалось мало, потому что сразу его и слопали, вместе с сахаром. Командир же отделения свою пайку разделил на три части. Советовал это сделать и нам, но мы, салажата, как нас сразу окрестили, не вняли его советам. Через полчаса принесли на взвод два ведра. Одно с супом, второе - с чаем. Но отличия в них не обнаружили. Однако, не очень обеспокоились, памятуя каким обедом нас кормили накануне. После завтрака вручили каждому боевое оружие - трёхлинейку Мосина; малую лопатку, патронник, противогаз, вещевой мешок, котелок, кружку и, главное оружие, как пошутил старшина, ложку, которое ни терять, ни доверять кому-либо нельзя, как наших будущих жён! Предупредил, что с этим оружием и этой амуницией мы отправимся на фронт, поэтому их надо беречь, как: известно как! После чего, вооружённых до зубов, нас выбросили на шесть часов на лютый мороз.Тут и азы строевой, тактики, огневой:Обмороженными вернулись в землянки. Оружие положили на стеллажи. Стеллажи стояли в отсеке, где не было нар. И стали ждать обеда. Помощник командира взвода, старший сержант Гудков (условно), с двумя солдатами Принесла команда котелок каши, неполный на два пальца, и ведро супа. Это на тридцать три "богатыря". Суп оказался гуще утреннего на две картофелины, которые достались не каждому. Суп и кашу делил сам Гудков. Мы подходили к нему с котелками, суп тут же выпивали и получали солдатскую ложку каши. В конце, в "котле" раздачи оставался "скребок", раздатчик немного кидал в свой котелок и по крупинке, для виду, стряхивал в один, два котелка, что оказались поближе. Да:вчерашней эйфории, как не бывало. Теперь я понял, почему командир отделения делил свою пайку. Однако, забегая вперёд, мы и в дальнейшем съедали всю пайку утром, как только она попадала нам в руки. Чтобы уже закончить с праздником "курсака", так назывался желудок, продолжу вечернюю трапезу. После изучения уставов и чистки оружия, слушали снова информацию командира роты, который из моего дальнего угла казался таким далёким, как полночная звезда. О чём он говорил, до моего сознания не доходило, потому что голова моя была, как срубленный качан капусты. По окончанию беседы, ждали ужин. Вначале принесли селёдку и сахар. Мы тут же их уничтожили, потом, через час - в вёдрах такой же, как утром, чай и суп. Выпили. Вечерняя прогулка, вечерняя поверка. Пятнадцатиминутная тренировка - "отбой", "подъём", потом ещё тренировка в "укладывании" на ночь обмундирования. И где-то около двенадцати ночи голова коснулась набитой соломой подушки. Вот так прошёл первый день на службе "царю и отечеству". И покатились дни за днями. Быстро "спускали с нас жирок", как обещал командир взвода. Даже не помню его звания, не говоря о фамилии. И удивляюсь, когда читал воспоминания своих фронтовых сверстников, что вы мне прислали, как они так здорово всё запомнили. Вели дневники, что ли?! День был похож один на другой, как обмотки - муштровка, надрыв сил и неодолимое чувство вечного голода. Особо отметить службу в запасной бригаде нечем.
Разве тем, что меня, как "высокообразованного" - девятиклассника, на пару дней освободили от учёбы и заставили писать надкроватные таблички на всю роту. Я это сделал. В результате чего мне предложили стать писарем, со всеми вытекающими льготами, вплоть до оставления тут до конца войны! То есть предлагали жизнь. Но я имел глупость отказаться от этого заманчивого предложения. Или - принятия присяги двадцать третьего февраля, в летнем клубе, открытого типа? Командир роты стоял за столом на просцениуме, читал текст присяги, мы её повторяли, потом расписывались в бумагах. Запомнилось особенно ещё потому, что вовсю сыпал на нас снег. Правда, ещё одно знаменательное событие порадовало нас, даже потрясло, когда узнали о разгроме немцев в Сталинграде. Появилась надежда, что скоро прорвут и блокаду Ленинграда, и моя мама вздохнёт облегчённо. Но как я узнал впоследствии, её уже к этому времени не было в живых, а сестрёнку сдали в детдом. В начале марта меня вдруг вызвали в канцелярию роты. Командир роты приказал мне сдать старшине всю амуницию и быть в готовности к отправлению. Куда и зачем - неизвестно. Стало понятно лишь назавтра, когда из всей бригады нас, около трёх десятков солдат - девятиклассников (десятый класс давно воевал), построили на плацу в две шеренги и объявили, что направляемся в Первое Куйбышевское училище(КПУ), на офицерские курсы. Нам выдали НЗ на трое суток. Помню, по сайке хлеба, немного сахару, сала шпик и несколько гороховых концентратов, для приготовления супа, которые слопали "живьём", как и всё остальное, не дотянув до третьих суток. Как воспоминание о бутурлиновской "эпопее", увёз бытовавший там стишок:
Суп жидкий, но питательный,
Солдат сильный и сознательный,
Когда бежит - земля дрожит,
А упадёт - три дня лежит..
Ещё хочется сказать пару слов о Селиксах, где начинал службу мой "коллега" по фронтовой специальности и однополчанин, пулеметчик Шойхет, интервью с которым вы мне дали прочитать. Его судьба которого сложилась почти, как у меня, или, наоборот, у него, как у меня. Он информировал вас не так, как слышали мы, бутурлиновцы, о несчастных селиксовцах. У нас сложилось впечатление, что там вообще не было никаких землянок, а жили они в летних палатках. Кухни там тоже не было, потому что регулярно оттуда приходили команды с большими бочками, в которых они пешком уносили "борщи и каша" из нашей кухни. Я уж представляю, какое пойло туда доставлялось.
Нас запугивали Селиксами, если начинали роптать на питание.
А как было на самом деле, мой однополчанин Шойхет лучше знает, но бочки с "борщами" я лично видел, как продев жерди, сквозь специальные проушины на бочках, солдаты на своих плечах уносили в Селиксы "хлёбово".
Г.К. - Учеба в 1-м КПУ. Что запомнилось?
Н.С. - В Куйбышев привезли на четвёртые сутки. Здесь нас встретили представители училища. Оказалось, что Первое Куйбышевское не в Куйбышеве, а в городке под странным названием Управленченский, до которого около семнадцати километров.
Эти семнадцать следовало пройти пешком. Что для пехоты каких-то семнадцать километров, особенно, если она налегке: вторые сутки ничем не отягчали свои "курсаки"?! Хотя на каждой станции - кипяток бесплатный. А "чай не пьёшь, где силы берёшь?!" - мудрая татарская поговорка, родившаяся в солдатской среде. Вышли утром - и пришли как раз к ужину. Нас расположили в пустовавшем помещении, где были приготовлены кровати и постели. На ужин мы не возлагали радужных надежд, памятуя Бутурлиновские ужины. Однако, подчинились старшине. В обширной столовой уже ужинали курсанты. Пока нас рассаживали за отдельные столы, мы кидали жадные взгляды на горки хлеба, просто так лежавшие, на подносе посреди столов. Это никак не укладывалось в наших головах. Наша группа расположилась за тремя столами. Когда на стол поставили поднос с нарезанным хлебом, мы его мигом расхватали и стали жадно поедать. Когда поставили бачок с супом - не поверили своим глазам: поварёшка там стояла. Ещё больше удивились, когда дежурный по столовой курсант принёс ещё один поднос с хлебом. Первый раз за всю службу поужинали, как надо. А назавтра, когда мы увидели на курсантских столах белый хлеб и масло - я подумал, что попали в рай. Но нам этого пока не давали. Старшина объяснил, что находимся в карантине. Через две недели, когда нас утвердят курсантами, тогда и мы будем так питаться. После завтрака старшина провёл сердцещипательную беседу в строю. Завершил её такими словами: "Товарищи скелеты, к весне вас так откормим, что будете заглядываться на наших управленченских девочек!" Может и не дословно, но, по сути, точно. Да, из запасной бригады мы прибыли скелетами. Такие скелеты и отправлялись маршевыми ротами защищать страну. Для будущих же офицеров Родина ничего не жалела. Кормили по тем временам очень хорошо. Командиром нашего отделения назначили бойкого солдата Сигарёва. Он был старше меня, пожалуй, года на два. Постепенно я подружился с Лёней Хмарским, моим одногодком. Через две недели кончился карантин, нас зачислили курсантами и влили в миномётную роту, стали готовить командирами батальонных (82мм. миномётов). Курс обучения шесть месяцев. Отличие от солдат единственное - курсантские погоны - малиновые, с двумя жёлтыми полосками по бокам. Даже кирзовых сапог не выдали - ботинки и обмотки. Поэтому сомневаюсь, что, как показывает в своём автобиографическом фильме Пётр Тодоровский "Курсанты", мол, они щеголяли в "кирзачах", и стреляли из миномётов и орудий на учебных полигонах почём зря. Нам за всё время учёбы, около четырёх с лишним месяцам, показали только один раз, как опускать мину в миномётный ствол. Он учился тремя месяцами раньше меня, и, примерно, в том же регионе. Ну, это просто так, для слова, потому что такие детали понятны только нам, прошедшим этот путь, и вызывает недоверие к такому, неплохому в целом, фильму. В КПУ-1 повторно принимали присягу на верность родине Первого мая. Особо остановиться не на чём. Правда, помню, как нас, десятка полтора курсантов чохом принимали в комсомол Заставили написать заявления, если хотим стать офицерами, и выдали билеты. Это было на берегу реки. Плескались волны о прибрежье, ковры яркой травы скатывались к берегу, по небу ползли весёлые тучки. Ну, как в такой день не стать комсомольцем? И стали. Я никогда не был октябрёнком, не был пионером, всегда был "вне политики". К весне нас, действительно, откормили, но на девочек засматриваться не давали. Учёба, муштра, муштра и учёба. Но после Бутурлиновской бригады, уже ничего не было страшно. В один прекрасный, и опять солнечный день, наша рота с миномётами ушла далеко на полигон, кажется, он был километрах в шести от училища. Изучали пристрелку, без стрельбы, по точкам наводки. Это было в конце июня. До выпускных экзаменов оставалось около месяца, мы уже вкушали, как на наших золотых погонах появится звёздочка младшего лейтенанта. Неважно, что будут называть инкубаторскими скороспелками. Но, завершить учебу нам не довелось, училище в полном составе отправили на фронт.
Г.К. - Как проходила отправка курсантов на передовую?
Н.С. - В самый разгар занятий, на разгоряченном коне, прискакал нарочный и привёз приказ по тревоге прибыть в училище. Все шесть километров мы бежали к месту дислокации. На плацу наша рота с мат. частью пристроилась к общему строю. С пламенной речью выступал начальник училища, его заменил заместитель по политчасти. Нас покормили, разрешили забрать вещевые мешки и строем повели к реке, где погрузили на катера. Оставили в училище только штатный командный состав. В Куйбышеве с катеров перегрузили в товарняк и повезли на запад. По мере продвижения к составу прицепляли теплушки, и в конце концов эшелон стал такой длины, что и хвоста не разглядеть. Это присоединялись другие училища, знаю точно одно - Урюпинское, а остальных - не помню. По приказу Сталина не дали доучиться до звёздочек и рядовыми отправили на фронт. Как раз закончилась Орловско-Курская молотилка, и война просила снова пушечного мяса. Нас долго держали в Пензе, водили поротно в какую-то столовую, кормили вкусной рассыпчатой пшённой кашей. Не помню, на которые сутки привезли под Мценск, где недавно прошли бои. От Мценска пошли пешком, потому что шпалы и рельсы были немцами, с помощью грейдеров, с металлическими зацепами, разорваны прямо вдрызг. Начались и первые потери - один из курсантов с котелком кинулся вниз, к небольшому озерку, набрать воды, нарвался на мину, получил ранение в пятку, и с отправляющимся обратно эшелоном возвратился в мирное пространство.
В траншеях стреляные гильзы, покорёженное оружие, в кустах - труп, под офицерской плащ-палаткой. Стало жутковато. Его, правда, вскоре прибрали, но факт есть фактом. Километров шестьдесят двигались пешком, и пятого августа входили в освобождённый Орёл. Нас радостно встречали мирные жители, хотя мы, курсанты, ещё ничего для них не сделали, но вместе с фронтовиками авансом воспринимали их благодарность. Наше училище зачислили в 308-ю дивизию, стоявшую насмерть в Сталинграде. Дивизия была в трауре, потому что при взятии Орла погиб их, а теперь и наш командир дивизии, генерал Гуртьев. Со слов Шойхета, я вспомнил, что дивизию принял полковник Фогель. Но он, по-моему, стал командиров дивизии позже, когда воевали в Белоруссии.
Г.К. - Куда Вы попали при распределении по частям дивизии?
Н.С. - Наш взвод полностью влился в миномётную роту, в подчинение капитана, кажется, Заиченко. Он жил с женой, или любовницей, саниструктором роты Зиной, но это неточно. Командира взвода пока что не было. Заиченко назначил командиром нашего Сигарёва, и велел формировать расчёты, и назначить командиров расчётов. Как ни странно, Сигарёв назначил командиром одного из расчётов меня, а не своего закадычного друга Хмарского, он и стал в моём расчёте наводчиком, его помощником, вторым номером - татарин, не помню фамилии этого курсанта, пусть Ибрагимов. Два подносчика мин так же из курсантов. Мне сразу же присвоили звание младшего сержанта, остальные в расчёте - рядовые. Вот так, после четырёх с половиной месяцев обучения в училище, остались рядовыми. Больше месяца нас не вводили непосредственно в бой, хотя всё время находились вблизи передовой. Без конца марши и марши, с полной выкладкой. Сегодня днём идём в одном направлении под обстрелами и бомбёжками, назавтра по тому же маршруту - в обратную сторону. Словом, вводили противника в заблуждение. Марши были очень тяжёлыми. Шли днём и ночью с небольшими привалами, вся матчасть на себе. Ствол около шестнадцати килограммов, опорная плита - двадцать шесть, двунога-лафет - тоже порядком, несколько лотков с минами, винтовка или карабин: Да что говорить, как ишаки. И мы уже с нетерпением ждали, когда нас введут в бой, чтобы отдохнуть от этих маршей. К тому же ещё и погода, как назло, стояла ясная, солнечная и очень знойная. Номер полка я не помню, да и не очень интересовался им. Фамилию командира полка тоже не знал. Правда, он был боевым, храбрым, до дурости, очевидно буденновец, потому что имел личного жеребца, на котором гарцевал. Фронт считался Брянским, а потом - Вторым Белорусским.
Г.К. - Ваш первый бой ?
Н.С. - Первый настоящий бой состоялся 13 сентября. Всю ночь нас вели лесом под непрерывным ружейно-пулемётным огнём. Небо полосовали трассы трассирующих пуль. А в лесу не было видно противника, но беспрерывно свистели пули, и слышался страшный треск, стволов деревьев. Несколько раз что-то проскрипело, словно прокричал огромный ишак. Бывалые нам объяснили, что это скрипит "Ванюша", шестиствольный миномёт, так его назвали немцы, в отместку за нашу "катюшу". На опушке леса валялись какие-то "чушки", похожие на огромные головастики, некоторые из них лежали в ящиках. Бывалые называли их "Андрюшами", а чисто - по-русски "Лука Мудищев" - это запоминается. С рассветом подошли к переднему краю. Немецкие позиции просматривались на противоположной стороне огромной поляны. Наша первая траншея тянулась вдоль опушки, местами углубляясь в лесной массив. Стрелки сменили оборонявшихся, и те по ходам сообщений, отправились в тыл, их было совсем немного. Наш миномётный взвод командир роты разместил даже на десяток шагов впереди пехоты. Мой расчёт оказался около двух деревьев с густыми кронами. Я понимал, что батальонные миномёты, как нас учили, не должны находиться в боевых порядках, а за ними, метрах в двухстах, трёхстах. Но против приказа не попрёшь, тем более, что я ещё зель-прозелень в войне. Мы быстро окопались. Хмарский с Ибрагимовым, в миномётном окопе, я рядом - в другом. Подносчики мин - в траншее, с пехотой.
Началась взаимная пальба. Командир полка, почему-то, гарцевал перед нами, между нашей и немецкой траншеями. Пехота вяло пошла в атаку, а потом многие стрелки залегли, и только дымки от цигарок вились вверх. Мне никто никаких команд не давал. Я крикнул Лёне, чтобы поставил прицел, не помню какой, и стрелял. Мой миномёт выпустил, по-моему, две или три мины. И тут же над нами, в кроне одного дерева что-то сильно бабахнуло, заверещали осколки. Я глянул на Лёнино гнездо - оба - он и Ибрагимов лежали, миномёт свалился на них. Что было дальше, помню смутно. Всё как-то стихло в раз. Лёня был убит, Ибрагимов ранен тяжело в колено, громко стонал. Шаровую пяту ствола заклинило в гнезде опорной плиты, и вытащить его не было никакой возможности. К нам подошёл старшина, велел копать могилу для Лёни. Мы выкопали. Старшина стал снимать с Лёни ботинки. Я спросил, зачем он это делает? Он сказал, что они ему уже ни к чему. Так он и лежал Лёня навзничь, устремив свои синие глаза в синее небо, не видел я на нём ни кровинки. Запомнились босые, очень белые ступни, и голени, обмотанные чёрными обмотками. Вот только что был Лёня - и не стало его. Мы его тут же зарыли.По этому случаю я впоследствии написал стихотворение, посвящённое Лёне Хмарскому.
ГДЕ-ТО В БЕЛОРУССИИ
Мы где-то в Белоруссии
Махоркою чадили,
О косах там Марусиных
Мы с Лёнею грустили.
Глаза у Лёни синие,
С туманной поволокой.
Тогда был в малом чине я,
И он был - в невысоком.
Заря плыла, багряною,
Да мины свиристели,
И кровью окроплённое
Отверстие в шинели.
Погиб мой друг безвременно:
Там много погибало
Простых ребят и гениев:
Война все прибирала.
Я сам не свой, с лопатою
Горюю над убитым:
Но старшина негаданно
Явился, сам сердитый.
Мой Лёня, как живой, лежал,
Лик белый, ни кровинки.
А старшина с него снимал
Казённые ботинки:
И это так кощунственно,
И так нечеловечно!
Я в горле ком почувствовал,
И он во мне навечно!
* * *
Точно не могу утверждать, то ли ещё была Брянщина, то ли уже Белоруссия, но число помню точно - 13 сентября. После того, как закопали Лёню, я взвалил на себя опорную плиту, а ствол опустился и болтался между ногами. Общий вес около сорока двух килограммов, не считая личного оружия, патронов к нему, вещевой мешок и прочее: Хорошо, что я прошёл физическую подготовку на Ново-Айдарском элеваторе. Подносчики мин подхватили двуногу - лафет, по три лотка с минами, в каждом около десяти килограммов, и с таким грузом мы продирались сквозь кустарник по болотистым кочкам не менее трёх, а может и больше, часов, потому что догнали свою роту на новой позиции только к сумеркам. Окопались, установили миномёт на позицию. Почва под нами ходила, то ли - болото, то ли торф. Для себя каждый вырыл ячейку лёжа, на два-три штыка малой лопатки. А ночью нас обстреляли. Кто окопался - остался живым. А рядовой Аврунин, еврей, лет двадцати пяти, он тоже был курсантом в КПУ, правда, уже понюхав пороха. Этим бравировал. Копнул себе "под зад". А утром обнаружили его убитым.
По-моему, до конца сентября наш полк, а с ним и наша рота, а с ней и мой расчёт из трёх человек, вместе со мной, не выходили из боёв. К началу октября оказалось, что полк, как говорится, вдребезги. И, как боевая единица, был расформирован. От нашей миномётной роты осталось, кажется, семнадцать человек, и нас перебросили в другой полк, в стрелки. И я, миномётчик, младший сержант, стал рядовым пехотинцем. Но стрелком воевал недолго. Запомнился один эпизод наступления. Раннее, пасмурное утро, то ли мелкий дождь, то ли въедливый, сырой туман. Нас расставили, вот именно "расставили", потому что мы не лежали, а стояли, на исходном рубеже, в интервале восемь-десять шагов друг от дружки. В руках у каждого, вижу как сейчас, котелок, и стоя хлебаем суп. Команда поступила "вперёд!", я вылил суп, спрятал котелок, у меня винтовка вместо автомата, Взял её наперевес. Кое-кто ещё дохлёбывал суп. Шли долго, потом бежали, потом кричали "ура!" . Вроде бы и не стреляли, вроде бы никто и не падал. После, почему-то нас повернули назад. Нет, не бежали, а так же - шли. Но что удивительно, на обратном пути я увидел много убитых, особенно нерусской национальности, (то ли узбеки, то ли таджики). У некоторых так набиты вещевые мешки, что не лежали, а сидели трупами, опёршись на них. У меня же оказался пробитый пулей котелок, висевший сбоку, на поясном ремне. Хорошо, что отверстие оказалось посередине, и наполовину остался пригож выполнять свои функции. В нескольких местах оказалась пробиты полы шинели. Больше о моей стрелковой эпопеи ничего не припомню. Всё вертелось, как в калейдоскопе. Как можно было запомнить чьи-то фамилии, звания?! Утром выходила рота, к вечеру - оставался взвод: А вскоре, видится мне сейчас, в шеренге стоят остатки то ли роты, то ли взвода, человек восемь-десять. Подходят два капитана. Один - высокий, второй - низкий, коренастый, щёки чуть шире "среднестатистических", глаза большие, тёмные, улыбка приятная. Фамилию не помню, условно - Смирнов. Оба капитана изучают нас, идут вдоль шеренги. Смирнов останавливается около меня, не знаю, чем привлёк его внимание. Ростом и бравым видом не взял. "Младший сержант, - смотрит на меня в упор своими глазищами, - в пулеметчики хочешь?!" Думаю, чем оставаться стрелком, лучше пойду пулемётчиком. Сказал, что я миномётчик, но так как минроты нет, пойду в пулемётчики. Только я пулемёта, не знаю. (Хотя в училище мельком изучали). Он ответил избитой поговоркой: "Не хочешь - заставим, не знаешь - научим!". И так я стал: подносчиком патронов к станковому пулемёту "максим", прославившемуся в Гражданскую войну и непременному атрибуту всех предвоенных фильмов, как немых типа "Федька-бомбист", так и знаменитых, одного из первых звуковых "Чапаева". До сих пор звучит в ушах "Эх тачанка, растачанка..." (вместо - ростовчанка).
Г.К. - Николай Александрович, Вы великолепный рассказчик. Я не буду перебивать Вас своими вопросами, у Вас прекрасная память, и любой наводящий вопрос мне кажется лишним.
Н.С. - Пулемётная рота, потеряв в последних боях больше половины списочного состава, расположилась на "солнечной полянке". Было предвечерье, и солнце действительно расщедрилось в этот октябрьский день. Меня назначили в расчёт ефрейтора Просфирина. Ефрейтор Просфирин - рослый, мощный мужик, лет сорока, лежал навзничь, подставив под ласкающие лучи солнца свою обветренную, на мой первый взгляд, суровую физиономию. Рядом с ним, как бы "подрёмывал" пулемёт. Я доложил ефрейтору о прибытии в его подчинение. Он сел, посмотрел, зажмурился, снова посмотрел: "Ты чего тут, шкет, делаешь?!" "Я: к вам:" - бормочу. "А ну, катись отсюдова!" - рявкнул он так, что я вздрогнул. Он поднялся в свой немалый рост, застегнул ворот гимнастёрки, потуже затянул ремень и направился, как я понял, к Смирнову. Минут через десять вернулся злой, как жгучая крапива. "Учти, нас в расчёте ты да я! Я за тебя его, - кивнул в сторону "максима", - таскать не буду!". Ночью нас подняли по тревоге. Пулемётный станок Соколова весил тридцать два кг, щит - восемь, коробка со снаряжённой лентой в двести пятьдесят патронов, тоже около восьми-десяти килограммов. Это всё, плюс карабин и ещё кое-какое снаряжение повисло на мне. Не буду рассказывать, как я шёл, спотыкался, лесной тропой, как чуть ли не надломился. На редких привалах отдыхал стоя, прижавшись спиной к стволу дерева, потому что если б присел, или прилёг, то уже не встал бы. Если только не умер за тот марш, который длился больше суток, то только потому, что меня на ногах держала обида и злость на ефрейтора Просфирина. На рассвете следующего утра нам дали большой привал. Я, наконец, разгрузился, упал и понял, что ещё живой. Привезли завтрак, я поднялся было, чтобы добираться до кухни, однако Просфирин забрал мой котелок и велел отлеживаться. Вскоре он возвратился. В одном котелке каша, во втором - чай. Я недоумённо посмотрел на него: до этого мы ели каждый из своего котелка. "Бери ложку!" - велел он, больше ничего не сказал. А больше ничего и не надо было - с тех пор у нас началась дружба. Мы, когда возникала возможность вздремнуть, одну шинель стелили на землю, второй накрывались.
Боевые будни похожи одни на других - наступали или отступали вместе с пехотой, поддерживая атаку, или - отход, манёвр... Прсфирин стрелял, я подавал ленту в приёмник. Вся задача - стрелять и копать. Копать позиции - основные и запасные, траншеи, хода сообщений. Сколько было перерыто земли, трудно сказать. Некоторое время мы были в расчёте вдвоём, потом нас пополнили. Приходили бывалые пулемётчики, лучше меня, но своим помощником Просфирин считал только меня. Люди приходили и уходили, а нас с Просфириным война миловала. Иногда в скупые минуты затишья, Просфирин рассказывал о своей знаменитой профессии - шахтёра. Он гордился ею. Оказывается он добывал уголёк на Шпицбергене. После войны собирался снова возвращаться туда, обещал и меня взять с собой, потому что там, мол, нужны крепкие и надёжные парни!
Но этому сбыться было не суждено. Утро выдалось промозглым, холодным. Наш расчёт придали одному из стрелковых взводов. Помню опушку леса, куда мы вышли, впереди - село, которое надо было взять с ходу. Наш взвод, в составе других подразделений, начал бой. По мере передвижения стрелков, передвигались и мы с Просфириным, перебежками или перекатами, как хотите назовите. Один из нас бежал вперёд, пока другой вёл огонь по окопам противника. Бежавший занимал позицию, открывал огонь из личного оружия - ППШ, а пулемётчик с пулемётом добирался на позицию, оставлял пулемёт и проделывал то же, что первый. Так передвигались за пехотой, поддерживая её огнём. И вот, я сделал перебежку, примерно шагов двадцать, Просфирин кричит, чтобы бежал дальше, пробежал ещё шагов пять, кричит - ещё дальше. Значит, щадил меня, чтобы меньше времени маячил. Я занял позицию, открыл огонь, Просфирин бежит ко мне с пулемётом, вот-вот добежит. Но не добежал те пять шагов, что заставил сделать меня, и упал. Я подполз к нему, пуля попала ему в пах, пока перевязывал его он что-то прошептал, вроде бы "уголёк", и его не стало. Ком застрял у меня в горле, я развернул пулемёт и длинной очередью саданул по врагам. В глазах туманилось, я, наверно, плакал. Не было возможности даже предать своего друга земле. Взвод уже перешёл в атаку, и нужно было поспешать за ним. Остальное - доделает похоронная команда, которая двигалась за нами, как грифы за падалью. Так потерял второго друга. Некоторое время я был за командира расчёта и наводчика. В расчёте снова оставалось нас двое. Я и подносчик патронов. Повторялось, как у меня с Просфириным. Имени Просфирина не помню, поэтому и не называю. Но память о нём у меня навечно. После боёв, нас отвели на небольшой отдых и пополнение. Пополнили и мой расчёт. Но теперь он стал не моим. Командиром назначили старшего сержанта Грушкина, вернувшегося из госпиталя, меня оттеснили на второй план. Вначале обиделся, а потом свыкся, и с Володей Грушкиным сдружились - пара пятак! Он, оказался тоже моего возраста и ростом особо не перещеголял. Так же учился в училище и не доучился, тоже попал в "струю", но успел на Орловско-Курскую дугу. С Володей мы жили, душа в душу, как родные братья . Я у него многому научился. Главное - выдержке.
Запомнился один момент из событий тех дней. В то время, как мы отражали атаку с фронта, к нашему пулемёту, с фланга бежал немец с гранатой, чтобы метнуть её в нас. Смирнов, наш командир роты, в это время стоял за одним из домов Каменки, невдалеке от нас. Случайно высунулся из-за угла избы, увидел немца, выхватил винтовку из рук ординарца и выстрелил в того на замахе гранатой. Фашист остался лежать, на хорошо простреливаем взлобке. Когда отбили атаку, и уцелевшие немцы откатились, Смирнов заставил меня с Володькой притащить к укрытию убитого. Мы подползли к трупу, увидели на нём офицерские погоны. Он был так огромен, что когда ухватились за его ноги и попытались сдвинуть с места, то не он, а мы к нему подтянулись. Тогда ротный крикнул, чтобы забрали планшетку и сняли с него сапоги. Под визг пуль, так как фашисты держали взлобок под обстрелом, выполнили просьбу командира и доставили ему то, что он велел.
В ту же ночь, командование батальона решило сделать вылазку в немецкие траншеи. Из нашей роты пошёл добровольцем сержант Унчиков. Парень боевой, лет двадцати пяти. Почему я вспомнил об Унчикове? Вот почему. В роте из рук в руки переходили трофейные часы. Так вот, эти часы приносили несчастье тому, кто их прибирал. Мы, завзятые атеисты, не верили ни в какие приметы, ни в какую мистику.
Однако, от истины никуда не денешься. Унчиков был такой ухарь, что наплевал на все мнения и случайности, снял всё же часы с убитого сослуживца, и с ними пошёл в ночной бой. И погиб! Вот после этого - не верь приметам. Когда группа ушла в поиск, Смирнов назначил наш расчет в боевое охранение, с заданием - в случае неудачи, и группа начнёт отступать, мы должны отсечь огнём преследующего её противника. Ночь была темна, как негр в тёмной комнате. Мы отрыли позицию, утомились. Володька предложил поочерёдно "кемарнуть", на дне окопа. Я предложил ему сделать это первым: всё-таки командир. Он меня предупредил, чтобы не уснул. Я его заверил, и не спал. Очнулся, когда кто-то меня за шкирку тянул из окопа. Попытался ногой ткнуть Володьку, но не достал, тогда закричал и получил хороший подзатыльник от Смирнова. Назавтра он нас отчитывал так, что до сих пор не забыл. Предупредил, что порвёт наградные листы. Володьку я потерял так - пошёл с котелками за ужином, возвращаюсь - а его уже нет. Один из "чёрнорубашечников" сказал, что его ранило осколком от снаряда, и он теперь в санбате. "Чернорубашечниками" солдаты называли призывников с освобождённых территорий. Их не обмундировывали, да и когда это делать, если утром пришёл, а к вечеру его уже нет? К примеру, наш старшина Иванов привозил ужин на роту в одном термосе, а наркомовские сто грамм - в одной солдатской фляжке. Пулемётчиков пехота называла "прощай родина" и сторонилась нас. А мы недолюбливали 45мм пушчонки - "смерть капитализму" и тоже старались из6егать их соседства. Когда стояли в обороне, если после нескольких очередей не сменишь позицию, то будет "прощай родина"!
После Володьки я стал безраздельным командиром. Расчёты пополняли, в основном, чёрнорубашечники. Приблизил к себе паренька, наверно, ему едва минуло семнадцать. Савчук его фамилия. Подучил и сделал вторым номером. Командиром и наводчиком - сам, а остальные - подносчики патронов. Особенно мучились подносчики с набивкой намокших полотняных лент патронами. Нужны были немалые усилия, чтобы втолкать патрон в гнездо. Причём пули должны быть - "под линеечку", иначе лента застрянет в приёмнике. Если ещё добавить, что кожух пулемёта был пробит пулями и осколками в нескольких местах, а дыры заткнуты паклей, и воды для охлаждения "машины" недоставало; да и что весь "самовар" дышал уже на ладан, то станет ясно, с чем нам приходилось воевать. Детали поизносились, отчего возникала самая страшная задержка в бою - поперечный разрыв гильзы. Это равносильно самоубийству. Но ничего не поделаешь. А так, меня уже начали ставить другим командирам расчётов в пример. Наверно не потому, что я был такой уж хороший пулемётчик, а потому что столько времени пробыл на передовой. Подчинённые старались ближе держаться меня в бою, хотя я их отгонял. Очевидно, считали, что заговорённый. Почти семь месяцев! А Шойхет, вон, мой коллега, год! Только сказать! Пулемётчик никуда не спрячется, не схитрит. В бою не оставишь пулемёт. Так что тут, кроме везения, больше ничего нет.
Новый сорок четвёртый год встречали в траншеях. Наступление было приостановлено, мы заняли оборону. Помню ночь, с тридцать первого декабря на первое января. Немецкие траншеи пролегли вдоль опушки соснового массива. Наши траншеи отстояли метрах в трехстах. Когда наступила полночь, там начались выкрики, вверх полетели ракеты, прямо фейерверк. С нашей стороны мёртвая тишина. Мой расчёт отдыхал в землянке, вырытой тут же, на позиции пулемёта. Дежурил я один. Недавно были выпиты сто боевых. Я вообще-то пил очень редко. Чаще отдавал товарищам, но на Новый год выпить не грех. И курить я не курил, потому что не мог свернуть цигарку, махорку отдавал поварам за лишний черпак баланды. Кормёжка в обороне была не ахти, всю зиму нас кормили белорусской "бульбой", суп картофельный и пюре. В наступлении давали ещё и американскую баночную, очень вкусную, колбасу. А в новогоднюю, ту ночь, я слушал ликование немцев и макал свежий хлебный мякиш в сахарный песок. И признал, что лучшей пищи и не бывает. И тут же решил - кончится война, только так и буду лакомиться. Менялись командиры взводов, менялись и командиры рот. Смирнов держался дольше всех. Всё-таки душа - человек был русак со своими монголоидными щёками. Помню новенького командира взвода ленинградца, младшего лейтенанта, кажется, Оганезова. Поначалу всё отлёживался в окопе, когда мы стояли в каком-то населённом пункте. Бомбёжки не было, артобстрела тоже. Все ходили поверху, а он отлеживался. Мы думали, что трусит. Но, вскоре пошёл добровольно с пехотой в атаку и погиб. Зачем пошёл, не его же обязанность?! Очевидно, хотел превозмочь в себе стакан "заячьей крови". Проверил себя. Если побаивался, значит, сумел побороть в себе страх. Трус не тот, кто боится, а тот, кто не в состоянии преодолеть страх. Да простит меня Огонезов, я его не осуждаю, погиб геройски! Боялся ли я?! Не помню, может, и боялся. Но в экстремальных случаях на меня находило такое, что можно назвать прямо храбростью. Так, например, стрелковая рота была направлена в боевое охранение сапёров, наводивших переправу через какую-то реку, наверно, через Днепр, потому что была уже зима. Мой расчёт придали роте для боевой поддержки, была и сорокапятка, запряжённая лошадьми. Когда мы вошли в рощу, которая спускалась к реке, попали под жуткий артналёт. Все семьдесят стрелков роты с обслугой огневых средств мигом попадали. Остались стоять я и лошади. Я подошёл к лежавшему командиру роты, и говорю: "Товарищ капитан, надо идти докладывать командиру сапёрного батальона о прибытии нас". Он мне велит: "Иди, младшой, доложи ты!". А артналёт не прекращался, деревья с треском падали под снарядами. Но я пошёл сквозь этот смерч, разыскал блиндаж командира батальона и доложил, что боевое охранение прибыло. "Ты что, младшой, начальник охранения?!" "Нет, я его помощник, а капитан, - назвал фамилию того, - не мог оставить роту при таком "сабантуе". Но были случаи, когда и драпал вместе со всеми. Так было на Прони. Форсировали её по наведённому понтону. А немец, как попёр нас, так все и драпанули, пехота, миномётчики, пулемётчики. Метров триста драпали, уже за Проней. И ещё драпал, когда захлебнулась атака, та, в которой погиб Оганезов. Но из пулемёта вытащил всё-таки замок, но всё равно едва не попал род трибунал, за то, что оставил оружие на поле боя.. Командир роты приказал вытащить пулемёт, не то... Вытащил, с помощью своего помощника.. Общий психоз хорошо захлёстывает.
Белорусская зима - то мороз, то оттепель. Днём слякоть, ночью мороз. На зиму нам выдали валенки. Днём промокнут, а ночью - гремят, как колотушки. Так нам выдали ещё и деревянные колодки, мы их привязывали к подошвам и так щеголяли, но толку с них было мало. Кажется, в начале января, нашей триста восьмой присвоили звание гвардейской, и она стала сто двадцатой. По этому случаю дивизионное командование устроило банкет. На тот банкет было приказано направить с передовой лучших бойцов. Нельзя же без этого. Как ни странно, в эту команду попал и я, да ещё и возглавил, насколько помнится, её. Набралось нас человек семь. С автоматами мы шлёпали по буеракам и рощам километров шесть, до штаба дивизии. Он располагался в каком-то посёлке. Банкет устроили в клубе. Мы вошли в фойе. В раскрытые двери, в зал, наблюдалось, как за столами сидели офицеры и военные женщины. Было их много, было там весело, играл оркестр. Мы в телогрейках, валенках, ушанках, как бедные родственники, заглядывали туда, в другую жизнь. В фойе нам налили по сто боевых, не помню чем, дали закусить. В зале запели, это была мелодия Александрова - партийный гимн, ".Вот теперь - это гимн Советского Союза!" - донёсся чей-то голос. Так я узнал, что интернационал перестал быть нашим государственным гимном Нам предложили по второй чарке, но я пить больше не стал, Вскоре мы с "банкета" месили слякоть в обратном направлении. Шли с каким-то странным чувством, что побывали на чужом пиру, а сейчас возвращаемся в родной дом. Такое чувство я испытал уже месяцем раньше. Наш полк отвели, на пополнение, и мне вдруг приказали явиться в штаб полка,. отстоявшем от дислокации батальона километрах в трёх-четырёх, для получения награды и недельного пребывания во фронтовом Доме отдыха. Оказывается, было и такое. Мои друзья-командиры расчётов подтрунивали: "Ну, Коля, там такие девки, сразу обломают твою девственность!" Да, мы все со школьной скамьи были девственники, и мечтали быть "обломленными", но не могли себе представить, как это делается, и сумеем ли когда-либо одолеть эту грань. Никогда я не думал - "если останусь жив". Не приходила такая мысль на ум. Я уходил из рощи, с места дислокации, где уже была вырыта на расчёт землянка, где вздымался щекотливый дымок варева от походных кухонь, со щемящим чувством, что покидаю родное селение. В штабе полка мне вручили медаль "За отвагу", но путёвку в Дом отдыха выписать не успели: из штаба батальона по проводной связи пришло требование возвратить меня назад И я с радостью поспешил к месту дислокации.
После очередных боёв наша рота потеряла всех офицеров, от роты осталось полроты, можно сказать усиленный взвод, и командовать им временно назначили меня. Вскоре прибыл командир роты, младший лейтенант Козел, имени не помню, потому что и не знал. Тощий, выше среднего роста, нос, как у мыши. Лицо жёлтое, взгляд из-под редких белесых бровей, напряжённый. Мы сразу почувствовали друг к другу скрытую неприязнь. Сейчас я думаю, не изгнали ли его за какую-нибудь провинность из смершников. Ординарцем взял бессменного ординарца всех наших ротных, сержанта Зайцева. Хитрого, ловкого подхалима. Мы, старые служаки, не любили его так же, как не любят всех подхалимов в армии. И внешний вид у него почти такой же, как у Козела. Однажды мы чуть не перестреляли друг друга. А дело было так:Я, хоть, и считался командиром взвода, но чаще всего опекал свой расчёт, где меня временно замещал Савчук. Он уже выглядел не прежним "сосунком", пообтерся, его обмундировали, хоть в старое, но х/б. Наш полк овладел каким-то населённым пунктом. Помню железную дорогу, которую мы пересекали, траншеи немецкие, откуда вытурили хозяев, и заняли их место. Я подошёл к Савчуку, помог ему установить пулемёт на позиции, показал ему секторы обстрела. В это время является Зайцев и на меня: "Бери пулемёт и ступай срочно к вокзалу, возможна контратака". Может, задача была другая, сейчас точно не помню. Но с пулемётным расчётом должен был следовать я. "А кто ты такой, чтобы мне приказывать?!" Я не боялся ни стрельбы, что не умолкала, и что под огнём надо куда-то идти, но меня заела его спесь. "Я командир взвода и приказываю тебе!" - сказал Зайцев. "Командир взвода я, - возражаю ему, - и приказываю немедленно с расчётом Савчука выполнять то, что ты мне передал! За невыполнение приказа в боевой обстановке..". И наставляю на него автомат, он - на меня. Я уже держал палец на спусковом крючке, знал, что единственный свидетель Савчук меня поддержит, в случае чего. Но на мою беду по траншее проходил какой-то капитан. Он прикрикнул на нас, развёл. Выяснил в чём причина, и решил:
- "Младший сержант, разбираться мне с вами некогда, но ты должен выполнить приказ, старшего по званию. И теперь я тебе приказываю возглавить расчёт и вперёд!"
Делать нечего, мы с Савчуком схватили пулемёт и помчались в указанном направлении. Тут же раздался скрип "Ванюши", мы упали и оказались в эпицентре взрыва. Шесть мин легли вокруг нас. Как уцелели, одному Богу известно, хоть я и атеист. Да, я атеист, но Бог в моей душе. Нас такими воспитала власть и никуда от этого не денешься.
В конце января узнал, что прорвана блокада Ленинграда. Тут уж свои сто боевые никому не отдал. Я возрадовался за маму, за своих близких и друзей, кто пережил этот ад. И тотчас свой аттестат отправил в Ленинград маме. Мне давно говорили, что это надо сделать. Но куда я мог его отправить, если блокада?! Я забыл сказать, что в октябре или ноябре сорок третьего мне батальонный партсекретарь предложил вступить в партию, и вступил. Был послушным, хотя политика меня мало интересовала. В начале февраля стало известно, что наша дивизия готовится к форсированию Днепра. До этого мне пришлось форсировать Десну, Беседь, Ипуть, Сож, Проню, и ещё какие-то реки, но не помню. Не надо думать, что форсировать реку зимой, по льду, меньше потерь, чем по водной глади. Это я вам покажу по форсированию Днепра. А пока что шли бои на подступах к Днепру.
Я находился в "подвешенном" состоянии: Козел открыто не объявлял, что я уже не командир взвода, а Зайцев взводом не командовал, а обихаживал Козела. Фактически под "взводом" понимались все пулемётчики. Не мог же Козел меня называть командиром роты, раз сам живой. Он постоянно во время боёв ошивался на КП батальона. Отдельное звено - старшина Иванов и два пожилых ездовых из чёрнорубашечников. За ротой была закреплена пароконная повозка. В ночь перед форсированием Днепра нас разместили в брошенных домах небольшого населённого пункта. Вся пулемётная рота, снова поредевшая в прошедших боях, разместилась в одной избе. Места было достаточно - солдаты не княжеских кровей. Для нас и пол надёжная постель. Командование роты в лице Козела, Зайцева и старшины расположились в другом доме. Кроме "козла" в роте других офицеров не было. Из командиров расчётов я - единственный "старик", которого слушались и уважали пулемётчики. Поэтому, как бы ни не "переваривал" меня Козел, а это я чувствовал, ему без меня невозможно было обойтись. Мы точно не знали своей задачи, просто пользовались слухом, что скоро будем брать Днепр. После ужина кое-кто из пулемётчиков принялся писать письма родным Писали по очереди, потому что на всех был один огрызок химического карандаша. Кто курил, а кто уже и спать пристраивался. И тут явился Зайцев: меня вызывал Козел. В "штабе" было накурено, на столе стояли миски с объедками, за столом сидели Козёл и старшина. Ездовые возились около плиты, пахло жареным мясом. Козел прочитал мне нравоучение, что я плохо выполняю свои обязанности командира взвода, и поставил задачу распределить расчёты по стрелковым ротам, подготовить пулемётчиков морально к форсированию Днепра, предупредить, что в связи с глубоким снегом, подходы к реке не разминированы, и чтоб были внимательными. Точно не помню его слов, но что-то около этого. Насчёт мин, солдатам, говорить не стал: какой смысл их запугивать, если никак нельзя остеречься от них?!
Среди ночи нас подняли по тревоге. Командиры расчётов направились в те роты, какие им велено. По боевому уставу я мог находиться около одного из командиров стрелковых рот, но возглавил свой расчёт. Когда заняли исходный рубеж, ближе к рассвету, началась артиллерийская подготовка. Сигнал атаки - залп "катюши". Наш батальон оказался во втором эшелоне, он должен был войти в прорыв первых двух усиленных батальонов полка. И вот он этот залп! "Катюша заиграла!" - послышались восклицания солдат. Надо было видеть эту феерию! На горизонте взвились большим гребнем яркие столбы света, похожие на кометы, в то же время послышался утробный гул, и на вражеской обороне, что находилась на левобережьи, заплясали громадные оранжевые сполохи. Донёсся наш боевой клич "Ура!" Первый эшелон уже атаковал. И тут же нам последовала команда.
Побежали, на сколько это позволял глубокий снег. Слева и справа от меня прозвучали взрывы, то ли вражеские снаряды, то ли - наши мины. Впервые я непроизвольно закричал так же, как кричали мои однополчане: "За Родину! За Сталина!" Никто нас этому не обязывал, всё происходило стихийно. Быстро светало. Когда я, с расчётом, достиг противоположного прибережья, оно сплошь было покрыто трупами наших солдат, большинство из которых, да простят они меня, "чёрнорубашечники". Они в этом не виноваты, виновны наши снабженцы, не переодевшие их в военную форму. Трупы лежали так впритык, словно их специально скомпоновали, и мы с трудом смогли с Савчуком пробиться сквозь заслон павших, чтобы подняться на берег. Правый берег Днепра доминировал намного над левым. Выбравшись на берег, мы ещё некоторое время бежали вслед нашей пехоте. Потом я развернул пулемёт и стал стрелять в сторону противника. Настолько разгорячился, что потерял рукавицы, и так потом мучился без них. Мимо нас на салазках, сработанных из пары лыж и носилок, санитары провозили раненого старшего лейтенанта, не помню точно его фамилию, вроде Молоков, а, может, и нет. Он занимал должность, по-моему, секретаря парткома батальона. Подозвал меня и с трудом проговорил: "Мы тебя представляем к званию Героя". Я в эти слова не очень поверил, потому что героем, в моём понятии, не был. Очевидно, за форсирование Днепра был установлен в этом отношении какой-то лимит, вот и выпал черёд на меня. Но Героя я не получил. Через много лет мне встретился военно-политический журнал. Там прочитал статью о нашей 120-ой гвардейской дивизии. В ней говорилось, что за время войны в ней присвоено восьми воинам Героев Советского Союза, и среди них был Зайцев. Вот тогда меня заело. Я подумал, что это прихвостень Козела, и тогда стало обидно, посчитал, что меня обошли. Кроме медали "За отвагу" за октябрьские бои, больше никакой медяшки не получил. А я ведь намного лучше воевал, чем тогда. Правда, мне дали значок, который назывался знаком "Отличный пулемётчик". Его у меня украли, когда учился в Свердловском пехотном училище. Мало этого, за семь месяцев фронтовых я, как был младшим сержантом, так и не добавил ни одной лычки. А ведь за три месяца фронтовых офицерам присваивали очередное звание. Вот мне даже и сейчас стыдно смотреть в глаза заслуженным ветеранам, обвешанным орденами. Может, и нет моей вины в том. Не буду же рассказывать всем, что меня представляли к Герою. К исходу дня остановились в каком-то освобождённом селении. Старшина, как обычно, в тёмное время, привёз ужин на пароконке. Ездовый посмотрел на меня и обмер, отступив шага на два назад. Потом, заикаясь, спросил: "Ты ожил?!" - "Как понять?!" - удивился я. - "Да я ж тебя видал среди убитых, на берегу Днепра!" - "Значит, жить мне до ста!"
Несколько суток продолжалось преследование противника. К утру двадцать четвёртого февраля мы овладели городом Рогачёв, и вышли на берег реки Друть. Было прекрасное зимнее утро, светило солнце. Мы находились около траншей противника, оставившего их ночью. Было тихо, и мало кто прятался в траншеи. Под нами раскинулась заснеженная пойма Друти. До противоположного берега, который казался намного выше нашего, мне думается, было не меньше полукилометра. По его гребню желтели брустверы. Но признаков жизни там не наблюдалось. В это время открыто, к позициям подъехали кухни, и к ним живо выстроились очереди, с котелками, Почему я удивился? Потому что никогда раньше кухни в такое светлое время, тем более к переднему краю, не приближались. Ведь в любое время противник может накрыть нас огнём. Однако, всё обошлось, Поели кашицу, съели пайку хлеба, выпили чаю. Солдаты, забыв вчерашнюю бойню, потерю друзей, посмеивались, шутили:
Закуривай, курачи,
Кто не курит - ... дрочи!
Вот в таком "невинном" интеллигентном духе. После сытного обеда "по закону Архимеда" хотелось бы придавить ухом, даже сугроб, но... прибежал мой "кореш" Зайцев и "пригласил" меня к "козлу" Тот сидел в немецком блиндаже. У нас состоялся с ним такой разговор: Он. - "Берёшь свой бывший расчёт и отправишься в распоряжение первой роты". Я - "Зачем?". Он. - "Рота идёт в разведку боем". Я. - "Но я же командир взвода, с расчётом пойдёт его командир - рядовой Савчук". Он - " Обойдёмся без тебя. Струсил, что ли?!"... Не скажу, что дословно. Не скажу, что состоялся.
Но тот факт, что я всегда стремился доказать самому себе, что, как еврей, должен показать другим, что не хуже их. После такого слова я уже не мог возражать.
Разведка боем началась без всякой огневой поддержки, какова должна была быть обязательно. Первая рота, насчитывавшая не больше пятидесяти штыков, спускалась на пойму Друти. Мы с Савчуком поволокли следом, за ротой, пулемёт. Он был укреплён на лыжных салазках. Это делалось просто - лыжи схватывались двумя планками или дощечками, а на них ставился пулемёт. При движении планки загребали снег, и приходилось то и дело останавливаться и расчищать сугробы... Дотянув своё групповое оружие до середины поймы, мы устали и присели на него отдохнуть. Наши подносчики патронов, куда-то исчезли, словно сквозь лёд провалились. Цепь роты оторвалась от нас шагов на сто, и мы поспешили за ней. До берега противника оставалось не больше трёхсот метров, но по нам огонь не открывали. Значит, действительно, немцев там не было. Драпанули ночью, только их и видели. Впереди торчали отдельные островки камышей. Туда мы и устремились. Но до камышей нас не допустили: ошиблись мы, противник ожил и открыл по нам кинжальный огонь. Нас не надо было уговаривать залечь. Залегли и тачкой стали двигать салазки к камышам, с горем пополам докатили туда пулемёт, привели его к бою. В камышах оказались и наши подносчики. Я, по-моему, выпустил короткую очередь по траншее, где уже были видны гитлеровцы. Но тут началась такая пальба, что невозможно головы поднять
Стрелков роты не было видно. Цепь залегла где-то позади нас и не двигалась. Вскоре завизжали мины. Там и сям из полыней вскидывались каскады воды, наполовину с илом. Лопатками принялись лёжа расчищать снег около себя и пробивать лёд. Удалось пробить на штык, или два и ячейки заполнила вода, маскхалаты на нас тотчас же вмерзали в лёд. Не помню, стрелял я ещё или не стрелял. Может и нет, потому что цепь роты, как залегла позади, так и не поднялась, и поддерживать некого было. Так, с утра, пролежали в воде до темноты. С наступлением сумерек, с трудом оторвались от реки, потому что вмёрзли в неё, и отправились к своему берегу. Вслед нам стреляли термитными снарядами. Мой расчёт вернулся полностью, из роты - не больше пяти человек. Оказывается, что цепь не залегла, как думалось, а её сразу, почти всю, вместе с командиром роты, младшим лейтенантом, который её принял всего несколько дней тому, расстреляли. Возникает вопрос - выполнили мы свою задачу?! Да. Задача разведки боем - обнаружить противника, выяснить его огневую мощь. Мы это сделали, вызвав огонь на себя. Но какой ценой! Так что я возвращался на свой берег с чувством выполненного долга. Да никто и не упрекал нас, только удивлялись, что чудом ещё остались живы.
И тогда стало ясно, почему кухни утром подъехали так близко к переднему краю. Командование полагало, что этим вызовёт огонь фашистов, но приманка не сыграла, тогда послали нас - самоубийц. Так, логично, рассуждал я. Но, возможно, командование, рассуждало по-иному. На берегу встретился Козел. "Живой остался?!" - удивился он. "Ну, молодец, и расчёт спас! Командуй взводом!", и удалился со своим "хорьком", то есть - Зайцевым. У того действительно была острая мордочка, как у хорька. В своём "взводе" я насчитал пять расчётов. Мы поужинали и, разыскав поблизости хороший, сухой подвал, под большим домом, завёл ребят со всем скарбом и боевым оружием, где до утра хорошо придавили ухом цементированный пол. Проснулся я от грохота, с каким раскрылась дверь подвала. В двери стоял разъярённый Козел, из-за его спины выглядывал хорёк. Козел, кричал, что я немедленно пойду под трибунал, чтобы немедленно поднимал роту и строем повёл через мост, на ту сторону Друти, где давно уже наш батальон. Накричавшись, тотчас исчез. Я поднял ребят, да они и сами поднялись, услышав вопли ротного, в полной боевой построил их в колонну по четыре и повёл по улице, к мосту. Улица шла вдоль железнодорожной насыпи. Мост оказался железнодорожный. Когда к нему подошли, по нам открыли артиллерийский огонь, может статься, что стреляли и наши. Один снаряд разорвался на насыпи и осколком меня ранило в поясницу. Сгоряча мог бы ещё остаться в строю, но, вспомнив о животных "козле и хорьке", передал командование Мишке-цыгану, (был такой солдат боевой, из поваров перешёл в пулемётчики), а сам отправился в санбат, который располагался как раз в том доме, где был наш подвал. В приёмном отделении, по периметру, на полу сидело уже много бойцов. Молоденькая сестра подносила каждому по краюхе хлеба, густо намазанного тушёнкой, я присел тоже на пол, и тоже получил бутерброд. И тут меня "развезло", начало знобить, мне стало хреново. Ко мне подоспели, забрали вне очереди к врачам, там что-то делали в пояснице, потом перевязанного, на грузовой машине, отправили в прифронтовой госпиталь. Он назывался "экогоспиталем". Там продержали пару недель, и десятого, по-моему, марта вручили сухой паёк на трое суток, выписали справку о ранении, предписание - явиться в команду выздоравливающих, в какую-то запасную бригаду. Она находилась километрах в семидесяти от госпиталя. И я пешком направился туда, по пути познакомился с таким же "славянином", и вместе стали добираться в часть.
Мы шли по рокадной дороге, а на горизонте гремело, и были видны султаны дыма. И тогда я понял, что иммунитета от войны выработать нельзя. На передовой считал, что мне уже ничего и никогда не будет страшно. Однако, даже после небольшого мирного перерыва надо всё начинать сызнова.В пути мой товарищ отстал, видно, увлёкся девчонкой, которую увидел в одной хате, где мы попросились на ночь, и где нас хорошо попотчевали белорусской бульбой. Тут не могу обойти молчанием один казус. При керосиновой лампе, которую вздула пожилая хозяйка, чтобы нас покормить, я на одной из стен увидел причудливую картину, величиной, примерно, двадцать на двадцать сантиметров. Она была написана какими-то буроватыми мазками. Когда захотел рассмотреть её внимательно, она начала быстро расползаться, Столько тараканов вместе никогда не видел. И что они там только делали?! Но аппетита они мне не испортили!
В казарме, куда меня поселили - длинные двухэтажные деревянные нары. Там таких, как я, набралось изрядно. Вечером, после скромного ужина, собралась в одном из углов небольшая группа певцов. Я петь любил, хоть голосом и не блистал, но иногда в строю бывал и запевалой. Пристроился к ребятам, меня быстро отличили. Они много песен не знали, а я - бесчисленное множество. Один здоровый парень, прямо мужик, навис надо мной и спросил, знаю ли я хохляцкую песню "По за лужком зэлэнэньким:". И когда я запел, у него навернулись слёзы на глаза, он обхватил меня, как брата. Видать, ностальгия, по родным краям его замучила. Это так: к слову пришлось. Около недели выздоравливал с метлою в руках. И вдруг, однажды, после развода, меня вызывают в канцелярию роты. Капитан, командир роты, спросил, когда я явился пред его очи, хочу ли поехать учиться в военное училище? Кто же откажется? Он тут же написал "Боевую характеристику" на меня: без неё нельзя. Характеристика такая, что, действительно, пора Героя присваивать. Я прошёл мандатную комиссию, на медицинской - признали, что у меня дефективный левый желудочек сердца, поэтому в лётчики не гожусь, а в пехоту - подойду. На следующий день человек нас семь со старшим группы, (кажется, я и был старшим), с предписанием, литерами, продаттестатом, были, не помню с какой станции, отправлены транзитом через Москву, в Молотов. Училище называлось МСМУ, что означало - Молотовское стрелково-миномётное училище. Курс - шестимесячный.
Там проучился три месяца, запомнилась речушка Ягошиха, впадавшая в Каму, где зябли по утрам. За три месяца, наверно, лишь две недели было тёплых. А то - холодные дожди, дожди, дожди: В начале июля, а, может, и позже, нас десятка два курсантов отправили ещё в одно училище, говорили, что будут готовить офицеров мирного времени. Это оказалось СПУ- Свердловское пехотное училище, которое я и окончил в июле 1946 года, в чине младшего лейтенанта, и прослужил двадцать пять календарных лет, с фронтовыми и заполярными - свыше тридцати. С горем пополам дослужился до майора. Служил общевойсковиком - семь лет командиром стрелкового взвода, восемь - командиром роты, два - на уровне командира батальона, три - помпохозом (ничего в этом не понимая) командира ВСО, на финской границе. В 1968 году вышел в отставку. Женат, сын, две дочери, внучка, три внука, правнук.
Г.К. - Есть так называемый список "общих вопросов" к каждому интервью, и отвечать на них необязательно, как говорится - только по личному желанию. Скажем, "наградной" вопрос?
Н.С. - В пехоте в 1943 году награждали редко.
В 1945-м году, в сентябре, в училище нам дали двухнедельный отпуск. Вот тогда и понадобились награды. В нашем взводе, где было около тридцати славных ребят, больше половины из которых воевало, но из наград - лишь медаль "За отвагу" была у меня. И медаль "За боевые заслуги", у моего друга Сеника Миши.
Да, жалко ребят, воевали хорошо, а похвастать перед родными, да девушками - нечем. Вот тогда у меня и спёрли знак "Отличный пулемётчик". Да я особо и не жалел, всё-таки какому-то курсанту помог.
Всё-таки, ценят же не за то, что расскажешь, а за то - что на груди. А мы же были молодыми...
Г.К. - Война сильно изменила Ваше мировозрение?
Н.С. - Много лет я оставался сталинистом, несмотря на все "недохлёсты и перехлёсты", связанными для меня с этим страшным именем "И.В.Сталин": "делом врачей", решением "еврейского вопроса":
Да и личностного - три раза из-за "пятой графы" мне отказывали в приёме в Военные академии - финансовую, транспортную, связи: Писал жалобу Булганину в 1953 году. Получил деликатный ответ - мне отказано в поступлении в академию связи имени С.М. Будённого по поводу того, что в 1946 году имел замечание за опоздание на самоподготовку. Размазали по стене, как клопа, за "совершение антигосударственного преступления". Со своим сталинизмом я разделался лишь в восьмидесятых годах. Прозрел, так сказать, на склоне лет.
Г.К . - Еще из разряда "необязательных вопросов". Приходилось на передовой общаться с политработниками, или сталкиваться с офицерами-"особистами"?
Н.С. - Вас интересует вопрос о деятельности политработников на фронте?
Помню только трёх. Первый - по прибытию в 308 дивизию - начальник политотдела дивизии собрал нас, новичков, на обширной поляне, и объяснил, что на фронте не очень убивают, особенно в нашей дивизии. Всего погибает лишь каждый восьмой. Не надо быть восьмым - и полный порядок. Второй политработник - заместитель командира полка, подполковник Залманович. Один раз беседовал со мной, так, ни о чём. Порядочный человек, но в бою я его не видел. И третий - старший лейтенант Молоков, очень приятный - на поле боя сообщил мне исключительно хорошую для меня новость. И все...
Особисты?! Дел с ними не имел. Из всех помню старшего лейтенанта Иванцова. Я был тогда младшим лейтенантом, служил в Еланских лагерях Свердловской области. От него, как мне стало известно по письму тёти Шейндл из Оратова, приходил на меня запрос, родился ли там Николай Александрович Самсонович? К тёте приходил представитель "из ГПУ". Разумеется, Николая Александровича там никогда не бывало, был Вениамин и так далее, но тётя, умная женщина, вечная память ей, сообразила что к чему, и подтвердила, что рожался Николай. И больше особисты мной не интересовались.
Я не представляю, что было бы, если б обнаружили, что я сменил имя и отчество в то красивое время. Правда, был ещё один случай, когда я подумал, что особисты меня могут взять хорошо за вихор. Это сучилось в той же Елани. Как раз округ принимал Жуков (48-ой год), им была назначена комиссия по проверке боевой и политической подготовке дивизии. Началось с политзанятий - изучение речи Сталина, посвящённой какому-то знаменательному событию. А она была напечатана в "Красной Звезде" - всеармейской газете. У меня такой газеты не было, но она была в ротной подшивке, в Красном уголке. В шесть утра я прибежал в роту и с корнем выдрал эту газету. В восемь утра, ещё темно (дело было зимой) при керосиновой лампе, начал читать речь вождя солдатам своего взвода. Ко мне подбегает запыхавшийся коллега, старший лейтенант Кутис. "Выручай, - шепчет мне, - дай вторую половину". Ну, как не выручить товарища? Решили, что он начнет "лекцию" со второй половины речи, я - с первой, а потом - заменимся. Когда я стал расчленять газету, то, бишь, речь вождя, между мной и Кутисом просунул свой длинный нос политработник политотдела, капитан: забыл его фамилию, но очень фискальную, наподобие его морды. Мы поняли, что влипли по самые маковки. Разрывать речь вождя в сорок восьмом году на виду у личного состава, пожалуй, и расстрельной статьёй не отделаешься. Со дня на день мы ожидали вызова к особисту, но не последовало. Очевидно, командование дивизии и само так перетрусило, что дело спустило на тормозах. Больше никаких эксцессов по линии особистов у меня не было.
Г.К. - Каким Вам запомнился день окончания войны?
Н.С. - День Победы встретил в Свердловском пехотном училище. 9-го мая нас подняли по тревоге, и все училище строем, с оркестром повели на центральную площадь Свердловска - "Площадь 1905-го года". По пути нас уже приветствовали толпы жителей. А площадь была уже запружена и речь "толкал" первый секретарь обкома. Мы кричали "Ура!!!", нам устроили в училище шикарный праздничный обед.
И мы понимали, что теперь будем жить, что нам выпал счастливый жребий , но ... чувство грусти и вины перед погибшими не давало нам радоваться в полную силу, ведь большинство наших сверстников так и остались навеки лежать на полях сражений.
| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |