Родился я 31-го октября 1922 года в Башкирии. Наше село Кусекеево находилось в десяти километрах от Бирска, а сейчас оно относится уже непосредственно к городу. Правда, в ту пору в селе было около ста двадцати дворов, церковь, земская школа, а сейчас говорят и половины домов нет, и старики в основном живут.
Расскажите, пожалуйста, о довоенной жизни вашей семьи.
Да, пожалуй, лучше начать с корней. Потому что, зная историю и характер воспитания в семье, можно больше понять о человеке. Ведь каждый человек очень многое впитывает в детстве и все это потом непременно сказывается на его жизненном пути
У нас была большая крестьянская семья: дед, бабушка, родители и нас пятеро. Вообще, мама родила восемь детей, но трое умерли еще в младенчестве. Я был самым старшим. После меня родилась Мария, но она умерла еще в 45-м. В 31-м родилась Зоя, в 35-м Валентина и последним родился Гена.
Вот что я давно и сам хотел узнать, но боюсь, что уже не узнаю, так это откуда пошли корни нашей семьи. Точно знаю, что уже в Башкирии родился мой дед – Степан Николаевич. А вот где родились его отец – Николай Андреевич, и дед - Андрей Осипович так и не знаю. Предполагаю, что кто-то из них переехал сюда из Вологодской области. Потому что у нас в районе Зиновых было много, а в наших краях жили в основном северяне, уроженцы Костромской, Вологодской, Владимирской областей, и у них было очень много сходного: обычаи, одежда, разговор. А вот соседняя деревня были вятские, а другая еще южнее – так там и разговор немного другой и обычаи. Например, у нас в деревне было так заведено – неженатый, по имени зовут. А если женился или вышла замуж – по имени отчеству. А в соседней деревне Поповка всех только по прозвищу звали, даже фамилии свои забывали.
А вы не знаете, как ваша семья жила до революции?
Думаю, что скорее к середнякам относились. Потому что дом у нас был относительно большой. Четыре окна выходило на улицу, два во двор. Два амбара, несколько сараев, а огород при доме был около двадцати соток. Но сколько земли имели, не знаю, помню только, что участки находились в трех местах. Вначале у нас было три лошади: две – рабочие, а одна племенная. Имели две коровы, овец голов двадцать, всегда держали две свиноматки и уже младшим школьником я гонял поросят на выпас в дубовую рощу. Они там паслись до самого снега, а потом сами возвращались оттуда.
Ведь я себя помню уже где-то с трехлетнего возраста, и помню, что уже лет с четырех дед стал меня приучать к работе, особенно к лошадям. Помню, весной 26-го ожеребилась кобыла, и мне хотелось погладить жеребенка. Но кобыла же к нему не подпускает, нервничает, фырчит, так дед мне кусок хлеба посолит, и я ей давал. И так он ее приучил, что я мог подходить к жеребенку.
Но в тот же год от нас отделился дядя – старший брат отца. Ему отдали лошадь, корову, поэтому, когда вступали в колхоз, у нас была одна лошадь. Но ведь в колхозе вначале не было ни конюшни, ничего, поэтому несколько лошадей загнали в какой-то сарай. И мы с дедом всю зиму туда носили вязанки сена. Так что она и там у нас была накормлена, а некоторые, как дома были клячи, так и остались… Помню, во 2-м классе как-то весной с дедом пошли рано утром их накормить, напоить, а одна лошадь лежит на полу – примерзла… Насилу подняли ее, но дед и отец все возмущались, кто же это мог сделать. Ведь какой-то вредитель специально налил воды.
А вы не знаете, как у вас в селе проходила коллективизация?
Знаю, потому мой дед пользовался большим авторитетом, и когда году в 30-м началась коллективизация, и у нас организовали колхоз, дед людям сказал: «Давайте вступать! Коллективное хозяйство это и легче и лучше!» Ведь до этого у нас в селе уже было организовано несколько ТОЗов (товарищество по обработке земли), мой отец, например, был председателем одного из них. И видимо на их примере дед понял все преимущества коллективного хозяйства. И закончилось все тем, что все добровольно вступили, причем, я не помню, чтобы кого-то принуждали. А может, просто не знаю. Но, во всяком случае, единоличников в селе не осталось. И хорошо помню, что уже через год к деду приходили люди и благодарили за то, что он их уговаривал. Значит, положительно оценивали работу колхоза. Правда, нам очень повезло с председателем. Зенков Дмитрий Ильич, которого нам назначили, приехал из Бирска. Там он был хорошим механиком, а у нас проявил себя как прекрасный организатор. Организовал колхозные конюшню, ферму, а главное – мастерские. Даже электричество туда провели.
Неужели при этом никого не раскулачили?
Помню, что двоих. Дядю по маминой линии выселили из дома, а в их доме устроили правление колхоза. Они были Васильевы, но все их звали Морозятами. На одной улице их было пять дворов, и все были трудолюбивые, поэтому жили более-менее. Но вот характер у них был на редкость неуживчивый. По любому поводу могли и поскандалить и наговорить лишнего. И вот дядю Михаила, Михаила Николаевича, году в 30-31-м арестовали и отправили на строительство Беломорканала. Он там лет пять отработал и за хорошую работу его освободили. Но дома всего несколько месяцев пробыл, и его опять арестовали. Он же совсем не мог молчать, говорил не стесняясь, и видимо опять что-то резкое рубанул, и на него донесли. И больше он не вернулся…
А у меня был друг, мой ровесник. Но в их семье они настолько боялись отца, что я прямо удивлялся – как же можно так бояться своего родного отца? Вот их тоже выселили в маленький домик, и я уверен, что это кто-то из наших односельчан на него что-то наклепал.
А потом в 33-м году был такой случай. К нам во двор пришел милиционер, привели троих понятых, вроде как раскулачивать собирались. Оказывается, двоюродный брат отца, который жил на другой улице, из-за какой-то личной обиды что-то наговорил или написал на нашего отца. Но этот дядя Михаил тоже был какой-то неуживчивый. А напротив нас жил свояк – муж маминой сестры, Филипп Николаевич Белобородов, который работал в сельсовете. И он этого дядю у нас во дворе сразу отозвал в сторонку, и я лично слышал, как он ему сказал: «Мишка, если ты сейчас же не признаешься, что написал это по злобе, то я тебя прикончу!» И тот сразу пошел и забрал свои слова обратно, а нас оставили в покое. Так что при раскулачивании большинство людей пострадало из-за поклепа людей друг на друга…
А родители допустим как-то отзывались о революции? Может, упоминали, в какую сторону изменилась жизнь после нее?
Не помню такого. Но точно скажу, что у нас все считали, что колхозы – это лучше, потому что перед войной стали жить значительно лучше. И молотилка у нас уже появилась, и первая машина. Помню, как в 37-м заранее предупреждали: «Сегодня привезем вам хлеб!» Но родители все время в поле, и не успели подготовить место, куда его сгрузить. И когда приехала эта трехтонная машина, водитель, Вениамин Павлович, спросил: «Дедушка Степан, куда сгружать?» Так прямо на землю высыпали и все.
А напротив нас, чуть наискосок жили Тимофеевы, так у них была коровенка, но ни сарая, ни ворот… Даже сена для нее не накашивали, поэтому она ходила по улице и ела что придется. Но, уже работая в колхозе, они себе и дом справили, и сарай и зажили, как положено. И помню разговор деда про кого-то: «У него всегда земля в бурьяне была, и лошадь еле ходила, а теперь все в порядке стало!»
А голодные годы случались?
В 1932-м и 33-м о-го-го что творилось… Хлеб закончился еще зимой и до нового урожая мы его и не видели. Ох, как тяжело пришлось… Тогда ведь ни одной соломенной крыши не осталось. Мы, правда, дом не вскрыли, но со всех сараев солому содрали. Она уже вся гнилая была, но ее и парили, и запаривали, и кипятили, лишь бы спасти скотину. Но все равно много скота пришлось забить. А были случаи, что и помирали с голоду. Помню, у нас одна женщина так умерла…
Но у нас отец тогда работал или бригадиром или агротехником, и однажды он принес мешочек килограмма на два горчицы. Так ее мололи и добавляли в пищу. А весной когда липа распускалась, собирали почки. Но в основном спасались рыбой. В то время у нас рыбы уйма была, а дед был заядлым рыбаком и постоянно рыбачил. Он, кстати, потом из-за рыбалки и помер в 42-м. Перед самой войной его лодка вышла из строя, и он не успел ее починить. И ранней весной он заходил по пояс в холодную воду, ставил снасти, и простыл. Крупозное воспаление легких и все… Хотя он несмотря на свой немалый возраст был здоровый и крепкий. Но он ведь за всю жизнь и ста граммов не выпил. Это сейчас русских без водки и не представляют даже, а я помню, что до войны у нас в селе если кто-то выпьет, то его потом люди всю неделю обсуждают. И не курил никогда. Тогда вообще мало курили. Например, у нас в родне, и по маме и по отцу, никого курящих не было. Помню, такой показательный случай.
Под окном нашего дома лежал большой камень, примерно метр на метр и толщиной сантиметров тридцать. И по воскресеньям молодые парни собирались, чтобы на этом камне поиграть в карты. И вот как-то собрались четверо, и один из них – Михаил Сергеевич Самойлов закурил. Но он стоял спиной и не видел, как из калитки вышел мой дед. Остальные ему шепчут: «Мишка, дед Степан вышел!» Он обернулся: «Ой, прости дедушка Степан, я же вас не видел», и тут же потушил самокрутку. А в другой раз в такой же ситуации кто-то матерное слово сказал, ему шепнули, и он тоже сразу извинился: «Ой, дедушка Степан, прости! Не по злобе, случайно вырвалось!» А по улице если идешь и перед старшим не снимешь шапку и не поклонишься, то это позор, вот такое почтение было к страшим.
 |
Выпускной класс |
А семья у вас набожная была?
Мы все хоть и крещеные, и в церковь нас водили, но по большому счету к вере нас уже не приучали. Хотя бабушка, например, была очень набожная. Дед же долгое время служил церковным старостой, но какой-то истовости у него не было. К иконам, например, относился без всякого пиетета. Помню, как-то бабушка протирала что ли иконы, и одну из них уронила, сильно расстроилась, так дед ее утешал: «Да ты что, это ведь не Бог, а так, картинки на дощечках». Не знаю, может, он в детстве всякого насмотрелся. Он же с девяти лет и до самой армии работал в Москово у руководителя медресе, поэтому башкирский язык знал не хуже русского. У нас в округе земли не очень хорошие, но самые лучшие были церковные, и дед рассказывал, что все должны были в первую очередь обрабатывать их. Дед, вообще, был мудрый человек. А уж педант так просто удивительный. У него топор, например, всегда лежал только в одном месте и в строго определенном положении. Вилы, грабли и другой инвентарь тоже только так и не иначе. И видимо от него это передалось и мне. Я же всю жизнь потом проработал в финансовой системе, и все удивлялись, что на столе у меня ручка лежала только так и не иначе. На столе пять папок лежали строго по порядку и нужную информацию я мог не глядя найти. А уборщица знала, что если что-то на столе трогает, то непременно положить, как было. И дома у меня всегда такой же порядок.
Но вообще, я сейчас очень жалею, что деда подробно не расспрашивал как, чего, что, он ведь много чего в жизни знал и повидал. Например, он служил в царской армии пять лет и рассказывал мне, что вначале служил в Бирске, потом его отправили в Уфу и там он попал в какую-то команду, которая перегоняла новобранцев. Так из Уфы они пешком дошли до Самары, потом в Саратов, оттуда до Царицына, Астрахань, Дагестан и через горы дошли до Батуми. Оттуда пароходом в Крым, Симферополь, оттуда добрались до Карпат в Польше, и уже оттуда вернулись обратно домой. Представляете, сколько всего ему пришлось тогда повидать? Интересно, что и мне потом довелось в Дагестане служить, а совсем недавно мой внук там служил. Но еще дед мне рассказывал, насколько горцы своеобразный и страшный народ. И сколько они там страху набрались, у них ведь оружия не было, только длинные кинжалы. Помню, рассказывал: «Однажды сидим на привале, отдыхаем, смотрим, хороший конь стоит под седлом, а хозяина не видно. Вдруг совсем рядом из кустов встает и подходит. В папахе, с оружием, и спрашивает: «Где булка?» А мы никак не поймем: «Какая булка?» Стали предлагать хлеб, а он гневается. Оказывается, он бурку искал. Потом нашел ее, сел на коня и ускакал».
И отец служил. Но в армии он заболел тифом и вернулся домой. А его старший брат всю 1-ю Мировую отвоевал. Дослужился до унтер-офицера, два Георгиевских креста имел и медаль. Но после ранения в грудь и челюсть физически он работать не мог. А вот двоюродный брат отца, с которым они вместе служили, остался в армии и впоследствии дослужился до генерал-майора. Колчанов его фамилия. Знаю, что после войны он командовал корпусом в Красноярском крае. А за войну много наград имел. (По данным «Википедии» уроженец Бирского района Башкирии генерал-майор Колчанов Григорий Семенович 1901 г.р. с 03.09.1942 по 15.06.1944 г. командовал 288-й стрелковой дивизией, которая в составе 4-й и 54-й Армий воевала на различных участках Волховского и Ленинградского Фронтов. А с 19.06.44 по 09.05.45 г. командовал 326-й стрелковой дивизией. На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из наградных листов, по которым генерал-майор Колчанов Г.С. был награжден двумя орденами «Красного Знамени», орденами: «Суворова» 2-й степени, «Кутузова» 2-й степени и «Отечественной войны» 1-й степени – прим.Н.Ч.)
Сколько классов вы окончили?
Девять. В школу я пошел в 29-м году. Тогда мне еще семи лет не исполнилось, и меня не хотели принимать, но я очень хотел учиться и меня все-таки взяли. Правда, Елена Павловна Киселева вначале посадила меня на заднюю парту. Но в школу я пошел с торбой, в которую мне родители положили грифельную доску, на которой еще дед мой учился, а потом отец и дядя. А дед ведь до 30-го или 31-го года служил в нашей сельской церкви церковным старостой, и поэтому к нам часто приходил священник. И еще когда мне было лет пять, этот отец Михаил научил меня читать и писать. Елена Павловна как увидела, что я на своей доске буквы пишу, сразу меня на первую парту пересадила.
И учился я потом только на отлично, каждый год получал похвальные грамоты. Кроме химии все предметы любил. Особенно мне нравились математика и физика. Литературу тоже любил. Сочинения на отлично писал, а вот грамматика хромала. И до сего времени не дается и все.
Так что жили мы нормально, как все, пока в декабре 1939-го не умер отец… В последнее время он работал агротехником в Базановской МТС и обслуживал четыре колхоза. И как-то летом в 1938 году они с главным агрономом Малкиным на велосипедах поехали по полям, выбирали места, где можно начинать уборку ржи. Но день выдался очень жаркий, они хорошо пропотели, и когда вернулись, решили попить воды. А прямо рядом с правлением был родник, из которого все брали воду, но вода в нем была просто ледяная. И они разгоряченные напились этой воды и сразу простыли. Потому что когда пришли обедать к нам, обоих уже бил озноб. Поели, но Малкин сразу уехал в Бирск, и там обратился к врачам. А отец не придал значения, ну бывает, простыл, прилег, и у него начался абсцесс легких. Лечили-лечили, все, что можно продали, но папа все-таки умер. Было ему всего 39 лет… Самому не верится, но получается, что сейчас я его уже больше чем в два раза пережил…
И вот с тех пор как отец заболел, я уже стал постоянно в колхозе работать. Вручную и сеял, и пахал, и боронил, и на лесоразработках работал, везде. Почти все умел и никакой работы не боялся. Ведь в детстве себя, сколько помню, я всегда с родителями на лугах. Уже с семи или восьми лет на молотилке лошадку гонял. А в 37-м и 38-м уже был помошником комбайнера у Ваишева Наиля и одновременно работал учетчиком тракторной бригады в Базановской МТС. И все успевал, и учиться и работать. Причем, в школе я был и старостой класса, и секретарем комсомольской организации, и организовывал сдачу на значки ГТО, ПВХО и другие. Очень был активный и подвижный, поэтому наш учитель физкультуры Кулагин Сергей Павлович на все соревнования меня отправлял. Вечно, то на лыжах, то на коньках, то стреляю из малокалиберной винтовки. И очевидно на этих соревнованиях меня заметил один старший лейтенант из военкомата.
Отца мы похоронили 21-го декабря, а уже в начале января 40-го он пришел к нам домой, и предложил мне поступить в военное училище. А я мечтал стать или летчиком, или военным вообще, или агрономом, поэтому его предложение меня обрадовало. И все мои родные тоже обрадовались, ведь мечта моя сбывалась. Вот так и получилось, что в январе 1940 года меня направили в Челябинское летное училище, которое готовило штурманов для бомбардировочной авиации. Но рост у меня был всего 154 сантиметра и этот старший лейтенант меня заранее научил: «Когда станут рост мерить, ты что-то скажи, отвлеки их внимание и приподнимись на цыпочки, 155 сантиметров хватит».
Отвезли в Уфу и там меня включили в команду из шестнадцати человек. Причем, я был меньше всех, но именно меня назначили старшим. Видимо заметили, что я был очень активный, исполнительный и требовательный. И к себе и к людям.
Прошли медкомиссию, сдали экзамены, но из шестнадцати человек, приняли только троих, в том числе и меня. А остальных отправили в другие училища. Стал учиться, но где-то через месяц, вдруг вызывают к начальнику училища. По какой-то причине начальник училища полковник Емельянов и наш комэск капитан Яровой засомневались в моем возрасте. А оказывается, по возрасту я еще не должен был поступать, но в военкомате мне один год добавили. Из училища сделали запрос в наш сельсовет, и председатель - Фрол Якимович Никифоров ответил как есть, что я 1922-го г.р.
И как-то после отбоя за мной пришел старшина эскадрильи, тихонечко разбудил: «Собирайся с вещами!» и отвел к начальнику училища. Доложился, а он мне говорит: «Сынок!» Я еще успел подумать, почему он обратился не курсант, а сынок? - «Сынок, кто дома?» Так и так, рассказал. Потом спрашивает: «Сколько тебе лет?» Но меня-то ведь в военкомате даже не предупредили об этом, поэтому и сказал как на духу: «22-го». – «Ну ладно, на будущий год приедешь, а пока поезжай домой!» Достает тридцатку, тогда это самая большая купюра была: «Адъютант еще даст».
Приехал ночью в Уфу. Пока ходил по вокзалу познакомился с одним парнем, и выяснилось, что мы с ним товарищи по несчастью. Его отчислили из Казанского танкового училища, и он возвращался в Баженов, это километрах в восьми от Бирска. Спросили дорогу, и часа в четыре утра вышли из Уфы, а уже часа в два ночи я пришел домой. А это ведь больше ста километров, и всю дорогу пешком. Тем более март месяц, снег везде лежит. Зашел в дом, тогда же двери не запирали, тихонечко лег, а утром мама встала, смотрит, я лежу… «Когда, чего, как?!» И я сразу пошел работать в колхоз. Но зная мои способности, и председатель колхоза, и председатель сельсовета, настойчиво мне советовали поступить в Бирское учительское училище. Съездил, поступил, но всего с неделю там проучился и бросил. Потому что дедушка с бабушкой уже старенькие, а маме одной с маленькими тяжело.
 |
Зинов Лукьян Петрович с двоюродным братом. 1941 год. |
Как вы узнали о начале войны?
Я тогда работал в поле. Пары что ли пахали. Вечером пришел, и мама мне сказала. Я даже не поверил: «Как?!», настолько это было для меня неожиданно… А уже назавтра пришли первые повестки. Я тут же пошел к председателю колхоза: «Поеду в военкомат!» Приехал в Бирск и тот же самый старший лейтенант мне говорит: «Как только придет разнарядка, поедешь в то же училище!» Раза три-четыре я по работе приезжал в Бирск, и всякий раз заходил в военкомат: «Ну, когда же?!» Ведь тогда же настроение было такое, что мы их сразу разгромим, и я боялся, что не успею повоевать.
А 24-го июля меня с одним пацаном отправили сдавать в фонд РККА четыре лошадки. Приехали, а меня все домой тянет, словно какое-то предчувствие. На пароме Белую переплыли, и, не доезжая до села километра полтора, смотрю, мама с дядей навстречу едут. «Ты чего?!» - «А что?!» - «Так мы думали, что тебя уже нашли и забрали. Ведь целый день звонят из военкомата». Дома переоделся, чай попил, тут уже молодежь собралась меня провожать. Помню, мама плачет, а я ее успокаивал: «Мама, вот ты плачешь, а мне обидно, что я не на фронт, а в училище еду… Я даже и повоевать-то не успею».
Часов в одиннадцать вечера переправились через Белую, пришел с мамой в военкомат, мне вручили документы и предупредили: «Твой пароход будет в четыре утра!» А как в Уфу приехал, сразу услышал объявление: «Зинов Лукьян Петрович из Бирского района подойти туда-то!» Подхожу, там солдат какой-то: «Пошли скорее, там тебя уже двое суток ждут!» - «Как?!» - «Так ты же старший команды и все только тебя и ждут!» Приходим, а там опять команда в шестнадцать человек. Причем, взрослые, здоровые ребята. Казаков и Крыгин, например, под два метра роста и уже сельхозинститут окончили. Построились и очень удивились, что ими какой-то шпингалет будет командовать…
На вокзале сразу пошел в комендатуру, доложился, и мне говорят: «Как только поезд пойдет, мы вас сразу предупредим!» Возвращаюсь, а четверо уфимских уже ушли в ресторан. И нет их и нет. Пошел за ними: «Пойдемте!» - «Ты чего? Оставь нас!» Но я пошел на принцип: «Если уйду один, то сразу пойду к коменданту!» Нехотя, но все-таки пошли со мной. И буквально минут через 15-20 за нами пришли и посадили в вагон.
Приехали в Челябинск, и я уверенно повел ребят, ведь уже знал, где находится училище. Тут они догадались: «А так ты был здесь уже, поэтому тебя сделали старшим!» Проходим КПП, смотрю, начальник училища стоит. Меня увидел: «О, башкирин идет!» Доложился ему, а он: «Ну, теперь все в порядке!»
Из нашей группы только пятерых приняли: Крыгина, Казакова, Юдина, меня и Васю Уколова, интервью с которым вы уже сделали. Мы ведь с ним в училище в одном отделении учились, и после войны оба жили в Стерлитамаке, но никогда не виделись. И только лет десять назад, когда к 9-му мая в городской газете вышла небольшая заметка обо мне, он мне позвонил: «Помнишь Некрашевича?!», это был наш первый командир отделения. - «Да, а ты кто такой?» - «А я Уколов!»
Каким вам запомнилось время обучения в училище?
Оказавшись в училище во второй раз, у меня была такая радость, что учился я очень хорошо. Но учились мы очень интенсивно и нагрузки были тяжелые. Подъем, зарядка, потом обычно занятия по связи, завтрак, учеба, обед, потом один час отдыха. Потом опять занятия, а после них обычно час физкультуры в зале. Кстати, начальник училища там работал на снарядах наравне со всеми. Потом час личного времени, и затем обычно приходил комиссар эскадрильи майор Бешпалый. На редкость умный был человек. Он проводил беседы, как, что, и делал это так внимательно, спокойно и тепло, как дома. Еще мне хорошо запомнился старший лейтенант Морозов, который преподавал нам навигацию. Очень строгий был преподаватель. Требовал, например, чтобы мы по памяти чертили на сто километров всю карту.
Какими были бытовые условия? Как кормили, например?
Тут или я путаю, или же Уколов ошибается, но по поводу питания в училище я с ним не согласен. Он вам рассказал, что кормили плохо, но я почему-то помню, что нас кормили отлично. Нам же полагался дополнительный «Ворошиловский паек», поэтому кормили нас просто на убой. В столовой столики на четверых, на них тарелки с хлебом. Причем, на ржаной хлеб нормы не было, только на белый. На первое и на второе всегда мясное, но бачок на четверых мы никогда не съедали. А на третье или компот или кисель. Утром завтрак из двух блюд и чай. На сахар нормы не было, и помимо этого нам еще каждый день выдавали по плитке шоколада. И тем, кто не курит, вместо махорки выдавали шоколад. А утром еще сметану давали. В общем, кормили так плотно, что всего мы не съедали. А при училище находилась ШМАС - Школа Младших Авиаспециалистов, так вот шмасовцев и одевали плохо, и кормили, поэтому мы их подкармливали. Но когда начальство об этом узнало, то нам запретили с ними делиться. А когда начались полеты, и зимой и летом, на аэродроме устанавливали палатку, а в ней и чай, и какао и сметана, и шоколад, и булочки. Заходишь, и чего тебе хочется, поел…
И одевали отлично, форма у нас, например, была шерстяная. В баню регулярно водили, белье меняли, нет, бытовые условия были отличными. И ничем кроме учебы мы не занимались, даже полы не подметали и не мыли, все это делали курсанты ШМАС. Мне, например, за все время учебы в училище, лишь раз пришлось полы мыть.
Тот самый белорус Некрашевича, первый командир нашего классного отделения, был заметно старше нас, и учеба ему давалась плохо. И в редкие минуты отдыха, когда естественно хотелось передохнуть или письмо написать, он подойдет: «Помоги! Разъясни! Покажи!», поэтому, по правде говоря, ребята относились к нему не очень, и если появлялась возможность, старились как-то подколоть. И однажды этот Крыгин, мне и Малафееву, наши койки стояли рядом, подсказал: «Ночью намочите ему штанины и свяжите узлом!» Сделали. Утром надо выбегать на зарядку, а тут Некрашевич ругается, никак не развяжет. Пришли с зарядки, всех построили и объявляют: «Курсанты Малафеев и Зинов по три наряда вне очереди!» И старшина, занудный такой еврей, отправил нас мыть туалет.
Стали мыть, но там паркетные полы, и у нас не получается. Старшина несколько раз приходил, но посмотрит: «Перемыть!» И вдруг заходит командир эскадрильи капитан Яровой. Здоровый такой, почти двухметрового роста. Увидел нас: «А вы чего полы моете?» - «Получили наряд вне очереди!» - «А почему так долго?» - «Да не получается чего-то». Тогда он закатал рукава, берет тряпку и сам показал как нужно мыть: «Теперь вы попробуйте». Вроде и у нас получилось. - «Теперь скажите, за что получили?» - «Не знаем!» - «Как не знаете?!» - «Вот кто-то что-то сделал командиру отделению, а мы виноваты!» - «Ладно, отдыхайте!» А утром Яровой вызвал к себе Некрашевича, о чем-то они побеседовали, и он отменил свое наказание. И потом вместо Некрашевича командиром отделения назначили Кожина. Вот к нему уже с уважением относились. И уже после войны мне кто-то сказал, что Малафеев дослужился до полковника, а вот Некрашевич вроде бы погиб…
 |
Зинов Лукьян Петрович, 1942 год |
Летать не боялись?
Наоборот, мне очень нравилось. Словами не описать, какую я радость испытал в первом полете. От радости и возбуждения, даже землю потерял. Инструктор меня в облаках по переговорному аппарату спрашивает: «Курсант, где земля?» А я вокруг смотрю, любуюсь… Единственное но. До меня летал некий Мильштейн, и его очень рвало, всю кабину заблевал. А мне пришлось все за ним драить. Он, кстати, учился на отлично, но где-то в ноябре к нам приехал с концертом ансамбль песни и пляски под руководством Исаака Дунаевского. И когда он посмотрел выступление нашей самодеятельность, то этот Мильштейн ему понравился. Когда выяснилось, что он и на гитаре играет, и на скрипке, и на баяне, то Дунаевский сразу забрал его к себе в ансамбль.
И на бомбометаниях я всегда справлялся. Вначале у нас были небольшие цементные бомбы, килограмма по четыре, их легко было подвешивать. А потом они кончились и пошли тяжелые по 16 и 20 килограммов. А их пока на лыжах подвезешь, пока подвесишь. Там же на замки подвешивать вдвоем неудобно, только одному, а ты в комбинезоне, в унтах, крагах, в общем, пока их подвесишь, вспотеешь десять раз. Но пока до цели подлетишь, продышишься.
В общем, учились-учились, летали-летали, но, то ли в конце февраля, то ли в марте нас вывели на аэродром, построили и объявляют: «Кого назвали, выйти из строя!» И тех, кого назвали, оказывается, отправили в пехоту. Вот тоже странное дело. Учеба мне давалась очень легко, я первым, например, получил от командира эскадрильи благодарность за хорошую учебу. У нас лишь некоторым присвоили звания сержантов, а мне так даже старшего сержанта. Но меня тоже назвали, хотя из нашего отделения оставили в училище человека четыре. Какая логика в этом была, не знаю, но для себя я решил, что оставили тех, у кого уже было высшее образование. И ничего не объяснили, почему, что… Но вы знаете, я не расстроился, а даже обрадовался, потому что был рад тому, что совсем скоро попаду на фронт. Даже писал домой радостные письма, что вот – скоро на фронт. И не только я, у нас почти все стремились поскорее попасть на фронт.
Вначале ехали поездом, потом суток двое шли пешком, и пришли, как оказалось, в Свердловскую область, в Нижние Серги. Там формировался 73-й Укрепрайон. Если не ошибаюсь, он состоял из пяти отдельных батальонов. В каждом по три роты, а в них по три взвода, по четыре отделения.
Но солдаты там уже были, поэтому всех бывших курсантов сразу распределили по батальонам и назначили командирами отделений. Так я оказался в 194-м пулеметно-артиллерийском батальоне и меня сразу назначили командиром 1-го отделения станковых пулеметчиков, и одновременно помошником командира взвода. У нас в каждом отделении было по четыре человека, значит во взводе – 16 человек. В основном солдаты были из числа выздоравливающих из госпиталей и призывы старших возрастов. Например, у меня не было ни одного подчиненного младше меня. Но вот бытовые условия были там не чета училищным. Правда, в этих условиях, мои деревенские навыки позволили мне хорошо проявить себя.
Когда только прибыли в укрепрайон, наш взвод сразу попал на дежурство по кухне. Командир взвода лейтенант Кононенко послал одного за водой, а его все нет и нет. Тогда Кононенко мне говорит: «Сходи за ним!» Нашел его, а у него все не так: и сбруя не так надета, и колесо слетело, а он не знает, как обратно его повесить. Я все это сделал, подогнал как надо, он удивился: «Откуда ты это знаешь?» - «Так я же деревенский!»
А когда в апреле нас послали за овощами, то по дороге я в одном месте приметил ржаную солому. Ведь мы там жили в большой церкви, и на трехъярусных нарах спать было не на чем. Вместо матрасов и одеял только плащ-накидки и шинели. А я подсказал, что эту солому можно взять и использовать. Еще запомнилось, как нам проводили политинформации. Фамилию комиссара уже не вспомню, но этот капитан старался преподносить нам невеселые новости не в таком трагическом виде. Честно говорил: «Да, положение тяжелое», но вместе с тем, делал акценты на каких-то положительных моментах, давал некую перспективу. И я считаю, что он очень правильно поступал. Ведь нельзя же убивать в человеке надежду, сознание и патриотизм. Какую-то радость тоже надо обязательно давать. Нам, например, рассказывали, сколько болванок для снарядов выпустили на этом заводе вчера, сколько сегодня, а сколько выпустят завтра, в общем, благодаря этому, чувства подавленности у нас не возникало.
А как занимались? Василий Иванович рассказывал мне, например, что у них на весь батальон был всего один «максим»: «О каком полноценном обучении могла идти речь? Ни разу не стреляли, только изучали матчасть. Около костра сядем, и читаю взводу виды задержек».
Очевидно, и у нас то же самое было. Помню, что у нас на весь батальон был один деревянный пулемет, мы по нему матчасть изучали. А «сорокопяток» даже и не видели. Но сидеть без дела нам, конечно, не давали. В основном занимались тактическими занятиями, изучали рукопашный бой, кололи эти соломенные щиты. И буквально каждый день выходили на гору, и политрук проводил политзанятия. Помню, что через силу слушали его. Спать охота, ведь за день как набегаешься… И особенно запомнилось как мы там купались. Там был заводской пруд, в котором вода даже зимой была очень теплая. Утром придем, залезем в него, наслаждаемся… В общем, в Нижних Сергах мы пробыли с марта и только в начале июня поехали на фронт.
Дорога чем-то запомнилась?
Особенно ничем. Помню, что один командир отделения отравился в дороге. Этот хохол, полный такой, после госпиталя к нам попал. И как-то мы на обед поели жирную свинину, да еще получили жирную колбасу. Но вот хлеба не было, только сухари. И после того, как он наелся с сухарями этого жирного мяса и колбасы, у него началась дизентерия. Так, когда ему приспичит, мы прямо на ходу открывали дверь, надевали на него связанные ремни и держали... Но в Сталинграде его отправили в госпиталь.
Помню остановку в Городище – это западная окраина Сталинграда. Простояли там несколько дней – ждали оружие. Но пулеметы и пушки так и не получили, только винтовки, карабины и гранаты.
Привезли нас в Ворошиловградскую область, на станцию Новый Айдар. Запомнилось, что вся она утопала в садах, и повсюду были вырыты щели. Но только наш эшелон подошел к станции, как вдруг появились девять «юнкерсов». А надо сказать, что еще по дороге мы потеряли нашего командира роты. Когда он спал на нижних нарах, на верхних обломилась доска, упала, и поломала ему ногу. Представляете, этот боевой, кадровый офицер в третий раз ехал на фронт, и в третий раз не доехал… Вместо него назначили нашего комвзвода Кононенко, а меня назначили и.о. комвзвода. И когда я увидел эти девять «юнкерсов», то отдал приказ всем собрать вещи и приготовиться. Как только поезд притормозил, отдал приказ выпрыгивать прямо на ходу. Эти «юнкерсы», правда, так и не бомбили, но начальник эшелона, какой-то майор, на меня потом набросился: «Ты зачем так сделал?! Почему показал немцам, что везем личный состав?!»
А командиром укрепрайона у нас был полковник Самохвалов, коренастый такой красивый мужик. Кононенко про него рассказывал, что если он на улице замечал своего офицера с девушкой, которая ему не понравилась, то тут же его подзывал: «Ты что, более порядочной не нашел?» И когда меня начальник эшелона начал распекать, Самохвалов вдруг за меня вступился: «Он же правильно поступил!»
Наконец, добрались на отведенные нам позиции. В чистом поле стали копать траншеи, землянки, но буквально на второй или третий день меня со взвода сняли и назначили помошником офицером связи. У нас заместителем командира роты был один капитан, длинный такой еврей. И когда его назначили офицером связи, то себе в помошники он выбрал именно меня. Видимо потому, что связному предполагалось возить донесения на лошади, а он уже знал, что я деревенский и ездить верхом для меня не проблема. Дали мне лошадку, и какое-то время я возил донесения.
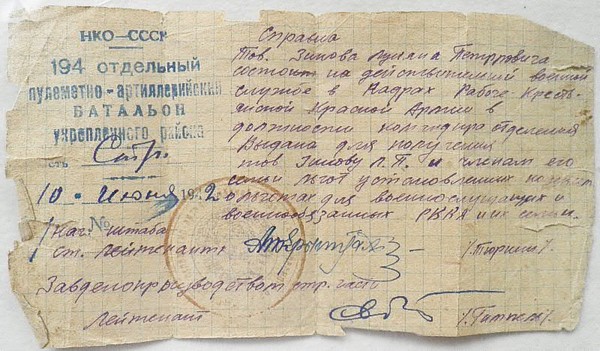 |
Справка |
А вы не расстроились из-за того, что вас из пулеметчиков забрали?
Нет-нет, я даже гордился, что стал связистом. Но в те дни я очень уставал, потому что каждый день взад-вперед проезжал по 40-45 километров. В основном выезжал на передовую поздним вечером. Ехал вдоль посадки, и вы знаете, я такого соловьиного пения в жизни никогда не слышал. Даже спать не хотелось, когда слышишь такое чудо… Приеду, поем, и ложусь спать. А обратно с пакетом выезжал часов в 10-11 утра.
Но однажды произошел такой случай. Как-то выдалась темная, пасмурная ночь и проезжая у посадки я вдруг услышал какие-то голоса в лесу. И когда вернулся, доложил, слышал голоса там-то и там-то. Так что вы думаете? Туда отправили солдат, и они задержали немецких лазутчиков. Полковник Самохвалов объявил мне благодарность, а капитан мне по секрету рассказал, что он приказал меня наградить. Но после этого случая я попросил, чтобы мне хоть одну «лимонку» дали.
А как-то за мной три дня подряд гонялся один «мессершмидт». Всякий раз это происходило утром, когда я возвращался обратно с переднего края. Он видимо на разведку летал и на обратном пути так развлекался. Я останавливался, и если он заходил слева, то становился за лошадь справа, и наоборот. Эта пестрая лошадка была немолодая уже и очень умная. Я ее уговариваю, глажу, хлопаю, а она прямо дрожит вся, но стоит. А летчик, по всей видимости, молодой совсем, немного постреляет, но я так понял, он и не хотел попасть, просто пугал, и улетал. Но когда он совсем низко надо мной пролетал, то я прямо видел, что летчик смеется…
А в ночь на 12-е июля я как обычно выехал на передовую. Приехал часов в шесть, когда уже стало светать. Если ничего не путаю, там перед нашими позициями находилась деревня Орловка. Как обычно поставил лошадку и пошел отдать пакет. Но смотрю, народ кругом гражданский и какие-то военные, но не наши, движутся по дороге. Подхожу, а наших-то никого нет, пустые окопы… Спрашиваю у людей: «Что случилось, где все?» - «Так немцы же прорвались и все отходят!» Вернулся, а моей лошадки-то нет, кто-то на ней уже уехал…
Тогда я напрямую пошел, и, не доходя километров пять до расположения штаба укрепрайона, наткнулся на наш продуктовый склад. Там стояла открытая бочка селедки, и я себе взял одну в вещмешок. А одну съел прямо там, причем с удовольствием. В общем, вернулся в Новый Айдар часов в восемь-девять утра, но после этой селедки мне очень хотелось пить. И там я вдруг встретил одного солдата из моего отделения. Федотов Иван, он был лет на пять-шесть старше меня. Зашли с ним в брошенный магазин, а там совершенно пусто, на полках только томатный сок в бутылках. Только я одну выпил, как вдруг крик: «Танки!» И смотрим, на улице уже прямо паника и все бегут к мосту через Айдар. Мы, конечно, побежали вместе со всеми. А там же сотни людей, кто скатки на ходу бросает, кто противогазы, даже винтовки, и в этой толпе я вдруг увидел Некрашевича. Мельком видел, что он на бегу упал. То ли споткнулся, то ли что, но в тот момент обстрела вроде не было. Берег там крутой, и на берегу мы оказались для танкеток в мертвой зоне.
Добежали до речушки и ничего не снимая, кинулись прямо в воду. А там рядом с нами оказался один знакомый старший политрук из другого батальона. Ему уже лет за тридцать было. Он до середины дошел и окунулся, видимо решил освежиться. И смотрим, не вылазит. Ребята бросились за ним, вытащили, а он мертвый… Очевидно сердце не выдержало. Ведь по такой жаре бежал, а потом сразу в холодную воду…
В общем, в этот первый день мы все время отходили, где бегом, где чего. Танки нас постоянно преследовали, и спасал нас только артиллерийский полк. Два дивизиона вели огонь, останавливали немцев, а один дивизион отходил на новые позиции, и вот так все время. Помню, утром зашли в какой-то хуторок, а там мать и две ее взрослые дочери, все учительницы. Они нам сразу дали сметаны и белый ароматный хлеб. Но только сели есть, тут опять бегут и кричат: «Танки!» Снова побежали… И до сих пор помню, что у меня была только одна мысль - лишь бы в плен не попасть, со мной же пакет.
С полчаса что ли драпали, и вышли к Северскому Донцу. А он неширокий, но очень быстрый. Кое-как переплыли через него, надо дальше идти, а я не могу. У Ивана более-менее ничего, а я себе ноги до крови стер мокрыми портянками… Но все-таки оторвались от немцев.
Идем дальше и часов в двенадцать смотрим, на шоссейной дороге стоит полуторка, метрах в ста от нее группа солдат. Подошли к ним, а у них костер, сами веселые и спрашивают: «Кушать хотите?» Оказывается, их полуторка в темноте врезалась в здоровенного быка. Покормили нас и дали с собой два куска килограммов на пять-шесть: «Где-нибудь да сварите!»
К вечеру пришли в какое-то большое вытянутое село. Заходим в дома, спрашиваем или покушать или мяса сварить, но никто ничего не дает… Смотрим, большой кирпичный дом стоит и на нем написано – «Библиотека». Зашли, а там книг, я в жизни столько не видел. Помню, подумал, уж я бы здесь развернулся. Только читал бы и читал… Нашли там какое-то ведро, лист жести и во дворе развели костер и стали варить мясо. К утру поели, пошли дальше и уже ночью оказались в Ворошиловграде. Легли прямо на тротуар и заснули…
Утром какая-то женщина нас разбудила: «Идите на хлебозавод, там всем хлеб раздают!» Нам дали два больших горячих каравая. По куску съели, водички попили и двинулись в сторону Краснодона.
Пришли в Краснодон и вдруг случайно наткнулись на штаб нашего Укрепрайона. Но моего начальника, этого капитана нет, поэтому отдал пакет начштаба, тот передал Самохвалову, а полковник увидел меня: «Вот это, молодец! Объявляю тебе благодарность! Как только надолго остановимся, представлю к награде!» Потом дал нам задание: «Ступайте на западную окраину, где стоит наш неисправный танк. Оставайтесь возле него, и всех наших направляйте в штаб».
Пришли туда вечером, стали всех подряд спрашивать: «Из какой армии?» Там же две армии отходило – 38-я и 37-я. И ребята из нашей 38-й, словно родные братья, а из 37-й вроде не так. Но мне особенно тяжело было смотреть на гражданских. Идут старики, женщины с детьми. В одной руке ребенка держат, а другой велосипед с вещами толкают. Маленькие дети плачут, воды просят…
В общем, из нашего Укрепрайона мы так никого и не встретили. Под танком вздремнули, а утром по дороге движение заметно оживилось. И кто-то нас спросил: «Чего вы тут ждете, вон уже немцы на подходе!» Вернулись к штабу, а там никого. В городе тишина, на улицах никого нет… Настроение и так не очень, а когда при нас взорвали четыре шахты, совсем уж очень тягостно стало… Это было примерно в 20-х числах июля. (Краснодон был захвачен фашистами 20-го июля 1942 года – прим.Н.Ч.)
Опять вдвоем с Иваном пошли на восток. Частей уже никаких нет, только группы солдат. Прошли полпути до станции Зверево, вдруг нас догоняет полуторка и останавливается. В кузове бочки и человек восемь, все гражданские, а на левом крыле стоит наш командир взвода Кононенко. В гражданской одежде, а пистолет в кармане. Это он, увидев нас, остановил машину. Потом он рассказывал, что где-то они попали в окружение, поэтому им пришлось переодеться в гражданское.
Места в машине не было, и тогда он пошел с нами. Оказалось, что он сутки уже не ел, а у нас в вещмешках и хлеб, и мясо, и сало. Поели и к вечеру пришли на станцию Зверево. Приходим, а там горят и рвутся восемь эшелонов с боеприпасами… Уже в 70-х годах я как-то там проезжал и в окно вагона видел водокачку, всю испещренную осколками. Видимо с тех пор так и стояла.
Зашли в один дом, добрая хозяйка напекла нам пирожков с ливером. Переночевали, а утром когда стали собираться, она увидела мои сбитые ноги и дала мне шерстяные носки. Сапоги к тому времени я уже бросил, в ботинках шел.
Вышли от нее, но прошли всего километра два. Оказалось, что в носках еще хуже, и я уже просто не мог идти. Говорю им, а кроме нас там было еще человека три-четыре: «Не могу идти!» Кононенко мне говорит: «Ты зря носки одел, в портянках лучше. Переобуйся и догоняй нас!» И они ушли вперед, а я минут за десять переобулся, но больше их никогда не видел и судьбы их не знаю…
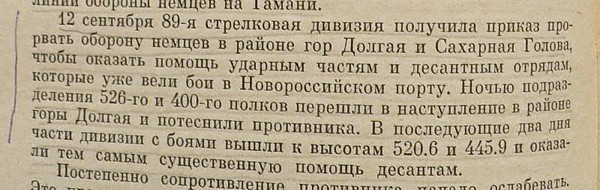 |
Отрывок из книги воспоминаний маршала Гречко |
Пошел один, и через какое-то время меня догнали четыре железнодорожника. Мужики лет по сорок, насколько я понял, руководящий состав. - «Чего сынок?» Так и так, говорю. - «Ну, ладно, пойдем с нами!» Пошли вместе, смотрим, а у скирды сена стоят три лошадки и два человека. Подходим, а это полковник и его ординарец. Железнодорожники ему говорят: «Товарищ полковник, возьмите старшего сержанта, у него ноги совсем сбиты, а у вас лошадь свободная». – «Не могу, я догоняю часть, а это наш резерв». В общем, отказал.
Сели поесть, и тут идет группа во главе с политруком. Фамилия его была или Ильченко или Ильяшенко, что-то в этом роде. Эти железнодорожники объяснили ему, что у них своя задача и попросили, чтобы он взял меня к себе. Вот так я оказался в этой группе, с которой дошел до самой Чечни.
Их двенадцать, я тринадцатый. Все с оружием, даже гранаты имели. Помню, что в этой группе был один младший лейтенант-артиллерист, почти двухметрового роста, с севера откуда-то. А все остальные были с Урала, поэтому решили идти на Урал.
На следующий день выдался очень жаркий день, пить охота, а в станицах воды никто не дает. А колодцы глубокие, но ни цепи нет, ни ведер. Мы все свои ремни свяжем, а они все равно до воды не достают. Так что в тот день без воды нам очень туго пришлось.
А на следующий день у нас на пути оказалась железная дорога, а вдоль нее шоссейная. Подошли к ним и слышим, что за ними шум, вроде как движется какая-то часть. А этот Ильченко был грамотный командир, кадровик, и он сразу сказал: «Нам нужно найти любую часть, а то так не дело!» И мы решили перейти эти дороги. Но только свернули к мосту, как увидели железнодорожника, видимо обходчик, он как закричит: «Тикайте! Тикайте!», а мы не поймем, что такое. И когда до полотна оставалось метров сто, смотрим, с запада на восток идет поезд, и на него заходят девять «юнкерсов».
Мы, конечно, сразу кинулись под мост. Тут шум, визг, и потерял сознание… А когда через пару минут очнулся, темнота, голова гудит, во рту что-то соленое, и чувствую, рядом кто-то шевелится… Пробую кричать, а не могу… Как оказалось, по мосту и полотну ни одна бомба не попала, но одна из них упала с одной стороны, а вторая с другой, и нас всех засыпало…
Кое-как сами отрылись. Все контужены, слышим плохо, сказать ничего не можем… Только откопались, смотрим, а по дороге, по которой мы пришли идет немецкая танковая колонна… Кинулись в близлежащую лесопосадку, и отлеживались в ней до утра, потому что сил совсем никаких не было. Потом еще какое-то время все заикались, а я и слышал плохо, в голове постоянная боль и слабость какая-то.
Все-таки перешли эту железную дорогу и увидели там свежие воронки. Очевидно, немцев даже не столько этот эшелон интересовал, сколько воинская часть. Но тел погибших там не было, лишь валялась одна разбитая бричка.
Пошли дальше и дня два, наверное, шагали. А станицы там длинные и спросишь: «А сколько до следующей станицы?» Столько-то верст с гаком, отвечают. А гак еще столько же… И однажды вечером, перед закатом зашли на один хутор. Подходим к крайнему дому, из него дед выходит. В казачьей фуражке, штаны с лампасами, китель. Спросили его: «Как пройти к следующей станице?» А он так с улыбкой, мы даже не обратили поначалу внимания, отвечает: «Пойдете по этой дороге прямо. Потом свернете налево, потом еще налево». Пошли в точности как он объяснил, и пришли в этот же хутор. Видимо он немцев ждал и хотел нас им сдать… Вернулись, а там уже немецкие танки стоят. И если бы не немцы, то мы бы не знаю, что с этим дедом сделали… Вряд ли бы, конечно, застрелили, просто пристыдили хорошенько, наверное.
А вот следующий отрезок времени, я из-за последствий этой контузии, помню только отдельные моменты. Шли и шли на восток, правда, уже и кушать было нечего, но особенно страдали от жажды. Помню, однажды дождик прошел, так мы прямо из дорожной колеи сделали по паре глоточков. А так, где зерна пшеницы или ячмень разотрем и поедим. Но все равно оголодали, поэтому как-то вечером решили зайти в один хутор. Он вроде как в ложбинке располагался, весь в садах. Спросили одну тетку поесть, а она так резко: «Вы уходите, а нас оставляете?! Нет у меня хлеба!» - «Ну, хоть чего-то дайте!» - «Ничего нет! И вообще идите отсюда, а то немцев позову!» Оказывается, там уже немцы стояли. В общем, застращала нас, и мы пошли дальше. Но недалеко оказался пруд и на нем плавает с десяток молодых гусей. Мы их всех поймали, и решили приготовить. А в этой компании я больше всего подружился с одним танкистом. К огромному сожалению, ни имени, ни фамилии не помню. Старший сержант, казах, но по-русски чисто говорил. И мы с ним пошли искать ведро.
Вернулись к этому же дому, смотрим в колодце два ведра. И он предложил: «Давай глянем, что в них!» Достали, в одном оказалось молоко, а во втором сливочное масло». Потом смотрим, дверь почти открыта. Зашли в сени, чуланчик открыли, нащупали мешочки, в одном соль, а в другом мука. Тоже с собой их забрали. И прямо там за скирдой мы и гусей сварили, и лепешек напекли, в общем, наелись. А на рассвете понесли эти закоптелые ведра обратно.
Увидели ее: «Тетя, возвращаем вам четыре ведра!» - «Нехай!», в смысле не мои. Потом посмотрела: «Як?» - «Так мы же вас просили». – «А что вы делали?» - «Гусей приготовили!» - «Яких гусей?» – «А там на озере плавали». – «Так это, наверное, мои гуси…» Разговариваем с ней, а сами чувствуем, что немцы уже начинают копошиться. Но на удивление она с юмором отнеслась: «Нехай, может, мой мужик тоже где-то так голодный бродит…»
Следующее, что помню, уже как к Ростову подходили. В одном месте смотрим, стоят три человека в пограничных фуражках и в плащ-палатках, потому что дождик моросил. Подходим: «Откуда, чего? А мы направленцы, отправляем всех к лесопосадке. Идите туда, там и кухня есть, поедите!»
Пришли в эту посадку, нас действительно накормили, и какой-то офицер сказал, что старший политрук будет командиром батальона, а мы с казахом командирами рот. Но когда мы поели, Ильченко собрал нашу группу и тихонько говорит: «Все, хлопцы, теперь надо тикать!» - «Как тикать? Ведь нас включат в часть!» - «Так ведь эту часть направят в такое пекло, откуда никто не вернется… Так что давайте по одному в пшеницу! Отойдите метров на двести и ждите». И под видом того, что идем в туалет, мы все оттуда ушли.
Ночью пришли в какой-то населенный пункт. Моросил дождик и мы легли спать в каком-то домишке. Утром нас разбудил хозяин, встали, а у меня голова прямо гудит. Оказывается, он в этом домике хранил табак, и мы им надышались. Спрашиваем его: «Где мы находимся?» - «Это город Аксай».
Потом пришли в Ростов, потому что кто-то нам сказал, что там в магазинах еще можно что-то купить. Запомнилось, что Ростов постоянно бомбили с раннего утра до позднего вечера. Одна девятка улетает, сразу другая прилетает. А в районе завода «Ростсельмаш», у армянского поселка, навели понтонный мост, по которому переправлялись войска. Несколько раз сунулись к нему, но нас даже не подпускали. Немцы бомбили постоянно, а по нему машины идут, танки идут… Если немцы повредили один понтон, его тут же заменяли. Тут кто-то из нашей группы нашел на берегу лодку под навесом. Подходим, там крепкий мужичонка с усами, лет за шестьдесят: «Отец, перевези нас!» - «А на чем я вас перевезу?», он-то не знал, что мы видели его лодку. - «Так ведь лодка у вас есть». – «Не могу, бомбят же…» - «Тогда отец не обессудь. Мы эту лодку заберем и сами в три-четыре рейса переправимся. Деваться ему некуда, и он нас переправил.
Нашли там какой-то штаб, нас зачислили в часть и послали в станицу Ольгинская. Приехали, окопались на окраине, получили пулеметы, но простояли там всего два или три дня. Однажды утром, тоже моросил дождичек, смотрим, летит девятка «юнкерсов». А хозяйка ближнего дома нажарила нам картошки, и мы только позавтракали. Стали нас бомбить, рядом одна бомба упала, другая и ее хата завалилась… Но мы же ее предупреждали, чтобы в доме не оставалась, а она не послушала. А я был у станкового пулемета, и нас с напарником завалило землей. Но спасло то, что пулемет был накрыт плащ-палаткой, поэтому воздух у нас был. Очнулись и чувствуем что дышать нечем… Но этот казах, мой приятель, как увидел, что нас засыпало, сразу кинулся и отрыл. Потом и хозяйку тоже вытащили. И через час у меня опять голова такая, опять плохо слышал и говорил… А уже где-то через час пришел приказ отходить к Сальску.
Дошли туда, а там сады кругом, особенно абрикосовые. И хозяин нам говорит: «Весь хлеб я уже раздал, но поешьте хоть абрикосов в саду». Только начали рвать, смотрим «рама» в небе. А если она появилась, значит все, жди неприятностей… Оказывается, со стороны Ростова подошли немецкие танки, а мы даже окопаться не успели…
Налетели самолеты, стали бомбить и вдруг я услышал какой-то рев, так я впервые увидел «катюши». Это было наше спасение. Восемь «катюш» остановили немцев и дали нам возможность отойти. Нам приказали отходить вдоль Маныча и вот тут я опять с трудом вспоминаю. Снова мы оказались нашей группой, снова нас включили в какую-то часть.
 |
Л-ты Зинов Л.П.; Карагаев Я.Г.; и мл.лейтенант Лобов Д.Ф. (Уфа. Январь 1945 г.) |
Пошли в сторону Сталинграда через калмыцкие степи. Помню, стояла такая жара, настоящее пекло, что я даже представить не мог, как там люди могут жить. Зато по ночам было весьма прохладно. А мы ведь на себе все тащили, на мне, например, и вещмешок, и карабин, только противогаз выбросил. Даже скатки с собой несли, и говорили Ильченко: «Зачем нам эти скатки тащить? Ведь жара-то такая». Но он, видать, очень опытный был, понимал, что они могут пригодиться. И в Калмыкии они однажды пригодились. В холодную ночь раскатали их, накрылись, уснули.
Помню, как шли в сторону Астрахани и стали чувствовать свежий ветер с Каспия. Помню большой калмыцкий населенный пункт, в котором увидели какого-то генерала: на белом коне, в белой бурке и папахе, сам красивый и целый дивизион кавалеристов - охрана. Оказывается, это был генерал Кириченко - командир Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. И по его приказу нас направили на юг. Хотя мы везде просили: «Мы на север хотим, Урал защищать!», но нас все время направляли на юг. В конце концов, оказались в Ставропольском крае в большой станице Московская. У меня до сих пор перед глазами – забитая войсками большая площадь и огромная церковь.
Там нас, по-моему, зачислили в какую-то часть и стояли суток трое. А потом какой-то офицер, подполковник что ли, организовал всех и направил в сторону Ставрополя, мол, там есть линия обороны. Но не дошли до города всего километров восемь, как сначала «рама» появилась, потом «юнкерсы» налетели, и стали нас бомбить и обстреливать. А потом откуда-то появились танки… Слева от нас было поле то ли с кукурузой, то ли с подсолнечником, и только мы в нем спрятались, как появились немецкие мотоциклисты и из автоматов все кругом поливают… И мы ползком, ползком смогли оттуда уйти. С полсотни нас где-то собралось, и двинулись строго на юг.
Через часа полтора-два вышли к небольшому озеру. Обрадовались, конечно, потому что стояла очень сильная жара, и пить очень хотелось. Но один конец озера зарос камышом, а второй чистый. Помню, как кто-то из нас сказал: «В камышах надо воду пить, там вода и чище и холоднее!» Сели, немного отдохнули, тут слышим немецкие мотоциклы идут… Кинулись обратно в подсолнечник. Когда они на берег подъехали, Ильченко сказал: «Все, надо тикать отсюда. Сейчас сюда или танки подъедут или солдаты на обед».
Пошли через степь в сторону гор, которые виднелись километрах в двух-трех. Но идем и идем, помню, в солнечных лучах все колышется, а гора не приближается. Я только потом вычитал, что есть такое явление – мираж. Только после обеда добрались, а там всего лишь небольшая возвышенность, лесок и на его окраине пчельник. Подошли, там дед оказался: «Дед, водички можно?» - «Вон родничок!» Посидели немного, отдохнули, и дед нас решил угостить: «Ваш брат уже третий день идет и идет. Всех угощаю, уже почти ничего не осталось». Наломал нам меда, все тут же его стали его есть, и запивать водой. А она в роднике была прямо таки ледяная. Но он вдруг говорит: «Ребята, чего вы? Нельзя же мед холодной водой запивать - отравитесь!» Нам смешно стало, когда это кто медом травился? Пошли дальше, но на прощание он нас научил: «Станет плохо, постарайтесь все вырвать! А если кто сознание потеряет, идите на хутор, попросите молока, только от него станет легче!» Мы лишь посмеялись, пацаны же…
Но половину пути прошли, и всем стало плохо… А одному совсем плохо, и идти не может и рвать не рвет… И мы втроем, те кому полегче было, пошли на ближайший хутор. Он назывался Верховский, это я хорошо запомнил. Сунулись на хутор, а там немцы… Все же рискнули, в крайнюю хату зашли, а хозяева перепугались: «Ребята, здесь уже немцы! А сосед если увидит, и вас и нас расстреляют…» - «Молочка бы нам, такое дело». Но все-таки дала молока, мы принесли и всем понемножку раздали.
А на краю хутора был очень глубокий овраг, и мы решили в нем переночевать. Ночью этот Верховский обошли, пробрались в овраг, а там нашего брата полным полно… Но он был весь заросший, и немцы в него спускаться боялись. К краю подойдут, наугад постреляют и уходят.
Ночь там просидели, а к утру жажда просто одолела. Вышли на другую сторону оврага, а там тоже хутор, но небольшой. Вдруг слышим, что вода где-то журчит, прямо рядом совсем, а найти не можем. Тут женщина с ведрами идет на коромысле. Мы к ней: «Тетя, а где вода?» - «Так вот же вы совсем рядом стоите!» Оказывается, в этом роднике текла совершенно бесцветная вода, поэтому мы его и не заметили. Зачерпнула, подает: «Только она невкусная совсем!» И на самом деле, совершенно никакого вкуса, словно воздух глотаешь. Примерно как растаявший снег, такая же невкусная. Но потом мне еще раз пришлось видеть такую воду.
В 1945 году я по делам службы оказался в Иране. Недалеко от азербайджанской границы есть такой город Хой. Недолго там пробыл, но в это время нас специально свозили на экскурсию, чтобы показать это местное чудо. Представьте, плывешь на лодке по озеру, Резае что ли оно называлось, вся живность, все дно прекрасно видно, словно никакой воды совсем нет. Плывешь, словно по воздуху и рыбы, словно по воздуху плывут…
В общем, дошли мы почти до самого Моздока, и вдруг команда – «Стой!» Оказывается, там заградотряд всех останавливал и формировал части для обороны. Но всю нашу группу отправили не на передовую, а на работу. Там были огромные запасы шерсти, которые нам приказали грузить в эшелоны. Правда, сказали, что три дня поработаем, а потом нас отправят дальше.
Стали грузить, но ведь каждый тюк по сорок килограммов, а про питание даже разговора не было. А воды бочку привезут, но нас там где-то сотня человек была, и кто успел тот и напился, а нет так извини… Каждой группе поручали погрузить за день по два открытых вагона. Мы их до вечера погрузили, а потом наш политрук собрал нас: «Хлопцы, отсюда надо уходить! Не кормят, воды не дают, да еще немцы вот-вот налетят…» И когда под погрузку подали пульманы, он предупредил, чтобы мы их погрузили так, чтобы в каждом вагоне за тюками могли спрятаться по шесть человек. Так мы и сделали. Ночью их погрузили, накрылись, немного посидели и эшелон двинулся. И не только мы, но и другие солдаты так сбежали оттуда.
А рано утром на первой же остановке мы с эшелона сошли. Оказалось, что мы приехали в Гудермес. Какие-то женщины подсказали нам, что на окраине есть место сбора, куда направляют всех солдат. Пошли, но по дороге увидели виноградник и сразу кинулись туда, настолько хотелось есть и пить.
Явились, а там всего несколько землянок. Зашли мы вместе с моим приятелем казахом, там сидели писарь и капитан: «Документы!» Показали свои красноармейские книжки, и они сразу на клочке бумаге, ни печати, ничего, выписали нам одно на двоих направление: «Южнее Махачкалы формируется новая дивизия. Идите туда, а по пути спросите, где точно!» Попрощались со своей группой и потопали вдвоем с этим казахом.
И добрались мы с ним аж до райцентра Сергокала, где формировалась наша дивизия. Номера уже и не помню, запомнил только огромные деревья грецкого ореха у нашего палаточного городка на окраине. Оказалось, что мы пришли в числе самых первых. На следующий день пришло уже с полсотни человек, и с каждым днем все больше и больше.
Пока людей было мало, я был командиром роты, потом взвода, а потом уже и офицеры подъехали. Причем, что интересно, командирами взводов прислали много узбеков. Хорошие ребята, но по-русски говорили не очень. К тому же эти узбеки только приехали и почти всех их сразу положили в санчасть. То ли климат, то ли что, не знаю. Зато по ночам стали пропадать солдаты, их потом находили убитыми и раздетыми… Один случай, второй, третий, и лишь когда организовали туалет и поставили возле него трех часовых, это все прекратилось.
А потом случилась такая история. В соседнем батальоне служили два сержанта, очень шустрые такие ребята. Рассказывали, что родом они со Ставропольского края, не помню уже названия станицы. И где-то через полмесяца над нашим расположением вдруг появилась немецкая «рама». Помню, старший лейтенант возмущался: «Как же так, кто выдал?!» Прошло несколько дней и вдруг эти сержанты пропали. Как оказалось, дезертировали…
И недели через две-три после этого, весь наш батальон вывели на поляну, построили и объявляют - «Сержанты такие-то оказывается немецкие шпионы! Они сбежали, перешли линию фронта, сообщили немцам, что здесь формируется новая часть, и потом вернулись полицаями в свою станицу!» Но специально за ними послали полковую разведку, она их схватила и привела обратно… И они оба признались во всем, но, что удивительно, их не расстреляли. Зачитали решение трибунала – «по десять лет каждому»…
 |
Зинов Л.П., Уфа. Январь 1945 г. |
Хотелось бы спросить вот о чем. Некоторые ветераны, описывая лето 42-го на Сталинградском направлении, используют по большей части только одну краску – черную. Все было кошмарно, кругом одни лишь трусость, предательство и повальное дезертирство. Вот у вас лично, в этот тяжелейший для страны момент, какое настроение было? Не появилось ли мыслей о том, что можем проиграть войну?
Нет, что вы! О том, что можем проиграть, мы и не думали. Такой вариант даже не рассматривался. Это сейчас Сванидзе и ему подобные всякий бред и говорят и пишут. А я за весь наш путь, ведь сколько мы прошли, сколько людей повидали, но хоть убейте, я вот не помню какого-то ощущения безнадежности. Наоборот, помню настрой людей воевать до конца. Даже помню такой случай. В каком-то селе к нам пристали двое мужчин лет пятидесяти: «Сыночки, вам же оружие все равно не нужно, а мы тут остаемся. Отдайте нам!» А в нашей группе все были заряжены, чтобы поскорее попасть в какую-либо часть. И, например, на всем нашем неблизком пути был только один разговор – лишь бы до Волги добраться, а уж дальше мы немца не пустим. А когда направили на юг, думали, что как-нибудь Каспий переплывем и станем защищать свой Урал.
А как, например, люди встречали? Ведь многие ветераны признаются, что казаки и кавказцы не очень радушно принимали наших солдат.
Скажу лишь то, что я лично видел и пережил. На западе Ростовской области, действительно, встречали недружелюбно. Я же вам рассказал эпизод с тем дедом. Никто ничего не давал, и мы шли голодные. И в Калмыкии тоже встречали не очень. Но там и населенных пунктов было очень мало, а сами калмыки по-русски почти не говорили.
Зато ближе к Ростову, в Краснодарском крае и на Ставрополье, словно другой народ. Зайдешь в станицу, а люди со всех сторон зовут, стараются чем-то угостить. Все нам готовы были отдать. И на Северном Кавказе было то же самое. Куда не придешь, и в Чечне и в Дагестане, где бы ни зашли в дом, везде по-доброму встречали, очень гостеприимно. И накормят, и в дорогу с собой дадут. Поэтому сейчас, после всех этих событий в Чечне, я с удивлением вспоминаю, с какой добротой, с каким гостеприимством нас там встречали. Это, конечно, особый народ, но я так понял, что если к ним с уважением, то и они с уважением к тебе. А уж если стал его кунаком то все, в обиду он тебя не даст.
Мы отвлеклись на моменте, когда шло формирование вашей дивизии.
В общем, в Сергокала стало быстро поступать пополнение. Мы проводили боевую подготовку, а потом у нас устроили смотр, и по его итогам командир полка за хорошую подготовку взвода объявил мне благодарность.
Но как-то ночью за мной пришел комиссар батальона: «Собирайся!» - «Далеко?» - «Учиться поедешь!» Я расстроился: «Да как же так, я ведь на фронт хочу!» - «Успеешь еще. Собирайся!» Нас троих посадили на полуторку и отправили в Махачкалу на курсы младших лейтенантов. Приехали, а там таких как мы, уже целая рота.
Помню, тремя взводами командовали три даргина – хорошие, добрые ребята, бывшие учителя. А командиром роты был майор Глопчастый, рыжий такой еврей, сухой, выше среднего роста. Справедливый, но как мне казалось излишне требовательный. А может, мне просто так показалось, ведь мы очень уставали, а кормежка была плохая. Так мы за счет чего спасались. Курсы располагались в здании Сельхозинститута, и на строевую подготовку нас выводили на площадь между Старой и Новой Махачкалой. А рядом с ней находился рыночек, и женщины оттуда или чебуреков нам дадут, или лаваш, но чаще всего давали грецкие орехи. Но в Махачкале мы проучились недолго.
Туда чуть ли не каждую ночь прилетали бомбить немецкие самолеты, и однажды в середине ноября произошел такой случай. Половину здания занимали курсы «Выстрел», а половину наши курсы, всего с полтысячи человек. И в ночь, когда я дежурил по роте, в наше крыло попала бомба. Пробила крышу, перекрытия и взорвалась на 4-м этаже, на котором никто не жил, прямо над расположением нашей роты.
Но по сигналу воздушной тревоги все уже спустились в укрытие, и только я как дневальный остался. Стоял в проеме дверного косяка и тут этот взрыв. Конечно, все окна повылетали, штукатурка посыпалась… Потом смотрю, Падалка в крови лежит… У нас командиром одного из отделений был полный такой украинец по фамилии Падалка. Хороший парень, года примерно с 17-го или даже постарше, но он после фронтовой контузии мог хоть по трое суток спать и мы никак не могли его разбудить. Спал и оправлялся под себя - болезнь… Подбежал к нему, а он лежал на койке у окна, и очевидно его осколками стекла посекло. Но продолжал спать. Кое-как разбудил его, объясняю так и так, а он понять ничего не может… И вот после этого случая нас из Махачкалы перевели в райцентр Карабудахкент.
Жили там в школе, но кормили все так же плохо. Да еще осень в тех местах противная, сырая, и на нас вечно все сырое было. И помню, когда приехал начальник курсов, подполковник, заместитель командира 58-й Армии по кадрам, в годах уже, сухощавый такой, одним словом, настоящий кадровик, то мы ему пожаловались на бытовые условия. А он нам так ответил: «А вы знаете, как Суворов своих солдат учил? Ешь солому, но форс не теряй!»
Зато занятия были очень напряженные. Подъем, умылись, позавтракали и целый день на занятиях. Запомнился один случай. Как-то нас вывели на полевые занятия по топографии, и повели в сторону Буйнакска. Помню, проходили мимо места, где лежало много погибшего скота эвакуированного с Украины. Прямо так лежали, и их трупы рвали волки и шакалы. А день выдался теплый, солнечный, и когда мы остановились возле одного аула, кто-то предложил нашему командиру: «Товарищ майор, у нас есть кое-какие деньги, может, мы скинемся и купим у местных барашка?» Он разрешил и из роты нас троих отправили купить.
Подошли к крайнему дому, там дагестанец сидит. Молодой, по-русски хорошо говорит. Спрашиваем: «Где у вас барашка можно купить?» - «А зачем вам барашек, если готовое мясо есть? У меня свежего мяса много. Сколько у вас денег?» Назвали сумму. – «Ууу, я вам на эти деньги три-четыре барашка дам». Привел нас к себе. А у них, оказывается, на зиму барашков режут, мясо от костей отделяют и оставляют сушиться под крышей дома. Но как поглядели, а там по мясу такие черви ползают и такой запах, слово целая корова пала… - «Неет, спасибо, такого мяса нам не надо!» - «Ладно, сейчас я вам трех барашков зарежу». Сходил, принес трех барашков. И сам спросил: «А в чем готовить будете?» - «В котелках!» - «Зачем?! У меня казан большой есть, сразу трех барашков в нем и приготовите! Крупа есть, лапша, овощи, суп сварите!» И мы в этом казане такой суп приготовили… А потом предложил нам: «Там свалена свежескошенная трава, идите на ней поспите!» Вот вам и ответ к вопросу об отношении к нам местного населения…
В общем, так и учились. Но на этих курсах мы должны были проучиться шесть месяцев, а на деле получилось всего три. 27-го декабря, только уснули, как вдруг нас подняли по тревоге. Зачитали сорок семь фамилий, в том числе и мою: «Выйти из строя!», а всем остальным «отбой!» Отвели в столовую, и такой шикарный обед устроили, и мясо, и сухарей по две нормы выдали: «Вам досрочно присвоены звания младших лейтенантов, и завтра вы поедете на фронт!» И выдали по лоскутку красного материала и по листочку оберточной бумаги, напоминающей фольгу: «Нарежете из нее себе кубари на гимнастерки и шинели!»
А как вы считаете, на этих курсах вас хорошо успели подготовить?
А я откуда знаю? Конечно, не кадровые офицеры, но со взводом вполне могли управляться.
 |
Зинов Л.П., май 1945 г. |
И куда вас направили?
Утром нас на полуторках отвезли в Махачкалу и там меня назначили старшим группы из девяти офицеров. Как сейчас помню: два даргина, два кумыка, два лезгина, еврей и двое русских: Коля Попов и я. Дали пакет сопроводительных документов, сухой паек на двое суток и 31-го декабря 42-го мы нашли штаб своей 89-й стрелковой дивизии. Оказывается, это была армянская дивизия. И всю нашу группу определили в 526-й полк. Под вечер прибыли в расположение штаба полка, доложился, пакет отдал и мне старший лейтенант отдал приказ: «Вот тебе пятьдесят восемь человек пополнения, две брички, пять лошадей, два ездовых, два писаря и полковые документы. Ты старший – отведи всю группу в полк!» А когда остались с ним наедине, он меня особо предупредил: «Там паек на два дня, но ты сегодня никому ничего не давай! А утром кипяток вскипятите и поедите!» Спрашиваю: «А где хоть искать полк?» - «Не знаю! Идите в сторону Прохладного и где-то там найдете!»
Утром позавтракали и двинулись. А ночью выпал снежок и в одном месте смотрю, а у нас по пути из-под него виднеются противотанковые мины. Кричу: «Стой! Стой!» Но ездовыми были пожилые армяне, которые по-русски не понимали, и я пока к одной бричке подскочил слева, за вожжи схватил, правое колесо наехало на мину, взрыв и я ничего не помню…
Очнулся, слышу тихо… Голова гудит, но живой… Попробовал перевернуться, не получается. Тут слышу крик: «Лейтенант живой!» А в этой группе была одна девушка-санинструктор, она сразу подскочила. Посадили меня, но сразу стало рвать, и то что я съел, все из меня вышло… Сразу стало легче, но почувствовал какую-то опоясывающую боль. И голова болит, на ней большая шишка от удара чем-то. А в левом бедре занозы от удара доской от брички... Спрашиваю: «В чем дело?», хотя сам все вспомнил. Оказывается, обе брички и четверых коней порвало... Ездовому на той бричке, что я пытался остановить, оторвало обе ноги ниже колена, а второму одну ногу оторвало… Писарям осколками попало, а меня, оказывается, метров на десять отбросило взрывом… И пока эта девушка всем раны обработала, тут и я очнулся.
Понятно, что в первую очередь нужно спасать раненых. Это все случилось у Малого Малгобека, а тот еврей, что был с нами, родом был из Грозного, поэтому я приказал именно ему: «Из двух колес и досок сделайте волокушу, положите на нее всех четверых. Возьми двух-трех в помошники, запрягайте лошадку и немедленно везите их в Грозный!» А всем остальным раздали все имущество, все документы и пошли вперед.
Первую ночь заночевали в кабардинской станице Урожайная. Старейшина нас очень радушно встретил. Помню даже, что ему было семьдесят два года, а жена молодая, чуть за тридцать. Мы с Поповым остановились в его доме, так нас и угостили хорошо, барашка зарезали, и чачей пытались угостить. Потом на разговор пришли еще четверо старейшин.
А утром встали, а он нам и мяса дает, и пирогов, которые жена напекла, и масла, в общем, гостинцев полвещмешка набралось. Собрались, и у всех такая же картина. Всех очень гостеприимно и радушно встретили, продуктов в дорогу надавали. Двинулись дальше и 3-го января нашли свой полк.
Командир полка – подполковник Акопян сразу забрал Попова к себе в ординарцы, а я попал в пулеметную роту 1-го батальона. Там офицеров было всего трое: командир роты - лейтенант Саакян, политрук – бывший директор средней школы, который чисто по-русски говорил и я.
А я после этого взрыва с палочкой ходил, нога-то болит. И командир полка это увидел, узнал, в чем дело и говорит: «Давай выпишу тебе направление в госпиталь! Хоть в Ереван, хоть в Тбилиси!» Но я категорически отказался: «Никуда я не пойду!» И полковой врач меня тоже убеждал: «У вас что-то с желудком. Да и на голову шапка не налазит из-за шишки», но я все равно отказался.
А в роте всего один солдат, ереванец сержант Погосян, говорил по-русски, больше никто. Спрашиваю политрука: «И как же я командовать буду?» - «Не волнуйся! Будешь командовать только Арач – вперед! А все остальное Погосян вам будет переводить, и будет учить вас языку. Через него и будете командовать».
Но уже где-то через неделю должности политруков роты ликвидировали и его направили куда-то в штаб. А комроты и по-русски плохо говорил, да и какой-то недружелюбный был ко мне. Но и он вскоре куда-то пропал, даже не помню куда, и я остался за командира роты. Три станковых пулемета, две повозки и человек двадцать, наверное.
Тут как раз началось наступление, и дня через два у нас на пути оказалась станица Московская. Там нам дали двое суток отдыха, и после этого перевели в первый эшелон. Но для того, чтобы выйти на позиции, нам пришлось трое суток подряд проходить по семьдесят километров. Ведь вся железная дорога была разрушена напрочь. Абсолютно все стыки рельсов были взорваны немцами… И так от Малгобека до самой Тамани, поэтому снабжение в тот период было очень скудное. А вернее сказать, его и не было вовсе. Если не ошибаюсь, больше месяца мы ничего не получали, ни сухаря. Питались только тем, что смогли найти. Были, как говорится, на подножном корму. Спасало лишь то, что кругом было много неубранных полей, где кукурузы в поле найдем, а раза три находили гурты пшеницы. Немцы их, правда, перед отходом чем-то облили и подожгли. Но сгоревшее разгребешь, а под ним хорошее зерно.
И дважды там захватывали немецкие склады с продовольствием. Мне тогда довелось есть немецкий хлеб 1923 года выпуска. Брикет распечатаешь, в котелке заливаешь кипятком, и за десять минут, он разбухает на весь котелок. Причем очень вкусный. Правда, мы не знали, что он несоленый, а потом стали растворять в кипятке соль. И еще белые немецкие галеты запомнились.
Большие такие, примерно 10х15 сантиметров, тоже вкусные и на редкость энергетические. Всего двух галет хватало на сутки. В первый раз я целую галету съел так мне даже плохо стало. А потом за раз всего по полгалеты и достаточно.
Запомнилось, что километров восемь не доходя до Минеральных Вод, по шоссейной дороге стало просто невозможно идти. До самого города все было забито брошенной немецкой техникой: танки, тягачи, пушки… В общем, так мы наступали почти до самого Ейска, а там у нас произошел бой за небольшой хутор, который возможно предрешил мою судьбу. Помню, метрах в 300-400 от него стояла то ли конюшня, то ли коровник, и там на ночь расположился штаб дивизии и наш полк. А под утро двум нашим батальонам приказали взять этот хутор.
Один батальон зашел с фланга, а наш атаковал в лоб. Стреляли-стреляли, но атака захлебнулась. Тут еще подошли немецкие танки, а у нас ни одной пушки, только винтовки и пулеметы, и батальон дрогнул. Стали отходить по чистому полю…
И тут ко мне подскочил подполковник, видимо, начштаба дивизии: «Лейтенант, останови их! Пристрелю, останови панику!» А я же пацан совсем еще был, что делать, не знаю. И тут мысль – стрелять поверх голов. У меня в пулемете неполная лента, но я как дал очередь поверх голов, расстрелял ее до конца, и все сразу залегли. А сам думаю, неужели кого-то задел?.. Тут бой стал стихать и я вдруг прямо за пулеметом уснул. Видимо, от всех этих переживаний, и оттого что суток двое-трое не спал и не ел, на пару минут не то забылся, не то задремал. И очнулся лишь, когда невдалеке разорвался снаряд.
Смотрю, наши ушли вперед, и нужно идти за всеми, а я ног не чувствую… Вначале даже подумал, что мне ноги оторвало. Посмотрел, нет, на месте, но совсем их не чувствую. А метрах в двухстах от этого места стояла санчасть полка. Добрался в эти сараи, сапоги стащили, а ноги-то я отморозил… Мы же пока два дня с немцами возились, все время мокрые были. Спиртом или водкой ноги мне растерли, дали сухие портянки. Правда, какое-то время после этого толком я ходить не мог. В общем, пока я разбирался в санчасти, полк ушел вперед, и меня назначили старшим полкового обоза.
Шли долго, если не путаю, проходили через станицу Каневскую. Помню, я все боялся на немцев напороться. Подъедем к какому-то строению, а кто внутри, наши или нет, неизвестно. И только по говору определяли: грузины или азербайджанцы, ага, значит, из соседних дивизий. На рассвете подъехали к хутору, и обоз вдруг встал. А я оказался в середине обоза, смотрю, бежит солдат и на ломанном русском языке пытается мне объяснить: «Товарищ лейтенант, нельзя проехать! Там наши армяне лежат!» Чего лежат, думаю?.. Пошел посмотреть, а там по дороге даже проехать нельзя было, все трупами завалено… И дорога, и кюветы, сплошные трупы, трупы, трупы…
 |
Зинов Л.П.с женой Лидией Ивановной, май 1945 г. |
Оказывается, там с двух сторон дороги стояли кукурузные что ли копны, и когда колонна дивизии втянулась между ними, оттуда по ним открыли огонь из пулеметов… Так зажали их, что там и командир дивизии, и замполит и начштаба и другие офицеры погибли… (По данным ОБД-Мемориал командир 89-й стрелковой дивизии полковник Василян А.А. погиб в бою у станицы Новоджерелиевская 10.02.43 г. – прим.Н.Ч.) А в обозе в одной повозке ехал больной командир нашего полка Акопян. Пошел к нему, доложил, но сам я был в таком состоянии, что у меня просто в голове не укладывалось. Думал, если бы не обоз, то и я бы там лежал… (В интернете есть воспоминания об этом бое бывшего начальника штаба 417-й стрелковой дивизии полковника Черных: «8-го февраля 1943 года мы освободили станицу Новоджерелиевская, но немцы тут же окружили нас, и два дня нам пришлось вести бой в окружении. В сложившейся ситуации командующий 58-й Армии принял решение отправить к нам на выручку 89-ю армянскую дивизию. Выполняя приказ, дивизия ночью выдвинулась на исходные позиции от хутора Гарбузова Балка, но по дороге попала в засаду. По словам очевидцев, ночью армяне разожгли костры, но на открытой местности были обнаружены, и подверглись атаке большого количества немецких танков… Мне шесть раз пришлось работать в Центральном архиве Министерства Обороны, и я лично видел, что записано в архивных документах 58-й Армии по этому бою: «В результате преступно-беспечного отношения…» По некоторым данным, в тот день во время танковой атаки гитлеровцев погибло около трех тысяч воинов 89-й армянской дивизии… - прим.Н.Ч.)
Двое или трое суток мы хоронили своих товарищей, а потом приехал эскадрон в 150-200 человек во главе с Кириченко. Опять он был в своей белой бурке. Нас было человек двести, комполка всех построил, доложился, но тот даже с лошади не слез, махнул только: «Идите в Ейск!» и сразу уехал.
В Ейск мы пришли 19-го февраля, это я точно запомнил. Хозяйка дома, немолодая уже женщина накормила меня, и заставила снять всю одежду. У нас ведь вшей было видимо-невидимо… На фронте-то нормальной бани не было, купались в каких-то речках, и стриглись где придется.
Я помылся в корыте, она дала мне мужнину одежду, а все мое постирала. И спал я как убитый… Но ведь вроде и помылся как следует, и голову специально вычесывал, а утром встал, вся постель во вшах… И вот в Ейске мы простояли аж до сентября 43-го.
Чем занимались в это время?
Все это время шло переформирование дивизии, ведь от нее по сути остались только рожки да ножки… Но одновременно, конечно, и несли службу. Сначала мы стояли в городе, и на косе от рыбзавода по берегу лимана моему взводу выделили участок обороны в полтора километра, хотя во взводе тогда осталось всего семь человек. А дотов было пять или шесть, и вечером я всех разводил, а зима, ветер, море все замерзшее, в торосах, а костры жечь нельзя… Так я всю ночь ходил от одного дота к другому, проверял, живы ли… А жили в это время в порту в весовой будке рядом с рыбзаводом. Днем все ляжем, укроемся, а на ночь опять туда…
А когда в первых числах мая завод заработал, нас стали бомбить немцы. Уже не помню, какого числа, только кухня привезла обед, как налетели немецкие самолеты. На заводе были жертвы, а в моем взводе одному солдату оторвало пятку.
А как-то в июле морем пришел немецкий десант. Трижды они подходили метров на восемьсот, но мы сразу развернули свои девять пулеметов, заняли оборону в окопах, и они помаячили-помаячили, но потом развернулись и ушли.
А потом нас из города вывели в станицу Широчанка, которая там совсем с городом. Где-то с полмесяца там простояли. Все это время дежурили, но в основном занимались боевой учебой с молодежью. У нас ведь как только пришли в Ейск, всех простуженных и больных сразу отправили на лечение, а вместо них прислали большое пополнение. Все молодые армяне из Армении, грамотные, и почти все умели говорить по-русски. Правда, через какое-то время я уже и сам многое по-армянски понимал и кое-что говорил. Ведь в полку я остался единственным русским, поэтому через какое-то время я у них нахватался, и, например, на занятиях все устройство пулемета объяснял сам на армянском языке. Но, при этом, в знак уважения ко мне, все армяне при мне говорили меж собой исключительно по-русски. Хотя для многих это было весьма непросто.
А потом нас перевели на берег лимана, в совхоз за аэродромом. Там вырыли землянки, обжились, и запомнился случай, когда получали лошадей. На роту нужно было отобрать восемь лошадей и три брички. С нашим командиром роты – Эдиком Айдиняном стали их выбирать. Но он-то сам городской парень, вроде даже как москвич, поэтому в лошадях не разбирался и захотел выбрать здоровых. Но я выбрал небольших, причем, только кобылиц, потому что знал, что они более выносливые и приспособленные к тяжелому труду. Он удивился: «Ты чего? Хороших надо!» - «Потом объясню!» И когда выбирали брички, он тоже выбрал такие мощные, но я выбрал те, что более-менее легкие. Потом объяснил ему: «Большой лошади нужно много корма! А везти эти брички смогут и небольшие лошадки. И учти, если бричка сделана из толстых тяжелых досок, то это еще не значит, что она прочная!» - «Откуда ты все это знаешь?» - «Так я же деревенский и с детства с лошадьми дело имею».
И пока мы там стояли, решил немного переделать эти брички. Придумал сделать в них приспособления для пулеметов. Нашли подходящие доски, осталось лишь найти хорошего плотника. И когда нас в августе перевели в расположение плодовой бригады колхоза «1-я пятилетка», я обратился к его председателю. Колоритный такой был казак по фамилии Кизил, усатый, коренастый. В Гражданскую войну его наградили орденом «Красного Знамени», и я решил обратиться к нему, как к бывшему вояке.
Приехал к нему, познакомились, и спрашиваю: «У меня одна бричка очень тяжелая. Может, у вас найдется мастер, который облегчит ее?» - «Обожди, я сам завтра приеду к вам и посмотрю!» Приехал, посмотрел и говорит: «Я вам поменяю, дам две хорошие кавалерийские брички!» И одна из наших кобылиц ему настолько понравилась, что он попросил Айдиняна: «Эх, это же такая лошадка, я бы ее на развод оставил!» Договорились, и вместо нее он дал нам другую лошадь.
А в конце августа к нам с проверкой приехал новый комдив – Нвер Сафарян. Совсем невысокий, примерно, 1.55-1,60, тщедушный такой, даже можно сказать невзрачный, но очень умный, энергичный, твердый и боевой командир. Он с 41-го года успешно командовал какой-то дивизией, поэтому его назначили к нам. А у меня в роте старшиной был очень умный мужик, я еще обязательно расскажу о нем. И когда Сафарян приехал к нам на хутор, обходил строй, мой старшина ему вдруг говорит: «Товарищ полковник, а вы меня не узнаете?» Тот смотрел-смотрел, а потом вспомнил: «Аааа, так вы же в 32-м служили у меня в роте старшиной!» А как увидел меня, только на русском стал говорить.
В общем, Сафарян проверял все, в том числе и транспорт, и наши лошади ему очень понравились: «А где вы такие брички достали?» И старшина ему говорит: «Это все наш лейтенант Зинов подбирал!» – «Молодец, вот если бы все так!»
А в мае, когда ввели погоны, то у всех кто ходил в сапогах, их забрали и выдали ботинки с обмотками. Даже командирам батальонов, только комполка и начштаба остались в сапогах. А мы еще, когда у рыбзавода стояли, получили английские ботинки. Из толстой кожи, но очень мягкие и прочные. Но беда в том, что чуть роса – ноги сразу мокрые… А как раз шла путина, на заводе делали консервы из хамсы и кильки, и там стоял огромный чан с рыбьим жиром. Так кто-то предложил пропитать им ботинки, и они сразу перестали пропускать влагу. И тогда же по всей дивизии пошла мода - шить сапоги из плащ-палаток. Потом натирали их гуталином и все отлично, легкие, удобные. Но комдив их увидел: «А сапоги-то придется сдать!» Спрашивает старшину: «Разве вы не получили еще солдатское обмундирование?» - «Нет, никто ничего не говорил». – «Ладно, через несколько дней поведут в баню и видно там уже выдадут!» И действительно, когда в бане помылись, всем выдали солдатское обмундирование, и всех, даже офицеров постригли под машинку. А мы все недоумевали – зачем офицерам солдатские гимнастерки с пилотками? А оказывается.
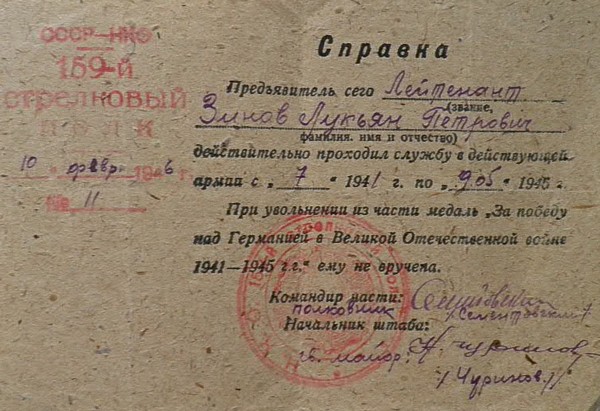 |
|
Когда в начале сентября нашу дивизию перебросили под самый Новороссийск, на «Голубую линию», то оказалось, что в дивизии, которую мы сменили, почти совсем не осталось офицеров. Немецкие снайпера всех выбили, специально за ними охотились, и именно поэтому нас всех заранее переодели в солдатское обмундирование.
А у нас командиром минометной роты был старший лейтенант, Геворкян что ли, который вел себя несколько высокомерно. Так он ослушался приказа, и все-таки надел фуражку и широкий ремень. А по пути на позиции, мы проходили место, которое простреливалось просто насквозь, там же до немцев было всего метров двести… Раньше там стоял густой лес: дубы, тис, но от него ничего не осталось, сплошные пеньки… И только мы вышли из этого бурелома, чтобы спуститься в овраг, как с Геворкяна пулей сбило фуражку… Комбат крикнул ему: «Падай!», а солдаты его подхватили и унесли. И после этого он тут же переоделся.
Пришли на позиции, но оказалось, что между нами и немцами всего метров сорок. Причем мы внизу, а немцы на горе над нами, поэтому они нас постоянно гранатами забрасывали, но мы их хватали за длинные ручки и швыряли обратно. А окопы у нас были не глубже пятидесяти сантиметров, почва-то каменистая, и копать там очень тяжело. Поэтому днем все прятались в укрытиях, а все передвижения осуществлялись исключительно ночью. Конечно, в таких условиях трудно организовать нормальное питание, поэтому ели в основном тушенку и сухари. Но после одного случая вопрос полностью решился и нам стали регулярно привозить горячее питание.
Для офицеров батальона там обустроили одну землянку в три наката, и днем мы в основном находились в ней. Чаще всего в карты играли. В дурака на патроны. И вот как-то раз сидим в этой землянке, в карты играем и ждем, пока ординарцы обед принесут. Вдруг, слышим один из них за дверью говорит по-армянски: «Ты чего своей ложкой лезешь ко мне в котелок? Если хочешь еще, иди, попроси добавку!» А потом слышим по-русски: «Товарищ солдат, я просто хочу попробовать, как вас кормят!» Заходит человек, сразу понятно, что какой-то старший командир, мы сразу повскакивали: «Продолжайте товарищи!», развернулся и вышел. Но там же темно было, и мы не разглядели, кто это, и только потом узнали, что это был сам маршал Тимошенко.
Но это еще ладно, вот когда воды нет, это уже намного тяжелее. А как раз с водой там было совсем туго, потому что ее приходилось возить за два-три километра на ишаках. Недалеко со стороны немцев протекал родник, но они у себя положили поперек него труп нашего солдата. Так мы ее наберем, в пулемет зальем. Пару очередей дадим, она кипит, остужаем и только потом пьем…
А прямо перед нами на запад, невдалеке была большая станица Неберджаевская. А в роте у нас служил бывший водитель комдива Сафаряна – Сергей. Его настоящая фамилия была Акопян, но он писался Акопов, потому что всю жизнь прожил в Баку. А работал вроде бы механиком на рыболовном судне. Ниже меня ростом, но человек просто неимоверной физической силы. Когда начинали бороться, он мог справиться с шестью-восемью одновременно. И рассказывал, что когда ремонтировал машины, то сам поднимал и перетаскивал двигатель. Хороший парень, но вот почему его перевели в пехоту, так и не знаю. И был еще один старший сержант, чуть выше среднего роста, жилистый такой, и они вдвоем как-то мне предложили: «А что если ночью попробовать перейти линию обороны и узнать что там?»
Я с комроты переговорил: «Разреши мы ночью сходим, может, что-то узнаем». - «Надо с комбатом согласовать!» А комбатом у нас был капитан Мовсесян. Хороший, он, например, всех офицеров только по имени звал, но уж очень горячий. Но мы были уверены, что комбат не разрешит, поэтому решили пойти на свой страх и риск. Не очень умно, конечно, поступили.
Днем наметили путь, которым пойдем, и темной ночью втроем тихонечко забрались на крутой подъем. Тишина. Но насколько я понял, у немцев в окопах были только наблюдатели, а основная часть солдат жила непосредственно в станице. Они, например, в хорошую погоду заставляли местных женщин петь для нас песни.
Прошли метров двести-триста вперед и наткнулись на корзины с виноградом. Как раз в это время началась уборка винограда, и видимо его там собирали и складировали. Никакой особой цели у нас не было, поэтому мы просто забрали по одной корзине и пошли обратно.
Когда вернулись, всем раздали по веточке, в том числе и комбату. – «Где взяли?» Когда ему рассказали, он, конечно, сильно возмущался: «Это же преступление!» Но командир роты автоматчиков – Эдик Саакян, боевой умный парень за нас вступился и успокоил его. Так потом за этим виноградом стали чуть ли не каждую ночь ходить. Все по очереди ходили, я тоже еще разок сходил, и ни разу никого из нас немцы не обнаружили. Но о том, что мы ходили к немцам все молчали, и кроме комбата никто не знал. Думаю, если бы кто узнал, наверное, нам бы несдобровать. А ведь «Голубая линия» была настолько укрепленной, что до этого как ни пытались ее прорвать, никак не могли.
Но уже чувствовалось, что вот-вот пойдем в наступление. Например, как-то днем провели разведку боем с целью выявить огневые точки. Очередь дадим и сразу хватаем пулемет и бежим на новое место, потому что немцы тут же накрывали из минометов и гранатами забрасывали.
А 12-го сентября, когда началось наступление, несколько человек заранее пробралось к немцам, открыли там беспорядочную стрельбу, и когда у немцев началась паника наш батальон, полк и дивизия прорвались в эту брешь. Причем, у нас говорили, что именно наш полк первым прорвал «Голубую линию». Так это или нет, точно не знаю, но в мемуарах Гречко есть упоминание об этом.
В общем, так мы прорвали «Голубую линию» и пошли в наступление. Помню, метров через триста оказалась вторая линия обороны, а там в землянках: и перины, и подушки, и сменные стельки, чего там только не было…
Освободили Неберджаевскую и после обеда нам на поляне в лесу устроили привал. А дня за три до наступления в тыл к немцам ушли трое ребят из полковой разведки и не вернулись. И когда мы там остановились на привал, комполка отдавал офицерам дальнейшие распоряжения, вдруг видим, что солдаты стоят кучей и ржут. Подходим, там на пеньке сидит немец, а солдаты ему на член надели дополнительный заряд для мины и подожгли… Комбат спросил: «Кто это устроил?!» А ему и говорят: «А вон же наши висят…» Оказывается, там на дереве висели двое наших разведчиков… «Вот мы его за них!» - «А как вы его поймали?» - «Так он сам пришел!» Человек сам сдался в плен, а они не разобравшись, всю свою ненависть излили на него… Мовсесян приказал отправить его в санбат. Так немец брюки снял, у него ничего серьезного не было, только все обожгло, и своим ходом пошел в медсанбат.
Шли с боями вперед, но продвигались очень тяжело. Немцы цеплялись за каждую высотку, за каждый населенный пункт, и через короткое время в нашей роте из офицеров остался один я… А в бою за хутор Курбатский тяжело ранило и командира полка.
Мы в поле, под горой речушка течет, там этот небольшой хутор, и от него в нашу сторону посадки винограда. И нам приказали его взять. Днем, по открытой местности… А командир роты был то ли в штабе, то ли еще где, в общем, я остался за него. Стрелковая рота пошла, рота автоматчиков, а я своим приказал, чтобы не отставали. Пулеметчикам ведь полагалось идти чуть позади атакующих, но немцы все равно в первую очередь старались уничтожить станковые пулеметы, поэтому я своим подчиненным всегда приказывал держаться в цепи.
Вдруг, один расчет замолчал, с Самсоном кинулись к нему, смотрим, оба пулеметчика ранены. Сам лег за пулемет. А на склоне горы, метров за четыреста от нас строчил немецкий крупнокалиберный пулемет, и я стал вести по нему огонь. И видимо вывел его из строя, потому что, в конце концов, он замолчал. Но и я тоже стрелял недолго. Кругом рвались мины и когда впереди, метрах в пяти взорвалась мина, то осколком нам пробило кожух. В конце концов, немцев выбили, но когда по полю ехал верхом командир полка – подполковник Акопян, то лошадь наступила на противопехотную мину, и ему покалечило ногу и глаз…
А уже вечером я вдруг обратил внимание, что у меня в ботинке что-то хлюпает. Думаю, что такое? Боли никакой не чувствовал, а то, что штаны были порваны даже и внимания не обратил. И санинструктор Миша мне говорит: «Товарищ лейтенант, а в ботинке-то дырка какая-то!» Разулся, а там все в крови… Он мне все реванолем обмыл, обработал. Видимо когда я лежал за пулеметом, одна пуля и коленку задела, и палец на ноге. «На счастье!», говорю.
Комбату доложили: «Ну что в госпиталь?» - «Какой госпиталь, я один в роте остался!» Убитых не было, но человек пять-шесть оказались ранены, в том числе и оба командира взводов. Помню, Назаряну – командиру 2-го взвода осколок попал в задний проход и разорвал там все… И второй взводный, длинный такой, очень медлительный, тоже был куда-то ранен. В общем, я остался.
Потом помню бой у Волчьих ворот. Как подошли, сходу пошли в атаку и выбили немцев. Дальше была Анапа, но прежде чем рассказать, как мы ее освобождали, нужно сделать небольшое отступление. На фронте я много раз попадал под бомбежки, но вот после прорыва «Голубой линии» у немцев видимо не хватало бомб, так они дважды сбрасывали на нас и ящики из-под снарядов, и просверленные бочки. Уууу скажу я вам… Поверьте, это еще хуже, чем побывать под обычной бомбежкой. И вот со мной произошел такой случай.
Восточнее от Анапы есть станица Верхнебаканская. Два наших батальона остановились в лесу на ее окраине, и уже оттуда видели окраины Анапы. Но мы стояли на месте, видимо ждали приказа наступать на город, а немцы из Анапы постоянно обстреливали нас из пушек и минометов. А пережидать артобстрел в лесу - поганое дело. Мины и снаряды обычно взрываются поверху, и осколки так и сыпятся вниз… А рядом с нами находилось немецкое воинское кладбище, все честь по чести, кресты рядами, каски на них, и когда я увидел, что в нашу сторону летят немецкие бомбардировщики, то вывел роту на это кладбище. Потому что точно знал, что свои кладбища немцы никогда бомбить не будут. Но командир полка, которого нам прислали вместо Акопяна, длинный такой майор, стал на меня кричать: «Зачем ты вывел туда, ты же нас демаскируешь?!» И вот там во время бомбежки я понял, что нас бомбят не бомбами, но такой вой стоял, такое состояние, что сам бы в землю залез. Но чтобы показать пример, бодро кричу солдатам: «Ребята, ничего не будет!» А после командир полка опять на меня…
И очевидно затаил на меня какую-то злобу, потому что вечером, когда стал формировать разведку в Анапу, то старшим назначил именно меня. Приказал взять с собой три «максима», взвод ПТР, человек двенадцать автоматчиков, и идти в Анапу. Разведать обстановку.
Ночь выдалась на редкость темная, моросил осенний дождик. Только двинулись, баа, а в вещмешках все болтается, звенит. Тут же всех остановил: «Привести себя в порядок, чтобы ни звука!» В общем, вышли на окраину Анапы где-то в полночь. Там из города выходила шоссейная дорога, а где-то рядом проселочная и железная, и я решил оседлать этот перекресток. Вперед выдвинул ПТР-овцев, а пулеметы расположил чуть позади. А сам, не понадеялся ни на кого, взял одного старшего сержанта и пошли с ним вперед. Постучались в крайнюю хату, старик открыл окошко: «Немцы есть?» - «Да, есть, и танки и машины, но утром собираются уезжать». Все стало понятно, поэтому вернулись на перекресток и стали ждать. А еще перед этим, когда я расставлял людей, то сказал командиру взвода ПТР, что как только появятся немцы, они первыми открывают огонь по танкам, а уже мы по пехоте из пулеметов.
И только стало светать, слышим шум, собаки стали лаять, поняли - немцы стали покидать Анапу. Смотрим, три танка идут, а следом пять машин с солдатами и мотоциклы. Я ждал, что птровцы откроют огонь, но они промолчали, да и мы не начали, так что очевидно и я в какой-то мере виноват. Но ведь это все очень быстро произошло, момент мы упустили, а если танки прошли, огонь из пулеметов уже не откроешь, они ведь сразу развернутся и подавят. Так что по существу первой в Анапу вошла наша 89-я «армянская» дивизия, и только следом за нами «грузинская». Но по всем официальным данным Анапу 21-го сентября освободила одна из «грузинских» дивизий.
А потом на нашем пути оказался Витязевский лиман, это уже Таманский полуостров. Этот лиман весной полностью заливается водой, к осени на нем образуется толстая соляная корка, а под ней настоящая жижа. Лиман большой, длинный, ночью мы шли вдоль него, и нет бы сходу атаковать, но увидели, что по краю лимана немцы успели установить проволочное заграждение в три ряда, и командир полка промедлил.
В общем, залегли прямо в этой соленой жиже, а как рассвело, оказалось, что немцы от нас всего в 100-150 метрах… Конечно, открыли по нам огонь, постоянно обстреливали из минометов, но из десяти мин, лишь одна-две взрывалась, а остальные пробивали эту соленую корку и уходили на глубину. А мы лежали в этой соленой жиже, она все разъедает, к тому же еще и жара, солнце припекает, в общем, те еще ощущения…
Целые сутки там пролежали, а следующей ночью поползли вперед. И оказалось, что эти колья стоят в жиже только для вида. Просто повалили их и на рассвете выбили немцев. А в расположении немцев стояли огромные чаны с виноградным соком, который только-только забродил, по-армянски - маджар. Конечно, после этой соленой жижи все сразу кинулись его пить, и все поотравились. Началась повальная дизентерия. Потом опять пошли вперед, вглубь Тамани, и там со мной произошел такой случай.
Суток двое мы простояли в степи на берегу моря, и новый командир полка, то ли Паназян, то ли Попазян мне приказал: «Вон невдалеке стоит двухэтажное здание, узнай, что там. Может, склад там устроим». Взял с собой одного солдата и пошел. Подходим, а это двухэтажное здание из известняка – бывший магазин. Двери открыты, за ними какой-то тамбур, но только я вошел, а изнутри вдруг автоматная очередь… Я в сторону за косяк отскочил, но сделать ничего не могу. С собой у меня был пистолет, но только руку выставлю, сразу очередь… Крикнул солдату, чтобы он сбегал за подмогой.
Ребята быстро прибежали, обыскали дом, и обнаружили, что на втором этаже кто-то жил. Человека три-четыре. То ли банда какая-то, то ли дезертиры, так и не нашли их. Они, конечно, ошибку сделали. Им надо было меня пропустить дальше и спокойно ухлопать. Так бы и жили себе дальше, но видно трусоватые были люди и выдержки не хватило.
А потом начали получать пополнение, вооружение и стали готовиться к десантированию в Керчь. Мы стояли на самом краю Таманского полуострова, как раз там, где из-за Тузлинской косы недавно произошел спор с Украиной. Как раз с нее мы и должны были высаживаться. В первый раз высадку назначили на 31-е октября.
Но в день, когда мне исполнился двадцать один год, разыгрался сильнейший шторм, поднялся ураганный ветер, дождь, снег, и даже днем было совершенно ничего не видно. Но всю дивизию все равно погрузили на катера, и наша рота попала на один катер вместе с ротой автоматчиков. Они все в трюме, а наши станковые пулеметы и офицеры наверху. И в рубке я спросил капитана катера: «Куда мы придем?» - «Не беспокойся, если не подорвемся на мине, то высажу вас точно там, где мне приказали». Долго болтались в море, и я, насмотревшись, что творится вокруг, спросил его: «Как же вы тут на море, ведь даже спрятаться негде». А он отвечает: «А я вот как раз не понимаю, как вы там на земле воюете. Я в море утонуть не утону, зато всегда могу нырнуть». В общем, долго там проболтались, видимо не никак могли подойти к берегу, к тому же нас постоянно обстреливали, и потом пришел приказ вернуться обратно. Нам всем перед операцией выдали сапоги, ватные брюки, фуфайки, какие-то утепленные шапки, но и они не спасли. Вернулись в свои землянки мокрые насквозь и нас опять переодели в шинели.
А вторично мы высаживались 7-го ноября. В тот день опять разыгралась буря. Пусть и послабее, но тоже дождь со снегом. И при этом катер еще тащил за собой мотобот со стрелковой ротой. Но, несмотря на бурю и немецкий обстрел, высадились мы удачно. Но только двинулись по ложбине к заводу «имени Войкова», как попали под минометный обстрел. Все разбежались, а комбат Мовсесян пока командовал, рядом с ним упала мина, и ему разворотило все хозяйство. Подбежал к нему, кричу Любе, нашему новому санинструктору: «Давай перевязывай!», а она растерялась, стесняется… Ей ведь только исполнилось восемнадцать лет, и она всего две недели как пришла к нам. Оттащил его с дороги, она перевязала.
Пошли дальше и там, у карьера «завода Войкова», мы сменили на позициях 2-ю Бригаду морской пехоты. Целый месяц там держали оборону. Днем на позициях оставались только наблюдатели возле пулеметов, а все остальные прятались в катакомбах.
В первый же день нужно было достать воды, и старшина из морской пехоты решил нам показать, куда за ней ходить. Там же столько ходов, что можно легко заблудиться. Взял трех солдат собой, электрический фонарик и пошли за ним. Один раз сходили к роднику, он спрашивает: «Ну, товарищ лейтенант, теперь сами найдете дорогу?» - «Найду!» Опять сходили втроем, потому что было всего шесть ведер, а потом я говорю одному сержанту: «Все, теперь сами!» Но он мне говорит: «Так я же заблужусь!» Пришлось мне пойти в третий раз.
Набрали воды, обратно идем, и тут у меня вдруг потух фонарик. Решили идти по памяти. Но там где мы расположились, там же масса народу жила, целые деревушки местных, в одном месте, помню, даже корову видел. И все, конечно, жгли костры, поэтому свежий воздух был только метр над землей, а уже выше дым от костров. Куда-то вышли, а дыма нет, значит не туда пошли. Прошли немного, чувствую дымок. Потом смотрим фонарик – женщина идет. Объяснили ей, что заблудились, а она уже все знает: «Так вы из армянской дивизии? Пойдемте я вас проведу!» Вывела нас, но потом мне пришлось еще один раз пойти с фонарем показывать дорогу. Вот так и прожили этот месяц.
Помню, такой случай. Сели как-то вчетвером пообедать у входа в катакомбы. Старшина роты, командир отделения, а напротив один солдат и я. Сидим, из одного котелка едим какую-то кашу, и вдруг внизу разорвалась 119-мм мина. Немцы ведь прекрасно знали, где находятся все выходы, и время от времени обстреливали их. Не обращая внимания, продолжаем есть, тут старшина спрашивает: «Сурен, а ты чего не кушаешь?» Смотрим, а солдат-то мертвый… А ведь я сидел ближе к выходу, но осколок меня каким-то образом обогнул и попал ему прямо в сердце… Даже пикнуть не успел и сидел как живой, глаза открыты…
Зато, когда ночью дежуришь, кругом такая красота. Немцы стреляли из пулеметов трассирующими патронами, а ты любуешься этими зелеными, красными, синими и желтыми очередями… А на 6-е декабря назначили дату решающего штурма Керчи, и все три дивизии, что там высадились: наша, Проваловская и Хижняка стали готовиться. Но у нас солдаты так говорили: «Керчь – айкаган верч!» - «Керчь – это армянам конец!», потому что еще в 42-м году там две армянские дивизии погибли… (В ходе немецкого наступления в мае 1942 года в Крыму была полностью уничтожена и потом официально расформирована 390-я стрелковая дивизия, которая с февраля 1942 использовалась как армянская национальная дивизия – прим.Н.Ч.) А перед штурмом была проведена грандиозная артподготовка из восьмисот орудий.
Она началась где-то с рассветом, и я вам скажу, что этот час я запомнил на всю жизнь. До самой смерти его не забуду… Ничего не видно и не слышно, ведь немцы были всего в трехстах метрах от нас, и такое состояние началось… Вроде никакого страха нет, но думаешь только об одном: «Быстрее бы она закончилась, скорее бы в атаку…» Позади нас стоял дивизион вьючных «катюш», и минут за десять до конца они как дали залп, тут уже всего изнутри прямо выворачивает. Некоторые солдаты потом признались, что они плакали. А был у нас младший лейтенант – минометчик, так мы его вообще не узнали – поседел полностью… А в самом конце еще и «Иван Грозный» как влупил.
Что еще за «Иван Грозный»?
По-моему этот вид оружия не получил большого распространения. Про него немцы говорили: «Ящиками бросаетесь…», потому что снаряды запускались прямо с деревянного ящика. Шарообразные такие, сзади стабилизатор. Летали невысоко и с небольшой скоростью, а иногда прямо в воздухе разворачивались и по своим… Но убойная сила у него была очень большая, поэтому – «Иван Грозный».
В общем, мы были уверены, что после такой артподготовки у немцев там ничего не останется, а они нас встретили таким огнем… И все три дня: 6-го, 7-го, 8-го декабря мы штурмовали их позиции, сколько людей положили, но так и не смогли прорвать немецкую оборону. Оказывается, это крымские татары сообщили немцам точное время начала наступления. Они же приходили в катакомбы, крутились там, все узнавали, когда, что, чего, и поэтому на время артподготовки немцы отвели свои войска.
Три дня штурмовали, правда, наш батальон больших потерь не понес, а вот в других дивизиях потери были очень большие. Наконец 8-го дали нам отбой, 9-го приходили в себя, а уже 10-го меня ранило.
Как это случилось?
В тот день я решил написать письмо. Пошел к выходу, там была площадка примерно десять на десять метров. Нас там человек двадцать собралось, чуть ли не очередь образовалась. Сел на станковый пулемет и стал писать маме или невесте. И вдруг взрыв… Наверное, это было прямое попадание 81-мм мины. Пришел в себя, смотрю, кто погиб, кто ранен, кругом стон, а я вроде цел… Но тут Холопян мне говорит: «Герр лейтенант вас верраворве!» Герр это по-армянски – товарищ, а верраворве – ранило. – «Да нет Самсон, вроде нигде!» - «Посмотрите, у вас с пальцев кровь течет!» Оказывается, я как руку держал, мне левое предплечье осколком и перебило. Прибежали санитары, Люба меня перевязала, укол сделала, и плачет при этом: «Теперь я одна русская осталась, языка не знаю…» Но я ее подбодрил: «Ничего Люба, все будет хорошо!»
Тут прибегает связной: «Товарищ лейтенант, вас в политотдел дивизии приглашают!» А к тому времени я уже полгода как написал заявление о приеме в партию. Прихожу туда, начальник политотдела полковник Багдасарян что ли, спрашивает: «Что с рукой?» - «Вот только что ранило!» - «А, ну тогда принять без разговоров! В госпитале скажешь, они сделают запрос, и мы вышлем документы!»
Привезли меня на берег, оказывается, раненых офицеров вывозили самолетами. Там женский полк летал «кукурузниках» и они за вылет по три человека вывозили. Один в кабине и двое в специальных люльках под крыльями. Дали кусок курицы и стакан то ли водки, то ли спирта. Выпил, поел и меня в кабину.
Прилетели в Темрюк, там находился пересыльный эвакогоспиталь. Огромные палатки, не менее сотни коек в каждой. Я в одну зашел, лег, сразу уснул и проспал часов десять. Проснулся, рука болит, смотрю, а в палатке уже почти никого нет. Спрашиваю санитарку: «Где все, ведь полная палатка была?» - «Так ведь санитарный эшелон приходил, и всех отправили, а вас добудиться не могли». – «И что теперь?» - «До следующей станции моряки на машинах боеприпасы возят. Уговорите кого-нибудь из них, пусть они вас возьмут. А там сядете на эшелон до Краснодара».
Нас набралось четверо ручников, и попросили одного водителя-морячка. Тот поначалу отказывался: «Братцы, да как же я вас повезу? Там же такая дорога, кричать будете, материться». – «Возьми, пожалуйста!» – «Ладно, только терпите! И назад не вставайте, за кабину держитесь». Довез, но в пути рука у меня очень сильно разболелась.
В общем, пока в Краснодар доехали, суток двое прошло. А у меня уже и рука не болит, и все мне безразлично, какая-то апатия накатила. В приемном покое госпиталя слышу объявление: «На санобработку офицеры в первую очередь!» а мне все равно, лежу себе, такое состояние… Подходит санитар: «Товарищ лейтенант, а вы чего лежите, ведь всех уже помыли!» - «Успею еще…» Но он увидел мое состояние, поднял меня и отвел в баню. А там всех моют молодые девушки в лифчиках и трусиках. Вдвоем подошли, а я стесняюсь: «Да я сам…»
А мыла не было, щелоком мылись. Кое-как одной рукой помылся и пошел на осмотр. Там хирург – грузин почти двухметрового роста, богатырского сложения: «Кацо, ты где был?» Кивает на зеркало: «Посмотри на кого ты похож!» Смотрю, и сам себя не узнаю. Весь я в саже. Волосы дыбом, торчат во все стороны… Он стал ругаться на этих девочек, и они втроем как напали на меня, и отмыли уже как следует.
Пришел к хирургу, посмотрел на свою руку без бинтов и не узнал: пальцы огромные, толстые, пунцовые, все заплыло. Он взял какие-то кривые ножницы, полез ими в рану, а у меня кость прямо наверху: «Срочно в операционную!» - «А что такое?» - «Ампутировать руку будем!» - «Нет, не дам!» - «Так ведь уже заражение пошло, сдохнешь же!» А у меня словно энергия откуда-то появилась: «Не дам! Лучше сдохну, чем без руки останусь!» Начали меня уговаривать, но как я потом уже понял, эти несколько врачей уже решили, что все, конец мне... Потому что эта краснота уже выше локтя пошла, и боли никакой нет, вообще. Потом врач, пожилая уже женщина, говорит: «Ладно, давайте его ко мне!»
Какие-то тапочки дали и повели через двор в изолятор. Там маленькая комнатка с одним окошком. Лег на единственную койку, голый совершенно. Я же сразу сказал, что у меня еще и дизентерия. Нянечка сразу под меня клеенку подстелила. Лежу и хоть бы что, апатия полная, ни о чем не думаю…
Так прошло суток трое. Врач зайдет: «Как дела?» - «Все хорошо!» А есть давали только коржики, но я кушать совсем не хотел. Хотя и сил не было, даже ходить не мог.
А там медсестрой была старший сержант – Герой Советского Союза. Она мне потом рассказывала, что в 42-м, когда их госпиталь на машинах эвакуировали на Северный Кавказ, у них на пути немцы высадили десант. Все растерялись, а она недолго думая легла за пулемет и тем самым спасла весь госпиталь.
В общем, она подходит ко мне: «Лейтенант, коньяк будешь?» А в то время я только слышал, что есть такой напиток: «Не знаю». Видимо они коньяк выдавали безнадежным, чтобы легче умирать было. Сколько-то выпил и тут же отключился. А проснулся, и так мне вдруг захотелось кушать. Причем, огурчиков или помидорчиков. Попросил нянечку: «Тетя, у меня в планшете есть немного денег. Купите мне, пожалуйста, или огурчиков, или помидорчиков или блюдечко капустки». – «Извини, не могу. Меня же за это выгонят, а у меня трое детей. Я же только за счет вас питаюсь и живу».
Но все-таки уговорил ее, и она принесла мне чего-то. И я с таким наслаждением съел эту помидорку или огурчик, не помню уже, а остальное поставил в тумбочку. Вскоре зашла зав изолятором и видно почувствовала запах, посмотрела в тумбочку: «Ел?» - «Да, и сейчас так хорошо». – «Кто принес?» - «Так я вечером в окошко женщину попросил, и она мне принесла». Она засмеялась: «Так ты же ходить не можешь! Как ты до окна дошел?» - «Дошел». – «А окошко-то не открывается». – «Нет, я открыл». – «А как же ты попросил, если мы на втором этаже?», а я даже и не знал этого. – «Кто принес?» - «Не скажу!» - «Ну, ладно», и ушла.
Потом заходит эта старший сержант: «Лейтенант, коньяк будешь?» - «Давай!» Выпил, закусил и проспал сколько-то. А как проснулся, зову ее: «Кушать хочу!» Дала мне коржик и опять коньячку налила. Опять поспал, проснусь, снова так. А на второй день нянечка приходит, а подо мной сухо. И рука стала болеть. Сильно болит, спать не дает, никак ее не положу…
На следующий день врач заходит: «Ну как?» - «Рука болит!» - «Так это очень хорошо! Я и не думала». И таким образом в этом изоляторе я пролежал девятнадцать суток. Оказывается, там таких девять комнаток было, и нянечка мне потом сказала: «С момента как госпиталь открылся, ты первый живым отсюда вышел». - «А что здесь?» - «Это же изолятор для безнадежных…»
В общем, пошел на поправку. И горячее стал есть, и в туалет во дворе стал ходить. А дня за три до выписки, приходит этот грузин-хирург: «Ну как?» - «Рука болит!» - «Это очень хорошо, что не дал отрезать, все равно бы не помогло. А так организм справился – значит, долго жить будешь».
И где-то накануне нового года меня из этого изолятора перевели в офицерскую палату. Пришел, а там в этом классе тридцать одна койка, и все кто хочешь, начиная с младшего лейтенанта и до подполковника. Помню, 8-го января нас собрали, и на автобусе повезли на вечер, где местные казачки поздравляли нас с Новым годом и Рождеством. Накачали нас как следует, и когда очнулся, думаю, что такое, перестук словно по железной дороге едем. Оказывается, нас с того вечера привезли, полгрузили всех в санитарный вагон и везут в Сочи.
Приехали, стали распределять кого куда, и я попал госпиталь, который располагался в здании санатория шахтеров Донбасса. Весь третий этаж был офицерский состав, все «ручники». На втором этаже рядовой и сержантский состав с ранениями в руки и ноги, а на первом разные тяжелые ранения. Поселили меня в угловую палату, пять человек в комнате. Посредине лежал Володя, старший лейтенант – командир роты автоматчиков, украинец из Днепропетровска что ли. Ему пуля прошла сквозь бедро, распустило мошонку, и он рассказывал, что яички отвисли на два метра… Ему все это дело заправили, но пуля застряла во втором бедре, и он не ходил. Но это его не беспокоило, переживал, что член работать не будет… Удивительный весельчак, балагур, столько анекдотов знал.
Были еще капитан-артиллерист, могучий осетин, младший лейтенант и Костя – командир минометной роты. Чуваш, с акцентом говорил. Ни единой царапины, но какой-то странный. Помню, поступил к нам утром, а когда после ужина стали ложиться спать, он берет одеяло, белье и стелет под своей койкой, а матрасом укрывается. Вот шутник, думаем… На следующий день то же самое. Вроде днем себя нормально ведет, а вечером также стелет и ложится… Спрашиваем врача: «Что это с ним?» - «У него после контузии психика нарушена, но вы не обращайте внимания, через пару дней мы его отправим».
А у меня из руки гной все течет и течет. Эти четыре осколка нужно удалять, но к хирургам очередь, потому что большие поступления с фронта, и нам только перевязки меняли. Но я своего лечащего врача, она была хирург, добрейшей души человек, все донимал: «Ну, вырежьте, наконец!» и, в конце концов, уговорил.
Пришли после завтрака в операционную, а там девять столов и на каждом кого-то кромсают… Помню, одному усатому коленку режут, а он орет. Ему говорят: «Чего ты кричишь, ведь не больно же!» А мне укол сделали, я здоровую руку положил за голову, и говорят: «Отвернитесь!» - «Да мне не больно!» Смотрю, она разрезала, пинцетом осколок зацепила, но он соскочил, и меня словно током ударило, но я виду не показал. Она второй раз, то же самое. Смотрю, у нее уже руки трясутся, говорю: «Не бойтесь, глубже захватывайте!» Наконец вытащила его, но три маленьких так и осталось в руке. Тогда ведь ни рентгена, ничего. То, что нащупали, то и вытаскивали.
4-го марта пошел на комиссию, там три врача и лечащий. Спрашивают, одно, другое, третье: «Какое образование?» - «Десять классов». – «Какая специальность?» - «Пулеметчик». – «Нет, мирная». – «Никакой, но все могу делать». И тут они меня огорошили: «Мы вас домой отправляем!» Я ведь после контузии наклоняться не мог. А пальцы на руке стали усыхать и врач мне даже сшила из лоскутков что-то вроде мячика, чтобы я разрабатывал кисть. Но я возмутился: «Да вы что?! Как?! Не хочу домой! Отправьте меня в мою часть!» Тут врач с бородкой клинышком, седой уже, спрашивает: «А дома кто?» - «Мама, три сестры, братишка и дедушка». – «А как живут?» Рассказал, он выслушал и говорит: «Товарищи, мы же его фактически на смерть посылаем. Ведь физически он работать не может, специальности нет - он же пропадет там на гражданке. Давайте лучше отправим его в отдел кадров штаба Северокавказского Округа, а там ему что-нибудь подыщут». Вот так я 6-го марта оказался в Ростове, и оттуда меня направили в запасной полк, расквартированный в Новочеркасске.
Вначале меня назначили заместителем командира маршевой роты. Но я же левой рукой ничего не мог делать. А помимо руки была еще и диафрагмальная грыжа. Ни в вагон забраться, ни из окопа вылезти, прыгать совсем не мог, сразу внутри что-то перехватывало, даже сознание терял. К тому же с командиром роты лейтенантом Солдатовым у меня с первого же дня стычки пошли. Какой-то он высокомерный был. Поэтому я сразу пошел к начштаба полка Николаеву, объяснил ситуацию, и он меня перевел командиром взвода в роту станковых пулеметчиков. А уже через месяц меня на собрании избрали неосвобожденным комсоргом батальона.
И долго вы служили в этом полку?
С 7-го марта 44-го по 19-е ноября 45-го, так что на фронт я больше не попал. Оттуда вообще никого на фронт отправляли, ни офицеров, ни сержантов. Из сержантов, по-моему, вообще никто не воевал, а из офицеров процентов девяносто. С одной стороны плохо, что у них совсем не было фронтового опыта, но совсем не факт, что фронтовики бы справились лучше. У нас, например, командира полка Рудковского месяца на три-четыре заменили на боевого офицера, но потом его опять вернули, потому что у фронтовика ничего не получилось.
Что запомнилось за время службы в этом полку? Сколько, например, выпусков успели сделать?
Не помню, но обычно набор готовили в течение трех месяцев и отправляли на фронт. Самые разные люди попадались: и из оккупации, и после госпиталей, и по возрасту, и по национальности. Всякие, но тогда же не разбирали кто там Сурен или Семен, одинаково ко всем относились. Но больше всего запомнился набор баптистов с Западной Украины.
В конце 44-го, где-то в ноябре, мы получили их целый эшелон, а это около пятисот человек. Стали выгружать и обнаружили в вагонах несколько трупов. Оказывается, когда у них в дороге закончились продукты из дома, то к той еде, что им выдавали, они даже не притрагивались. По вере нельзя. Но на какой-то станции увидели складированную свежую капусту, похватали ее, и естественно многие сразу заболели дизентерией.
Во-первых, что бросилось в глаза, все крепкие и все в добротной одежде: в сапогах, в полушубках. Во-вторых, что среди них было много родственников. Например, у меня во взводе было сразу три семьи: отец и два сына, и две отец-сын, но фамилий, конечно, не помню.
Привели их в казарму, а они не заходят. Первую ночь так и провели во дворе. На следующий день положено в баню, новый сюрприз. Завели одну роту с другого батальона. Они помылись, но ничего армейского не признают, одели все свое и вышли. Тогда поступили по-другому. Завели одну роту, и пока они мылись, всю их одежду собрали. Они день и ночь просидели там голыми, но потом поняли, что деваться некуда, и нужно подчиняться…
Когда все-таки завели их в казарму, то в первую ночь дежурил я. Смотрю, после команды «Отбой!» все вытаскивают иконки, начали молиться, и только после этого легли спать. Утром доложил, но командование дало указание ничего не трогать и разрешать молиться. Но первые суток двое и в столовую не хотели ходить. Только хлеб брали, а к остальному даже не притрагивались. И только потом стали нормально есть.
Стали расспрашивать, как живут. Хуторами, колхозов, конечно, не было. Связи тоже, а свет и не нужен… В общем, жили как отшельники, но по-русски все говорили чисто. Спрашиваем: «Служили в армии?» Оказывается, только молодежь не служила, а все кто постарше служили в польской армии. Но у них по вере категорически запрещено прикасаться к оружию, поэтому все они служили на должностях не связанных с оружием: кто конюхом, кто кем.
Через какое-то время повели их на полигон, а там в Новочеркасске на центральной площади стоит памятник Ермаку и большой собор, мимо которого мы ходили. А наша рота была передовая в полку, и обычно комроты поручал мне ее вести на учебное поле. И только подошли к собору, они сразу повернулись к нему, шапки сняли, поэтому обратно их повели уже другим путем.
На следующий день опять повели через площадь, но что заранее придумали. Заместитель командира полка, верхом на лошади встал перед собором, и я скомандовал: «Рота, равнение налево!», вроде как ему честь отдаем. И так весь полк прошел. Но на полигон мы их почти и не водили, потому что оружие они в руки не берут, так что порядком с ними намучились. Много пришлось уговаривать, убеждать: «Вам же все равно придется служить!»
А где-то через месяц они стали убегать. Правда, в нашей роте таких случаев не было, но до февраля со всего полка сбежало несколько десятков. Что-то надо с этим делать, а что? Но мы чувствовали, что среди них есть свои руководители. Вот я, например, откровенно поговорил с тем отцом двух сыновей. Однажды он сам напросился ко мне на беседу, чтобы сыновья не слышали. И почти шепотом мне говорит: «А я не могу иначе, боюсь… Домой приедем, и меня там привлекут…» - «Кто?» - «Не могу сказать…» Но постепенно особый отдел стал вытаскивать их, и видимо разговорили, узнали, кто есть кто. А где-то в конце марта 45-го их всех отправили по другим частям. Но точно не на фронт, потому что боевой подготовке их фактически и не учили.
А после них наш батальон получил набор из Новочеркасской тюрьмы. Привезли в полк, помыли, переодели. Оказались молодые ребята, сидевшие за разные преступления, но очень хорошие, способные, и в отличие от баптистов все они рвались на фронт. Особенно запомнился некто Уваров, который считался у них самым главным. Ему было лет двадцать всего, но он чуть ли не половину из них провел в тюрьме. Как и многие воспитанник детдома, никого из родных не помнил.
Однажды утром дежурю по роте, а у нас старшиной был Нигматулин, мой земляк из Илишевского района, могучий такой башкирин ростом под сто девяносто. А этот Уваров не хотел идти на зарядку, и старшина подошел к нему: «Подъем!» - «Слушай, старшина, отстань!» - «Я тебя сейчас как фугану!» - «Отстань!», ну, тот его за ногу с нар и стащил. А у нас табуретки были дубовые, Уваров одну схватил и за ним. Я в каптерке сидел, старшина забегает: «Уваров с табуреткой несется!» Я за пистолет, а он как схватился за дверь, и вся наша хлипкая перегородка рухнула… Но я его по имени назвал: «Сейчас прикончу!», тут он сразу осел.
А так мы их не наказывали, не лютовали, наоборот, терпеливо с ними работали. Они с большим удовольствием изучали боевую подготовку, оружие, но тут война кончилась…
А 12-го мая, в первое воскресенье после Победы, мы их вывели на речку Тор. И когда на пляже ребята стали бороться, оказалось, что этот Уваров владеет приемами французской борьбы. А физрук полка, могучий такой старший лейтенант, увидел это и предложил: «Так я же мастер спорта по борьбе! Давай бороться!» Уваров был этому физруку по плечо, но сразу его положил. Второй раз – опять положил. Тот руками только развел: «Молодец!» Но потом организовал спортивный кружок, привлек туда и Уварова, и тот выиграл и полковые соревнования, и дивизионные, окружные. После этого их человек пять отправили в Москву, откуда он опять приехал чемпионом. Сапоги хромовые, на всех шерстяное обмундирование, всем сержантов присвоили, но где-то через неделю их всех отправили на учебу в институт физкультуры. А остальные учились у нас где-то до августа, а потом всех отправили на учебу. Кого в ремесленное, кого куда, лишь бы они приобрели какую-то специальность.
Как вы можете оценить подготовку, которую давали в запасном полку?
Считаю, мы хорошо готовили. Каждый день на стрельбище, причем стреляли из всего: винтовка, автомат, пулемет, пока не научатся хорошо стрелять.
Помню, в 1944 году к нам прибыли шесть человек. Здоровые ребята-сибиряки, в основном 1912-14 г.р. и они с таким желанием все осваивали, и говорили нам, что с 41-го года просились на фронт, но их не брали - бывшие кулаки… Рассказывали: «Работали в колхозе, земли много, урожаи хорошие. У нас вся деревня бывшие раскулаченные и никого в армию не брали». Потом лично их на фронт отвозил. Я ведь несколько раз на фронт маршевые роты сопровождал. Пару раз в Польшу и один раз в Германии был.
В одну из этих поездок к нам в роту вдруг поступили четыре цыгана. Веселые такие, но как и где их поймали, не знаю. И они мне сразу сказали: «Лейтенант, мы ведь все равно сбежим!» А у нас начальником эшелона был капитан Крикса – сам цыган, но кадровый офицер. Я к нему, так и так, обещают, что сбегут. - «Дааа, обязательно сбегут, даже и не сомневайся!», утешил меня… А у него гитара была, шляпа, на более-менее длинной остановке все это оденет, и под видом цыгана ходит вдоль эшелона, песни поет, веселит солдат, дух поднимает. Я когда в первый раз увидел его в таком виде, даже не узнал.
И я старшего по вагону – младшего лейтенанта предупредил: «Смотри в оба – иначе сбегут!» И весь вагон предупредили. Но эти цыгане очевидно уже не в первый раз сбегали, и видимо знали, как это лучше проделать. Где-то на небольшом полустанке, мы там и стояли-то минут пять всего, они сбежали. На следующей остановке бежит мой младший лейтенант: «Цыгане сбежали!» И когда только успели? Ведь даже форму оставили, переоделись в свое и сбежали… «А как сбежали?» - «Сами не поняли! Когда подъезжали, они все были». Но на остановках обычно все выскакивали, так и в этот раз. Выскочили, а как тронулись их уже не было, только форма лежит аккуратненько…
И чем эта история закончилась? Вас как-то наказали?
Нет, потому что мы поступили просто. Вместо них подобрали каких-то отставших от своих частей и сдали то же количество, что проходило по документам.
Вы сейчас с улыбкой рассказываете об этом, а ведь в то время за это полагался расстрел. Почти все ветераны признаются, что им хоть раз пришлось присутствовать при показательных расстрелах.
Нет, я ни разу за всю войну такого не видел. И штрафников никогда не видел и даже не слышал про них. Хотя нет, неправду говорю, конечно, знал про штрафников. Ведь тот самый капитан Крикса потом в конце 44-го погорел на одном деле.
Оказывается, заместитель командира полка по снабжению – подполковник-грузин, полный такой, для эшелона с маршевой ротой пищевое довольствие оформлял по двойной норме, поэтому все старались с ними поехать. Но когда это вскрылось, и Криксу и этого подполковника судили, вроде и разжаловали, и отправили в штрафную роту. И не прошло и месяца как жена этого подполковника получила на него похоронку… А про Криксу мы ничего не знали, но как война закончилась, в один из дней он вдруг появился напротив штаба. В цыганской одежде и с гитарой, песни поет. Насколько я понял, он пришел показаться командиру полка. Смотри мол, я и там выкрутился…
Многие ветераны признаются, что в запасных полках отлынивали от фронта всякие хитрованы. В вашем полку были такие?
Если бы такое было, я бы знал. Я же вам говорил уже, у нас девяносто процентов офицеров не воевали, но они чуть ли не каждый месяц писали рапорта – просились на фронт. Иногда они меня расспрашивали как там на фронте, что да как. И очень сожалели: «Эх, война закончится, а мы пороха и не нюхали…» И сержанты тоже самое, но никого не отпускали. Потому что по армии был очень строгий приказ – кадры беречь и никого на фронт не отпускать.
И случаев дезертирства почти не было. У нас в роте мне вспоминается всего один эпизод. Как-то раз к нам попал один парень, русский, здоровый такой. А когда он появился, у нас совсем туго было с бумагой. Ни писем написать, ни конспектов, ничего. И вдруг он сам предложил: «Хотите я вам бумаги достану? У меня знакомая женщина в типографии работает. Схожу туда и через нее достану». В выходной день ему дали увольнительную, и он утром ушел, а вечером принес килограмма два-три хорошей бумаги. И говорит: «Я заказал еще, в следующий раз она достанет побольше». В следующее воскресенье опять отпустили, а вечером нет его… Туда-сюда, утром тоже не пришел. Сходили туда, куда он якобы пошел, а там и дома-то такого нет. Пришлось доложить командиру полка. - «Найдите!» Посмотрели его документы, а по ним он родом из Таганрога, улица такая-то, дом такой-то. Его взводный лейтенант Пересторонин поехал туда, возвращается: «По этому адресу раньше была школа, но немцы ее взорвали. Опросил соседей, никто такого не знает». И так и не нашли его, а Пересторонину объявили выговор. Вот, кстати, рассказал вам этот случай и вспомнился такой забавный момент. Пересторонина звали Логвин, меня Лукьян, был еще один Елистрат, но всех троих нас в роте упрощенно называли Леня.
А как кормили в полку?
Что удивительно, солдат кормили просто отлично, каждый день обязательно мясное. А вот командный состав в офицерской столовой кормили очень плохо, поэтому наш старшина приносил нам из солдатской столовой ведро супа или каши.
Во время службы в Новочеркасске местные жители что-то рассказывали про то, как им жилось в оккупации?
Нет, ничего такого не помню. Да мы и сами не интересовались по молодости лет. Единственное, что мне бросилось в глаза и сильно удивило, что в городе не было ни одного разбитого здания, и вообще я там не видел никаких последствий войны. Ничего абсолютно. Наш полк стоял в двухэтажных казачьих казармах недалеко от железнодорожной станции. Второй полк стоял в центре города, а 368-й рядом с заводом, где в 1962 году произошли печально известные события.
Командировка в Германию чем-то запомнилась?
В апреле 45-го мы привезли пополнение в Кюстрин. Небольшой такой чистенький городок на окраине леса. Построились, выступил командир этой механизированной бригады, полковник-армянин, с палочкой после ранения ходил, и после того, как мы людей сдали, он нас предупредил: «В лес по нужде не ходить, только в туалет!» Оказывается, когда они только пришли, солдаты по нужде стали ходить в лес, да еще загнали туда же трофейных коров. Тогда два немца, которые немного понимали по-русски, обратились к командиру бригады: «В лес нельзя, нужно туалет сделать! И коров нельзя, там даже курить нельзя!» На другой день мы пошли этот лес посмотреть. Он, оказывается, искусственный, все ровненько, сосны ровные, на земле ни одного сухого сучочка не лежит, все подбирали. В одном месте смотрим, большущая огороженная куча. Оказывается, это муравейник – охраняет лес от болезней. А рядом загороженная емкость с водой. Специально для курящих, чтобы не дай бог пожара не случилось.
А утром нам этот комбриг говорит: «После завтрака обязательно сходите, посмотрите город». Пошли, а он абсолютно целый. Ни одной воронки, ничего совершенно. На улицах идеальная чистота, нигде не соринки, специально для курящих скамейки стоят. Оказывается, утром они все встают, метут улицы, а если нужно, то и моют. Прошли по улице, смотрим красивая вывеска. Оказывается, клиника какого-то профессора. Там никого не было, и мы решили зайти посмотреть. Внизу очевидно учебные залы, а на втором этаже лаборатории. Открыли одну дверь и аж опешили – скелеты стоят… А на третьем, под самой крышей, столько одежды: костюмы, пальто, очевидно на всю семью.
Потом комбриг опять нас посылает: «Там на окраине немцы отдельно живут. Обязательно зайдите, посмотрите!» И отдельно предупредил, чтобы мы вели себя достойно.
Подошли к двухэтажному домику, небольшому, но очень красивому. На звонок вышел немец лет за шестьдесят. По-русски неплохо объяснялся: «Господа офицеры, чего вы хотите?» - «Хотим посмотреть, как немцы живут». – «Пожалуйста!» Стал показывать нам свое хозяйство: «Я занимаюсь свиноводством». Странно, думаю, ведь запаха никакого нет. Зашли в свинарник, там всего четыре свинки, но чистота, наверное, лучше, чем у нас во многих квартирах. - «Раньше у меня были сотни голов, а теперь со старухой только четверых можем содержать». Рассказал, что у него четыре наши девушки жили: «Прекрасные девушки, очень хорошо работали, а я их и одевал, и обувал, и кормил как своих дочерей». Так что за те два дня, что мы пробыли в Германии, кое-что все-таки успели посмотреть. Конечно, многое понравилось. Нам же было по 22-23 года, сейчас это вообще дети, а в ту пору сельские ребята до армии считай, вообще ничего в жизни не видели. Тем более, мы ожидали увидеть нечто другое, особенно жестоких немцев, а все оказалось не так. Конечно, удивительно и непонятно, как так получается, что они уже в то время так жили, а мы и сейчас, спустя семьдесят лет не можем… И боюсь, что еще не одно поколение не будет так жить… А у нас что?! Ведь не то, что на улице, у иных и дома такая грязь, что черт ногу сломит. Иной раз думаю, почему одни народы так живут, а другие совсем по-другому? Ведь башкиры, например, как раньше жили? Никогда за скотиной навоз не убирали, и лишь когда корова или лошадь уже просто не могли войти в сарай, они новый строили. Земли же много кругом, вот они так и жили…
Вы упомянули, что побывали в Иране.
Да, очень интересная поездка получилась. В сентябре 45-го повезли в Иран 28 вагонов с фронтовиками 1926-27-го годов рождения. Очень весело ехали, с гармошками, с гитарами. Приехали ночью на приграничную станцию Джульфа, выгрузились. Пограничники проверили вагоны, и на каждый выдали по мешку, чтобы старший по вагону собрал все деньги. Если не ошибаюсь, в Иран совсем не разрешалось вывозить бумажные деньги, а медных не больше трех монет. В каждом вагоне все собрали, записали. А начальником эшелона был капитан, который уже знал меня, наверное, поэтому он выбрал меня: «Останешься здесь с деньгами, оформишь!»
Пришли к начальнику заставы: «Отдыхайте два-три дня, а завтра придут из Сберкассы, и на всех откроют сберкнижки». Оказалось, что в сберкассе работали эвакуированные с Украины девушки, и когда они все закончили, я с этими сберкнижками поехал в Иран. Приехал в город Хой, сдал сберкнижки и побыл там дней десять.
Что-то там особенно запомнилось?
Конечно, ведь такая экзотическая страна, с совсем иным, чем у нас климатом, укладом жизни, поэтому удивительные для нас вещи приходилось наблюдать каждый день.
Солдаты жили в Николаевских казармах, если знаете, они построены в форме буквы Н, а офицерский состав поселили в двухэтажных общежитиях. В каждой комнате по четыре человека. Помню, в первый день после обеда пришли, а из окна вид на площадь. Увидели, что там арбузы продают и решили пойти купить. Приходим, а там большие кучи самых разных арбузов: и маленьких, и больших, и продолговатых. А как раз в этот день нам выдали иранские туманы. Туман – 10 рублей, а реал – рубль. И один продавец нам за туман продал арбуз. Принесли его к себе в комнату, но только хотели разрезать, как заходит старший лейтенант из соседней комнаты. Он оказывается, там уже несколько лет служил. Спрашивает: «Ребята, вы чего взяли?» - «Как что, арбуз». – «Так его же нельзя есть, это кормовой сорт». Мы не поверили, все-таки попробовали, а он кисло-соленый… Тут еще выяснилось, что мы его купили за туман, а он всего реал стоит, в общем, он пошел с нами разбираться. Приходим впятером: «Ты чего им такой арбуз продал?» Что удивительно, там все местные мужики по-русски говорили. - «Они хотели купить!» - «Так ты же знаешь, что они для себя купили!» - «Откуда я знаю? А может, они ишак или барашка купили, кормить надо!» - «Обменяй!» Но как посмотрел: «Так он же порезанный!» В конце концов, все таки дал нам небольшой арбузик.
А на следующее утро решили сходить на базар. Чтобы воочию увидеть какими бывают знаменитые восточные базары. Приходим, а там, настоящее чудо… Точно как в книгах пишут и в кино показывают. Такая красота кругом, а зайдешь в магазинчик, продавца нет. А тут тебе на прилавке и золотые вещи, часы, цепочки, аж напугались. Вдруг, какой-то молодой заходит: «Что господа офицеры желают?» - «Просто зашли посмотреть». А мясо просто так лежит, курдючные барашки висят, а жара, и кто это все покупает, даже не знаю… И в то же время, по улицам ходят нищие, полуголодные люди, но никакого воровства нет. Ведь за воровство у них прямо руки отрезают.
Потом сходили посмотреть населенный пункт, что был от нашего городка метрах в восьмистах. Все в садах, но женщины все в черном и только нас увидят, сразу закрывают лица и бежать. Если корова или буйвол легли прямо на дороге, то все объезжают или обходят, никто не трогает. Вернулись, тут опять заходит этот сосед: «Вы куда ходили?!» - «Погулять, осмотреться». – «Да вы что, разве с вами инструктаж не проводили?! Ведь никуда нельзя без охраны ходить!» Оказывается, нашим офицерам без охраны категорически запрещалось выходить в город. Ходить-то можно было, но только в сопровождении трех автоматчиков, и обязательно предупредить, куда идешь. Ведь до этого бывали случаи убийств…
А в первую же ночь услышали какой-то крик. Повскакивали, ничего не видно, но слышим какой-то шум. Тут этот старший лейтенант заходит: «Чего не спится?» - «Убивают что ли кого-то?» Он смеется, пойдемте. Вывел нас в коридор, а рядом оказывается мечеть стояла и это муэдзин читает утреннюю молитву… И удивительно, весь город сразу поднимается, молится, и после этого начинается рабочий день. Но часов в двенадцать жизнь полностью замирает, даже на базаре никого нет. Ни охраны, никого. Жара страшная. Все улицы с утра поливали из арыков, идешь по мокрому песку, но уже к полудню по щиколотку в мелком песке. В нашей части в полдень тоже давали отбой, причем, солдаты днем отдыхали не в казармах, а в больших землянках. А мы как-то в полдень пообедали и этот старший лейтенант нам говорит: «Пойдемте со мной!» Привел нас к двухэтажному дому какого-то купца, а в его подвале оказывается, баня обустроена. Забрались туда, а там такой убийственной жары нет. Причем, удивительно, днем жарища, а ночью даже в шинели холодно.
А на второй или третий день мы увидели лаваш – тонкие лепешки. Купили – понравилось. Но старший лейтенант это увидел и говорит: «Можете сходить на арык, посмотрите, как их готовят». Приходим, смотрим, мужик принес мешок муки, высыпал прямо на утрамбованную землю, туда же залил ведро воды из арыка, а пацаны голыми ногами месят тесто. Тут же женщины его раскатывают, в печку и быстро пекутся, как блины. Сразу несут их в ларечек, а там мужик с засученными рукавами смазывает их смесью из масла, сметаны и приправ. Но смотрим, а в арыке чуть выше по течению стоят буйволы и прямо в воду оправляются. Приходим, старший лейтенант смеется: «Ну что, будете еще покупать?» И больше мы этот лаваш не покупали…
Еще нам рассказывали, что у персов очень хорошая зрительная память, и приводили в пример такой случай. В 42-м году из одной части пропали две винтовки и пистолет. Искали-искали, но так и не нашли. А потом каким-то образом один иранец проговорился: «Да, это я купил эти винтовки и пистолет!», и его сразу взяли в оборот: «А у кого?» - «Покажете фотографию, узнаю!» Ему показали фотографии всех командиров части, и он указал на одного сержанта. Стали искать, а он оказывается, на фронте уже до капитана дослужился, награды имеет и лежит раненый в госпитале. Привезли его туда, негласно показали этому иранцу и тот его сразу узнал. Потом устроили им очную ставку и капитана спрашивают: «Вы его знаете?» Тому деваться некуда и он признался: «Да, был такой случай!» Но насколько я знаю, его вроде не наказали, потому что сразу после войны была какая-то амнистия.
И еще один случай запомнился. Когда наши войска только вошли в Иран, через какое-то время в целях пропаганды решили показать местным жителям кино об успехах Советского Азербайджана. Но не учли, что местные до этого никогда не видели кино. Пришли только мужчины, но как только начали крутить, они все кинулись оттуда… Потом смотрят, наши сидят спокойно, опять вошли. Смотрят на экране коровы ходят, стали их пытаться хватать, экран сорвали…
А потом нашим войскам дали специальное задание о заготовке мяса, ведь в тех местах были целые табуны диких коз. И нам рассказали, как на них охотились. Создали подразделение из опытных охотников, они табун подгоняли к пропасти, вожак, естественно начинал искать выход, и как только подходил к самому краю, в него стреляли. Он падал и все козы прыгали за ним в пропасть… Фактически одним выстрелом несколько сот голов могли убить.
Ну, и, конечно, особенно запомнилась экскурсия на это «прозрачное озеро», о котором я вам уже рассказывал. Настоящее чудо из чудес…
Как вы узнали о Победе?
Я как раз только женился, и мы жили на квартире вместе с лейтенантом Васей Бабаевым. И часов в пять утра прибежал связной из части, стучит в окошко: «Победа! Война кончилась!» Побежали в полк, а там уже стрельба из каждого окошка: кто из винтовок, кто из автоматов, даже из ручных пулеметов… Потом пальбу прекратили, весь полк повели на речку и там устроили небольшой митинг.
Как-то отметили такое событие?
В офицерской столовой нам устроили праздничный обед. Помимо хорошей еды всем выдали по сто граммов водки, а за свой счет можно было купить и пива. Командир полка всех поздравил, все по чарке выпили, поели, тут и дополнительное спиртное появилось. Вначале все тихо было, спокойно, а потом взводный из нашего батальона Вася Барышев, коренастый такой левша из Новосибирска, поссорился с комбатом другого батальона и ударил его. Тот с копыт слетел, крик, скандал, дело дошло до стрельбы в воздух, тут, конечно, торжество быстро свернули.
После обеда пошли в подразделения, и стали проводить беседы. Солдаты спрашивают: «А что завтра будет?» А мы и сами ничего знаем: «Очевидно, также будем заниматься и дальше, армия есть армия». А вечером еще кино показали. Но больше запомнилось, как через несколько дней взялись вывести клопов в казарме. Их же там столько было, что словами не передать…
В казарме все собрали: нары, тумбочки, даже полы сняли, все это связали, и оставили в речке недели на две. А все окна и двери замазали глиной, запустили внутрь дифосген что ли, и три дня не открывали. Потом зашли, а везде сантиметровый слой клопов… Идешь, под ногами аж хрустит и все сапоги в крови… А как стали выгребать, очень многие ожили…
Какие у вас боевые награды?
Самая первая - медаль «За оборону Кавказа». Потом еще в дивизии вручили орден «Красной Звезды», но за что конкретно, так и не знаю. Вскоре после войны получил медаль «За победу над Германией», а в 1985 году орден «Отечественной войны» 1-й степени.
Я бы хотел вернуться немного назад. Как вы можете оценить боевые качества армянской дивизии?
Я уж не знаю, как дивизия воевала до 43-го года, но при мне она проявляла себя очень достойно. Недаром за бои на Тамани дивизия получила почетное наименование «Таманской». Знаю, что потом дивизия особо отличилась в боях при освобождении Керчи, Севастополя и Берлина и считается самой известной и успешной из шести армянских дивизий. И маршал Гречко в своих мемуарах неоднократно оценивает дивизию как весьма успешную.
Вы упомянули, что по соседству с вами воевала и грузинская дивизия, и азербайджанская, поэтому хочу задать вам такой вопрос. Не было ли какой-то ревности к бойцам этих дивизий, или даже чувства неприязни?
Нет, ничего подобного я не видел. Ну, совершенно. Даже тени этой гадости не было.
Некоторые ветераны признаются, что среди нацменов поначалу ходили такие разговоры – «Это не наша война!»
Нет-нет, у армян ничего подобного не было. Наоборот, у всех был высокий патриотический настрой. Дисциплина была отличная, и никогда я не слышал, чтобы кто-то жаловался или на что-то обижался, хотя в эту дивизию никакого особого отбора не было. Но как все кавказские народы очень дружные, энергичные, внимательные, поэтому я все время вспоминаю своих однополчан с большой теплотой и благодарностью.
Среди подчиненных не было никого моложе меня, но все ко мне относились очень уважительно. В наступлении главное доставить боеприпасы, а питание уж как придется. Бывало, за день вымотаешься, присядешь отдохнуть, а есть нечего. Но у ординарца обязательно найдется для меня или кусочек сахара, или сухарик: «Герр лейтенант, подкрепитесь!» - «А сам-то чего?» - «Я-то ладно, а вы же должны руководить нами». И я в свою очередь также относился к ним.
Помню, когда из 3-го эшелона дивизию отправили в 1-й под Минводы, то каждый день проходили по 50-60 километров, и все несли на себе. Выматывались страшно, а привалы короткие – по двадцать минут. Садились и сразу засыпали. А я обязательно смотрю, ведь точно кто-то свалится в огонь и обгорит. Но никогда не будил, следил только. Однажды рано утром смотрю, какой-то солдат идет с расстегнутой шинелью и поддерживает руками штаны. Отходил оправиться, но пальцы совсем замерзли, и просто не может застегнуть. Так я его остановил, застегнул, и вы бы знали, сколько всего у него в глазах увидел. Думал, он заплачет… Так что я всегда, и на фронте и по жизни, относился к людям по-человечески. Голос не повышал, всех называл на вы, и конечно, никогда не матерился. Правда, когда меня мои бывшие сотрудники пришли поздравить с 80-летием, одна женщина призналась: «Лукьян Петрович, вот теперь я вам признаюсь, как же мы вас боялись. Вы всегда такой строгий были…» И другие тоже признались: «Вы бы иной раз лучше обматерили, чем так молча…»
Неужели вы на фронте совсем не матерились?
Я убежден, что умный офицер даже в боевой обстановке не станет ругаться. Солдату и так тяжело, а от этих криков только хуже. Поэтому со мной такого ни на фронте, ни в мирное время не случалось. Правда, на фронте было другое. Я же вам говорил, что сам хотел побыстрее научиться говорить по-армянски. Прошу Погосяна меня научить, начинаю докладывать командиру полка или батальона, а они смеются: «Уж Погосян тебя научит…» Оказывается, он меня какой-то похабщине научил.
Вы можете сказать, что с кем-то сдружились больше всего?
За тот год, что я прослужил в этой дивизии, там дважды сменились командиры взводов и рот, и почти со всеми у меня сложились хорошие отношения. А с командиром роты Эдиком Айдиняном мы вообще стали как братья. С командирами других рот тоже отлично ладил, даже колкостей не помню. Командиры взводов тоже были отличные ребята, а с Назаряном словно братья. Вот только как звать его не помню. На русский манер звали Боря. Еще раз повторюсь, все офицеры, сержанты и солдаты относились ко мне как-то по-особому, ведь среди них я был единственным русским. Так что время, проведенное в армянской дивизии, я всю жизнь вспоминаю очень тепло.
Неужели конфликтов ни с кем не было? Спрашиваю, потому что многие ветераны признаются, что на фронте всякое случалось. Могли даже стрелять друг в друга.
Нет, про серьезные конфликты, тем более с оружием, я у нас никогда не слышал. Правда, однажды у меня случилась довольно серьезная стычка с нашим комбатом.
Это случилось, когда нас из Ейска перевели в садоводческую бригаду. Солдат поселили в вырытых землянках, а мы, восемь офицеров и двое старшин обосновались в каком-то доме. Но переночевал там одну ночь, а утром старшина мне говорит: «Давайте я вам квартиру найду!» Я согласился и он быстро договорился с тетей моей будущей жены, которая жила буквально метрах в ста пятидесяти.
Пару дней там ночевал, и тут рано утром приехал наш комбат Мовсесян. Плохого про него не скажу, но порой он бывал чересчур горяч и вспыльчив. Все построились, но когда увидел, что меня нет, спрашивает: «А где еще один?» Прихожу, а он вдруг как пошел ругаться, вплоть до оскорбления – бабник, и все в таком роде. Распалился: «Это же дезертирство, за такое расстреливать надо!» Я ему что-то начал говорить, возражать, а он мне: «Я вас пристрелю сейчас!» и хватается за пистолет. Но я тоже не сдержался, сразу передернул свой автомат, и он сразу как-то опешил.
Тут, конечно, и Эдик Айдинян, и командир роты автоматчиков Эдик Саакян стали его успокаивать, старшина тут же подошел: «Это моя идея!» И он не то чтобы извинился, ведь там же солдаты двух рот все это слышали, проверил, что хотел и уехал. И с тех пор он ко мне очень уважительно относился, не то, что повысить голос, а даже резкости от него не слышал. А потом так случилось, что когда в Керчи его ранило, то мне пришлось вытаскивать его из-под огня.
Вы хотели рассказать про своего старшину.
Он прибыл к нам в Ейск с большим пополнением. Командный состав роты жил в железнодорожной в будке, и этот старшина в этой комнатке стал нас учить уму разуму. Ведь все новые командиры взводов и рот были совсем молодые ребята. А он сам был и постарше нас лет на пятнадцать, и учителем, наверное, работал. Потому что был на редкость грамотный человек и по-русски чисто говорил. Во всяком случае, у меня о нем сложилось именно такое впечатление.
Во-первых, он нас учил, как с солдатами обращаться, как между собой. Например, я помню, он нам задал такой вопрос: «Кто дороже, мать или жена?» А мы все холостые, и кто что сказал, так он нам целую лекцию прочел, кто такие родители, жена. В общем, учил самым разным житейским вопросам, начиная от взаимоотношений и заканчивая одеждой. И на фронте тоже очень много предостерегал нас от ошибок, фактически за место отца нам был.
Когда меня ранило, это ведь он лошадку нашел. Но там километра полтора-два нужно было проехать по открытой степи, и он наказал ездовому: «Гони!» А меня предупредил: «Терпи лейтенант, не то накроют вас!» Проводил меня, пожелал здоровья. Что и говорить, прекрасный был человек, но вот, ни фамилии, ни имени его не помню. И, кстати, почему-то совсем не помню, как попрощался с Эдиком Айдиняном, а ведь мы с ним сроднились как родные братья. Интересно, остались ли они живыми, как сложилась их судьбы…
А разве после войны вы не пытались их разыскать, что-то разузнать? Может быть, вас приглашали на послевоенные встречи ветеранов дивизии?
Где-то в начале 80-х годов мне пришло письмо от одного бывшего комбата, но из другого полка. Писал, что нужны воспоминания и сообщил, что вышла книга о боевом пути 89-й Таманской дивизии. Я ему, конечно, ответил, но больше писем от него не получал. Он был 1910-го г.р. упомянул в письме, что болеет и очевидно умер.
Тогда я решил написать непосредственно автору книги, это бывший начальник политотдела дивизии, которого я видел несколько раз. Багдасарян что ли. Адреса, конечно, не знал, и на конверте написал просто - Ереван, такому-то. Ответила его дочь, написала, что «… папа болен, а я, к сожалению, не могу вам ничего пояснить». После этого писал министру обороны Армении, мне ответили, что нужно обратиться к одному полковнику. Написал, а мне пришел ответ, что он недавно умер… В общем, так до сих пор и сижу без этой книги. Но сейчас хочу обратиться к послу Армении, вдруг поможет.
А сразу после войны не пытались кого-то найти?
Нет, никогда никого не разыскивал и сейчас очень жалею об этом… Точно так же, как и о том, что не расспрашивал деда и отца об их жизни. Ведь разные книги читал с огромным интересом, а родных почему-то не расспрашивал… Наверное, по молодости не задумываешься насколько это важно, а сейчас очень жалею. И боюсь, что сейчас уже слишком поздно кого-то искать… Но вы должны понять, что послевоенные годы, особенно 1947-48-й, выдались очень тяжелыми и голодными.
Помню, в 1949 году меня в Бирске нашел Коля Александров, с которым мы в одном классе учились. Он, оказывается, стал лейтенантом и приехал из Германии в отпуск. Конечно, я бы и рад был поговорить, да только я тогда во второй раз заболел малярией и меня сильно трепало. Тем более мы тогда жили вместе с семьей двоюродной сестры. У них трое детей, у нас двое, но на всех одна комната, да и та в подвале. Он зашел к нам, одет с иголочки, а у меня как раз приступ, температура и я еле-еле разговаривал. Так что не до разговоров тогда было, нужно было кусок хлеба для семьи добывать.
К тому же учтите, первые двадцать лет о войне почти не говорили и не вспоминали. Как-то не было принято. Ни разговаривать, ни награды носить, мы просто утонули в текущих делах и заботах… Это уже при Брежневе все началось, я отлично помню этот момент.
В мае 65-го я находился в Наумовке, был уполномоченным по посевной. И вот утром, председатель колхоза Волков, а мы с ним накануне договорились, в какие поля поедем, вдруг говорит: «Давай с парторгом на лошадке съездите, а меня срочно вызывают на какое-то совещание в райком». Я еще удивился, помню. Ведь в начале мая я обычно находился где-то в командировке, но ни на какие совещания даже не приглашали. После обеда возвращается: «Было совещание участников войны. Собрались отмечать 20-ю годовщину Победы, но говорили в основном о посевной».
А уж когда Брежнев «Малую землю» написал, то после этого более-менее стали отмечать День Победы. Начали собирать ветеранов, учет завели, и во всех школах организовали музеи. Правда, иной раз такое словоблудие начиналось, что уши просто вяли. А я ведь всю жизнь проработал в финансовой системе, можно сказать стал финансистом до мозга костей, поэтому закон для меня превыше всего. Если же я ничем не могу подтвердить свои слова, то даже и не говорю. Стесняюсь. А другие…
Помню, когда вышла «Малая земля» ее начали везде обсуждать, особенно подчеркивая выдающуюся роль Брежнева. А в районе нас трое было, кто примерно в тех местах воевал, и как-то нас пригласили на встречу.
Вначале выступал один, который служил писарем в штабе бригады морской пехоты. Что-то рассказал, а потом его из зала спрашивают: «А вы там Брежнева видели?» И он честно отвечает: «Ну откуда? Я же на машинке печатал». – «А слышали?» - «Да откуда?! Я слышал только про командующих Армий Гречко, Петрова. Слышал, но не видел. А уж тем более про какого-то полковника Брежнева». Ему сразу из президиума: «Ладно, садись!» Потом настала моя очередь.
А перед тем как выступать, я набросал текст выступления, отнес его в райком, но мне его там весь переделали, исправили… Но я все равно по своему выступал, рассказывал как было. Потом меня тоже спросили: «А вы Брежнева видели?» - «Я же был простой командир взвода. Что я мог видеть кроме своего участка обороны в 200-300 метров?! Я даже за полк не могу точно сказать, а про дивизию и армию и подавно!» - «А слышали?» - «Да откуда я мог слышать?! Что нам газеты приносили или радио слушали?! Мы же в окопах сидели и бои вели…»
Зато после нас выступал один председатель колхоза. Их часть всего девять дней была в составе 18-й Армии, и непосредственно в тех боях не участвовала. Он сам тогда в звании старшины был, но он как начал: «Брежнев он такой, такой, такой…» аж стыдно было слушать его… Именно из-за таких как он в то время даже такой анекдот появился – «Пока некоторые отсиживались в окопах Сталинграда, судьба войны решалась на Малой земле…»
Так что вы великим делом занимаетесь – историю пишете. Сейчас нашего брата осталось совсем немного, фактически единицы, поэтому собрать их воспоминания это дорогого стоит. Дело это благородное, но и очень ответственное, потому что я уверен, что по этим воспоминаниям еще будет написана настоящая история. Ведь только лишь по документам всю правду о войне показать невозможно. Подумать даже страшно, сколько судеб оказалось переломано, сколько людей героически погибли, а о них и не вспоминают, потому что у них ни наград, ничего… А особенно те, кому пришлось воевать в 41-42-м годах. Это ведь они приняли на себя самый страшный удар, а про них забыли…
У меня как раз вопрос на эту тему. Вы не знаете, например, сколько ваших одноклассников воевало и сколько из них погибло?
Насколько я знаю, из класса осталось всего четверо, а ведь нас было человек пятнадцать ребят… Но дело в том, что ребята были с разных деревень, и не про всех я знаю. Слышал, что Вася Кельчин погиб. (По данным ОБД-Мемориал командир минометного взвода 170-го стрелкового полка 58-й стрелковой дивизии старший сержант Кельчин Василий Михайлович 1922 г.р. погиб в бою 14.03.1943 г.р. Похоронен в деревне Чумазово Калужской области). Кузнецов Коля, Белобородов Саша и Миша Первушевский тоже погибли… Директор нашей школы Александр Спиридонович Сергеев тоже погиб… (По данным ОБД-Мемориал заместитель командира минометной роты 20-й Гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Сергеев Александр Спиридонович 1912 г.р. погиб в бою 29.01.1942 г. Похоронен в деревне Лобаны Смоленской области – прим.Н.Ч.) А из тех, кто остался жив, точно знаю про Ваню Пензина, с которым мы сидели за одной партой с 4-го по 8-й класс. Иван Павлович после войны работал учителем в Уфе. Белобородов Саша тоже учителем после войны работал, но где воевал, не знаю. Просто поймите, что после войны у нас как-то не было принято говорить о том, кто, где воевал.
А из нашей довоенной компании, а нас было человек двадцать-двадцать пять, только мы четверо вернулись… Один без руки вернулся, а другой уже в 42-м вернулся с покалеченной ногой… А Никифоров Иван Филиппович вернулся по ранению в 43-м. Знаю, что он младшим лейтенантом был.
А из родных многие воевали?
Вот тут уже придется считать. По линии мамы у нас все близкие родственники живы остались, погиб только троюродный брат - Васильев Александр Александрович. Он был с 23-го года, но его почему-то до 44-го в армию не брали. Но потом призвали и в первом же бою он погиб. Уже через три месяца после призыва пришла похоронка…
А вот со стороны отца много погибло. Мои двоюродные племянники с 25-го года, близнецы Вася и Гена Зиновы оба погибли… И отец их Александр Григорьевич и его брат Илья тоже погибли…
Из родственников подальше было два родных брата. Зинов Афанасий Афанасьевич 1917 г.р. и Федор с 20-го. Один служил на Балтийском Флоте, а второй в погранвойсках на западной границе, и оба в плен попали. (По данным ОБД-Мемориал Зинов Афанасий Афанасьевич 1917 г.р. числится умершим в лагере «Комаром» 4.10.1941 г. – прим.Н.Ч.) Старший вернулся – учителем работал, а Федор после плена оказался на Северном Кавказе. Я пытался с ним наладить связь, потому что в детстве мы были дружны, но не получилось. А отец их Афанасий Зинов вернулся с фронта без ноги и вскоре помер…
И мой дядя, муж сестры моей мамы – Ляпустин Фрол Акимович тоже побывал в плену. Он был 1910 г.р. и в мае 41-го его призвали на сборы, и он попал в Брестскую крепость. Но уже на второй день его контузило, и он попал в плен. А в Германии он попал в работники к одному бауэру и проработал у него до конца войны. Рассказывал, что тот к нему относился как к сыну, уговаривал остаться у него навсегда и даже обещал женить на своей дочке. Но дядя вернулся домой, и насколько я знаю, никто его пленом потом не попрекал. Работал завхозом в детском доме в Бирске и умер в 94 года. Вот так по разному сложились судьбы, но я вам благодарен, что мы сегодня можем о них вспомнить. И особо я бы хотел рассказать о судьбе своего свояка. Ему столько довелось пережить, что просто удивительно. По таким судьбам кино надо снимать.
Звали его Ермаков Федор Николаевич, и если не ошибаюсь, он был 1918 г.р. Еще до войны он окончил Ейское авиационное училище и женился на старшей сестре моей жены – Вере. И после училища он попал служить в Крым.
Когда началась война, где-то в конце 41-го его сбили над Плоештами, но он успел выпрыгнуть с парашютом и попал в плен. Но вскоре сбежал, вернулся в свою часть и после проверки его вновь допустили к полетам.
Во время очередного вылета его снова сбили над Черным морем. Но он опять успел выпрыгнуть с парашютом, и снова оказался в плену в Румынии. Но он был очень боевой мужик, вроде из детдомовских, и опять сбежал. Снова вернулся в свою часть, снова стал летать, но в конце войны его в третий раз сбивают. И все над той же Румынией… Но он и в третий раз бежал из плена, и снова стал летать. Представляете?! Все это он мне лично рассказывал, а на его кителе я видел шесть боевых орденов.
А его жена всю войну прошла операционной медсестрой в одном из госпиталей. (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержка из наградного листа, по которому старшина медицинской службы Велигур Вера Ивановна 1923 г.р. была награждена медалью «За боевые заслуги»: «Образец лучшей медсестры и патриотки нашей Родины. В течение года работает в газовом отделении, обслуживая до 60-80 больных. Исключительно внимательна к тяжелораненым, бессменно по двое-трое суток находилась у постели тяжелых газово-гангренозных больных. В случае ухудшения состояния раненого своевременно сигнализировала врачам, чем спасла жизнь ряду из них. В частности, своевременным наложением жгута, остановила смертельное кровотечение, а затем дала свою кровь для трансфузии капитану Архангельскому. И такие случаи у нее не единичны. Является донором, много раз сдавала свою кровь для раненых. Исключительно скромна. Принимает активное участие в общественной жизни госпиталя. Работает над повышением уровня своих знаний, овладела техникой переливания крови (самостоятельно сделала свыше ста переливаний), технической дачи наркоза, гипсовой техникой, внутривенными вливаниями (сделала их несколько сотен). В любое время готова заменить операционную сестру. За свою отличную работу получила несколько благодарностей от командования госпиталя, получает письма от выздоровевших за ее внимательное и чуткое отношение и уход» - прим.Н.Ч.) При одной нашей встрече, рассказывала, что в 42-м, когда наших выбили из Керчи, она еще с двумя девушками, двое суток болталась на автомобильной камере в Керченском проливе…
В общем, когда война кончилась, они снова соединились, и его часть опять направили в Крым. Все было хорошо, пока не прислали нового командира полка. Оказывается, они вместе окончили училище и вместе ухаживали за Верой, но она выбрала Федю. И комполка стал его всячески притеснять…
Во-первых, списал его с летной работы. Ну, это еще ладно, потому что у него после ранения одна стопа не работала. Но в один из дней к Вере пришел друг Федора, майор, и говорит: «Вера, быстро собирай все необходимое себе и ребенку. Машина стоит, билет я уже купил, срочно уезжай! Потом я тебе все напишу!» - «Что случилось?» - «Ничего не знаю, но Федю уже арестовали…» Оказывается, какой-то донос на него написали.
И она с сыном уехала к своим родным на Кубань, а через какое-то время получает от мужа письмо. Где-то в Подмосковье он его в пути выбросил из эшелона, а кто-то подобрал и отправил по указанному адресу. «Вера, я ни в чем не виноват, но мне дали 25 лет… Везут очевидно на Колыму… Не жди меня, найди себе нового мужа…» И в общей сложности он отсидел на Колыме лет семь. А потом его освободили, полностью реабилитировали, судимость сняли, вернули все награды и даже восстановили в партии. Получил в Москве двухкомнатную квартиру, там женился на другой женщине, потому что Вера уже повторно вышла замуж. Но с Верой они сохранили хорошие отношения, ведь никто не виноват, что так вышло… Мы в 70-х годах дважды были у него в гостях проездом, он нас прекрасно принимал, и лично мне рассказывал свою эпопею…
Да, просто удивительная история. Может быть, кто-то знает всю эту историю более подробно?
Не думаю. Сам он давно умер от рака горла, а вот Вера Ивановна ушла совсем недавно. А их общий сын - Валерий Федорович стал доктором медицинских наук, профессором, живет в Минске. Но я думаю, что подробностей и он не знает, потому что когда отца арестовали, он был еще совсем маленьким, а потом его воспитывал отчим.
А когда Федор Николаевич вам все это рассказывал, вы чувствовали у него какую-то злость или обиду на советскую власть за фактически поломанную жизнь?
Нет, вы знаете, при том, что по характеру он был резкий и прямой, настоящий правдоруб, но он был незлобивый человек, и какой-то обиды я у него не помню. Но раз уж мы заговорили про плен, и переломанные из-за него судьбы, то если хотите, могу вам рассказать про двух людей, с которыми меня сводила судьба.
Расскажите, пожалуйста.
В 1958 году, когда я работал в Гафурийском районе, меня на время весенней посевной направили уполномоченным от райкома партии в деревню Юлуково. Председателем колхоза там был Мухеддинов, у него все пальцы были покалечены в войну. И однажды мы с ним заехали в кузницу, смотрю, сама она очень хорошая, да и кузнец ей под стать - такой красивый башкирин под метр девяносто, богатырского телосложения. А инструмент аж весь блестит. Я удивился, но спросить постеснялся. А этот кузнец, Юсупов была его фамилия, знал, что у председателя колхоза даже пообедать нечем, у него же было семь или восемь детей, и пригласил нас к себе.
Пришли, а дом у него и все постройки как игрушка. Зашли, а мебель, я такой нигде и не видел… Причем, все так сделано идеально, просто исключительно. Тут, конечно, не выдержал, спросил: «А кто вам дом строил?» - «А что?» - «Уж как-то все необычно». – «Все сам построил». Спрашиваю: «А где вы этому научились?» - «Так я же в плену был…», и рассказал мне свою историю.
Он был года 18-го или 19-го, служил в Бресте и на третий или на четвертый день войны попал в плен. Его вывезли в Германию, и там он попал на работу к немцу, у которого была своя мебельная фабрика. И тот его стал учить всему с самых азов: как материал выбирать и готовить, в общем, за все время в плену он настолько хорошо освоил науку, что немец назначил его старшим мастером. И до того к нему хорошо относился, что когда война закончилась, он его еще несколько месяцев держал и уговаривал остаться: «Ты же там попадешь в тюрьму!» - «Но я ничему этому не верил. Как так в тюрьму, за что?!» А даже если и в тюрьму, то уж лучше в неволе, но на родине…» И когда он все-таки собрался уехать, немец ему сказал: «Как только дома устроишься, напиши адрес, и я тебе вышлю полный набор всех инструментов. Я же тебе ничего не платил, поэтому хочу тебя хоть как-то отблагодарить».
Приехал домой и его сразу забрали на проверку, но вскоре освободили. Устроился в свой колхоз кузнецом, и где-то через год его снова вызывают в Уфу. Приезжает в это управление НКВД, а там его начинают расспрашивать, где сидел, что да как? Опять все про себя рассказал, и про этого хозяина, а они улыбаются: «Счастливый ты. На твое имя в Москву пришли несколько контейнеров». Немец сдержал свое обещание, прислал инструменты, и они потом даже переписывались.
А в НКВД увидели, какого класса он мастер, и сделали ему заказ. Рассказывал, что для того чтобы сделать по-настоящему хорошую мебель, нужно минимум два года. Вначале нужно выбрать в лесу отличное дерево, в определенное время его спилить, соответствующим образом обработать, высушить, отделать, не все так просто, оказывается. Поэтому специально ездил в лесхоз, лично выбирал деревья и, в конце концов, сделал им отличную мебель, а они ему очень хорошо платили. За счет этого и дом такой отстроил, женился, двое детей родилось.
И еще про одного человека хочу вам рассказать. У нас в Рязановке директором школы работал один человек. Помню, как его звали, но, наверное, его имя упоминать не нужно. Он очень хорошо себя проявил и как человек, и как учитель, и как руководитель. И вот в 69-м году в конце марта ко мне в кабинет приходит какой-то человек и представляется: «Я Костя!» И показывает свое удостоверение – капитан КГБ. - «Что вам нужно?» - «Мы бы хотели, чтобы вы провели ревизию в Рязановской средней школе». – «Пожалуйста, хоть завтра организую!» - «Но нам нужно чтобы вы лично ее провели!» - «Так мне по должности не положено!», я ведь был заведующим райфинотдела Стерлитамакского района. - «Нет, нужно, чтобы именно вы провели!» Тут уже мне самому стало интересно: «А в чем дело?» И он мне объясняет: «На директора поступил материал. Он был в плену и мы его уже несколько месяцев изучаем». Оказывается этот башкирин был 1918 г.р. из Аургазинского района, и войну он тоже встретил в Брестской крепости. Тоже попал в плен, но он был грамотный человек и под конец войны в лагере его назначили старшим надзирателем. - «Мы знаем, что вы с ним приятельствуете, дома бываете». – «Да, это так». – «У него фотографии на стенке есть?» - «Не видел». – «А как он как семьянин?» - «Во всех отношениях я его знаю как очень порядочного человека. Но знаю лишь, что в армии он был младшим лейтенантом». – «Ну, ладно. У него в кабинете в столе есть фотографии, в том числе и армейские. Посмотрите!» - «Так я же брать не могу!» - «А вы и не берите, мы сами возьмем».
В общем, взялся я проводить ревизию, и сразу появились вопросы. В ведомости он включил лишних трех человек, и получал за них зарплату. Оказывается, у него в Уфе было сразу две любовницы. Одна артистка, другая в министерстве просвещения, и он пошел на этот подлог, чтобы иметь возможность дарить им цветы и подарки. Но он во всем сразу же признался и пообещал: «Я внесу все, что взял!» Продолжаем с ним беседовать, и вдруг он мне говорит: «Эх, Лукьян Петрович, я же знаю, чего вы все время ко мне ездите! Давайте-ка я вам всю свою жизнь расскажу. Я уже и сам замучился…» И рассказал мне все. Что попал в плен и там дослужился до старшего надзирателя. Но ничего плохого людям не делал, поэтому после освобождения прошел проверку, и его отправили служить в армию. Там в трофейной команде дослужился до младшего лейтенанта, потом вернулся домой, но тут за него органы как взялись… Буквально извели его своими проверками. Рассказывал, что никак не хотели оставить в покое и время от времени его негласно показывали людям, с которыми он вместе сидел: «Один из Новосибирска приезжал, другой с Украины, третий из Смоленской области и еще один уфимский. Но я их всех видел, я же прямо чувствую, когда за мной следят…» Но как потом выяснилось, все эти люди отзывались о нем очень хорошо: «Если бы не он, нас бы там сотни погибло с голоду… Он же нам и с питанием, и с медикаментами, и с одеждой, и с работой помогал. Только благодаря ему мы и выжили!»
Рассказал, что из-за этих постоянных проверок они с женой решили скрыться и уехали в Краснодарский край. Но их и там, конечно, нашли и опять стали таскать, поэтому они вернулись в Башкирию. А этот разговор у нас случился в июне 69-го, за два дня до организационного пленума Башкирского Обкома партии, на котором 1-м секретарем избрали Шакирова. Это важно, потому что имеет непосредственное отношение к его истории. Он уже был кандидатом в члены КПСС, но по результатам этой ревизии, его на бюро исключают из партии, да еще наказали тех, кто давал ему характеристику. А у нас были очень хорошие отношения, поэтому после бюро мы вместе с ним пришли в кабинет, и он прямо расплакался: «Сколько же я мучений из-за этого плена принял… Ведь я со своими способностями мог не директором школы работать, а гораздо выше…» Потом немного успокоился: «В партии я восстанавливаться не намерен! Да мне все равно ничего не сделают!» И рассказал мне по секрету, что уже принято решение о том, что 1-й секретарь Нуриев уходит на повышение в Москву, а новым через два дня назначат Шакирова. «А Шакиров это мой двоюродный брат!» Понимая, что дело принимает новый оборот и попахивает скандалом, я пошел к руководству бюро. Они посоветовались, и тут же на бюро это решение об исключении отменили. Но он все равно был настолько обижен, что решил уехать в Узбекистан. Вот такие вот судьбы… Эх, вот если бы раньше стали собирать воспоминания, то какие бы истории довелось узнать… Недаром говорят, что, жизнь похлеще любого писателя сюжеты заворачивает. Ведь такое захочешь, а не придумаешь…
А вам самому приходилось общаться с особистами?
В запасном полку я с нашим особистом даже не пересекался, а вот на фронте довелось.
В период наступления под Новороссийском мне нужно было куда-то выделить отделение. Отдал распоряжение командиру отделения, а он вдруг заявляет: «Я не пойду!» А этот сержант как раз отличался тем, что часто нарушал дисциплину, и я был вынужден принимать в отношении него воспитательные меры. - «Как не пойдешь?!», спрашиваю. А командир роты аж вскипел: «Расстрелять его надо!» Но я с ним крупно поговорил, и решил вопрос. А дня через два-три мы с Айдиняном в боевой обстановке встретились с нашим полковым особистом – старшим лейтенантом Адамяном, и крепко с ним поскандалили. Оказывается, этот сержант приходился особисту каким-то родственником, и видимо нажаловался ему. Это все дошло до командира полка, и где-то на привале, а он всегда верхом ездил, подъехал ко мне: «Что случилось?» Я, объяснил, так и так. – «А почему ты не настоял?» В общем, никаких последствий наш нелицеприятный разговор не имел, вроде все стихло, но уже после освобождения Тамани, мы снова встретились с Адамяном, и я почувствовал, что он ко мне настроен не очень дружелюбно.
Но в ноябре 45-го, когда возвращался из Ирана, на пограничной станции сел в офицерский вагон, и встретил там его. Хорошо с ним поговорили, и по существу он признался, что был неправ и извинился. Рассказал, что родом из Баку и приглашал к себе в гости. В общем, тепло пообщались и по-доброму расстались.
Мне бы хотелось узнать о вашем отношении к Сталину.
Самое хорошее. Конечно, ошибки у него были, но проведение коллективизации считаю правильным. И то, что индустриализацию нужно было проводить, это же вполне очевидно. У него просто не было другого выхода. Правда, не все это хотят признавать. А если так, то сразу возникают вопросы: а как заводы строить, где взять рабочий класс, чем платить?! А где взять время, чтобы ждать пока все осознают преимущества колхозного метода? Наверное, можно было бы по иному как-то, помягче, но это мы сейчас задним умом такие умные… А если бы коллективизацию быстро не провели, то не смогли бы провести индустриализацию, а значит, и не смогли бы победить в войне. А то, что без Сталина мы не победили бы, это даже не обсуждается…
А всеобщее среднее образование? Ведь почти же все безграмотные были. Но меня, например, в 5-м или 6-м классе прикрепили к трем женщинам. И я, ребенок, ходил к ним, учил и буквам и цифрам, и читать и писать, а их тетради носил на проверку моей классной руководительнице. А когда вернулся домой с фронта, эти женщины мне спасибо говорили: «Ты тогда чуть не плакал, заставляя нас учить, а мы теперь и письма могли читать и писать». А какие заводы построили, какую технику дали деревне, армии, всего этого у него ведь не отберешь, поэтому сейчас все старшее поколение за Сталина. А о том, что столько людей было репрессировано мы и не знали
Но я убежден, что капитализм себя уже изживает и народная власть еще обязательно вернется. Вот почему сейчас и Сталина, и колхозы поливают? Почему люди недовольны, хотя все мы в материальном плане живем куда лучше, чем в то время. В основном все сыты, одеты, но в душе-то радости нет… А ведь раньше, я сам помню с детства, все на сенокос едут как на праздник: в чистом, с песнями. И с поля едут песни поют, такой настрой был душевный. И на палочки эти за трудодни не обижались, правда, у нас в колхозе все-таки немного платили. Как-то рассказывал об этом одному журналисту, так он мне не поверил: «Не может быть!» - «Я вам что, вру?! Откуда же я все эти старинные песни знаю?!» Так что это очень правильно, что мы говорим не только о войне. Люди должны знать, какая была раньше жизнь.
И это чистая правда, что в атаке многие действительно кричали «За родину! За Сталина!», потому что во время войны Сталин для нас был как бог. Это уже сейчас прочитав много разных материалов, многое переосмысливаешь. Вот спрашивается, зачем нас в 42-м бросили под Харьков? Ведь у нас ни пулеметов, ни пушек, даже патронов толком не было, фактически на уничтожение кинули…
Или, например, я потом читал много материалов о «Малой земле», и задаюсь вопросом – а зачем нам был нужен этот плацдарм?! Ведь стоило только прорвать фронт севернее Новороссийска, как немцы оттуда сами побежали. И зачем спрашивается все эти жертвы и страдания?.. Но и в этом случае я бы винил не Сталина, а высший генералитет, потому что ему видимо обосновано доказали необходимость плацдарма. Но ведь генералы бывают разные. Если одни старались добиваться побед, хитростью, умением, малым составом, то у Жукова, например, все наоборот… Вот зачем спрашивается нужно было в лоб лезть на Берлин и класть столько людей?..
Сейчас принято считать, что все успехи при Сталине были достигнуты только из-за страха людей перед репрессиями.
Скажу только за себя. Лично я до 1965 года по работе на себе никогда не испытывал никакого страха и опасений. У меня всегда было твердо – закон превыше всего, поэтому невзирая на лица и должности мог спорить с вышестоящим начальством. Например, когда только начинал работать, как-то вступил в жаркий спор с начальником отдела финансов Минфина и жарко ему доказывал, что он неправ. После, конечно, думал, ну все, выгонят, а вышло как раз все наоборот. Люди заметили и оценили, что я справедливости добиваюсь, и стали продвигать меня по службе, а этот человек стал моим хорошим другом. Но люди ведь разные попадаются, и конечно, всякое случалось. Меня ведь в 1953 году даже из партии исключали,
Если можно, расскажите, пожалуйста, об этом.
В 1952 году меня направили на работу в райфинотдел Архангельского района. Приехал туда, а там на участке моей работы завал просто. Пришлось днем и ночью работать, и стал наводить порядок, невзирая на личности. Ведь обнаружил, что районное начальство систематически нарушает налоговую дисциплину, а некоторые руководители допускали откровенные злоупотребления.
Как раз в это время туда 1-м секретарем партии назначили некоего Баймухаметова, и он с первых же дней стал допускать злоупотребления. Представляете, туда он приехал сразу же после окончания Всесоюзной Партийной Школы, но первым делом закрыл детский садик, чтобы самому поселиться в том доме. Во-вторых, спутался с одной женщиной, у которой я нашел злоупотребления по работе. Ее нужно было освобождать от работы и передавать дело в прокуратуру, а он все замял. А у меня о партии и о коммунистах были очень высокие представления. Я был молодой наивный идеалист и все принимал за чистую монету, тем более перед увольнением в запас наш комдив генерал-майор Дорофеев постоянно проводил с нами беседы об офицерской чести. А я во всем офицерском ходил, только в августе 56-го впервые надел гражданский костюм… Ничего другого просто не имел. В своей армейской шинели проходил до 53-го года, а потом из нее что-то пошил старшему сыну. И жена то же самое, поэтому понятие об офицерской чести для меня было святым, и когда я увидел такое, то, конечно, не мог смолчать. Он, конечно, мне это запомнил и вскоре ему представился повод со мной рассчитаться.
Когда я разгребал завалы на работе, то вдруг выяснилось, что оперуполномоченный МГБ несколько лет не платил налоги. Я приехал, разбираться, как же так? Оказывается, он жил с отцом, который пользуясь этим, не платил. Но это же было совершенно незаконно, и я произвел у него опись имущества. Правда, переговорил вначале с прокурором района, с председателем суда, и они меня поддержали. И потом со свидетелями пришел и провел опись. Он, конечно, обиделся, подключил связи, и с подачи 1-го секретаря райкома в марте 53-го меня сняли с работы и исключили из партии… Так что вы думаете, я испугался? Через несколько дней прорвался к секретарю обкома Петру Васильевичу Ураеву: «Как хотите, выгоняйте, не выгоняйте, не уйду, пока не выслушаете!» Рассказал ему все, и на следующий день на бюро обкома это решение райкома было отменено и даже в личное дело не записали… Вот такой я упрямый всю жизнь, поэтому и сейчас кто живой, смотрят на меня с уважением.
А вы бы знали, что творилось в 30-х годах, когда создавались колхозы. Ведь председателя колхоза сами выбирали, мало ли что там райком рекомендовал. Вы бы только слышали, как на отчетных собраниях друг друга критиковали. По двое суток собрания шли, я сам очевидец этого. Вот это была самая настоящая демократия, а сейчас народ бесправный… Работы нет, идеи нет, а только попробуй покритиковать. Да, сейчас принято считать, что раньше все были зажаты, боялись кровавого Сталина, но лично я никогда не ощущал страха и не помню такого. Зато потом как началось…
Для себя я даже отметил конкретную дату – октябрь 65-го. А все потому, что к этому периоду власть окончательно перешла к партийным органам. Ведь до этого все вопросы решались в органах исполнительной власти, а партийные органы были ниже по статусу. Вот, например, наш колхоз и до и после войны обслуживал инструктор Бирского райкома партии. Говорун такой, все за политику агитировал, но его собственно никто и не слушал. Помню, как-то после войны он приехал на совещание председателей колхозов, и как начал опять воду лить. Так один из председателей встал и говорит: «Слушай, - по имени отчеству, - ты не мешай нам, пожалуйста. Мы сами разберемся!» А вот с конца 60-х попробуй-ка так сказать… И сейчас все к тому же идет… Поэтому я считаю, с момента как власть перешла к партийным органам, вот отсюда все беды и начались.
До этого у меня никогда не было противоречий с председателями исполкомов, наоборот, всегда относились ко мне с уважением, постоянно советовались. А вот на 1-х секретарей райкомов мне часто не везло. Спорили страшно… Меня ведь дважды, в 72-м и в 74-м, помещали в республиканскую психбольницу, по четыре месяца там находился…
Да вы что… Как же такое было возможно, если вы член партии с безупречной репутацией, всегда были на отличном счету в профильном министерстве?
Это все уже не имело значения, порочная система набирала обороты и подминала под себя тех, кто в нее не вписывался. А ведь я с чем боролся? С различными злоупотреблениями и приписками. Ведь по роду своей работы я прекрасно знал реальную картину того, что творится в районе. Но новый 1-й секретарь райкома партии был по специальности зоотехник, но в вопросах финансов и экономики был абсолютно безграмотный, а самое страшное, что даже и не хотел в них вникать. И его методы работы приносили только вред и убыток. И не только у него, но и по всей стране такая система сложилась, поэтому и Советский Союз рухнул. Я и сейчас бывшим партийным работникам постоянно доказываю: «Это же вы, мы с вами его развалили! Пустыми прилавками и очередями…» Я же выписывал журнал «Коммунист», а в нем каждый год печатали автобиографии членов политбюро ЦК. И отлично помню, что в последнее время средний возраст членов политбюро был больше 74 лет… Куда с такими людьми?! В какое светлое будущее?! Они ведь там по двадцать лет сидели, никуда не выезжали и ничего не знали, что на местах творится… А я выступал на партийных собраниях и нещадно боролся. Не подписывал решения на выдачу премий, потому что знал, что их отличные показатели достигнуты за счет приписок. А на тех, кто проворовался, оформлял дела в прокуратуру. Конечно, все это вызывало у определенных людей раздражение и приводило к серьезнейшим конфликтам. Я уже почти тридцать лет на пенсии, а бывшие работники райкома, подхалимы той системы, до сих пор не могут меня простить… Ведь доходило до того, что через Совет Министров я добивался отмены решений исполкома райсовета. У нас были постоянные конфликты, я не выполнял их антизаконные указания, но там целая система сложилась… Я у них как кость в горле был, но убрать меня они никак не могли. Ни единой зацепки им не давал: честно работал, не курил и не выпивал, с бабами не таскался. Правда, угрожали мне, несколько раз звонили. И председатель нашего районного КГБ меня предупреждал, но бог миловал. Правда, они придумали другое.
В 1972 году в апреле меня обманным путем определили в республиканскую психиатрическую больницу. Там в 12-м клиническом отделении лечилось 75 человек. Одна палата на 25 человек, а в нашей – 50, представляете, что это такое?! И таких как я там было около десяти человек, бывшие профессора, партийные работники, которые боролись со сложившейся системой…
Но меня спасла главврач этого отделения – Попова Елена Васильевна. Она меня сразу предупредила: «Лечить вас буду я. Лекарства и уколы принимать только от меня и фельдшеров, которых я вам назову! От остальных ничего не принимать!» И все это время она давала мне общеукрепляющие средства. Провел там полагающиеся четыре месяца, а на консилиуме врачи вынесли заключение - «Совершенно здоров!»
Приехал в Стерлитамак, захожу в райком к 1-му секретарю: «Вот, явился из политической ссылки». – «Откуда?» - «Лично я так все это расцениваю!» Проговорили с ним долго, и я ему сразу сказал: «Я от законов отходить не стану и буду точно также добиваться справедливости!» Я ведь из-за них даже готов был сменить специальность, три курса заочного юридического института окончил.
В общем, продолжил работать в том же духе, и когда они увидели, что я ничего не понял и не «исправился», то повторили свой трюк. Осенью 1974 года после скандала на заседании исполкома райсовета я с сердечным кризом попал в больницу. Две недели отлежал, а потом меня опять перевели в психиатрическую больницу… Четыре месяца отлежал, но на консилиуме врачи снова выдали заключение – «совершенно здоров».
Сразу пошел к 1-му секретарю райкома: «Выходить мне на работу?» - «Что за вопрос?» - «Так я же не «исправился», и буду работать точно также!» - «Будем работать!» - «Но учтите, если только хоть упрек услышу!» Но уже месяца через четыре я был вынужден написать письмо на имя Генерального секретаря КПСС, министра финансов и генерального прокурора СССР. И как офицер запаса написал еще министру обороны. Из Москвы приехала комиссия, стали разбираться и увидели, что я прав. Поддержали меня, а тем деятелям устроили такой разгон… Ведь выяснилось, что 1-й секретарь и домработницу держал и личного шофера, и у председателя райисполкома то же самое. А у меня только последний акт по райпотребсоюзу был на 105 листах и к нему 5000 приложений документов. Столько уголовных дел было открыто…
Мы, конечно, сильно отвлеклись, но я вам все это рассказал, не для того чтобы похвастаться, просто хотел вам наглядно показать, что все нарушилось с приходом Брежнева. Вся коррупция, пьянка и воровство приняли широкий размах именно во времена его правления. После войны как бы трудно ни приходилось, порой очень тяжело, но люди жили тем, что будет лучше. Жили этой надеждой и именно поэтому сейчас пожилые люди так хорошо вспоминают то время. И, пожалуй, что до Хрущева страна шла вперед. Все созидалось: и заводы строились, и сельское хозяйство, и наука, образование, медицина, все шли вперед. Правда, это именно Хрущев чтобы оправдать свои ошибки, облил грязью Сталина. Хотя я уверен, что на его совести грехов даже побольше наберется, да только он сумел уничтожить компромат на себя. А с Брежнева все окончательно покатилось… Начал зачем-то целину, да только загубил и земли, и людей. Только танки штамповали вот и доштамповались…
Я понял, что в партию вы вступили на фронте. Насколько осознанным был этот выбор?
В нашем селе было три коммуниста: председатель колхоза Зенков Дмитрий Ильич, директор школы Лобанов Николай Иванович и председатель сельсовета Петровский Николай Павлович. У них у всех были настолько высокие репутация и авторитет, они для меня таким примером стали, что я уже с детства мечтал вступить в партию. В кандидаты меня приняли 10 декабря, но я отлично запомнил день, когда подал заявление.
Мы тогда стояли на переформировании под Ейском, и 3-го мая нам выдали новую форму с погонами, а дня через три нашему батальону устроили смотр. Всех построили, а я вам уже рассказывал, что у меня командиром 1-го отделения был прежний шофер командира дивизии. Он был очень волосатый, и когда построились, мне кто-то сказал: «Сергей без погон!» Оборачиваюсь: «Сергей, а где погоны?» - «На плечах!» - «Ты что смеешься?!» - «На плечах! Не волнуйтесь, ничего не будет!», а он же в первом ряду стоит. Комдив подходит, а он в нос говорил: «Сергей, где погоны?» - «На плечах товарищ генерал!» Вдруг быстро снимает ремень, гимнастерку, а на плечах выбрито в форме погон, и красной краской нарисовал себе лычки старшего сержанта, а пуговицу желтой. И смех, и грех… Комдив только и сказал: «Каким ты был таким и остался…» Потом комбат подходит: «Сережа, ты чего? Ладно, я или командир роты получим замечание, а ведь командира взвода могут и наказать». – «Ничего не будет!» Вот такой был человек. Все что угодно мог достать. Пойдет на дивизионные склады, а там у него везде знакомые.
Были у вас какие-то трофеи? Офицеры обычно часы имели, пистолеты.
У меня парабеллум был, мне его какой-то солдат подарил. И хранил его у себя до 47-го года. А зимой что-то вспомнил про него – надо бы его выбросить, а то неприятности будут. Спросил жену: «Так я его давно разобрала и выбросила в колодец».
Часов не имел, а вот немецкая ложка была. Складная ложка-вилка, очень удобная. Но куда потом делась, даже не помню.
А вот у моего ординарца Халопяна была весьма заметная ложка. Самсон был невысокого роста, но жилистый такой, очень веселый и энергичный. Даже в тяжелые моменты никогда не унывал, а наоборот, пел и плясал. А когда ходил по окопу, никогда не пригибался, я его даже ругал за это. Но он был твердо убежден: «Меня не убьют!», потому что с ним была эта ложка. Тяжелая такая, видимо оловянная, но он ее носил в нагрудном кармане на манер ручки. Из нее торчал маленький ржавый осколочек, поэтому он ее постоянно чистил. И как-то раз объяснил мне: «Это дедова ложка. Он на фронте с турками воевал, и она его спасла. Отец тоже воевал с ней и остался жив. Это наш талисман, поэтому со мной ничего не случится».
А у вас самого были какие-то приметы или суеверия? Многие ветераны признаются, что чувствовали, что вскоре с ними что-нибудь случится.
Нет, у меня даже перед ранением ничего такого не было.
Многие вспоминают, что считалось не к добру брать что-нибудь из вещей погибших.
Это да. Я, например, тоже ничего не хотел брать с убитых. Помню, такой случай. После того боя, в котором погиб командир дивизии, вошли на хутор, а там кругом валялось много убитых немцев. Прямо во дворе, например, лежал одетый в очень хорошее обмундирование молодой обер-лейтенант, и все через него перещагивали, словно через какой-то чурбак. А у меня обувь плохая была, и мне солдаты предложили: «Давайте мы его занесем ногами в комнату, они немного оттают, сапоги снимем и дадим вам!», но я категорически отказался. Мы заговорили на эту тему, и мне вдруг вспомнился такой эпизод.
Когда мы стояли под Керчью и готовились к штурму, то там, в Булганакской долине еще в 42-м погиб наш кавалерийский корпус. Стали окапываться, но только начнешь копать, непременно натыкаешься на могилу… Причем, тела еще не разложились, ведь там каменистая почва, могилы неглубокие. И нам поступило указание, собрать документы погибших. Стали собирать, и оказалось, что там в основном молодые ребята 1918-19 годов из Владимирской и Рязановской областей… Все в новых шинелях, гимнастерках, кое-где шапки были, добротные сапоги… И у всех у них были новые хрустящие тридцатки, видимо только получили…
А вот армяне, кстати, как хоронили погибших? Отпевали, может, или молитвы читали?
Нет, никаких особых ритуалов и молитв никогда не было. Во всяком случае, я не видел.
Как вы считаете, благодаря чему остались живы? Некоторые ветераны, например, прямо говорят, что на фронте атеистов нет. Вы, например, на передовой не стали задумываться о боге?
Нет, вроде никогда не думал об этом. Как-то так сложилось, что я с раннего детства рос, не думая о боге, да и сейчас на склоне лет, тоже остаюсь атеистом. Ведь в детстве, когда к нам приходил наш сельский священник, я его все спрашивал: «Отец Михаил, а где Бог?» - «А кто его знает…», поэтому у меня с детства сомнения – раз он не знает…
А жив остался, наверное, благодаря судьбе. Очевидно мои энергия, желание и стремление жить позволили мне пройти через все испытания. Но я согласен, что какая-то необъяснимая сила все-таки есть. Например, я был очевидцем такому случаю.
В декабре 44-го меня вдруг срочно отправили в Батайск. Там формировался большой эшелон с пополнением, но один из командиров рот заболел что ли, и меня срочно направили вместо него. Приехал, а там оказывается в основном ребята 1927 г.р., все со Ставрополья, Краснодарского края и Ростовской области. Выделили мне три вагона, и я эту роту сопровождал в Алкино. И в этой поездке выяснилось, что в одной из рот едет паренек, который от природы владеет гипнозом.
Пригласили его в офицерский вагон, начали расспрашивать, и он рассказал: «А я и не знаю, откуда у меня это. Нас у матери трое было: я старший и две сестренки, но коровы нет, а без нее голодно, поэтому во время оккупации туго пришлось. И вот как-то весной или летом иду, смотрю, сидит дед на лавочке. А я знал, что они жили очень хорошо. Иду и думаю, эх, если бы ты знал, как мы голодаем…» Вдруг дед меня подзывает: «Как живете?» Так и так… - «Зайдем!» Зашли в дом, он бабке говорит: «Дай каравай хлеба и кусок сала!» Принес все это домой, а мать ругает: «Ты, наверное, украл!» А я даже и не думал ничего такого. Через несколько дней шел по другой улице, там женщина сидит, их семья тоже хорошо жила. А я не специально, просто опять подумалось, эх, если бы вы только знали, как мы тяжело живем… Не просил ничего, но она дала мне продукты. Принес, мама обратно ругается…
Потом иду, опять этот дед сидит. Снова о том же подумал, он приглашает: «Зайди!» Опять дал продуктов. Тут уже мать не выдержала, пошла к ним, спросила, и ей подтвердили, что сами угостили. А потом, я услышал, что есть такое явление - гипноз, и думаю, дай попробую. Как-то с поля шел, а впереди меня две девушки. Смотрю им в затылок и внушаю: «Снимите платки!» Смотрю, они снимают. Снимите кофты – они и кофты сняли. Потом юбки сняли и остались голые, а я повернулся и ушел…
На другой день их спрашиваю: «Что там делали?» - «Да вот захотелось раздеться, потом оделись!» А мать ему строго наказала: «У тебя, наверное, дар, поэтому, никогда не думай о плохом!» И говорит, в селе, если мальчишки начинают шуметь, я им сразу внушаю, вы чего, нельзя ведь. - «А сейчас едем, я внушаю ребятам со мной поделиться продуктами, и они делятся…» Мы его рассказ выслушали, но как-то не верится, и один старший лейтенант, не особенно ему поверивший, говорит: «А нам что-то показать можешь?» - «Давайте попробуем!» Сидим, потом он говорит: «Товарищи офицеры, давайте все свои пистолеты!» И мы все без всякого выложили и отдали ему… А как приехали в Алкино, этого парня сразу отправили в какой-то специальный институт или подразделение. Так что когда сам такое увидишь, не захочешь, а поверишь.
А вот лично вы, допустим, воевали с каким чувством? Верили, что останетесь живым, или наоборот, думали, что непременно погибнете?
Вы знаете, такого чувства безысходности я у себя не помню. Но к смерти мы относились просто, погиб – погиб, это война… К смерти, конечно, привыкнуть нельзя, но особых переживаний, ни у себя, ни у других я не помню.
Но вы можете сказать, что чью-то смерть переживали тяжелее всего?
Вы знаете, пожалуй, что даже и не смогу выделить. Просто у меня так сложилось, что за все время на передовой, не погиб никто из моих друзей или близких товарищей. Но, конечно, когда погибал кто-то из знакомых, обязательно переживаешь. Например, так было когда погиб наш батальонный повар.
Костя его звали, здоровый такой парень, симпатичный, лет под тридцать. Очень вкусно готовил, постоянно кого-нибудь гонял в степь набрать душистых трав для приправ. До войны он работал поваром в одном из Ереванских ресторанов, и кто-то мне рассказывал, что до прихода к нам, он служил личным поваром, чуть ли не у командующего 58-й Армии. А погиб он случайно, никто и не думал…
Когда прорвали «Голубую линию» и продвигались вперед, наш батальон в колонне полка шел третьим. Костя шел рядом с кухонной бричкой и вдруг взрыв… Оказывается бричка колесом наехала на противопехотную мину и его поразило восемнадцатью осколками… И ведь кровь не особенно и сочилась, но через полчаса он умер… Вот рассказал про него и вспомнился случай, как он нас накормил ежиками.
Когда мы стояли на переформировании под Ейском, однажды, будучи дежурным по роте, я вдруг увидел, что Костя рядом с кухней вырыл яму метр на метр. И глубиной с метр. Спрашиваю: «Для чего яма, для отходов?» - «Нет, мне нужно». Ну ладно, нужно так нужно. Ушли на занятия, а в обед пришли, смотрим, в яме ежик бегает. А там ежей очень много водилось. Спросил его: «А зачем ежика поймал?» - «Ооо, кушать будем!» - «Как кушать?! Он же мышей ест, и змей и чего еще». - «Да вы просто не знаете, какое это вкусное мясо!» Вечером приходим, а там уже сохнет его шкурка. А до этого, дня за два, этот Костя приходит: «Товарищи офицеры, в колхозе, где я получаю продукты, свинья опоросилась, но кормить их нечем. Может, скинемся, - какую-то копеечную сумму назвал, - я пару молочных поросят куплю». Все без разговоров скинулись.
На следующий день приходим на обед, первое поели, а на второе – обжаренное мелкими кусочками мясо. А у нас в семье на рождество и на пасху всегда готовили молочных поросят, и я с детства помню, что косточки у них не такие жесткие. Но внимания не обратил. Поели, и потом он спрашивает: «Ну что, товарищи офицеры, вкусный обед?» - «Очень вкусно, особенно поросята на второе». А он оказывается до этого не только меня, а всех четверых предупреждал, что накормит ежиками. И предъявил нам три шкурки – получается, накормил-таки… Спрашиваем: «А чего шкурки-то не выбросил?» – «Да вы что! Вы знаете, сколько мне за них женщины молока дадут?» Рассказал, и тут я вспомнил, что у нас тоже так делали. Когда взрослого теленка в табун гоняют, то чтобы он не сосал мамку, ему на морду надевают шкурку ежика, и корова не дает себя сосать.
Хотелось бы задать вам один из важнейших вопросов нашего проекта. Вспоминая войну, у вас нет ощущения, что мы воевали с неоправданно высокими потерями? Что людей у нас не берегли?
Нет, у меня такой мысли никогда не возникало. Ни на фронте, ни потом. А то, что сейчас пишут про все эти штрафбаты, заградотряды, будто бы мы немцев трупами закидали, так все это сочиняют нечистоплотные люди. Во всяком случае, лично мне такого видеть не пришлось. Зато прекрасно помню другое. Сначала у всех было одно желание – как можно быстрее попасть на фронт. А на фронте уже другое желание - как можно лучше воевать!
А может я и ошибаюсь, может, просто лично не попадал в настоящую мясорубку. Но я считаю, что нельзя отрываться от действительности. Надо рассказывать только то, что сам пережил, сам прочувствовал, вот и будет правда. Конечно, я много всякого и слышал и читал, но стараюсь дистанцироваться и воспринимаю это просто как данность. У кого-то так сложилось, а у меня вот так, поэтому и не могу судить, и мыслить по-другому.
Немцев как солдат можете оценить?
Не возьмусь, потому что я тогда даже не задумывался об этом. Но, например, бросалось в глаза, что у них все строго по распорядку. Война войной, а обед по расписанию. Во время завтрака, обеда и ужина всякая стрельба прекращалась. Мы когда выходили из окружения, то раза два прорывались именно в такие паузы. Знали, что нас не тронут и даже не особенно прятались.
На фронте спиртное часто выдавали?
Очень редко. Почему-то помню, что нам лишь раз выдали в Керчи по сто граммов. Но в дивизии мы часто получали из Армении посылки. Старшина потрясет, если бренчит – офицерам несет. Обычно там какие-то платочки, легкий табак «Давид Сасунский», да две-три бутылки вина. Но я вино всегда солдатам отдавал. Курить тоже не курил. Причем, как бы тяжело ни было, нам всегда выдавали на каждый день папиросы: или «Наша марка» или «Беломор». Но я не курил, и раздавал их своим солдатам в виде поощрения.
Почти все ветераны вспоминают про случаи отравления техническим спиртом.
И у меня есть такой эпизод. В январе 43-го нас вели в 1-й эшелон, и по пути мы зашли в Минеральные Воды. Запомнилось, что там мы по существу единственный раз на фронте ночевали под крышей и в тепле. А я тогда был за командира роты, и ко мне пришел или сержант или солдат: «Товарищ лейтенант, там стоят четыре цистерны со спиртом. Все ведрами тащат, разрешите и мы наберем!» Но я фактически лежал, малярия очень сильно трепала, и говорю медику роты: «Сходи, узнай!» Он сходил, а там оказывается лишь одна с хорошим спиртом, а остальные с древесным. Солдаты из ПТР их прострелят и целые ведра наливают… Но он сразу сказал: «Там очевидно древесный спирт, я по запаху чую. Не разрешайте!» А утром в полку многие ослепли и некоторые погибли… И что еще удивительно, утром меня как пронзило, и малярия в один миг прошла. А я из-за спиртного однажды чуть у немцев не оказался.
4-го декабря 43-го, перед штурмом Керчи, комполка собрал всех офицеров и давал последние указания. А после совещания организовали по сто граммов спирта. В целом я не пил, но закуска была хорошая, американская колбаса, тушенка, и я посчитал, что не могу остаться белой вороной, поэтому тоже выпил и захмелел. А когда пошел обратно, чуть в немецких окопах не оказался. Ночь, темно, дождик моросил, и я остановился – туда ли иду? Ведь там линия обороны шла зигзагом. А я единственное чего на фронте боялся - в плен попасть. И вдруг слышу немецкую речь, с меня хмель сразу слетел… Вот с тех пор и зарекся пить на фронте. Я и после войны почти не пил. Если нас с женой звали на свадьбу, например, то мы с ней мучились. Поэтому мы с ней носили стопочки или рюмочки, и водичку наливали. Правда, многие обижались… Но она 73 года прожила и ни глотка не выпила.
Вы ведь с женой во время войны познакомились?
Когда наш батальон стоял на постое в садово-огородной бригаде под Ейском, наш старшина договорился с одной женщиной, чтобы я пожил в их доме. Этой хозяйкой была тетя моей будущей жены, через нее и познакомились в июле 43-го. А поженились 29-го апреля 1945 года. Меня, кстати, наше командование, чуть ли не заставило это сделать.
Когда меня избрали комсоргом, замполит спросил: «Женат?» - «Нет еще». – «А девушка есть?» - «А что?» - «Жениться надо!» И начштаба чуть что, сразу наседает: «Зинов, когда женишься?» Командир полка подполковник Рудковский то же самое. А оказывается, все просто. Считалось, что женатые алкоголь не употребляли, по девкам не бегали, триппер не ловили, поэтому командование полка и склоняло офицеров к женитьбе. И когда в апреле я вернулся из командировки в Германию, мне дали неделю, и поехал к ней. Она ничего и не знала о моих намерениях, но согласилась и нас по блату зарегистрировали. И мы с моей Лидией Ивановной прожили 53 года… Воспитали троих детей, есть шесть внуков и четверо правнуков.
Многие ветераны вспоминают, что на фронте было распространено такое явление как ППЖ.
Я такого не видел, но у нас в армянской дивизии просто и женщин совсем не было. Вот только перед высадкой в Керчь, нам санинструктором прислали совсем молодую девушку Любу. А до этого у нас санинструктором был один старшина. Фамилии не помню, немолодой армянин, с ним, кстати, связана одна двусмысленная история.
У него всегда было всего предостаточно, и бинты, и реваноль, в общем, весь обвешан. И вещмешок у него, и санитарная сумка, и даже какой-то термос, и мы все радовались – вот какой у нас хороший фельдшер, у него целая аптека с собой. И надо признать, как медик он проявлял себя очень хорошо. Но в тот день, когда мы лежали в Витязевском лимане, его убило. Мина попала ему прямо в шею, голова отлетела, а мина ушла в воду и взорвалась в трясине… Все о нем очень сожалели, а когда похоронили, стали разбирать его вещи. Открыли и этот его термос литра на три, а в нем только часы, кольца, мундштуки, в общем, всякие мелкие ценности… Видимо снимал с убитых и тяжелораненых… Тут, конечно, все сразу призадумались. С одной стороны вроде как хороший, а с другой… Так что про ППЖ я вам ничего рассказать не могу, но то, что многие женщины во время войны вели себя излишне вольно, это верно.
Например, за все время службы в Новочеркасске я всего два раза сходил на танцы, настолько не понравилось. Потому что женщины там прямо ловили офицеров… Конечно, они совсем не развратные, просто природа требует, а мужиков-то нет… Но выглядело это все некрасиво. Или вот вспомнился такой случай.
Когда мы в марте 43-го стояли в Ейске, мне там приходилось дежурить по городу. А комендантом города был один моряк, майор, еврей небольшого роста. Старые люди его и сейчас должны помнить, потому что порядок он держал железный. А дежурили как? В патруль в пару подбирали одного солдата и одну девушку из местных. И вот как-то во время одного из дежурств я распределял солдат из другой роты, причем они и по-русски почти не говорили. Всех распределил кого куда, а на центральный рынок направил дежурить пару, в которую попала самая красивая девушка, и самый некрасивый солдат.
И вот сижу на дежурстве в комендатуре, вдруг в два часа ночи приходит этот комендант: «Дежурный, что у тебя за бардак?!» - «Какой бардак?» - «Пошли, только тихо!» Прошли с ним от комендатуры до рынка метров триста, тихонечко подходим, включает фонарик, а там этот старый эту девку жигует… Туда-сюда, вскочили, привели их в комендатуру. Ее он утром сразу сдал в исполком что ли. А его как привезли, он спрашивает: «Где винтовка?» - «Вот!» - «Показывай!» - «А затвор где?» Оказывается, когда он их засек, то затвор снял, а они и не слышали…
Как сложилась ваша послевоенная жизнь?
Я очень хотел служить дальше, но в июне 46-го меня по здоровью комиссовали. Приехали с женой в мою родную деревню, а дома даже хлеба толком нет. На следующий день пошел в колхоз, там выписали сколько-то муки, еще чего-то, и председатель колхоза Петровский Николай Павлович говорит: «Давай три дня отдыхай, а потом выходи на работу бригадиром! Поработаешь, освоишься и потом меня сменишь».
Но пришел в военкомат становиться на учет, а мне говорят: «Офицерам сначала нужно в райком, а потом уже к нам!» Прихожу к секретарю по кадрам Воробьеву Петру Степановичу, представился, стали разговаривать, рассказал, что уже договорился о работе в колхозе, а он мне говорит: «Нет, в колхоз не пойдете! Мы вас направляем в райфинотдел, потому что хотим его укомплектовать только коммунистами и бывшими офицерами». Начал возражать, а он говорит: «Так ведь устав партии есть. Куда направят, туда и пойдете!» - «Так я же ничего в деньгах не понимаю!» - «А в армию пошли, разве что-то знали?! И тут научим! Начнете с самых низов, ведь для того, чтобы работать в финансовых органах, нужно знать, как люди живут, как деньги для государства собираются». Вот так я стал налоговым агентом.
Не чувствовали неприязни людей, все-таки это не самая благодарная работа?
Нет, не было такого. Наоборот, все с большим уважением относились, потому что знали - налоги надо платить. А я-то тут причем? И надо сказать, что за два года на этой должности я очень многое познал в жизни. Потому что общался с массой самых разных людей, в каждом дворе по несколько раз побывал. У нас в сельсовете было шесть населенных пунктов, и везде я пешком ходил. Иногда по сто тысяч соберу, и ночью спокойно возвращаюсь.
В 48-м меня назначили налоговым инспектором, а в январе 50-го заместителем заведующего Бирского райфинотдела. Постоянно уговаривали перейти на работу в Министерство финансов Башкирской АССР, даже к министру приглашали, но я категорически отказывался. Почему? Просто хотел жить в деревне, а в город, тем более такой большой как Уфа, совсем не тянуло.
После окончания финансовых курсов в Ленинграде возглавлял райфинотделы в разных районах Башкирии. В 1957 году во время работы в Гафурийском районе даже хотели назначить директором совхоза, но я отказался. Решил и дальше работать в финансовой системе. А с 62-го и до самого выхода на пенсию работал заведующим райфинотдела Стерлитамакского района, крупнейшего в Башкирии. По службе всегда был на хорошем счету, и думаю, не зря получил почетное звание «отличника финансовой службы СССР». А на пенсию вышел в марте 1983 года. Здоровье уже стало подводить, думал, годик отдохну, но больше так и не работал.
Войну потом часто вспоминали?
Вспоминать ее было особенно и некогда, все дела, заботы, но она мне очень долго снилась. В основном какие-то случаи из реальной жизни. Но особенно изводило, когда снилась та жуткая артподготовка в Керчи. Вы знаете, нужно быть большим писателем, чтобы верно передать то невероятное душевное напряжение. У меня таких слов нет…
А когда переехали на эту квартиру, как поезд ночью рядом пойдет, я во сне начинал волноваться, все казалось, что немцы летят, и сейчас будут бомбить. Жена это уже знали и меня успокаивала. А бывало, что и вскакивал и она меня ловила. Но после того как в марте 95-го полежал в больнице, война уже не снилась. Как отрезало…
| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |






