- Родился я двадцать восьмого декабря двадцать шестого года в Ворошиловском сельском районе Сталинградской области, в селе Перегрузном. До войны в нашей области было два Ворошиловских района - городской и сельский. Сейчас Ворошиловского сельского района не существует, а село Перегрузное входит в состав Октябрьского района Волгоградской области.
Оба моих родителя были крестьянами. Отец до революции работал пастухом у богатых людей, потом пошел служить, затем воевал в Первой конной армии у Буденного, имел ранения, болел и поэтому в тридцать восьмом году умер. Нас осталось у матери четверо: я, две сестры и еще один брат. Из всех детей я был самым старшим и вот, моих родных уже никого нет, а я все еще жив. Наше село было в те времена большим, оно и сейчас не маленькое. В селе было два колхоза - “Перегрузненский” и “имени Кагановича”. Вот во втором из них, колхозе имени Кагановича, мои родители работали рядовыми колхозниками.
Кстати, о том, что отец воевал с Буденным, я раньше не знал. Узнал об этом лишь после войны, когда в Будапеште подал заявление о вступлении в партию и проходил проверку. Из ОКР “СМЕРШ” пришла бумага с положительной рекомендацией на мою кандидатуру, как на сына бойца Первой конной армии, а также мне дали рекомендацию три коммуниста, имеющие партийный стаж не менее трех лет. В кандидаты в члены партии заявление я подавал еще на фронте, там и в комсомольцы, и в кандидаты принимали быстро, а вот чтобы после войны в члены партии вступить - тут уже основательная проверка была моей кандидатуры. Я видел ту бумагу из “СМЕРШ” и удивился, что подтверждение на моего отца пришло аж из Астраханского областного НКВД, а потом вспомнил, что родители рассказывали, что им давали землю под Астраханью после того как отец вернулся с фронта и они некоторое время прожили там.
- Как звали Ваших родителей?
- Маму звали Ирина Ивановна, ее девичья фамилия Удодова, а папу - Александр Иванович Шелестов. Отец родом из села Жутово-Один, недалеко от Перегрузного. Это село находилось ближе к грейдерной дороге Котельниково - Сталинград и называлось у нас “казачьим”. А село Жутово-Два находилось подальше от грейдера, в степи, и называлось “хохлачьим”. Но в этом селе жили не украинцы, а выходцы из Воронежской губернии. Мне рассказывали, что именно оттуда приехал в наши края со своей большой семьей мой прадед и его земляки, семья Черноивановых, тоже с семьей в десять - двенадцать человек. Эти две семьи сначала нашли себе место на реке Аксай, где и осели. Затем семья Черноивановых ушла в село Жутово-Два, а мой прадед остался на месте и со временем там появился хутор Шелестов. Мой дед потом перебрался в Жутово-Один, где родился впоследствии и мой отец. Мама моя родом из Перегрузного и папа, когда женился на ней, тоже перебрался жить в Перегрузное. Кстати, Перегрузное тоже было “хохлачьим” селом, но крупным - не менее семисот дворов.
В году двадцать восьмом мой отец, хоть уже и был больным, завербовался вместе со своими братьями и сестрами на Дальний Восток, осваивать свободные земли и в начале двадцать девятого года мы отправились туда. Хоть и считалось, что едет народ туда “по Ленинскому призыву на освоение незанятых земель”, в народе это называлось “отправились на длинные рубли”. Руководил всем этим старший брат отца, у которого тоже была большая семья. Всем переселенцам пообещали, что государство будет их обеспечивать продовольствием все время, пока они будут добираться до места.
Ехали наши семьи в товарных вагонах. На детей выдавались продукты, а взрослые получили на руки денежные суммы в виде “подъемных” и это позволило им питаться в дороге. Приехали мы все в поселок Советская Гавань, а весь этот поселок был размером меньше, чем наше село Перегрузное. Совгавань - маленький, разбитый весь рыбацкий поселок, в котором было несколько рыболовецких артелей и рыболовецких колхозов. Мои родители тоже устроились на работу в одну из таких артелей. Рыбы там было очень много и ее сдавали государству, которое тут же перепродавало эту рыбу за границу. Я помню, приходили в Совгавань японские суда, которые там все называли “морозилками” и забирали всю выловленную рыбу.
Зимой как начинался снежный ураган, так все бараки, в которых жили семьи рыбаков артели, полностью заносило снегом. Воду брали из колодца и к нему из барака пробивали целый тоннель. Природа там, конечно, была богатейшая! Зверья в лесу было очень много, а вот огородной зелени нам не хватало и, спустя некоторое время, почти вся наша семья заболела цингой. Это стало причиной того, что мы собрались и перебрались во Владивосток. У отца было два брата и три сестры, они все остались там, а мы, нас в то время у отца уже было трое, отправились в район Уссури. Там отец нашел себе работу на железной станции Филаретовка линии Владивосток - Хабаровск - Москва. Была еще одна железнодорожная ветка, проходящая от нас на Москву через Манчжурию, но по ней ходил всего один паровоз, и он был не для простых людей - на нем ездили пассажиры по литерным билетам, в основном партийный актив.
Но в тридцать восьмом году отец умирает и мать, похоронив его, с детьми на руках отправилась в обратный путь, к себе на родину. А мои родственники остались на Дальнем Востоке, их дети там выучились и стали работать, кто капитанами, кто бухгалтерами.
- Как же мама с вами добиралась в одиночку?
- Ой, да все продала, что у нее было, чтобы добраться домой. Мы там обжились немного - у нас и велосипед был и граммофон. Приехала и пожалела, потому что здешние края, по сравнению с дальневосточными, были очень бедными. А в Уссурийском крае мы собирали на каждого по полмешка уже очищенного ореха фундука, да и из-за влажности там росло все, что ни посадишь. Дожди там шли обильные, поэтому грядки приходилось делать на возвышении, чтобы вода на них не скапливалась. А здесь наоборот, грядки делаются там, чтобы задержать у корней влагу.
- К кому вы вернулись? У вас в Перегрузном оставались родственники?
- Да, у мамы было много братьев, около девяти человек, да и мама ее старенькая была еще жива. Вот поэтому она и решила возвратиться, поэтому мы и приехали не на пустое место. Мамины братья все честными трудягами были и жили зажиточно. По-уличному их звали “Рыжки” - в деревнях тогда было принято называть целые семьи по-уличному, различая лишь именами. Конечно, Советскую власть они плохо приняли, потому что они своим трудом все накопили, а тут надо было отдавать в общее пользование. Но под раскулачивание они не попали по причине того, что работали сами, не нанимая дополнительную трудовую силу в виде батраков. Да и зачем им батраки, когда у них детей было много - у меня в Перегрузном перед войной половина села была в родственниках.
По возвращении в Перегрузное мама пошла работать в колхоз на свиноферму, они выкармливали свиней, а потом сдавали их государству. Работы в колхозе было много, но платили за нее очень мало.
- Был ли голод в предвоенные годы в ваших краях?
- Он, конечно, был, но я его плохо помню. Мы, сельские ребята, рано начинали работать, помогая родителям: то гусей пасли, то телят. И пока мы в степи пасли, мы выливали из норок сусликов, а затем на костре их жарили и ели. Это был наш обед, поскольку летним вечером дома кроме молочка еды не было. И то, это при условии, что имелась хорошая коровка, ведь в то время еще необходимо было с каждого двора сдать молочный налог. И вот, если успевали сдать, то молоком питались. А еще налог сдавали куриными яйцами. Да много чем сдавали… Поэтому детвора и вынуждена была обходиться тем, что сама себе добыла. А сусликов много было тогда, поэтому мы были едой обеспечены - пожаришь, он жирный такой, вкусный. Кроме сусликов, мы ловили на речке рыбу и раков. У нас протекала небольшая речушка, называется Россошь, которая впадала в другую реку - Аксай Есауловский. Эта река весной разливалась, а летом пересыхала настолько, что превращалась просто в ямы с водой. Поэтому наши мужики делали плотины, для того чтобы устроить сбор весенней воды и впоследствии обеспечить водой скотину и птицу. Запруды получались очень большими, хватало всему селу. Скотины в обоих колхозах, и “Перегрузненском” и “имени Кагановича”, было много: большие стада как дойных коров, так и “гуляка”. “Гуляки” - это двухлетние телята, которые зиму уже перезимовали, подросли и к осени их уже можно сдать государству на мясо.
Народ у нас в Перегрузном был очень дружным, трудолюбивым, работали очень много - так их заставляла жизнь. Даже после развала Советского Союза “хохлачьи” хутора в наших краях, в отличие от казачьих, сохранили все свое коллективное хозяйство и сейчас живут довольно богато.
В колхозе имени Кагановича, да и в самом селе Перегрузном, руководили старики, делая все, чтобы молодежь из села не уезжала. До войны уехать из колхоза было проблематично: паспортов не было и нужно было справку брать в сельском совете. Проще всего было получить справку тем, кто заканчивал десять классов и ехал куда-нибудь на учебу. По другим поводам справку получить было очень тяжело.
По приезду я пошел в пятый класс перегрузненской школы. Первый и второй классы я учился во Владивостоке, потому что папа уезжал на заготовку продовольствия для Владивостокского железнодорожного узла, а меня на это время отправляли к бабушке, папиной маме, которая жила во Владивостоке. А в третьем и четвертом классах я учился уже по месту жительства в Филаретовке.
В селе Перегрузном у нас была школа-семилетка, а в селе Аксай, где располагался районный центр Ворошиловского сельского района, была уже десятилетняя школа. В десятилетку, как правило, шли дети высокопоставленных руководителей колхозов, бригадиров, председателей сельсоветов. А дети простых колхозников, отучившись семь лет, шли работать в колхоз. Учился я неплохо, у меня была хорошая память. По математике у меня была четверка, зато по географии и истории я всегда имел пятерки. Кроме учебы на мою долю выпало ухаживать за домашним хозяйством, а после шестого класса я пошел работать в колхоз.
Хоть и жили мы отдаленно, но за новостями следили. Помню, в тридцать шестом узнали о боях на озере Ханко - и в газетах об этом написали и из единственного на все село репродуктора известили. Мы, дети, стояли и слушали рядом со взрослыми, потому что уже интересовались. Практически каждый день мы узнавали, что боевые действия велись то тут, то там, например, о войне в Абиссинии (ныне Эфиопии), где итальянские фашисты задавили правительственную армию. О том, что война неизбежна, нам даже в школе говорили, когда собирали на политинформации, где делали доклады по газете “Правда”. Говорили, что капитализм не терпит коммунизм. Потом наступил тридцать девятый год, и мы узнали о боях с японцами на реке Халхин-Гол. Наши войска там победили и их славили во всех газетах. Затем началась финская война. Как нам говорили, все произошло потому, что финны постоянно провоцировали, делая вылазки на территорию Советского Союза. Поначалу наши доблестные пограничники отбивали эти нападения, а затем в дело пошли уже полноценные войсковые соединения и начались боевые действия. Спустя некоторое время в новостях стала мелькать Германия, стали появляться сообщения о том, что Гитлер начал завоевывать соседние страны. В общем, народ этими сообщениями уже готовили к тому, что в скором времени начнется серьезная война.
- Вы домой выписывали газеты?
- Нет, газеты приходили только в правление колхоза и в сельсовет. Большого выбора газет не было, только “Правда” и “Красная звезда”. Все газеты собирались в подшивку, желающие приходили и читали там, а затем уже выступали на политинформации. Народ у нас в большинстве своем был малограмотным, поэтому в основном приходили и читали газеты либо учителя, либо те, кто потом мог пересказать газетные новости.
Но, хоть во всех новостях и мелькало слово “война”, народу все равно не хотелось верить, что она дойдет до наших краев, ведь Европа - она вон как далека.
- У вас в школе были занятия по военной подготовке?
- У нас перед войной были занятия по линии ОСОАВИАХИМа, а уже после начала войны для нас, пятнадцатилетних, была многодневная программа военной подготовки. Нас собирали, формировали в отделения и взвода и дней десять или пятнадцать гоняли по-настоящему, как воинов-новобранцев. Мы и ползали и окопы копали, даже стрельбы у нас были из винтовок боевыми патронами.
- ОСОАВИАХИМовские занятия что в себя включали?
- Это была спортивная стрельба. Тогда каждый мог выбрать себе занятия по своему желанию и тренироваться. Я, помню, в стрельбу записывался - мы там изучали устройство мелкокалиберной винтовки и винтовки Мосина, разбирали их и собирали, из “мелкашки” иногда по воскресеньям стреляли. По сути, детства у нас не было: мы с малых лет готовы были встать в строй.
- Девчонки тоже проходили такую подготовку?
- Нет, у нас не было в группах девчонок, они были как-то более реакционно настроены по отношению к военному делу, они были более домашними. Из нашей школы только трое девчонок пошло учиться в среднюю школу, и все они, с началом войны, добровольно ушли на фронт и их сразу взяли медсестрами.
Перед войной был очень богатый урожай хлеба. Я закончил шестой класс и пошел летом работать в колхоз объездчиком. Мы вдвоем с напарником, пожилым мужичком, объезжали на лошадях поля, чтобы никто не ломал пшеницу, не давил ее и, главное, следили чтобы пожаров на полях не было. Иногда нас отправляли чистить поля - мы брали большие лопаты и шли по житу, выискивая где растут колючки и сорняки и, пока они в стадии цветения, безжалостно их вырубая. Этим самым мы упрощали косовицу хлеба, поскольку агротехника в те времена была очень слабой. А когда наступал период уборки урожая, мы готовили землю на токах под зерновые бурты. Как только места были подготовлены, я возил зерно от комбайнов на ток и высыпал в эти бурты, а там уже дальше женщины чистили, веяли и сортировали привезенное зерно.
Тогда больше сажали рожь - жито - и вырастала она такой высокой, что едешь на телеге, а у тебя поверх ржи только одна голова виднеется. Пшеницы сажали очень мало, редкие поля были ею засеяны. Для нас белый пшеничный хлеб был словно лакомство и пекли его в основном по праздникам, ну еще пшеничную муку пускали для изготовления блинов и пирожков. А в основном мы ели только ржаной хлеб.
Так, в работе мы проводили все лето. Даже когда наступал сентябрь и надо было идти в школу, колхозный бригадир попросил директора школы, чтобы “ребята еще немного поработали”. Работы хватало всем, ведь нужно было еще заготавливать и сено с соломой для животноводства, потому что стада все увеличивались и увеличивались.
- Как Вам запомнился день двадцать второго июня сорок первого года?
- В селе почему-то в тот день репродуктор молчал, но в двенадцать часов дня прискакал из района верховой на лошади и объявил, что началась война. С собой он привез из военкомата повестки определенным категориям мужчин и там же, в центре села, где собрался на митинг народ, раздал их. Женщины стали провожать своих мужчин, поднялся плач. Жуткое дело! Мы тогда хоть и были подростками, но тоже все понимали и переживали о случившемся. В первые дни слова “немцы” или “фашисты” в разговорах сельчан не мелькали, все употребляли слово “капиталисты”. Председатель колхоза в своей речи говорил: “На нашу Родину напали капиталисты. Нам надо работать лучше, надо больше давать государству хлеба и мяса”.
И мы работали! Работали и учились! Когда колхозу было нужно, руководство договаривалось с директором школы и нас снимали с занятий, чтобы мы пасли колхозное стадо. Взрослых пастухов забрали в армию, а стадо ведь не бросишь в степи, иначе скотина разбредется, и волки всех задерут. Вот поэтому мы по очереди были пастухами.
- С началом войны к вам в хутор прибывали беженцы?
- Были беженцы, были. Подавляющее большинство их было еврейскими семьями откуда-то из-под Бердичева. Они было осели у нас в хуторе, но немец настолько внезапно захватил его, что убежать уже у них не было возможности. У меня об этих евреях остались только хорошие воспоминания: интеллигентные они были люди, умнее нас. А на их молодых девчат мы любили смотреть, такие они были красивые. Но с нами они не стремились дружить, общаясь только среди своих. Вот только не помню, устроили беженцев на работу в колхоз или нет. Помню только, что на постой в семьи их распределяли. Еврейские семьи были побогаче местных и могли купить для себя у кого-нибудь кур, чтобы потом их съесть. Но этих евреев явно кто-то из наших, хуторских предал, потому что уже на второй день немцы собрали их и всех расстреляли за курганом: и детей, и взрослых. Где именно были захоронены тела расстрелянных, я не знаю. Потом, из рассказов жителей хутора, я узнал, что среди жителей искали этого предателя, но нашли или нет - неизвестно.
В конце июня сорок второго года у нас должны были быть выпускные экзамены за седьмой класс, их сдавать нужно было по семи предметам. Но нам пришлось сдавать их в марте, как сейчас говорится, “экстерном”, а тогда это называлось “ускоренно”. Сдали по-быстрому все экзамены и, пока еще была весна, мы помогали колхозу, а в конце мая нас забрали на строительство оборонительных рубежей на подступах к Сталинграду.
Сначала мы прибыли в райвоенкомат, а оттуда нас на подводах увезли под Абганерово. Туда, кроме нас, было очень много народу свезено со всех ближайших районов. Рубежи возводились основательные. Людей было так много, что их всех разделили по разным направлениям: одни лопатами рыли противотанковые рвы, другим, в том числе и мне, пришлось рыть траншеи, ходы сообщений и огневые точки, а третьи возводили ДЗОТы, которые мы называли “землянками”. Все эти инженерные сооружения были оборонительным рубежом Сталинграда.
- Вас на строительство рубежей вызвали повесткой?
- Нет, повесток не присылали, но собирали всех через сельсовет. Оттуда приходил вестовый и приказывал: “Вам необходимо явиться в сельсовет”. Пришел, как требовали, а в сельсовете говорят: “Собирайся, завтра едем в военкомат, там сбор будет”. Мы беспрекословно выполняли все, что нам приказывали, понимая, что идет война и к нам отношение совсем не как к детям.
- Что брали с собой в дорогу?
- А что тогда можно было взять? Кушать особо нечего было, поэтому что мать положит, то и брали. Мне мать арьянчика из молочка кислого в какую-то посуду налила (тогда и посуды-то лишней не было), да яичек вареных положила. Молоко и яйца были тогда основным питанием у нас, несмотря на то, что и то, и другое нужно было сдавать в госпоставку. Мясного у нас ничего не было, потому что крестьянин все мясо и сало, которые заготовил зимой, к весне уже, как правило, съедал.
- Рабочий инструмент вы брали с собой или получали уже на месте?
- Инструмент нам раздали уже когда мы приехали под Абганерово. Каждому выдали по лопате с киркой и нарезали норму выработки. На строительстве рубежей молодых мужчин не было, были только от пятидесяти пяти лет и старше, которых еще не забирали в армию. Вот им норма выработки была до семи кубометров - столько они должны были вырыть за сутки. Это очень много! А нам, четырнадцати- пятнадцатилетним пацанам, в день нужно было вырыть земли два с половиной куба. И это тоже было очень много! Земляные работы очень тяжелые. Чтобы выполнить эту норму, нам нужно было рано вставать и весь день работать киркой и лопатой с небольшим перерывом на обед. А нас там никто не кормил, никто наше питание не организовывал - ешь то, что с собой привез.
- Кто вами руководил во время строительства?
- Там были гражданские бригадиры, которые контролировали, как и что мы делаем, правильно ли копаем. А уже этими бригадирами руководили военные, которые давали необходимые указания по строительству. Иногда военные приходили и принимали у нас выполненную нами работу, измеряли размеры выкопанных огневых точек, чтобы глубина их была полтора метра, а длина метр.
- Военные вам делали разметку, где необходимо копать?
- Я уже сейчас не помню, кто размечал нам на земле контуры будущих траншей, но помню, что разметка была обозначена деревянными колышками, а бригадир уже нам говорил, что на этом месте делать.
- Возводились ли под Абганерово кроме дерево-земляных и бетонные укрепления?
- Нет, на нашем участке таких точно не было, я не видел. Может туда дальше где и возводились, а у нас использовалось только деревянное покрытие, засыпанное сверху землей. Окопы и те не все были деревом обшиты - может это только те, которые предназначались для командиров, а может просто не успевали все обшить.
- Где жили вы во время земляных работ?
- Жили мы все открыто. Представляете: тысячи людей разместились в открытом поле! И так все жили там целое лето, аж до третьего августа. Лето в сорок втором выдалось сухим, жарким, дождей практически не было, поэтому укрытий для себя никто не возводил. Иногда жить перебирались прямо на свое рабочее место: копаешь траншею, в ней же и живешь и спишь.
- Воду где брали?
- Вода хоть и была привозная, но ее всем хватало. Иногда даже мы себе там чай варили из листьев степной травы.
- Немецкая авиация над вами летала, обстреливала?
- Да, постоянно. Прилетит двухфюзеляжная “рама”, покружится и улетит. А мужики говорят: “Смотрите, ребята, сейчас “Юнкерсы” прилетят”. И правда, спустя некоторое время прилетали бомбардировщики и начинали нас бомбить. Когда немцы прилетали, мы бегали, искали куда нам спрятаться. Со временем каждый выкопал для себя какую-то ямку и туда падал во время налета немецкой авиации.
- Погибшие при бомбардировках были?
- Было много и раненых и убитых. Их всех собирали и куда-то на телегах увозили, а вот куда - мы не интересовались, считая это обычным делом.
- Зенитного прикрытия у строящихся рубежей не было?
- Там, где мы работали, не было ни зениток, ни пулеметов. Но говорили, что на станции Абганерово, которая находилась в километрах девяти в стороне от одноименного села, были зенитки, потому что немцы чаще бомбили железную дорогу. Ветка дороги, идущая на Сталинград, была очень важной, по ней передвигались военные эшелоны.
- Листовки на вас сбрасывали?
- Ой, листовок было сколько хочешь! Помню на этих листовках были изображены винтовка, упертая штыком вниз и треугольник, а над ним буквы ШВЗ, означающие “штык в землю”. Ну и написаны разные призывы переходить на сторону немцев. Эти листовки поднимать не разрешали, но они разлетались повсюду и может кое-кто брал тайком их для себя. Как только листовки сбрасывали, бригадир приказывал: “Кто взял листовки, немедленно сдать!” А те, что оставались на земле, по-быстрому подбирались и куда-то увозились.
- Наказание было за поднятые листовки?
- Я не видел таких случаев. Да их никто и брать не хотел, все боялись.
На строительстве оборонительного рубежа в Абганерово я безвылазно провел весь июнь и половину июля. Пятнадцатого июля сорок второго года нас уже повесткой вызывают в военкомат. Там собрали человек пятнадцать пацанов из тех, кто рыл траншеи, и объявили, что военкомат нас отзывает со строительства рубежей и отправляет работать на аэродром, который недавно был оборудован здесь же, в райцентре Аксае. Повезли нас туда на бричке, поскольку машин в районе практически не осталось.
Этот аэродром, как нам сказали летчики, был переброшен в наши края из-под Харькова. Он там побывал в окружении, но смог оттуда вырваться, хоть и потерял большую часть техники и личного состава. Почти все самолеты на аэродроме были штурмовиками ИЛ-2. Корпус самолетов был не металлическим, а словно изготовлен из пропитанного чем-то плотным брезента. Под конец войны все самолеты были уже дюралевыми, а тогда, видимо, приходилось использовать более дешевые материалы. А еще у этих штурмовиков был бронированный “живот”.
Нас по трое-четверо прикрепляли к какому-нибудь технарю, который обслуживал самолет, и мы должны были ему помогать в работе, выполняя его распоряжения. Когда самолет возвращался с боевого задания, летчик шел отдыхать, а мы по-быстрому брались за обслуживание его самолета. На аэродром привозили ящики с патронами калибра двенадцать и семь десятых миллиметров, которые там лежали просто россыпью, и нам надо было заправлять ими ленты, подготавливая самолет к очередному боевому вылету. Штурмовики вылетали, как правило, в пять часов утра, когда немецкая армия еще спала, и мы всю ночь сидели, набивая ленту патронами. Ленту снарядим, свернем ее и доставляем к самолету, заряжая его. Нас научили, как необходимо это делать, и мы неплохо справлялись с поставленной задачей.
Когда выпадали минуты, что мы не были заняты обслуживанием самолета, нам приходилось рыть капониры для самолетов. Аэродром находился в голой степи, и вся техника была хорошей мишенью для врага. Над нами постоянно летали немецкие самолеты: то “Мессершмитты” прилетят, то “Юнкерсы”, то разведывательный “Фокке-Вульф”, который называли “рамой”. Им с неба было все прекрасно видно, поэтому капониры для того чтобы спрятать наши самолеты рылись и днем и ночью.
- Где вы там жили?
- А нигде - лето было, и мы жили в поле у аэродрома, ночуя прямо на земле. Никакого жилья для нас не было, каждый кто как мог находил себе крышу над головой. Нам далеко уходить нельзя было, нас сразу предупредили об этом. Как только приземлялся самолет, техник сразу бежал, чтобы помочь летчику отстегнуть все ремни и выбраться из кабины, если тот живой и не раненый, а затем начинал осматривать самолет, какие у него пробоины и повреждения. Пилот докладывал технику о том, как летел, как работал двигатель и о всех выявленных неисправностях. Техник сразу начинал чинить самолет и готовить его к вылету, а мы ему всячески помогали.
- Вас на аэродроме поставили на довольствие?
- Никакого довольствия! Питались мы только тем, что из дома принесем или что мать передаст. У многих в райцентре жили родные и они бегали к ним взять чего-нибудь перекусить. Но если и удавалось убежать с аэродрома за харчами, то это происходило быстро, дома или у родных никто ночевать не оставался. Чтобы сбегать за продуктами, нужно было обязательно отпроситься и у техника и у аэродромного начальства, потому что везде все строго было.
- Вы не знаете номер авиаполка, на чьем аэродроме вы работали?
- Номера не знаю, а относился он, кажется, в 8-й воздушной армии. Да нас, деревенских мальчишек, в то время эта информация совсем не интересовала.
Никакого рабочего графика у нас, пацанов, не было - мы работали до самого предела, пока силы нас не оставляли. Закончили одну работу - нас сразу отправляли на другую, одна работа была тяжелее другой. Копать капониры было очень нелегко: землю, которую мы рыли, приходилось возить на тачках, а это, при плохоньком нашем питании, стоило больших усилий. Иногда к нам подходил технарь и приносил немного горячей еды, оставшейся после кормления летчиков: “Ребята, сядьте покушайте”.
Аэродром наш располагался неподалеку от грейдерной дороги Котельниково - Сталинград. На всем своем протяжении эта дорога захватывала все крупные населенные пункты. Участок, проходящий рядом с Аксаем, выстелили тяжелыми ребристыми катками, которые раньше использовались на току. Мы эти катки тоже потаскали по дороге. Все это делалось для того, чтобы на этот утрамбованный участок дороги могли садиться самолеты. Возвращаясь с полетов, они приземлялись на этот грейдер, а потом с грейдера аккуратно съезжали и ехали своим ходом на аэродром. Мы только утрамбуем грейдер, как по нему начинают идти телеги с ранеными бойцами и войска, выходящие из боев. Бои в то время уже шли в непосредственной близости - в районе Потемкинской и Верхне-Курмоярской. Когда мы только приехали работать на аэродром, бои шли еще только в районе Сальска и мы думали: “Ну, Сальск - это еще далеко”. А потом стали каждый день наблюдать, как шли выходящие из боев батальоны. Причем видели, как сначала мимо нас в сторону линии фронта идет батальон, в нем несколько рот, а через некоторое время от этого батальона возвращается одна рота и та неполная. Некоторые части мы даже узнавали среди возвращавшихся - их, побывавших в боях, выводили на отдых, и бойцы выводили и выносили своих раненых товарищей. Видно было, что солдаты шли совершенно измотанные и уставшие. Гимнастерки на всех были потертые, с разводами выступившей соли, у некоторых даже полопавшиеся на спинах от пота. Раненые шли, опираясь или на самодельные костыли или на свои винтовки, а тех, кто не мог идти самостоятельно, везли на телегах.
И вот все эти телеги шли по дороге. А грейдер - это вам не асфальт, колесами телег он очень быстро разбивался до такой степени, что и в телеге ехать было некомфортно - пока проедешь, сидя “напляшешься”. Лучше было пройти пешком. Только пройдет воинская часть, мы на дорогу снова катки выкатываем и начинаем ее утрамбовывать, чтобы к вылету самолетов все было готово.
- Были случаи, чтобы приходилось разгонять пехоту с грейдера из-за того, что должен был приземлиться самолет?
- Нет, вылеты с прохождением пехоты обычно не совпадали. Пехота обычно начинала идти ближе к вечеру, видимо, когда там бои затухали, а самолеты, как правило, летали по утрам.
Летчики просыпались рано утром, часа в четыре. Их кормили перед полетами и в пять утра они уже взлетали с подготовленной нами дороги. Через час - полтора на аэродроме все начинали ждать возвращения штурмовиков. Кто прилетал, а кто был сбит и не возвращался с боевого вылета. Штурмовики летали невысоко, чтобы из-за бугра внезапно налететь на немцев, поэтому их очень часто обстреливали с земли. Ночью штурмовики не летали, вместо них к линии фронта улетали легкие самолеты-”кукурузники”, которые иногда приземлялись на нашем аэродроме. Среди экипажей “кукурузников” были, в основном, женщины. “Кукурузники” брали с собой небольшие мины, которые сбрасывали над линией фронта. Их мишенями были, как правило, немецкие машины, потому что танк такой миной не взять, а вот машины сразу загорались.
- Зенитное прикрытие у аэродрома было?
- В качестве зенитного прикрытия на аэродроме использовались крупнокалиберные пулеметы калибра 12,7 миллиметров, такие же, какие стояли и на самолетах. Пулеметные установки были закреплены на машинах-”полуторках” и обслуживались расчетами из молодых ребят. Зенитчики иногда приходили к нам, просили патроны россыпью для своих пулеметов.
Третьего августа сорок второго года мы стояли у дороги, смотрели на проходящую мимо нас измотанную боями пехоту и вдруг километрах в пятнадцати услышали сильную артиллерийскую канонаду. Уже к вечеру этого дня, часов в семь, на аэродром поступил сигнал, что немецкие танки вошли в наше село Перегрузное. А это всего в семи километрах от Аксая, а, следовательно, и от аэродрома! На аэродроме началась паника. Самолеты стали экстренно готовить к эвакуации в сторону Сталинграда. Те из неисправных машин, которые можно было забрать, поскольку они подлежали восстановлению, грузили передками в кузова автомобилей. С них предварительно снимали крылья, которые укладывали в кузова ЗИСов. Получалось, что в кузове ехавшей машины лежали крылья самолета и его передок, а он сам, оперевшись на заднее колесо, катился вслед за машиной. Те самолеты, которые могли лететь, самостоятельно отправились к новому месту расположения аэродрома. Всю разбитую технику, требующую длительного ремонта или вовсе не подлежащую ему, бросили на аэродроме.
Перед тем как уехать на машине, к нам подошел начальник аэродрома с одной шпалой в петлице и сказал: “Ребята, быстренько присоединяйтесь к какой-нибудь отступающей части и уходите отсюда”. В это время проходил какой-то батальон, перевозя своих раненых, и нас к ним отправили. В этом батальоне было человек семьдесят от силы, все шли измученные, отступая километров тридцать от станции Жутово через Ковалевку. А жара такая была! Воды нет, они все голодные, идти им было тяжело. Их командир постоянно говорил: “Ребята, нам надо успеть занять абганеровские рубежи. Надо подготовиться для встречи фашистов”.
Нас, пацанов, на тот момент из пятнадцати человек оставалось всего десять, остальные погибли на аэродроме во время вражеских налетов, бомбежек и обстрелов аэродрома. За некоторыми погибшими приезжали родители и забирали их тела, чтобы похоронить у себя на кладбище. Не знаю, как оповещали родителей. В сельсовете у нас в селе был телефон, возможно из райцентра по нему сообщали о гибели кого-нибудь из наших ребят. А тех из погибших, кого не забрали родители, увозили и хоронили на аксайском кладбище. Хоронили это еще громко сказано: просто заматывали тело в кусок ткани, рыли ямку неглубокую и туда их сразу по несколько человек опускали.
А вот погибших летчиков, наверное, все-таки получше хоронили, потому что я ни разу не видел, чтобы их так как наших ребят возили на местное кладбище, их хоронили где-то в другом месте. К летчикам вообще по-другому относились, как к важным персонам: у них и доктора с фельдшерами были, которые их лечили, и кормили их совершенно иначе, чем остальной персонал аэродрома. Бывало, летчики сидят, обедают, а мы поблизости на них смотрим. И ведь почти никто из них, за редкими исключениями, с нами едой не делился. Похарчеваться со стола пилотов удавалось лишь тогда, когда повар просил нас помочь ему почистить котлы. Вот тогда он нас угощал остатками еды со стола летчиков. Летчиков на аэродроме было много, человек, наверное, шестьдесят, поэтому котлы чистить мы бежали с радостью: в каждом казане можно было найти остатки еды и еще немного наскрести со стен чего-нибудь съедобного. Иногда получалось наесться самому и еще товарищу своему отнести. А если у тебя была какая-нибудь емкость в виде баночки, то можно было про запас себе туда еды наложить, ведь в следующий раз неизвестно, когда тебе удастся поесть.
У отступающих было при себе два противотанковых ружья, два или три станковых пулемета, но нести их у них не было сил, поэтому, когда мы присоединились к ним, они все это вооружение сразу же отдали нам, чтобы мы несли. Оружие мы сразу распределили между собой: мне и моему товарищу Сереже Божко досталось нести противотанковое ружье. Те, у кого мы забрали это ружье, тут же упали на землю от усталости, и другие красноармейцы были вынуждены поднимать их пинками и заставлять идти дальше вместе со всеми. Но даже и такой способ на них слабо действовал: человек от стресса и усталости становился неуправляемым. Если была возможность, каждый старался ухватиться за край телеги, чтобы идти не отставая. А лошади, впряженные в телегу, тоже были голодными и уставшими и поэтому еле шли. Эти военные корытообразные телеги были битком набиты ранеными. Их было очень много, стонали они очень громко. Все были наспех перевязаны обрывками гимнастерок и нательных рубах.
- Почему летчики не взяли вас с собой, а бежали, бросив на произвол судьбы?
- Вот я этого до сих пор и сам понять не могу. Хотя, кто мы там для них были? Никто! Мы же не военнослужащими были, а всего лишь призванные военкоматом. Да и некуда нас было грузить при эвакуации, они все те немногие машины, которые были на ходу, загрузили материальной частью, за которую несли ответственность. А за нас они не отвечали. В общем, они нас передали отступающим частям.
- Почему вы не вернулись домой в Перегрузное?
- Потому что был приказ перейти под командование одной из отступающих частей. А мы приказ не могли нарушить. А когда перешли, тут уже мы выполняли приказ своего нового начальства. Просто на тот момент мы были еще пацанами и не понимали, что, не приняв присяги, являемся гражданскими лицами и приказы военных на нас могут не распространяться. Да, мы могли бы бросить это проклятое ружье, но знали, что если бросим и уйдем, то нам в спину, как трусам, запросто кто-нибудь пустил бы пулю.
За ночь мы прошли двадцать пять километров. Наше противотанковое ружье весило шестнадцать килограмм и два-три километра его нести можно было, но потом уже, с каждым километром оно становилось все тяжелее и тяжелее. Как говорится, “в походе и иголка тяжела”.
Рано утром четвертого августа, часов в пять утра, мы вышли к Абганерово, вернее, к тому оборонительному рубежу, который мы незадолго до этого готовили. Прозвучала команда “Разместить оружие”. Те наши ребята, которые были покрепче, всю ночь несли кто ствол, кто станок пулемета, а кто и его щит. Они все эти части пулемета сносили туда, куда приказывал им командир, а там бойцы уже должны были собрать пулемет в единое целое. Но только дали команду об остановке, как те, кто должен был собирать пулемет, тут же упали на дно окопов и моментально уснули. Из состояния мертвецкого сна их даже не могло вывести желание поесть. Тоже самое и с нашим противотанковым ружьем: мы принесли, установили его где было нужно, но из расчета к нему никто не подошел, все упали и уснули. Командир, как сейчас помню - лейтенант с кубиками в петлицах, бегал по окопам и пытался растормошить спящих, но было бесполезно. Когда мы установили на позиции свое ружье, мне кто-то из сержантов сказал: “Ты будешь тут, помогать бронебойщикам”, но меня тоже охватила усталость, я опустился на дно окопа и уснул.
Часов в восемь утра по окопам стал ходить лейтенант с сержантами и будить весь личный состав. Поднимали они всех, конечно, по-жестокому, пинками. Спящих хватали за шкирку и пытались поставить в вертикальное положение, но те были словно полумертвые. А между тем издалека уже слышался противный шум танковых моторов. Сначала его было слышно чуть-чуть, а затем он стал все сильнее нарастать. Представляете, какое у нас у всех было состояние, когда силуэты танков стали появляться на горизонте, взбираясь на возвышенность. Все, и мы и бойцы, понимали, что здесь встали намертво и что нам теперь нельзя сделать ни шагу назад.
Танки дошли до наших позиций и остановились неподалеку в низине. Наше счастье, что нам достался участок обороны, расположенный выше чем грейдерная дорога, по которой шли танки. Тех, кому досталось расположиться непосредственно на грейдере, эти немецкие машины чуть позже просто смяли, превратив в мясо, и перемешали с землей. Танкам нужно было идти вперед, кто их остановит. Может им препятствовать могли только противотанковые рвы и то ненадолго. В немецкой колонне, чередуясь через одного, кроме танков шли и автомашины с солдатами. Танки остановились. стали из пушек обстреливать наши позиции, а из машин повыпрыгивали немецкие солдаты и начали расставлять минометы. Тут как начали они кидать эти мины - дышать нечем! От их осколков, которые разлетались веером, просто не было спасения - только глубокий ров или окоп.
Командир был рядом со мной, когда подошла немецкая техника, увидел ее и мне сказал: “Давай, бей! Бей, стреляй!” А я из этого ружья ни разу не стрелял! Но тем не менее с чужой помощью мне удалось выстрелить. Отдача была такой сильной, что я упал в окоп, а командир, посмотрев, похвалил меня: “Молодец! У них машина загорелась!” Ему бы лучше меня заранее предупредить, чтобы я приклад ружья крепче к плечу прижал! Там большому мужчине и то следовало бы держать ружье крепко и плотно с такой отдачей. Я сделал этот первый и единственный выстрел и больше не мог, у меня страшно болела рука и плечо. Пришлось сказать об этом командиру, и он меня, с одной рабочей рукой, отправил подтаскивать боеприпасы. Я был маленького роста, да к тому же очень худой, поэтому мог незаметно пробраться к телеге. На ней еще поутру подвезли боеприпасы, и она стояла чуть в низинке, позади наших позиций. Туда уже отправляли пару человек, но не пройдет и минуты, как смотришь, а они уже лежат убитые, причем выстрелов совсем не было слышно.
По лощинке я незаметно добрался до телеги и первым делом, вместо патронов, снял с нее термос с кашей. Решил, что люди в окопах сидят голодными и каша им сейчас очень нужна. Каша действительно оказалась хорошей - перловка с мясными консервами, но есть ее было некогда. Тем не менее, я ее первым делом схватил и потащил. Пока тащил, два раза по термосу ударили то ли пули, то ли осколки, но не пробили, хотя вмятины остались. Но термос ладно, главное, что меня не убило.
Командир, увидев, что я вернулся живой и с грузом, сказал: “Сынок, давай, еще иди. Неси ящики с патронами”. И я опять пошел. Снял ящик с патронами, тащу, а немцы такой обстрел начали, что я лежу рядом с ящиком и головы поднять не могу. Потом обстрел стих, я слегка приподнялся, ухватил за ящик здоровой рукой и по-быстрому перетащил его к траншее, и потом еще к телеге бегал несколько раз. Под конец устал настолько, что уже не было сил доползти буквально метр до траншеи. Один из бойцов увидел меня, лежащего с ящиком, протянул руку и, схватив ящик, втащил его в окоп, а я уже потом добирался самостоятельно.
- Из ваших ребят Вам никто не помог?
- Они все были заняты, все сидели в окопах и помогали отстреливаться, задерживая пехоту. Немецкие танки уже прорвались мимо нас по грейдеру, а пехота все еще не могла: ее встретили огнем не только мы, но и те, кто занял оборону внизу у дороги. Я тоже несколько одиночных выстрелов сделал по немцам из винтовки, которая лежала в окопе, но считаю, что подносом патронов я больше помог нашим бойцам, чем выстрелами.
- Противотанковыми ружьями удалось подбить хоть один немецкий танк?
- При мне - нет. Они прошли мимо наших позиций. Да что там толку от этого ружья? Оно эффективно только когда стреляешь в танк на близком расстоянии и сбоку. Чуть под углом выстрелил - пуля только чиркнет о броню и уйдет в сторону. А вот для легких целей у ружья хорошая пробивная сила, особенно есть эффект при попадании в двигатель. У бойцов было несколько противотанковых гранат, но это были тяжелые штуки и обессиленный человек просто физически не мог добросить их до танка. К тому же, чтобы повредить танк, нужно было эту гранату бросить точно под гусеницу или сзади на трансмиссию, иначе от нее никакого толку не будет.
Как мы ни отбивались, но немцы обошли наши оборонительные укрепления, и мы несколько дней провели в окружении. Наши окопы никто не штурмовал, но если кто-то поднимал голову из окопа, то обязательно прилетала пуля: они нас по одному уничтожали. Очень часто они сыпали на нас минометные мины и нам приходилось залегать на дне траншеи.
В один из дней нас, мальчишек, собрал лейтенант и сказал: “Ребята, спасибо вам, вы помогли нам. Но мы не можем и дальше оставить вас с собой, потому что вы не являетесь бойцами Красной Армии и не приняли присягу. Знаю, что вы все живете где-то неподалеку, поэтому вам будет лучше вернуться по домам”. Мы ему возразили: “Как же мы пойдем? Мы же только высунемся наружу, как нас сразу убьют”. Лейтенант говорит: “Мы вызовем весь огонь немцев на себя, отвлечем их. А вы в это время постарайтесь из окопов убежать в камыши”. Там неподалеку протекала река Аксай, которая шла через Абганерово, Аксай, Ковалевку и впадала в Дон. Берег реки был в камыше и там при желании можно было спрятаться и уйти подальше от места боя.
Мы так и сделали. По приказу лейтенанта на противоположном краю нашего рубежа бойцы открыли сильный огонь по передовым немецким позициям, те ответили огнем раза в три сильнее, а мы в это время выскочили из окопа и, согнувшись, кинулись в камыши. Так, по камышам, добрались до окраины села Гончаровка. Осмотрелись и увидели, что в Гончаровке немцы. Мы решили, что если попадемся им на глаза, то они нас обязательно пленят, несмотря на то, что мы были одеты в гражданскую одежду, хоть и превратившуюся уже в лохмотья. Посоветовавшись, решили идти не вдоль реки, а через поля. Мы ребята крестьянские, знали эти поля, потому что часто ходили то сусликов выливать, то стада пасти, то хорьков ловить.
Идешь по полю неубранному, а жрать-то хочется. Возьмешь несколько колосков в руку, потрешь их ладонями, шелуху сдуешь, а зерна отправляешь в рот. Так и шли всю дорогу, пережевывая зерно. Наешься его, а потом начинала жажда мучить и одна мысль в голове сидела: “Пить!” В одном месте нашли родничок, но набрать с собой воды было не во что, поэтому напились на месте, посидели около родничка, отдохнули и пошли дальше. Выходить на открытые участки мы опасались, боялись, что прилетит какой-нибудь “Мессершмитт” и нас живыми не отпустит, начнет нас расстреливать из пулеметов.
На третий день мы добрались до Перегрузного. Спустились к хутору с бугра и видим - на берегу речки окопы и в них сидят немцы. Что нам делать? У одного из нас была винтовка и мы решили ее спрятать, потому что если заметят, что мы вооружены, то просто застрелят и все. Еще решили просто пройти мимо немцев, не обращая внимания, надеясь, что и они не обратят внимания на малолетних грязных оборванцев - пусть думают, что это пастухи идут. Так и получилось. Мы идем мимо немцев, а они в нашу сторону даже головы не повернули, сидят там, в карты играют и по-своему что-то “ла-ла-ла”. У них на краю окопа пулемет стоял, вещи всякие разложены были, словно они там обосновались надолго.
Из тех пятнадцати перегрузненских пацанов, что отправили работать на аэродром, нас вернулось домой только трое, причем один раненый. Остальные погибли во время бомбежек и обстрелов аэродрома и во время боев в окружении. Домой пришел, мама как увидела меня, так запричитала сразу, ведь меня не было дома почти два месяца и никто не знал о том, где я и что со мной. Даже страшно представить, как она пережила мое отсутствие.
- По возвращении в село, родные расспрашивали вас о судьбе других ребят, которые погибли?
- Конечно расспрашивали. Но я мог рассказать только о тех, чью гибель видел собственными глазами. Ведь в Абганерово нас по всей линии обороны рассредоточили, и я видел только тех, кто был рядом. Когда была возможность, мы могли еще парой слов перемолвиться, а когда стало совсем жарко, то тут даже некогда было поговорить - спасались от обстрела. С одним так вот говорил, и тут же - хоп! - выстрел и нет человека. И что самое обидное - там, под Абганерово, мы даже не могли похоронить своих погибших ребят.
Первое время я сидел дома, никуда не выходил, а где-то через неделю - полторы нас собрала учительница по географии, замечательный человек. Она стала с нами вести разговоры: “Ребята, наши обязательно придут, так что не поддавайтесь на немецкую пропаганду”.
А немцы уже вовсю развернулись в селе, даже появились полицаи из наших, которые по указанию немцев стали устраивать перепись населения хутора. В полицаи пошли те, кто пострадал от раскулачивания или был по какой-то причине обижен на государство. В то время было много недовольных советской властью, например, из-за того, что его скот забрали в колхоз - такие люди быстро перешли на немецкую сторону. Полицаи сразу стали устанавливать свои порядки и им было лучше совсем не попадаться на глаза. У них у каждого были плетки и они с удовольствием охаживали ими всех подряд, приговаривая: “Коммунист? Комсомолец? Получи!” Пороли кого хотели и сколько хотели, поэтому безопаснее было сидеть дома.
Уже в ноябре месяце мы обратили внимание, что звуки артиллерийских разрывов доносятся до села все громче и громче. Оказывается, мы услышали звуки артиллерийской подготовки, а однажды увидели собственными глазами удар наших “катюш” по немецким войскам. Это страшное зрелище! Просто огненный смерч! Даже одна только мысль о том, что можно попасть под такой огонь, уже вызывала ужас.
- Удар был нанесен по Перегрузному?
- Нет, не по самому хутору, а по немецким позициям недалеко от Перегрузного. А потом, девятнадцатого ноября, в стороне Сталинграда что-то так громко бахнуло, что у нас земля буквально задрожала. Как потом оказалось, это началось контрнаступление наших войск. Ждать возвращения наших войск нам осталось недолго: вечером двадцать второго ноября сорок второго года наше село Перегрузное уже было освобождено от немцев.
- Как происходило освобождение?
- Немцы, которые не попали в окружение, бежали сломя голову. И сами бежали, и пушки свои за собой тащили. Уж такие они гордые и самоуверенные шли на Сталинград и так позорно от него отступали. Я видел, как через центр села, не делая остановки, ускоренно проходили немецкие части. И тут откуда ни возьмись появился наш “кукурузник” и стал сбрасывать на этих немцев мины. Но через наше Перегрузное проходило не главное направление немецкого отступления. Главный путь у них шел по грейдеру вдоль железной дороги на Котельниково, которое находилось от нас в восьмидесяти километрах. Вечером, из-за Аксая, по отступающим на грейдере, ударила “катюша” и из-за того бугра, с которого мы спустились в село, появилось несколько наших солдат. Из-за того, что Перегрузное находилось в стороне от грейдера, сильных боев и обстрелов у нас не было, поэтому солдаты вошли в село без выстрелов. Но мы тогда еще не знали, что это наши солдаты. Один из полицаев спросил нас: “А вы почему не убегаете?” и мы, чтобы его не разозлить своим ответом, согласно закивали: “Уже убегаем. Сейчас вот уже вещи собираем”. Решили ему поддакнуть, чтобы он нас за неподчинение немецкой власти не расстрелял.
В селе во время оккупации оставалось много ребят двадцать четвертого и двадцать пятого годов - все они были призывного возраста, но их не успели забрать на фронт до лета сорок второго. И среди них, как и среди всего населения Перегрузного, полицаи устроили агитацию, говоря: “Советской Армии больше нет, она полностью разбита. Сейчас, помогая Сталину, идет армия англичан, которая стреляет всех подряд за то, что жили под немцами, не разбираясь, виноват или нет”. Эти ребята, наслушавшись такой пропаганды, с перепугу ушли с немцами, но дальше Котельниково уйти не смогли: их там пленили и в армию забирать уже не стали, а дали всем по десять лет. Кто-то из них вернулся потом, а кто-то так и умер в заключении на лесоповале.
Хотя, может и была на них какая-нибудь вина, утверждать не стану. Одного из них, двадцать четвертого года, которого повесткой призвали в армию, но забрать в военкомат не успели, я встречал по возвращении из армии году в пятьдесят втором. Я тогда работал инструктором в райкоме партии и ко мне пришел Сема, с которым мы раньше дружили. Я был маленького роста, а он вырос здоровый такой, красавец. Вот он как раз бежал с немцами, отсидел десять лет где-то, а теперь пришел: “Вась, устрой меня куда-нибудь на работу”. Его с судимостью никуда не брали на работу, и я его всеми правдами и неправдами устроил руководить физкультурным отделом, поскольку он окончил техникум. Но через пару месяцев руководство узнало, что он отступал с немцами и его по-быстрому рассчитали. Он уехал куда-то и по сей день я не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба.
- А Вам не аукнулось то, что Вы помогли предателю?
- Нет, никаким образом. Мы же участвовали в Сталинградском сражении и, когда вступали в комсомол, мне в характеристике написали, что я “предан делу партии, социалистической Родине и стойко стоял за Советскую власть”. Нас трое таких было: я, Орыщенко Гриша и Васька Бондарь, сейчас в Бекетовке живет. Но мы всегда во всех анкетах честно указывали: “проживал на оккупированной территории”, поэтому запрашивалось подтверждение из органов, что “с немцами не сотрудничал”. А те, кому органы не могли дать такую формулировку, до конца жизни мучились, не имея возможности устроиться на нормальную работу. И приходилось им идти чернорабочими на “народные стройки”, например, на возведение Волго-Донского канала и Цимлянской ГЭС, где они могли затеряться среди огромной массы народа и не слышать упреков: “Да ты же беглый с немцами!”
Однажды на бугре появляются какие-то солдаты и направляются к нам. Мы смотрим: солдаты вроде бы наши, а вот шинели на них какие-то другие, зелено-желтого цвета, все в грязи. К тому же эти солдаты не разговаривали, и мы тут же подумали, что полицаи были правы и к нам пришли англичане. Но потом мы услышали от них фразу на русском: “Немцы есть?” Мы ответили, что немцы убежали и поинтересовались: “А вы русские?” Один в ответ буркнул: “Русские, русские”, и побрел дальше. Вот так нас освободили от немцев. Никаких кровопролитных боев в Перегрузном не было. И даже когда Манштейн шел на помощь окруженным в Сталинграде, он прошел мимо нас стороной по другую сторону железной дороги.
Еще через наше село отступали румынские части, которым нанесли сильный урон в боях у Сарпинских озер. Ехали они как цыгане, на своих кибитках, нагруженных разным барахлом: от велосипеда до граммофона. Но румыны, если их догоняли наши войска, предпочитали сразу сдаваться. Поэтому их вели в тыл большими колоннами по пятьдесят - сто человек. Бабы, бывало, выйдут поутру за водой, а их, напуганных румын, несколько человек стоят и просят: “Возьми меня в плен!”
Дня через четыре после того, как в наше село вошли первые пехотинцы Красной Армии, ночью раздался гул. Мы вскочили, выглянули в окно, и увидели, как по улице идут танки. Сначала испугались, потому что не понятно было, чьи они, а потом разглядели что наши. Это был 3-й танковый корпус, шедший на Верхне-Кумский, правда тогда я не знал, что это была за часть. Видно было, что танки все новые, при этом побеленные известкой. Ночью они прошли через нас, а наутро вступили в бой. Погода в те дни была пасмурной, низко висели густые облака и немецкие самолеты не летали, а наши бомбардировщики летали очень низко, буквально ходили над головами, бросая бомбы. Причем, как только сбрасывали бомбы, сразу же улетали, а на их место прилетали новые звенья.
Мы слышали, какие сильные бои были на Мышке (местное название реки Мышкова - прим. ред.) в районе Громославки, Капкинки и Васильевки, ведь это происходило километрах в двадцати от нас - в наших домах аж стекла звенели. Но в наше село повторно немцы не заходили, они все были сосредоточены ближе к Дону, а вот в Аксае они побывали, правда, немного их было. Говорили, что в полях между Вернекумским и Громославкой все было завалено трупами и наших солдат и немецких, не поймешь чьих больше, стояло много разбитой и сгоревшей техники. Одна женщина потом говорила, что в Аксае встречала танкиста из колонны, что проходила через Перегрузное, и тот сказал ей, что все погибли, но немцев дальше не пустили к Сталинграду.
Проходя через село, наши солдаты забрали с собой много скота. Тот колхозный скот немцы не успели конфисковать и увезти, а наши коммунисты согнали его в стадо и спрятали в Глубокой балке. Как мне потом рассказывал председатель нашего колхоза, перед приходом немцев руководством было получено приказание начать эвакуацию колхозного имущества и весь скот гнать за Волгу. На тот момент в колхозе было полторы тысячи голов скота и табуны лошадей. Но как гнать, куда гнать и где для этого брать людей - никто не знал. В колхозном правлении собралось руководство, чтобы решить этот вопрос, а в перерыве вышли на крыльцо покурить и увидели, как в село входят какие-то танки. Присмотрелись, а танки-то с крестами! И буквально через несколько минут по танкам открыли огонь красноармейцы, размещавшиеся в нашей школе. Их чуть ранее вроде как на восстановление после ранения к нам прислали. Немцы, конечно же, сразу из пушки ударили по школе. Вот так наше село было с ходу занято врагом, притом немцы шли не со стороны Котельниково или Жутово, а со стороны Калмыкии, села Багмалан.
И вот весь наш колхозный скот, который не успели съесть немцы, забрала Красная Армия. Для наших войск это было большим спасением, потому что продовольствия не хватало. У нас в правлении выступал сам Еременко, беседовал с колхозниками, а мы, пацаны, тоже его слушали. И вот он говорил: “Нам продовольствие не поступает, потому что Волга еще не замерзла, по ней идет шуга и переправлять грузы очень трудно”. Забрали подчистую: около ста пар быков (а ведь это в то время было основной заменой сельскохозяйственной технике), всех коров дойных, лошадей, свиней с двух свиноферм. Всех порезали, потому что надо было кормить большую армию! Часть, наверняка порезали в запас.
Хлеб колхозный, кстати, тоже забрали. У нас в селе стояла старая церковь, которую со временем превратили в клуб. А в сорок первом урожай был очень большим и его весь не успели вывезти на станцию, поэтому клуб из церкви убрали и сделали в ней зернохранилище. В сорок втором все зерно тоже не получилось вывезти, поскольку немцы разбили все ближайшие железнодорожные станции начиная от Котельниково: Пимено-Черни, Гремячая, Жутово, Гнилоаксайская. Немцы методично делали все, чтобы железная дорога не функционировала. Но наши солдаты и железнодорожные старались по-быстрому все восстановить: только разбили полотно, смотришь, уже по нему идет эшелон, который везет к передовой боеприпасы, а обратно в него набивают раненых и стараются поскорее увезти в Сталинград.
- Чем Вы занимались, пока находились в оккупации?
- Ничем. Сначала прятались, а потом больше ходили в овраги, куда была согнана скотина и мы за ней присматривали.
- Об этой скотине немцы знали?
- Конечно знали, но им было некогда ею заняться.
После освобождения села я пошел работать в колхоз учетчиком тракторной бригады. Потом наступило лето, надо было заготавливать сено, а трактористов не хватало, и я в сорок третьем уже сел на трактор. Было мне тогда шестнадцать лет. Отработал трактористом до поздней осени и с началом зимы отогнали трактора в МТС, которая располагалась в райцентре. Там стали заниматься ремонтом техники, но два часа в день обязательно были посвящены учебе тракторному делу, чтобы нам выдать удостоверения на право управления, ведь до этого мы работали, не имея никаких документов.
Всю зиму я проработал в МТС, при этом дважды меня вызывали в военкомат, хотели забрать в армию. Но я был таким маленьким и худым, что оба раза не мог пройти медкомиссию, меня отстраняли от призыва и отправляли обратно домой. С началом посевной мы погнали трактора в свой колхоз и, помню, уже перегоняли технику через речку Аксай, чтобы выйти на Перегрузное, как нас догнал вестовой, вручивший мне повестку, чтобы я к десяти часам был в военкомате. Это случилось двадцать шестого марта сорок четвертого года. Вестовой даже лошадь с собой привел, которую взял в колхозе специально для меня, чтобы мне было на чем добраться. А нас, трактористов, было всего лишь двое, и мы гнали сразу три трактора. Я вестовому говорю: “Сейчас мы переправимся, и я поеду”, но в ответ мне было строго приказано: “Никаких “переправимся”! Тебя вызывают в военкомат, а с этим не шутят!” До этого один трактор мы тащили на прицепе, а теперь, поскольку тракторист остался один, пришлось мой трактор бросить в поле. Этот тракторист был двадцать восьмого года, моложе меня, наверное, он один трактор перегнал и потом вернулся за моим. Не знаю, меня это уже не касалось.
Приезжаю я домой, мама там уже в слезах, потому что знает о вызове в военкомат и понимает, что на этот раз меня точно заберут. Сидит, плачет: “Я всю свою жизнь работала и только дождалась, что ты помощником мне стал, а тебя у меня опять забирают!” Сестры тоже меня обступили, все плачут. Я стал, как мог, их успокаивать, но это мало помогало.
Сельсовет выделил телегу, на которую погрузили меня и еще одного призывника, и мы отправились в район. А голодно было тогда, из продуктов ничего не было. Если бы не суслики, которых я ловил в степи и жарил, не знаю, выжила бы наша семья или нет. Голод - страшное дело, постоянно жрать хочется. Маме кто-то дал чашку отрубей, так она смешала их с горчичной шелухой и отдала мне в дорогу: “На, сынок, покушаешь”.
Привезли нас в военкомат, там по-быстрому прошли медкомиссию, которая в этот раз меня сочла годным, затем недолго подождали, пока оформили документы. В результате из нас сформировали небольшую команду человек в тридцать, и мы пешком пошли на станцию Гнилоаксайскую, что в двенадцати километрах была. Все хоть и шли с мешками за плечами, но у каждого этот мешок был практически пустым, потому что нечего было взять с собой. Нас сопровождал представитель от военкомата, который гнал нас без остановок. Тяжело мне далось это расстояние, думал не дойду, сил не хватит. Но до станции мы все-таки добрались, там нас посадили в товарный вагон и отправили в Сталинград.
В Красноармейске нас высадили и повели в так называемые Красные казармы, где располагался сборный пункт. В центре Волгограда недалеко от Мамаева кургана тоже есть Красные казармы, но эти размещались в пригороде города, я потом искал, где они находились, но так и не нашел. Кормили нас там очень плохо, всего два раза в сутки: в одиннадцать утра и в четыре вечера. Утром нам обязательно давали селедку, у которой соль все брюхо выела - ешь ее, а на зубах чуть ли не крупинки соли похрустывают. Но съедать ее приходилось всю без остатка, потому что другой еды у тебя не будет до вечера. А вечером давали суп, в котором плавали зеленые капустные листы, даже толком не порубленные. Про картошку вообще говорить нет смысла - ее там просто не было. В нашем подразделении было несколько ребят, которые проживали там, где не было немецкой оккупации. Так у них даже хлеб с лепешками имелись, привезенные из дома. А мы, те кто прибыли из ранее оккупированных районов области, в отличие от них, жили впроголодь и нам постоянно хотелось есть.
Гоняли нас по двенадцать - четырнадцать часов в сутки, занимаясь с нами военной подготовкой. Целыми днями то строевая подготовка, то огневая. Во время огневой подготовки мы изучали устройство винтовки Мосина и иногда ходили на стрельбы. В общем, полностью прошли курс молодого бойца.
- Вас в форму уже одели?
- Да, там в Красноармейске, нас уже одели в военную форму и там же мы приняли воинскую присягу. Даже дату помню - четвертого апреля сорок четвертого года я читал свою торжественную клятву.
- Пока вы находились на сборном пункте, вас не привлекали к уборке улиц от разбитой техники и трупов?
- Нет, в тот раз нас не привлекали. Но незадолго до этого, весной сорок третьего, меня и еще четверых ребят, которых призвали на фронт чуть пораньше, привозили в Сталинград именно для этого. Причем призвали нас на работу военкоматом, уже как военнообязанных. Нас сначала собрали дома, потом привезли на станцию, погрузили в вагон и повезли. Мы еще ехали и думали: “Куда это нас везут?” Оказалось, в Сталинград. Из нас, прибывших, сформировали бригады и выдали каждому железные крюки В нашу задачу входило стаскивать трупы убитых немцев в овраги. Работали мы в районе областной больницы, примерно там, где сейчас находится станция переливания крови. Там находилось два больших лагеря для содержания немецких военнопленных, в них немцы мёрли как мухи. Тех, кто остался в живых, впоследствии из лагеря куда-то всех увезли, а на территории лагеря оставалось очень много трупов. Вот эти трупы мы и грузили на телеги с помощью крюков, пока они были мерзлыми и отвозили в другой конец улицы Ангарской, где находилась собачья бойня. Там сейчас все заровняли, заасфальтировали, даже сделали кольцо трамвая, а тогда там был овраг, куда все трупы и сбрасывались. Работать нам приходилось очень много, трупы нужно было убрать, пока не началась оттепель и трупы не стали размягчаться. На этой работе я пробыл, наверное, недели две или три, а затем всех отправили обратно домой. Все это время мы жили в бараке какого-то общежития. Нас там даже кормили: каждому давали по пышке и по стакану горячего чая.
- По карманам у немцев не шарили?
- Да конечно шарили, чего там скрывать. И сапоги с некоторых снимали: ноги у трупа топором рубили, относили их в тепло, где те слегка оттаивали и обувь с них уже легко снималась. Ногу вытаскивали и выбрасывали, а сапоги забирали себе.
Потом приехали два офицера - майор и капитан и стали выбирать из нас для себя людей. Выбрали кого сочли нужным, в том числе и меня, построили и мы пешком отправились в Сталинград на Центральную набережную. Представляете, сколько нам идти пришлось! Все были усталые, еле дошли. Те, у кого был хлебушек, ели его по дороге. Причем ели сами, никогда ни с кем не делились. Хотя на тот момент никакой набережной там не было, только по берегу валялись разбитые пушки, машины, куски проволоки. Нас подвели к сооруженной деревянной пристани, спустя некоторое время погрузили на борт парохода “Марат” и повезли в Астрахань.
В Астрахани тех ребят, кто покрепче, забрали в зенитную артиллерию, а меня и еще одного парня отправили служить на прожекторные точки. А на той точке, куда я прибыл, были одни девчата! Да такие все хорошие, красивые! Их начальница сказала им, что ее вызвали в роту получать ребят в пополнение. Эх, девчата давай готовиться встречать ребят: накупались, наплоились, нарумянились! А она привела меня одного, да еще маленького и худющего! Они к начальнице: “А где ж обещанное пополнение?” - “А вон - сидит в углу, еле видно его”. Девчата как взглянули на меня, так руками и всплеснули: “Ой, батюшки! Неужели уже и таких стали в армию призывать?”
- На какую должность Вас определили к прожектористам?
- Да никакую, простым рядовым солдатом. А уже на точке я стал учеником первого номера прожекторного расчета. В задачу первого номера входило следить прожектором за летящим самолетом, поворачивая его при помощи небольшой штанги. С другой станции, на которой стояли звукоулавливатели, нам передавали информацию о приближающихся самолетах и их координаты, а мы, согласно полученной информации, включали свой прожектор. Луч прожектора был очень мощным, мог даже ослепить летчика, если самолет попадал в луч прожектора. А если луч освещал вражеский самолет и вел его, то по нему сразу начинали бить зенитки и иногда даже сбивали.
Прожекторное звено на точке составляло семь человек. Все они наплакались, глядя на меня, какой я был истощенный, а потом их начальница говорит: “Ну хватит, девчата, плакать. Давайте его купать да кормить, а то он голодный. Да смотрите, здорово его не кормите, давайте ему по чуть-чуть еды”. Эти девчата получали по норме продовольствия на десять суток и сами на точке себе готовили еду. Видимо поэтому они все были такие справные, в теле. Посадили они меня за стол, накормили, и отправили на пост, где я часов по шесть стерег материальную часть и охранял всю точку.
По вечерам девчата убегали в расположенное неподалеку пехотное училище, куда на ускоренное шестимесячное обучение привезли фронтовиков. Эти фронтовики учились, получали звание “младший лейтенант” и отправлялись обратно на фронт. Девки как узнали о том, что туда парни приехали, так они меня на пост за себя ставили, а сами убегали на свидания. А я был этому рад, потому что, после своей голодухи, сидел в тепле и была возможность поесть. Сытые девчонки, видимо, приглянулись будущим лейтенантам и после таких свиданий девчата стали одна за другой беременеть.
За эти месяцы пребывания под женским уходом, я не только набрал вес, но и подрос: был метр сорок два, а стал метр шестьдесят. Вон как пошел расти! Во время несения службы я не только стоял на посту, но и учил инструкцию, которую мне дала моя старшая наставница. Хотя слово “старшая” здесь трудно применить, поскольку она была двадцать пятого года рождения, а я всего на год младше нее.
- Вы винтовку привезли с собой из Сталинграда или получили уже на прожекторной точке?
- Какую винтовку? В Сталинграде мне винтовку никто не выдавал. Когда принимали присягу, нам винтовку давали одну на всех только для того, чтобы читали текст с оружием в руках. Принял присягу, а потом у меня ее отобрали и передали другому. Вооружился я только когда прибыл в эту прожекторную часть. Кстати эта часть принимала участие в Сталинградской битве - она, вместе с батареями зенитных орудий, входила в состав зенитной дивизии и их отвели в Астрахань на отдых после того как немцев окружили и разбили. Астрахань был тыловым городом и эта часть, находясь на отдыхе, выполняла задачи по защите астраханского неба.
- Самолеты уже не совершали налеты на Астрахань?
- Еще совершали, но уже очень редко. Иногда появится какой-нибудь “Хейнкель”, мы прожекторами его посветим, в лучи половим, зенитки по нему постреляют, и он улетает обратно. Немецким летчикам были хорошо известны все важные военные объекты в Астрахани, поэтому каждый раз они бросали бомбы на какую-нибудь из целей.
- Где располагалась ваша прожекторная точка?
- На юго-восточной окраине Астрахани. Точно сказать не могу, потому что в город я практически не выходил и сориентироваться не смогу.
- Кого вместо забеременевших прислали на замену?
- Никого. Последним прибывшим был я, а в подразделении образовался небольшой некомплект личного состава. Я заменил “первого номера расчета”, выбывшую по беременности. Надо мной еще потом подшучивали: “Не ты ли постарался, чтобы она забеременела?” А я тогда ничего об этом вовсе и не знал, даже ни разу в своей жизни девчонку не щупал!
- Где жил личный состав вашего прожекторного звена?
- В каком-то общежитии. Это был хороший, добротный, крепкий дом. Нас, мужчин, было двое - шофер и я. Шофер был гораздо постарше, а я молоденький совсем по сравнению с ним. Мы с ним, разумеется, жили отдельно от наших девчат - те впятером проживали в другой комнате, побольше размером. Наш прожектор находился рядом с этим домом в выкопанном капонире, который скрывал его в земле на две трети. Освещение давали прямо из этой ямы, не вытаскивая прожектор наружу.
- Как осуществлялось питание прожектора электричеством?
- У нас была машина ЗИС с генератором. Заводишь мотор, и он крутит генератор, который вырабатывает энергию, передающуюся по кабелю на прожектор. В прожекторе стояло два графитовых стержня, концы которых находились на определенном расстоянии друг от друга. На эти стержни подавалось напряжение и между ними сначала пробивала искра, а затем образовалась постоянная электрическая дуга. Яркий свет этой дуги и отражался в зеркале прожектора, выдавая мощный луч, освещающий на расстояние километров в десять. Прожектор - вещь сложная! Там такое зеркало огромное стояло, закрепленное в алюминиевом корпусе - радиусом метра в полтора! В ясную солнечную погоду возьмешь, поднесешь к нему кусочек ваты, найдешь фокус и -хоп! - ватка загорается. Спичек тогда не было и некоторые пользовались таким способом, чтобы прикурить папироску. В капонире прожектор располагался на металлической платформе, а при необходимости транспортировки его лебедкой по направляющим рельсам поднимали в кузов.
Вскоре у нашей части закончился отдых и приказом командования дивизии наш приданный 12-й отдельный прожекторный батальон погрузили на эшелон и через Саратов, Поворино, Харьков и Киев отправили под Одессу. Когда прибыли к месту назначения, оказалось, что места для нас там нет и нас отправили в город Николаев, который по побережью находился километрах в ста от Одессы.
Когда мы уже расположились в Николаеве, кто-то из моей красноармейской книжки узнал, что я по профессии колхозный тракторист и меня отправили на учебу в танковую школу, которая находилась в городе Кировограде. Там я проучился три месяца и, по окончании учебы, попал на формирование частей 6-й танковой армии. До этого у нас было пять танковых армий: 1-я Катукова, 2-я Рыбалко, 3-я Богданова, 4-я Лелюшенко и 5-я Ротмистрова. И вот теперь, в сорок четвертом, была еще сформирована 6-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта Кравченко. Вместе с этой армией мне довелось принимать участие в боях, получивших впоследствии название “седьмой сталинский удар” - в Ясско-Кишиневской операции. Целью этого удара был прорыв наших войск на Балканы.
- Расскажите про танковую школу, в которой Вы учились.
- Да как обычная школа: в шесть подъем, гоняли нас, изучали матчасть танков, особенно двигатель и трансмиссию. Меня, как тракториста, обучали на механика-водителя. В то время к нам уже поступили Т-34-85, так называемые “тагилки”. Мы очень любили их и считали самыми лучшими танками.
- Преподавателями в школе были фронтовики?
- Конечно! Фронтовиками были и преподаватели и, в обязательном порядке, командиры танков. Причем командиры были очень рисковыми ребятами, «сорвиголовами». Они уже были взрослыми, лет по тридцать пять или по сорок им было. В школе обучали в основном мехводов, а командиров собирали уже побывавших в боях, опытных, бывалых, им просто, как говорится, повышали квалификацию. По окончании нашей учебы прямо там, при этой школе, происходило формирование нашей части - двадцать первого танкового полка. Прямо туда же чуть раньше привезли машины, на которые мы получили назначения, так что никуда нам ехать за техникой не пришлось, эшелоны сами приходили на станцию один за другим. Нам, молодым, даже разгружать танки с платформ не дали, чтобы мы не угробили технику - всю эту серьезную работу выполняли танкисты постарше с опытом.
- При формировании экипажей давалось время на слаженность экипажа?
- Обязательно. День и ночь у нас были учения на полигоне, чтобы мы приобретали навыки работы в экипаже. До сих пор помню эти дороги - неровные, овражистые, разные бугры - на которых нас тренировали.
Потом ночью, в сопровождении низколетящих штурмовиков, мы поехали своим ходом на фронт и тридцатого августа сорок четвертого года уже вступили в бой под Кишиневом. Место называлось Кицканы, кажется. Бой там был сильным - мы старались прорвать несколько оборонительных линий немцев. Немцы выстроили крепкую оборону, потому что Гитлер не хотел пускать наши войска к румынской нефти в Плоешти. Что я испытал - это, конечно, невозможно передать словами, это просто надо пережить.
- Огонь вели с остановками?
- Да, тогда еще вести огонь на ходу мы не могли и для выстрела обязательно делали короткие остановки. А вот когда сразу после окончания войны мы были под Будапештом, там получали такие же “тагилки”, но уже со стабилизированным орудием, позволяющим бить с ходу.
- Как командир танка управлял действиями мехвода?
- В танке есть радиосвязь, но ею в процессе боя пользоваться было неудобно, шум и треск стоял такой, что трудно было разобрать команду. Поэтому все управление шло ногой: слева пнет, значит надо влево поворачивать, в правый бок - значит вправо. Я был маленького роста, а он сидел выше меня и только ногами и управлял моими действиями: то левой то правой, то левой то правой. Тем мехводам, кто повыше ростом был, тем командиры ноги на плечи ставили и управляли ими “по-благородному”. Мой командир хоть и не сильно ногами бил, но у меня после боя все бока от его “команд” болели. А если нужно было остановиться, тут уж он мне в ТПУ кричал изо всех сил.
- От выстрелов сильная загазованность была в танке?
- Сначала, как только выстрелит орудие, очень сильная была загазованность от дыма порохового. Но в танке был специальный вентилятор, который все это вытягивал наружу.
- Во время обучения в танковой школе были у вас занятия на взаимозаменяемость членов экипажа?
- Обязательно, это было одним из основных направлений в нашей учебе. Мы отрабатывали навыки каждого из членов экипажа, поэтому, при необходимости, я мог выступить и в роли заряжающего и в роли наводчика.
- Вы были молодым, командир был постарше Вас. А какого возраста были остальные члены Вашего экипажа?
- А никого больше не было. У нас был неполный экипаж: только командир да я. Командир танка у нас был и заряжающим и наводчиком. Еще стрелка-радиста нам не хватало.
- То есть в бой вы пошли, имея такой некомплект экипажа?
- Да! Людей очень сильно не хватало, поэтому Сталин под конец войны стал категорически требовать от командиров беречь людей. Это раньше солдат не жалели, бросая грудью на пулеметы, а под конец каждый человек в части был на вес золота.
- Во время марша мехвод ехал с открытым люком?
- Да, я обязательно люк открывал, а то в щель смотреть совсем не удобно было. Да к тому же, когда едешь по неровностям, попробуй рассмотри, что там снаружи делается. А вот когда мы вступали в бой, тут уже я крышку люка закрывал и смотрел на дорогу только через триплекс. Через стекло было видно очень плохо, все прыгало, но что поделаешь - приходилось терпеть.
- В Вашу задачу входило следить за окружающей обстановкой на поле боя?
- Нет, в мою задачу входило управлять танком, а за полем боя наблюдал командир - у него была командирская башенка. В зависимости от увиденного, он принимал решение, как и куда двигаться, ну и передавал мне ногами свои решения.
Как я говорил, некомплект в экипажах был больше пятидесяти процентов, поэтому людей в экипажи брали по возможности откуда только могли. Под Кишиневом взяли в плен большую группу немцев, а чтобы отвести их в тыл у нас попросту не нашлось свободных людей для сопровождения. Доложили о пленных командиру полка, а тот ответил: “Да подавите их танками и все тут”. Но нам же приказ был идти вперед, не останавливаясь, вот и приходилось выполнять такие по сути преступные приказы. Мы не имели права задерживаться на пленных, мы должны были гнать немцев, не давая им возможности закрепиться. Ведь у немцев до последнего дня была сильнейшая армия, отлаженная и отработанная. Уж если она даст бой, так мало не покажется, а она давала нам до самой Победы. И вот если в каком-то месте сломаем оборону немецкую, то тут все силы старались приложить, чтобы не дать им снова собраться.
- Кто был командиром вашего полка?
- Не помню… Кажется Чибирев, подполковник.
- Каково было Ваше состояние после окончания первого боя?
- Аховское. Какое-то непонятное: вроде бы и радостное и в тоже время словно чего-то недоставало. По всему телу шла какая-то неприятная дрожь. Одно только радовало - я вышел из боя живым, хоть и видел, как рядом горели танки моих товарищей.
- Много в том бою наших танков пожгли немцы?
- Поскольку это были сильно укрепленные немецкие позиции, мы потеряли очень много танков. Пока мы дошли до Ясс, мы постоянно вязли в боях, проходя за сутки всего по два-три километра. Там наше командование вводило танковые части в бой одну за одной, усиливая натиск. Наш полк постоянно пополняли новой техникой, если была возможность, но в основном активно ремонтировали уже побывавшую в боях. Там железнодорожные пути были разрушены, эшелоны ждали, пока их восстановят, поэтому, как только полк останавливал движение, так сразу начинали сварки работать. Но если танк восстанавливали, то сразу же возникал другой вопрос - кто будет их в бой вести? Нам повезло, мы получили свои танки в месте формирования, а вот те, кто прибыл в часть после нас, те уже ехали на завод, где и получали свои боевые машины и на месте знакомились с ними.
- Во время боя закрытый люк каким-нибудь образом стопорился или была возможность его открыть при необходимости по-быстрому?
- Мы - те, кто в бою ездил с закрытым наглухо люком - были смертниками. Вот когда под Балатоном у меня подбили танк, я все-таки успел открыть передний люк, несмотря на то, что был маленьким и щупленьким. Только вылез наполовину из люка, как у меня в глазах пошли зеленые круги и я потерял сознание. Наша батальонная медсестра тетя Маня потом говорила мне: “Смотрю, ты висишь на люке. Еще вроде живой, но сам уже не выберешься. Я взяла, выволокла тебя из люка, сбросила на землю, а сама кинулась за твоим красавцем”. Мой командир танка был восемнадцатого года рождения и на тот момент ему было двадцать семь лет, поэтому она бросилась спасать его. Но в танке в это время начали рваться снаряды, и он не смог выскочить из горящего танка, попросту не успел. Так и сгорел вместе с машиной.
Когда в танке снаряды рвутся, большинство из них направлены вверх, в башню, где сидит командир. А я лежал перед танком, поэтому меня и не задело, повезло. Командир у меня боевой был, умница. Не пил, не курил. Хоть и был украинцем, но всегда говорил только по-русски. Звали его Коваль Михаил Иванович, царствие ему небесное. Я всегда на ветеранских встречах вспоминал его, моего первого командира. Потом, конечно, дали нового командира. Этот был хоть и хорошим парнем, но был большим любителем выпить.
- От чьего снаряда загорелся ваш танк?
- А кто его знает! Там мрак творился, вокруг дым стоял, поэтому разобрать: пушка в тебя ударила или танк, было совершенно невозможно.
- Куда вы пошли после Ясско-Кишиневской операции?
- Мы направились в сторону Югославии. По пути взяли города Арад в Румынии, Суботица в Югославии. Мы перекрывали дорогу немецким войскам, отступающим из Греции и Турции. Они не успевали всех вывозить из этих стран на баржах в Югославию и Италию, поэтому часть войск отправилась своим ходом.
- Белград, столицу Югославии, довелось освобождать?
- Мы не дошли до Белграда. По территории Югославии мы прошли чуть дальше Суботицы. Ой, как нас там встречали сербы! Они собрались, все радостно приветствуют нас, кричат что-то. А мы подошли все грязные, на многих танках бревна привязаны, чтобы из грязи выбираться.
В то время если бревно где увидишь, то сразу на броню его и привязываешь покрепче, потому что в пути мало ли где оно может пригодиться. Обычно, если в грязи застревали, то эти бревна под гусеницы клали. Работа танкиста очень тяжелая. А еще пальцы на гусеничных траках часто рвались и приходилось их выбивать оттуда кувалдой.
- Когда вы вошли в Югославию, у вас экипаж уже был укомплектован полностью?
- Нет, по-прежнему только мы вдвоем с командиром. Не было людей, не хватало. Когда мы в центре Вены были в бою, к нам подбежал какой-то пехотный полковник: “Товарищи танкисты, оставляйте свой танк и помогите нам выбить из здания фаустпатронщиков. Смотрите, сколько они уже пожгли танков! Нельзя вам дальше идти, они из подвалов и с этажей в бок проходящим танкам стреляют. Так что помогайте. Вот у меня еще три солдата есть и вас двое - впятером выбьете из дома немцев. Я вам приказываю!” Мы смотрим, а на улице уже четыре машины стоят и горят. Ну, раз приказывает, надо выполнять. Тем более что этот полковник для убедительности уже пистолет из кобуры достал и дал понять, что нас ожидает за невыполнение его приказа.
Конечно, эти дома лучше бы было разбить тяжелой артиллерией, но она еще не подошла и пришлось идти нам. Вошли на первый этаж. Полковник мне говорит: “Ты, малыш, вот эту дверь ногой выбивай, только смотри, осторожно”. А я слышу, что за дверью кто-то есть, потому что со второго этажа идет стрельба, дым стелется. Выбил дверь и все в нее побежали. Командир с солдатами на второй этаж поднялся, а я остался снизу их прикрывать. Спустя некоторое время командир мой возвращается оттуда, живой и невредимый и говорит: “Там такой бой был сильный, пока мы немцев оттуда выбивали. Они сначала сопротивлялись, а потом сдались. Но мы были злые такие, что они наших столько уложили, поэтому всех их там и расстреляли”.
- Какое оружие у Вас было при себе?
- У меня был автомат хороший и пистолет. Мы с командиром оба были вооружены ТТ. Автомат в танке я всегда хранил перед собой, сбоку за фрикционом. Там был свободный уголок, вот туда я автомат и ставил. Главное - чтобы он был рядом когда понадобится, чтобы протянуть руку можно было и взять его.
- Гранаты возили с собой в танке?
- Обычно нет. Но когда готовились к прорыву, то получали полный боекомплект, в который входили и гранаты. Гранатами в экипаже обычно распоряжался командир или заряжающий (если был), а мне они никчему были. Меня ничем подобным не нагружали, от меня только требовалось, чтобы танк мог ехать.
- С топливом проблемы случались?
- Хоть и мало, но были такие проблемы. Если машина встала по причине того, что закончилось топливо, то по рации сразу докладываем: “Топливо”, в ответ: “Сейчас будет”. Смотришь, моментально подъезжает автомашина, везет нам топливо.
- В танке был датчик уровня топлива?
- Конечно. Но иногда, в горячке боя, на него не смотришь и внезапно приходится останавливаться.
- Вы могли, увидев, что заканчивается топливо, самостоятельно отойти в тыл для дозаправки?
- Нет, что Вы! Закончилось топливо - придется останавливаться. И не важно, что ты сам в это время являешься хорошей неподвижной целью. Отстреливайся, но стой и жди заправщика. Можешь взять автомат и идти вперед, но отступать ты не должен ни в коем случае.
- В каком случае экипаж имел право покинуть машину?
- Только когда она горит, а в остальных случаях нет. Только когда она уже пылает или ты видишь, что вот-вот вспыхнет, тогда ты мог по-быстрому покинуть машину. Но редко кому это удавалось, редко кто мог быстро открыть люк и выбраться из него. Так что, если загорелся танк, экипаж - смертники.
- Как можете оценить Т-34-85 по комфортности?
- Не очень. А вот прислали нам американские танки “Шерман” - там, конечно, комфортно! Влезешь внутрь, а там все блестит, в металл как в зеркало смотришься. Но вот броня у них никудышняя. Немцы хорошо стреляли, дадут болванкой по такому танку и все - броня от удара раскололась. А на нашей броне, если в нее немецкий снаряд под небольшим углом попадет, то остается след словно ложечкой по маслу провели и зачерпнули слегка. Наша броня была очень вязкой, не лопалась и не трескалась. Поэтому наши танки хоть и некрасивые изнутри были, зато прочные. Поэтому, когда к нам пришли три американские машины, на них никого не смогли загнать, никто не хотел воевать в блестящем, все предпочитали машины челябинского производства и “тагилки”.
- К концу войны оставались на вооружении вашего полка старые Т-34 с 76-миллиметровым орудием?
- Были несколько машин. Но сами понимаете, воевать с 85-миллиметровой пушкой лучше, чем с 76-миллиметровой. Да и новые танки, которые стали под конец войны к нам приходить, поаккуратнее были сделаны уже, а в старых запросто можно было порезаться о литник - выступающий кусок брони, который не обрезали после литья башни. Или, например, стоило только снять шлем и о такой выступ обязательно головой ударишься. Опасно было без шлема в танке находиться.
- Где жил экипаж танка?
- Когда в тылу шло сосредоточение, для нас обязательно какое-нибудь помещение подбиралось, где размещалось сразу несколько экипажей. А ближе к линии фронта уже бывало по-всякому, иногда и прямо в машине оставались ночевать. Но внутри танка плохо: летом жарко, зимой холодно. Поэтому иногда приходилось двигатель поддерживать в рабочем состоянии, но делали мы это аккуратно, чтобы командование не видело. Начальство не очень это жаловало, поскольку тем самым изматывался ресурс двигателя. А по правилам, как только сто двадцать часов двигатель отработал, его нужно было на техремонт ставить.
- Под днищем танка доводилось рыть себе укрытие для ночлега?
- Видел, что некоторые экипажи так поступали. Но я что-то не припомню, чтобы сам рыл. Наверное, мы просто наступали уже в таких краях, где климат помягче чем у нас дома и мерзнуть не приходилось.
- Какое количество снарядов было в танке?
- Сейчас уже не помню, но всегда брали столько, сколько влезало. Кроме заполнения самой боеукладки мы могли дополнительно положить несколько снарядов на пол, но это было очень опасно, потому что внутри при движении танка возникали слишком большие вибрации и колпачок со взрывателя мог от этого случайно сняться. При получении боекомплекта нам с командиром приходилось вдвоем заниматься укладкой снарядов, только сперва нужно было протереть их тряпкой от смазки.
- Из-за нехватки экипажа курсовой пулемет у вас вообще не был задействован?
- Да. Но иногда бывало, что командир, когда видел перед собой пехоту, быстро слезал со своего места в башне и спускался вниз. Смотрю: он уже сидит, включил пулемет и сидит, бьет из него.
- Что представляло большую опасность для танка: артиллерия, “самоходки”, танки или авиация?
- Я считаю, что опасным было все оружие, где были хорошие специалисты. Но самую большую опасность представлял сам человек! Ведь он, если захочет, то и простой гранатой тебя уничтожит: пропустит тебя и удачно бросит ее так, что та, ударившись о башню, упадет прямо на решетку трансмиссии, взорвется и танк начнет дымить. А вообще они из своих танков и из артиллерии очень хорошо били наши танки, те горели как спички. Если “соткой” дадут, так она и лобовую броню наших танков пробивала, не говоря уже о боковой. А у нас, представляете, до сих пор в войсках применялась пушка-”сорокапятка”, которую мы называли “Прощай, Родина!” Ну какой с нее толк был?
- Как кормили танкистов?
- Неплохо. У нас была первая фронтовая норма, поэтому нас всегда хорошо кормили: и в боях, и на отдыхе. Перед боем обычно давали сухой паек на пять дней: хорошее сало из расчета сто грамм на день, сахару по сто грамм на день, хлеба килограмм, чай. Иногда, если была возможность, приходилось просто кипятить кипяток и употреблять его вместе с хлебом и салом: перекусишь наскоро и на жизнь уже по-другому смотреть начинаешь. Когда на отдыхе были, тут старшина обычно суетился и доставал еду, чтобы нас накормить. А когда в боях, то кухня часто за нами не поспевала, потому что старшина порой и не знал, где мы сейчас находимся - нам давали направление движения одно, но в результате боя по его окончании выходишь совершенно в другое место. Старшина ищет тебя там, где ты должен быть, а ты находишься в десятках километрах от этого места.
Помню, после боя мы сосредоточились в одном месте и стояли ждали, пока подъедут кухни чтобы нас накормить. В боях мы были долго, нам перед этим выдали сухой паек, но мы его весь уже съели. Как только вышли из боя, нам сказали, что наш старшина нас где-то ищет, чтобы накормить горячей пищей. Кстати, комиссары тщательно следили за тем, чтобы еда была не слишком жирной, а то повара свинью зарежут и пустят ее всю на приготовление, а личный состав потом наестся и дрищет от такой жирной еды. Однажды сам видел, как командир бригады кричал на повара и грозился его расстрелять за то, что он жирной пищей довел личный состав до расстройства желудка: “Что ты мне тут наделал? Ты вывел из строя целый батальон!” Смотришь, кто-нибудь из танкистов только сядет в машину, как тут же оттуда пулей выскакивает и бежит под куст, на ходу штаны снимая. Хорошо, что не в бою в это время находились!
- Курево получали?
- Я не курил, я сахар получал у старшины вместо курева. И законные сто грамм тоже не получал, потому что не пил спиртное, был к нему равнодушен. Я говорил командиру: “Кто хочет, пусть и заберет мою долю”. Первый раз я алкоголь попробовал лишь после войны, когда министром обороны назначили, кажется, Булганина. Он разрешил в армии выдать всем по сто грамм. Ребята выпили за его здоровье, ну и я вместе с ними. Помню, опьянел сильно с непривычки. Как-то однажды наши ребята из полка захватили бочку трофейного спирта, напились его, да поотравились и отправились домой инвалидами. На одной из станций я видел брошенную немцами цистерну спирта, которую окружили наши солдаты. Смотришь: солдат сам усталый после боя, но лезет туда, тянет руку с кружкой, чтобы этого спирта набрать и выпить. А выпил без закуски и сразу упал. Готов! Ну какой из него боец? А тут же, как назло, бомбардировщики налетели…
- В вашем танке перевозилось что-нибудь из различных бытовых “трофеев”?
- Конечно. Когда нам сказали подготовить танки к форсированию Дуная, я пошел прогуляться недалеко от танка. Вокруг были разбитые витрины магазинов. Я прошелся немного, набрал себе там немного хлеба и колбасы, поскольку мне хотелось есть. Хлеб мне их не понравился, наш вкуснее. Еще зачем-то - не знаю зачем, ведь я не пью - прихватил бутылку шнапса. Увидев в одном из магазинов отрез материи, взял и его, потому что в танке подтекал нигрол и эти подтеки нужно было чем-то вытирать. Причем взял сразу большой тюк этой материи, рассчитывая, что остатки рулона постелю себе под голову, когда лягу спать. Пришел, перекусил и лег вздремнуть. Разбудил меня стук по броне - это командир роты пришел и стал орать: “Мать-перемать вашу! Вы что тут, спите что ли? Нам, мать-перемать, сейчас вперед в атаку идти надо будет, а вы, мать-перемать, дрыхнете!” Американцы своими бомбардировками разрушили мосты в верховьях Дуная близ города Линц, чтобы не дать нам через них перейти и двигаться дальше. И вот по ту сторону Дуная стоит аристократический городок Линц, чистенький такой, зеленый, а перед нами на этом берегу его промышленный пригород, который называется Упу. Прошли мы вдоль автострады Вена - Мюнхен и с ходу взяли этот Упу с его заводами, а чтобы форсировать Дунай, нам были нужны плавсредства. Я думаю, что мы в тот момент шли наперерез американским войскам, стараясь не дать им захватить больше территории западной части Германии, где была сосредоточена значительная часть промышленности.
Эти американцы - сволочи: мы проходим, значит, занимаем немецкие города и продолжаем движение вперед, а они эти города у нас в тылу начинают бомбить. А когда мы с ними встречались, он нам в лицо улыбались и говорили: “Мы русских любим!” Мы, по сравнению с американцами, казались и ростом поменьше - они все были высокие и стройные, и обмундирование у нас грязное было, хоть мы и подшили новые подворотнички. Но каждый из американцев старался потрогать наших солдат, восхищаясь и приговаривая при этом: “Какие вы сильные и смелые люди!”
- Доводилось вам возить на броне танковый десант?
- Приходилось. Это было в Будапеште. Но чтобы высадить этот десант, приходилось буквально на секунду приостанавливаться, потому что для них было высоко прыгать с нашей брони. Чаще всего после прыжка они не удерживались на ногах и падали, а некоторые, при ударе о землю во время прыжка на ходу, и вовсе ломали ноги. Десант, спешившись, продолжал двигаться позади танка, а когда уже подходили к линии обороны, тогда они выходили вперед и начинали действовать.

- Танковый десант был постоянно придан вашему полку?
- Нет, его нам назначали в период какого-нибудь прорыва. Перед наступлением нам приводили этих бойцов, мы с ними знакомились, они постоянно были рядом, даже обедали около нашего танка.
- Обед был совместным?
- Нет, мы, танкисты, с ними не обедали, потому что считали себя отдельной кастой.
- Самоходчики с вами вместе шли в атаку?
- Были у нас и самоходчики, но я с ними особо не дружил настолько, чтобы залезть к ним в самоходку. Бывали случаи, что самоходчики считали себя выше нас, танкистов, а бывало, что и наоборот - все зависело от того, как комиссар себя поставит. Наш комиссар был боевым мужиком, с настроем, умел расположить к себе бойцов и по душам поговорить с каждым из них, убедить, что именно они как танкисты решают все на поле боя. Поэтому мы себя безусловно считали выше самоходчиков.
- Как Вы считаете, политруки были нужными людьми на фронте?
- Это, батенька, очень нужные люди! Но для этого надо было их тщательно подбирать, чтобы он мог войти в душу каждому солдату, чтобы своим патриотическим настроем мог воодушевить любого из них. А если он вместо политработы ходит и ищет оставленную немцами бочку со спиртом, то грош цена такому политруку, не нужен он такой.
- Небоевые потери в батальоне случались?
- Не припомню таких случаев. Может в полку и были, но им не давали огласки.
- Командир полка у вас был боевым?
- Да, это был боевой командир, у него был свой танк.
- У него экипаж был полностью укомплектован?
- Кажется, полностью - точно не помню. Зато помню, что каждый из командиров полка имел при себе “секретаршу” или, как ее называли, ППЖ. Девчонок на передовую приходило очень мало, в основном связистки и телефонистки. Только бой прошел, смотришь, они уже все с медалями и орденами при штабе сидят, офицеров окручивают. Большинство из них были тоненькими, стройненькими, мы их называли “певичками”. Крепких грубых крестьянских девок, способных к тяжелой физической работе, готовых вместе со всеми в бой идти или среди горящих танков находить раненых и, рискуя собственной жизнью, взвалив их на себя, нести в тыл, было очень мало.
- Вы упомянули ранее про вашу медсестру. Расскажите, пожалуйста, о ней.
- Про тетю Маню? Нашего ротного санинструктора? Это она меня под Балатоном в медсанбат контуженного притащила, но я об этом уже позже узнал, когда очнулся. Она ко мне потом заходила проведать. Помню, пришла и говорит: “А где тут мой сынок? Танкист, маленький такой?” Ей отвечают: “Да вон, там, в углу лежит какой-то”. Подошла, посмотрела на меня: “Да, это он” Я ее увидел, спрашиваю: “Теть Мань, а где мой командир?” У нее сразу слезы на лице появились, и она ответила: “Эх, сгорел в танке твой красавец. Не успела я его вытащить. Кинулась я ему помочь, а он уже был неживой”. Было на тот момент тете Мане года тридцать два от роду, видно было, что жизнь она тяжелую прожила. В любой, самый страшный бой, она бросалась чтобы спасти раненых, ее за это все любили и уважали. Наш полк постоянно был в движении, и тетя Маня всегда ехала вместе с нами на одном из танков. Поскольку экипажи были не полными, места в танке для нее всегда находилось. Иногда она садилась за пулемет и очень удачно вела огонь по вражеской пехоте, но как только возникала необходимость, она быстро вылезала наружу и бежала к подбитому танку чтобы спасти экипаж и оказать необходимую помощь.
- С органами СМЕРШ Вам сталкиваться приходилось?
- Приходилось, но уже после войны. Мы были на тот момент в Венгрии, в городе Кёсег, что на самой границе с Австрией. После войны сразу демобилизовали тех, кто был рождения с тысяча восемьсот девяносто восьмого года по шестнадцатый. А в марте сорок седьмого года была большая демобилизация, под которую тоже попадали сразу годов десять: с шестнадцатого по двадцать четвертый включительно. Двадцать пятый год рождения оставили проходить дальнейшую службу. После того как основная масса народу уехала по домам, нас отправили на танковое учение, которое было очень тяжелым. И вот возвращаюсь я в свою роту после этого учения и сразу бросился пить, чтобы меньше есть хотелось. После окончания боевых действий кормить нас стали опять плохо, потому что мы уже не были боевыми частями, а считались “оккупационниками”. Из продуктов нам стали часто давать какую-то крупу “гаолян” темно-коричневого цвета. Ну вот, только я напился воды, как меня вызвал к себе уполномоченный ОКР “СМЕРШ”. На тот момент меня назначили на должность писаря продовольственной службы, потому что обнаружилось, что у меня был хороший почерк. Хоть по званию я уже был старшиной, а писарская должность предназначалась рядовому, но я был без ума рад этому, поскольку на этой должности не нужно было с кувалдой вокруг танка бегать и обтирать своим комбинезоном все углы внутри машины.
И вот прихожу я к уполномоченному, а тот дает мне задание, чтобы я следил среди писарей - кто о чем разговоры ведет, как они относятся к службе в армии и не появилось ли у них знакомых среди местных жителей. Ведь тогда страшно не разрешали вступать в какие-либо контакты с иностранками - австрийками и венгерками. А те были всегда и на все готовы, главное, чтобы советский солдат имел желание - давали при любых обстоятельствах. В Венгрии, знаю, даже закон тогда вышел - если она родила от русского ребенка, то получала такую пенсию, что ей даже работать не нужно было, а если родит двух, то будет полностью обеспечена на всю жизнь. Поэтому они и старались при любых обстоятельствах заполучить себе русского. Но нас закрыли в военных городках, окружили проволокой и заборами. Вот у тех же американцев, например, как только стукнет пять часов, так у них заканчивалась служба и они разбредались по кафе, находили себе девок и с ними на машинах разъезжали. А у нас машин не было, и мы в гарнизоне сидели безвылазно. Но австриячки все равно ходили у забора нашей части и кричали нам, как они нас любят: “Mein liebe Kamerad! Mein liebe Kamerad!”
Вот такое задание мне давал СМЕРШ. А что я мог ему ответить? У нас солдаты сидят в тепле, им есть что поесть, вот только баб, конечно, не хватало. Я писарей предупредил о том, что имел разговор со СМЕРШем: “Ребята, будьте аккуратней!” У нас в полку, если какой-то случай был, порочащий честь советского солдата, то виновного сразу же, в течении двенадцати часов, сажали в машину, та неслась на вокзал и виновник поездом Вена - Чоп отправлялся в Советский Союз. Но на границе, в Чопе, его сначала передавали таким же органам СМЕРШ, после беседы с которыми виновника отправляли в специальный лагерь у Самары, в котором собирали таких вот морально разложившихся солдат.
Австрию мы взяли почти без сильных боев. Там, на территории этого государства было очень много заводов и фабрик, выпускающих хороший ширпотреб и наше командование, перед тем как ввести на территорию войска, предупредило австрийцев: “Мы идем только лишь освобождать вас от фашистов, поэтому не прекращайте производства, работайте”. При этом такой метод использовался не только в Австрии, но и в Югославии, и в Венгрии. Те ребята, которые освобождали Болгарию, рассказывали мне потом, что и там тоже были предупреждения от нашего командования.
- Расскажите про тот бой, где ваш танк подбили и погиб командир.
- Ой, это сильные бои были! Про озеро Балатон слышали? Так вот там рядом есть город Секешфехервар, за который мы бились и который переходил из рук в руки четыре раза. Как только мы выбивали оттуда немцев, то располагали в нем госпиталь. Немцы занимали город вновь и наших раненых из госпиталя этого просто выбрасывали и размещали в этом здании своих раненых. Но мы, снова заняв город, немецких раненых не трогали. Понимаете, насколько человеческое отношение было у нас к врагу? Поэтому народы в разных странах и принимали нас очень неплохо, единственное чего они боялись - это коммунизма. Их так напугали этим коммунизмом и колхозами, столько страстей им наговорили, что они ждали этого со страхом. Русских уважали больше, чем американцев, но американцы, гады, брали своим богатством. И вот в район озера Балатон Гитлер бросил два танковых корпуса, которые такой шмон устроили нашему 3-му Украинскому фронту под командованием Толбухина, что помочь смогли только танкисты 2-го Украинского фронта Малиновского. Они к тому времени смогли взять с тяжелыми боями город Братиславу в Словакии и ударили в тыл немецкой 6-й армии. Немцы нас тогда просто засыпали листовками со словами, которые якобы сказал Гитлер: “Жукова в Берлин пущу, но Толбухина в Дунае утоплю”. Мы не могли оказывать немцам серьезного сопротивления и их напор был настолько сильным, что нам уже оставалось буквально полтора километра до берега Дуная.
Наш 3-й Украинский фронт был слабо вооружен, не так как 1-й Белорусский или 2-й Белорусский, которые действовали на других направлениях. На нашем участке обороны было очень мало танков и артиллерии, поэтому нам пришлось зарыть часть своих танков в землю, сделав из них артиллерийские огневые точки, создав участок обороны. У закопанных танков была возможность сделать пристрелку на месте и это увеличивало точность попадания снарядов при ближнем бое. Но под натиском немецких танков их пришлось бросить, отступая. Танки были так основательно врыты в землю, что в срочном порядке их невозможно было откопать, чтобы увести в тыл. От командования нам пришел приказ отступать, но заградотряд позади нас скомандовал: “Ни в коем случае не отступать - стрелять будем!” Толбухин опять командует: “Приказываю отступать, чтобы потом наступать”. Пришлось заградотряду вместе с нами отступить, поскольку на нас шла такая армада,что эти танки нас могли просто смять. Видимо, среди немецких танкистов были, в основном, молодые и они, видя свои успехи, давили нас без остановки. Но в этом головокружении от успеха, они забыли о том, что фланги и тылы нужно прикрывать. И вот в эти-то слабые места и ударили танкисты 2-го Украинского. Мы увидели, как стали факелами гореть немецкие танки, как атака немецкая сначала прекратилась, а потом их танки и вовсе начали отступать.
И вот нас снова бросили в бой. Из-за дыма и гари было трудно различить даже направление движения, не говоря уже о целях. Впереди какая-то мгла и в этой мгле идешь практически наощупь. И вдруг как даст он нам в броню кумулятивным снарядом! Этот снаряд пробил зад у машины, захватив всю трансмиссию. Машина сразу же остановилась, тут же воспламенилось горючее, от которого стали рваться снаряды. От сильного удара снаряда я был контужен, у меня сильно закружилась голова и я еле успел открыть люк механика. Попытался вылезти через него, но только наполовину вылез, как потерял сознание. Все, готов! Я даже уже не помню, слышал ли я, как взорвался мой танк. О дальнейшем развитии этого боя, как он завершился, я уже не знаю - очнулся уже в медсанбате.
- Вас там быстро поставили на ноги?
- Быстро. Две недели пробыл там и возвратился в часть. В санбате были такие тренеры, что утром поднимали нас и весь день занимались с нами физзарядкой. На этих физзарядках нас ломали и крутили, выясняя, где что болит. Только и слышно было, как все кричат и стонут от этих упражнений: один кричит: “Ох, не могу! Моя нога!”, а другой просто орет от боли. Вот такая вот была лечебная физкультура.
- После госпиталя Вы вернулись обратно в свою часть?
- Да, я ее догнал. Я обратился в штаб первой попавшейся части 3-го Украинского фронта и спросил, могу ли я узнать, где сейчас моя часть. Там поинтересовались номером моего подразделения. Отвечаю: “Шестая танковая армия, пятый танковый корпус, двадцать первый полк” - “Можно. Сейчас узнаем”. Спустя некоторое время отвечают: “Твоя армия уже у Австрии”. И вот я на грузовиках, которые подвозили снаряды на передовую, добирался до своей части.
- Водители подбирали Вас?
- А как же! Это же прифронтовая зона, там друг другу доверяли. Да и ехал я в сторону передовой, а не обратно.
Свой батальон я застал в городе Шопрон, когда он наступал в направлении австрийского города Винер-Нойштадт. Все очень рады были встрече! Мне тут же указали на мой новый танк: “Давай, вон тот, 532-й, принимай. Там нет механика-водителя”.
- А какой номер был у Вашего первого танка?
- Первый имел номер двести семьдесят три.
- Как Вы узнали о Победе?
- Это было седьмого мая. Дошли мы до Вены и нам дали команду задраить все машины, чтобы не попасть под бомбежку, хорошо их замаскировать и подготовиться к форсированию Дуная. Мы ждали приказа чтобы идти на Мюнхен. Нам приказали быть готовыми к атаке: “Сейчас плавсредства быстро подойдут, мы погрузимся на них и пойдем”. Приготовились мы, стоим, ожидаем приказа. Стоим час, второй, третий. Так за это время мой командир умудрился где-то найти бутылку, помню в плетеной оплетке она была, и постоянно к ней прикладывался. Так простояли весь день - приказа нет. Наступила ночь. Мы к командиру роты: “В чем дело? Почему не наступаем?”, а тот и сам ничего не знает: “Обождите, ребята, тут что-то непонятное идет”. Нас его ответ озадачил, потому что перед боем никогда такого не говорили. А потом, восьмого утром, пришел командир и просто сказал нам: “Все, конец войне”. И Дунай мы уже форсировать не стали, остались стоять на берегу. Радости нашей не было предела! Все стреляли изо всего, чего только могли!
- В честь такого события для вас устраивали праздничный обед?
- Нет, я не помню, чтобы такое имело место. Мы на берегу простояли сутки, а потом нам пришел приказ срочно возвращаться в Будапешт. Мы стояли недалеко от Вены и до Будапешта нужно было пройти двести восемьдесят километров. Идти было трудно: машина тяжелая и по асфальтированной дороге, если пережмешь фрикцион, ее начинало здорово крутить на месте. Многие машины из-за этого уходили в кювет. Перед самым началом марша, к каждому экипажу подходили комиссары и командиры и говорили: “Ребята, не пить! Давайте воздержимся! Путь тяжелый, поэтому не пить!” И вот так мы дошли сначала от берега Дуная до Вены, а там направились в сторону Будапешта. Представляете себе картину - по дороге идет целая танковая армия! Пятьсот машин! Ни конца, ни края этой танковой колонне не видать. Машины все только что вышедшие из боев, потрепанные, но живые. Дошли до Будапешта и нам определили место концентрации для ночлега на окраине этого города. А май, погода теплая! И вот тут нам сказали: “Ребята, можете понемногу выпить, но только осторожно, потому что завтра будет тяжелый день”.
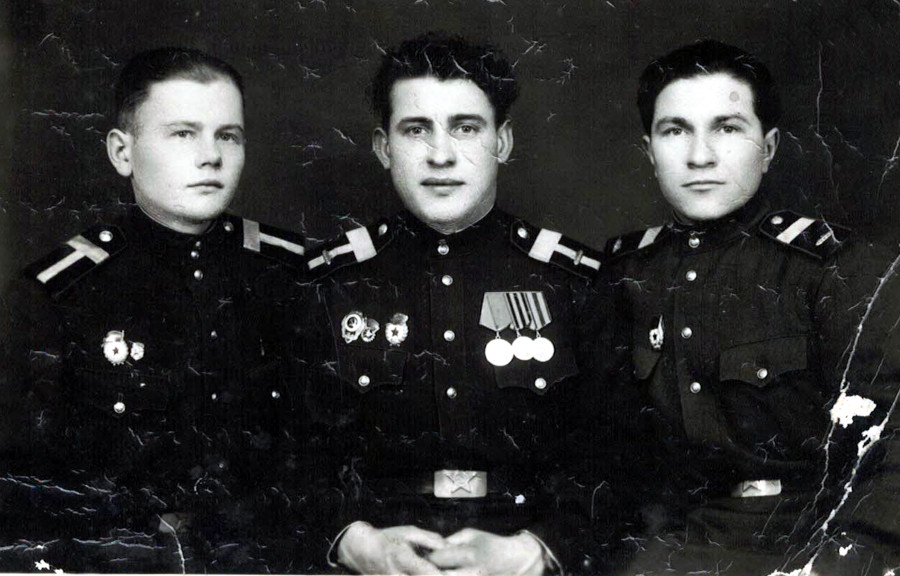
Утром проснулись, построились. Командование приказало: “Двадцать пятый и двадцать шестой года, выйти из строя!” Вышли. Из всего полка нас, молодых, человек семь всего лишь оказалось, а остальные были ребята постарше и мужики пожилые. Нам говорят: “Попрощайтесь со своими товарищами!” Эх, нам сразу стало не по себе: “Как так “попрощаться”? А вы куда?” - “Мы грузимся на платформы и уезжаем отсюда”. Мужики, которые постарше возрастом, радовались: “Значит, мы уже домой отправляемся! Это мы и баб своих скоро увидим!” А мы смотрим на их радость, а у самих слезы на глазах: “Вы едете на Родину, ну почему же мы-то на чужбине остаемся?” Мы, прощаясь со своими боевыми друзьями, со слезами на глазах обнимались и завидовали им. Но тогда еще никто не знал, что нашу армию под Будапештом погрузят на эшелон и отправят на Дальний Восток воевать с японцами. Мы думали, что их просто разместят где-нибудь в Советском Союзе, а потом месяца через два прислал кто-то из наших однополчан своему товарищу письмо: “ Мы сейчас находимся недалеко от озера Байкал и собираемся своим ходом идти на Монголию”.
Ну а мы остались служить в демаркационных войсках, где в то время создавалась Центральная группа войск под командованием генерала армии Курасова, вежливого и интеллигентного офицера. Тогда было еще три группы: Северная, охватывающая Польшу и Прибалтику, под командованием Рокоссовского, Южная группа, которой командовал наш Толбухин, ну и Центральные оккупационные войска, которыми командовал Жуков. В задачу наших демаркационных войск входила охрана границ территории, на которой размещались советские войска. Для этого был назначены 17-я гвардейская механизированная Енакиево-Дунайская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия и 58-й гвардейский танковый полк. В составе этих подразделений мне и довелось прослужить до января 1952-го года, когда меня демобилизовали.

- Чем занимались демаркационные войска?
- Я к тому времени уже ушел в интендантскую службу, а остальных распределили по зонам, и они там несли службу: ходили в дозоры, сидели в заслонах, патрулировали по дорогам. Там, где с запада в нашу зону входила железная дорога или автострада, там уже патрулирование было совместно с союзниками. Вена и территория западнее нее на сто двадцать три километра тоже входила в нашу зону ответственности, но наше командование, как и Берлин, тоже поделило столицу Австрии с союзниками, отдав им каждому под контроль некоторую часть города. Поэтому совместную комендатуру в Вене мы называли “Сердца четырех”. Эта комендатура располагалась где-то в центре Вены. Ее представители были одеты в хорошее обмундирование и передвигались по городу на новых “джипах”. Забавнее всего выглядели англичане, которые носили длинные белые чулки и юбки выше колена. На каждый сигнал представители совместной комендатуры вылетали незамедлительно, с сиреной, чтобы им все уступали дорогу. А кроме этого была еще и наша, советская комендатура. Но она действовала только в советской зоне ответственности, а “Сердца четырех” имели право работать во всех зонах. Мы, рядовые бойцы, к совместной комендатуре отношения не имели, там только офицеры были в числе представителей советских войск. Наша комендатура, к которой мы были приписаны, находилась тогда в двадцать втором районе Вены, а как сейчас называется это место я сказать не могу. Чаще всего мы несли службу на мостах, соединяющих нашу зону ответственности с американской, проверяя документы и вещи у тех, кто шел с западной части города. Состав нашего патруля состоял из трех - четырех солдат под командованием офицера, званием от лейтенанта до майора. Каждый раз нам придавалась пара местных австрийских полицейских в качестве переводчиков. Было заметно, американцы нас, русских, боялись. Как только мы при проверке поезда входили в купе, они тут же вскакивали по стойке “смирно”. А когда в Вене навстречу советскому офицеру шел американец, он обязательно шагов за пять переходил на строевой шаг и отдавал воинское приветствие.
Однажды проверяли мы купе проходящего поезда. Зашли, подергали дверь купе. Закрыто. Наш офицер деликатно постучал в дверь, но видимо тот американец, который ехал в купе, посчитал, что не стоит открывать русскому патрулю. Недолго думая, начальник патруля нам отдал приказ и мы тут же прикладами начали стучать по двери купе и снаружи по стеклу. От такого настойчивого требования те, кто находился в купе, сразу пришли в себя и открыли дверь. Зашли, начали проверять документы у американского офицера, который в этом купе ехал. Смотрим, рядом лежит женщина, почти голая. Мы ей: “Документ!”, а она в ответ показывает, что документов у нее не имеется. С теми, у кого не было при себе документов, мы не церемонились: “А ну, давай вставай!” И не имело значения, офицер это был или гражданский. Приказали этой женщине, чтобы она одевалась и собрались ее из вагона ссаживать. А она взяла какую-то бумажку, вставила ее между пальцами ноги и этой голой ногой подает ее нашему офицеру. Начальник патруля, лейтенант, говорит: “Ну-ка, дайте ей по ноге как следует, чтобы она знала, что с советскими солдатами нужно обращаться вежливо”. Врезали ей прикладом, она взвыла, а американец за нее даже не стал заступаться. Ну, в общем, обоих мы, и офицера, и эту местную женщину, из вагона высадили и отправили обратно в американскую зону ответственности за нарушение режима.
До сентября сорок шестого года между нами и союзниками была очень крепкая дружба: их солдаты, офицеры и генералы ездили в гости к нам, как к хорошим друзьям. А после сентября - дружбу как отрезало. Американцев сразу всех заменили - посадили на машины и увезли. При этом из наших никого не меняли, лишь изредка кого-нибудь из офицеров. На место убывших американцев прислали новых, которые, видимо, были уже обучены работе и с нами они дружить не стали. С сорок шестого до сорок девятого года между нами началась натуральная “холодная война”, когда наши танки сходились на нейтральной территории. У нас в Вене все было практически так же, как и в Берлине.
В американской армии служили и негры, и белые, которые друг друга терпеть не могли и дрались при любом удобном случае. Все советские сухопутные войска были закрыты в пределах своих комендатур, но на моряков Дунайской военной флотилии это, почему-то, не распространялось и им разрешалось свободно гулять по городу. Они периодически на катерах прибывали по реке к нам, снабжая Центральную группу войск обмундированием, продовольствием и прочими грузами. Так эти моряки часто тоже участвовали в драках американских солдат, занимая сторону негров. Ой, какие там были драки! Негры заранее знали, когда прибудут советские моряки, и встречали их в Вене у моста Маршала Малиновского. Хороший мост, красивый, но, говорят, что его сейчас переименовали. Как только моряки сходили с катеров, негры сразу к ним бросались, обнимались с ними, называли друзьями и вели в кафе, где гуляли янки. Наши заходили туда и тоже начинали гулять с бабами. Все наши им завидовали, ведь нам, сухопутным, категорически запрещалось иметь дело с женским полом: кого из офицеров замечали с женщиной, так через двенадцать часов его отправляли в Советский Союз как “морально неустойчивого”. Спустя некоторое время в кафе затевалась драка, к которой наши моряки с удовольствием подключались. Спустя некоторое время получалось так, что лупили этих янки только наши моряки, а негры, стоя на выходе, принимали их и за шиворот вышвыривали из кафе на улицу. Как только драка разгоралась во всю силу, тут же поступал сигнал на “Сердца четырех” и те с сиреной во всю прыть летели разнимать дерущихся американских солдат и наших моряков. Тех, кого успевали задержать, обязательно забирали в комендатуру, там некоторое время держали их, вроде как на гауптвахте, а потом всех отпускали.
Во время службы в армии я закончил две партийные школы: сначала первый раз отучился в дивизионной партшколе, а потом меня еще раз отправили учиться, потому что служил я долго - восемь лет. Я пытался возразить, говоря, что уже заканчивал такую школы, но мне ответили: “Ничего, повторишь пройденное еще разок!”
- Как происходило форсирование танками водных преград?
- Ох, это было серьезное дело! Во-первых, шла первоначальная подготовка, когда на противоположный берег высаживалась пехота и закреплялась там. Без этого танки переправлять не имело смысла, враг мог просто сбросить нас обратно в реку. Затем к месту переправы подвозили понтоны. Тяжелая работа у саперов была, да. А потом начинался второй этап, когда наша артиллерия начинала артподготовку, обстреливая вражеские позиции так, чтобы у него не было возможности препятствовать возведению понтонного моста, по которому планировалось повести танки, ну и самой переправе. Артиллерия нас очень хорошо спасала! Переправы всегда проводились быстро и четко. Мне приходилось возле Будапешта и в Югославии форсировать водные преграды по таким понтонным наплавным мостам. А в других местах переправлялись на отдельных понтонах или мощных плотах. Плоты хоть и были крепкими, но, когда на них заходила многотонная машина, погружались в воду почти на полметра. Иногда бывало, что вода доходила почти до трансмиссии. Так и шел плот с танком, торчащим из воды. Переправа - дело, конечно, опасное.
- Мехвод в это время где находился?
- Весь экипаж находился внутри танка. потому что как только плот подходил к берегу, необходимо было дать самый максимальный газ, чтобы выскочить на сушу. От этого машина чуть ли не становилась на дыбы и это позволяло выбраться на любой тип берега.
- Понтоны для переправы привозились. А плоты тоже доставлялись откуда-то?
- Если имелись материалы, плоты изготавливались непосредственно на месте сосредоточения техники, поближе к переправе. Основным материалом для плотов была, конечно, древесина. Из досок сколачивались решетчатые площадки, на которые и заезжала техника. Иногда использовались в качестве поплавков и бочки, но таких случаев было мало, в основном когда нужно было по-быстрому переправиться. Вот в Югославии, когда мы форсировали реку, там как раз использовались бочки для сооружения плотов. А вот под Будапештом шла основательная подготовка к форсированию быстрого и мутного Дуная, поэтому подтянули не только танки, но и артиллерию. Было уже заметно, что в армии был наведен порядок во взаимодействии родов войск, а то раньше было сплошное безобразие в этом вопросе. И когда формировались новые боевые подразделения, их костяк составляли уже грамотные люди, с образованием не ниже семи классов.
- Приходилось участвовать в форсировании рек в городской черте?
- Нет, не приходилось. В городах обычно по мостам проходили. Но городских боев у нас было мало, потому что в городе очень велики потери материальной части. Фаустпатронщики сидели в подвалах и били в бок нашим танкам, сжигая их. Поэтому, когда, например, брали Яссы, нас в город не пустили, а Вену мы вообще стороной обошли.
- На броню танков вешалась какая-нибудь дополнительная защита от фаустпатронов?
- Нет, на моем танке никакой дополнительной защиты не было. У нас на корпусе были только бревна закреплены, но это же не защита, это всего лишь вспомогательные приспособления, чтобы, при необходимости, танку из грязи самостоятельно можно было выбраться.
- Перед переправой технику концентрировали у места или, наоборот, рассредотачивали?
- Обязательно нужно было рассредоточить всю технику, потому что враг до последнего был сильным и, обнаружив место готовящейся переправы, мог дать ответную артподготовку или направить авиацию. Поэтому, при любой возможности, танки разводили на значительное расстояние друг от друга.
- В комсомол Вы вступили еще до войны?
- Нет, уже в армии. Я скажу, что до войны у нас в селе комсомольское движение было не очень развито. Крестьянство против него было настроено реакционно в связи с тем, что комсомольцы активное участие в своё время принимали в коллективизации и организации колхозов. И это негативное отношение сохранилось даже в предвоенные годы. В комсомол я вступил, когда мы уже перешли границу СССР и шли на запад. В перерывах между боями в подразделениях обязательно проводились учебные занятия, причем, кроме огневой и технической подготовки, парторги и политруки обязательно занимались с нами и политической подготовкой. К партийным работникам подключались и комсомольские вожаки из подразделений постарше - роты, батальона. Вот комсомольцы нас, молодых, и организовывали, ведя с нами разъяснительные беседы и агитацию. В то время в войсках быть комсомольцем было уже престижным, и мы массово подавали заявления на вступление. Мне на тот момент шел восемнадцатый год. Комсомольский билет мне выдали там сразу же. Наш батальонный фотограф, после подачи нами заявлений на вступление в комсомольскую организацию, сразу же сделал нам маленькие фотографии и мы, спустя некоторое время, получили новенькие комсомольские билеты. Если у нас в деревне местные коммунисты представляли из себя жалкую кучку, то в армии им отводилось первостепенное значение, они были впереди всех и служили своими действиями примером для остальных. И мы все это чувствовали и хотели быть похожими на этих настоящих коммунистов. Поэтому, спустя некоторое время, я подал заявление на вступление кандидатом в партию. На то время боевые действия еще не закончились, хотя и шли к завершению. Но потом война закончилась и нас стали бросать туда-сюда, а по правилам было так, что если ты не набрал себе за год трех членов партии, имеющих партийный стаж не менее трех лет и которые готовы поручиться за тебя, то срок рассмотрения твоего заявления на вступление откладывался на некоторое время и при такой ситуации вступить в партию было намного сложнее. Поэтому весь кандидатский год стараешься набрать рекомендации от старших товарищей на вступление в партию.
- Из книг и фильмов нам знакома фраза: “Если я погибну, прошу считать меня коммунистом (комсомольцем)”. В реальности имели место такие случаи на фронте?
- Имели, подтверждаю это. И это точно не было выдумкой какого-то писателя или журналиста. Произносилось это если не слово в слово, то очень близко к тексту. Среди бойцов настолько был высок патриотический подъем, что некоторые ребята, не успев подать заявления на вступления, обращались с такими просьбами к политруку и командиру. Сам слышал, как некоторые наши ребята перед боем говорили: “Умираю за Родину, за партию!”
- Вам довелось побывать внутри немецких танков?
- Был, но мало - всего пару раз залезал внутрь, чтобы посмотреть. Это было уже после окончания боевых действий. Немецкие танки стояли брошенными, и я из любопытства в них заглядывал. Конечно, они были лучше нашей “тридцатьчетверки”: в них и подача снарядов была лучше организована и сама машина изнутри чище, хоть и сложнее оборудована. А вот сравнить немецкие машины с нашей по ходовым качествам у меня не было возможности, поскольку все эти немецкие танки были подбиты и не могли двигаться.
- Ваш экипаж имел на своем счету уничтоженные танки противника?
- Про танки не скажу, не помню, а вот машин немецких мы уничтожили своим огнем много. Еще на своем счету мы имели немецкие бронетранспортеры, которые мы подбили, когда шли от Балатона через Веспрем на Сомбатхей. Там мы случайно наткнулись на небольшую колонну отступающих немцев. Те, вместо того, чтобы сдаться или хотя бы поскорее удрать от нас, развернулись и приняли бой. На тот момент мы значительно превосходили их по силе и огневой мощи, поэтому расстреляли их всех.
- Среди Ваших однополчан были те, кто прошел войну с самого ее начала?
- Да, имелись такие. Это были, конечно, закаленные люди, которые служили для нас примером во всем.
- У вас в батальоне были Герои Советского Союза?
- Нет, в батальоне у нас Героев не было, а вот в бригаде были, человека два. Фамилии их я назвать не могу, поскольку на тот момент мы были молодыми и всем, что происходило вне батальона, попросту не интересовались. Я некоторое время даже не знал, в составе какой бригады я сражаюсь, поскольку не вылезал из танка и самым высоким начальником для меня был командир танка. Командир нашей бригады звания Героя точно не имел, а вот, кажется, один из командиров батальонов точно был Героем Советского Союза.
- На какое время происходила остановка танка для совершения выстрела?
- На самое кратчайшее, буквально секунды это занимало: остановка и сразу же выстрел. Командир у меня был асом, успевая и командовать, и стрелять.
- Как Вы относились к своей машине: просто как к технике или как к живому существу?
- Относился как к технике, откровенно говоря. Но даже при таком отношении видел, что техника имеет свою усталость и старался при первой же возможности за ней ухаживать. Иногда, после выхода из боев, позволял себе просто подойти к танку, похлопать его по броне и поблагодарить за то, что не подвел.
- В бригаде были именные или дарственные танки?
- Нет, таких не имелось. У нас на танках никаких надписей не было, были только номера и гвардейские знаки на башнях. Я видел, что некоторые экипажи, имеющие на своем счету подбитые танки, рисовали на стволах пушек звездочки. Это было своего рода рекламой, поскольку политруки в своих беседах приводили эти экипажи в пример и говорили, чтобы мы все на них равнялись.
- На поле боя во время сражения Вами проводился малый ремонт танка?
- Да, бывало, что в бою несешься и вдруг - раз! - внезапно остановился. Приходилось дожидаться, пока все танки уйдут вперед и ты окажешься если не во втором, то в третьем ряду атакующих. И только тогда осторожно можно было выбраться через люк наружу. Если попытаться сделать это раньше, то можно было попасть под вражескую пулю. Вылезешь из танка, осмотришься, проверишь как “ленивцы” работают и, по возможности, приступаешь к ремонту. Все остальные танки пошли вперед, а ты или тормоза перетягиваешь или палец в траки кувалдой забиваешь. Первый мой командир всегда мне в этом помогал, поскольку я был маленьким и щупленьким, а вот второй предпочитал отсиживаться внутри танка. Мой первый командир всегда следил за тем, чтобы у меня были хорошо отрегулированы тормоза. А еще нам поставлялись очень плохие пальцы для траков, поэтому, как только остановка, так сразу проверять, какие пальцы уже стерты или лопнули и сразу же их стараешься заменить новыми. От боевого напряжения и постоянного размахивания кувалдой усталость у нас была очень большой - не по возрасту мне эта машина была.
- “Ленивец” часто сбивали в бою?
- В него часто попадали, и если не сбивали, то повреждали обязательно. Бывало, едешь и чувствуешь, что “ленивец” уже слегка “закосил”. Он же как ведущий и направляющий у танка, поэтому сразу чувствовалось, когда у него центровка сбита. И если где-то на остановке к нам подъезжала ремонтная бригада, то она в первую очередь проверяла именно его, а затем только залезали в двигатель. Ребята-ремонтники были очень активными, работали очень быстро, возвращая технику в строй.
- Соблюдая субординацию в экипаже, как обращались к своему командиру?
- По званию. Они у меня были один старший сержант, а другой старшина. А ротный наш был лейтенантом. Тогда офицеров в экипажах было очень мало, в основном сержанты и старшины командовали танками. У нас в бригаде личного состава категорически не хватало, убыль людей в боях была большой, поэтому под конец войны от командиров требовали беречь личный состав.
- Когда пополнялся боекомплект в танке? Только после выхода из боя?
- Конечно. Как правило, в горячке боя все снаряды не расходовались, а лишь процентов семьдесят от того боекомплекта, что мы загрузили в танк перед боем. А если кто-то в бою все-таки расстрелял все свои снаряды, то такой экипаж сразу останавливал свой танк, сообщал об этом по рации и к нему сразу же неслись машины снабжения и быстро пополняли им боекомплект. При этом им нужно было успеть не только загрузить снаряды, но и предварительно оттереть их от смазки. Экипаж танка в это время находился на своих местах и в загрузке боекомплекта не участвовал. Даже после выхода из боя, когда пополнялся запас снарядов, экипажи к этому не привлекали, давая нам отдохнуть. После длительных переходов, да еще с боями, мы настолько уставали, что выйдешь из машины и скорее ищешь место, куда бы упасть и хоть немного полежать отдохнуть. Но, отдыхая, мы все равно контролировали и загрузку снарядов, и заправку танка топливом. Поскольку те, кто все это делал, считались тыловыми частями, мой командир, бывало, в гневе позволял себе, подгоняя, на них покрикивать с матерком, обзывая их “тыловыми крысами”.
- Идя в бой, сколько брали с собой топлива?
- Сколько загрузят. Перед подготовкой к наступлению к нам подъезжали заправщики и перекачивали из стоящих в кузове бочек топливо в наши баки. Заправлялся как правило основной внутренний бак, а в те, дополнительные, что располагались сверху на броне, топливо редко заливалось, поскольку эти баки часто в бою пробивались пулями и осколками. Бахнет немец болванкой, она пробьет этот бак и все топливо уйдет из него. А вот если предстоял какой-то марш, то тогда дополнительные баки заправлялись обязательно.
- Если не было поблизости заправщика, была возможность заправить танк трофейным топливом?
- Я такого не делал ни разу, поэтому не знаю, возможно ли такое. Помню, в пригороде Будапешта командир отправлял меня набрать немецкого нигрола, а вот куда и для чего мы его использовали - я уже не помню. Иду с ведром, а мне пехота кричит: “Эй, танкист, подойди! У тебя сапоги - давай, помоги нам!” Оказывается, они обнаружили винный склад и не могут туда войти. Там стояли бочки, которые были прострелены или разбиты и вино из некоторых было разлито по полу настолько, что пехота в своих ботинках с обмотками не могли пройти, не набрав внутрь этого вина. А на мне были кирзовые сапоги, поэтому для меня ходить посреди огромной винной лужи не составляло труда. Вино уже поднялось до уровня порога и потихоньку стало просачиваться на землю. Пехота с краю пыталась зачерпывать вино различной посудой и делала это так усердно, что цепляла землю и взбаламутила там всю жидкость. Отказать пехотинцам я не мог, это было опасно: они настолько жаждали алкоголя, что мой отказ мог ими быть воспринят агрессивно и даже с применением оружия.
Взял я у них посуду и вошел внутрь. Стал набирать полные котелки и отдавать их пехоте. Они мне говорят: “Ты подальше чуть пройди, а то здесь, у двери, слишком оно мутное”. Я бы и рад пройти поглубже, но освещения на складе не было и внутри было темно и ощущалась сильная концентрация винных паров. Но мне, мальчишке, стало интересно, да и самому захотелось набрать для себя вина, раз уж подвернулся такой случай, и, после того как я набрал всем вина, я решил пройти чуть-чуть вглубь этого склада. Но у меня не оказалось при себе никакой тары, кроме ведра для нигрола, да и то я оставил у входа. К тому времени те пехотинцы, что толпились у двери куда-то подевались: то ли ушли, то ли их комиссары разогнали. Комиссары за пьянкой следили строго: выпьет боец, а потом спать ложится, вместо того, чтобы в бой идти. Пехоты мало было, она везде требовалась, ее везде не хватало, вот и не давали командиры ей расслабиться. Бреду по вину к выходу и вдруг обо что-то спотыкаюсь. Смотрю - а это тело. Приподнял его слегка и увидел белые узкие погоны, которые были у “технарей”. Присмотрелся к его званию, оказалось это старший техник-лейтенант. Видимо, напился там у бочки и утонул в разлившемся вине. А бочки в этом складе были огромными, старыми, установленные одна на другую. На торце одной из них я смог прочесть надпись: “1921 год”. Тару для вина я так и не нашел. Но в это время подошел один пехотинец и попросил зачерпнуть и ему. Я отвечаю: “А ты мне тоже какую-нибудь посуду дай”. Он отвечает: “Да у меня ничего и нет подходящего”, я ему показываю: “Вон, лежит немецкий офицер убитый, возьми его каску”. Там, у склада, несколько неубранных немецких трупов лежало, каску одного из них и пришлось использовать как емкость для вина. Возвратился к себе, неся ведро с нигролом и каску с вином. Старшина увидел и спрашивает меня: “А ты сам пил это вино?”, я ему отвечаю: “Никак нет, товарищ старшина!” Он, со словами: “Смотри мне!”, взял каску и вылил все вино на землю. Я же молодой был, вот он и заботился обо мне, чтобы я не пристрастился к алкоголю.
- В бригаде пили много?
- Нет, мы же в боях были постоянно. А вот на остановках старшие ребята - сержанты, командиры машин и просто те, кто постарше возрастом - конечно, пили. Конечно, они алкоголь где-то тайком добывали и прятали его хорошо, потому что у нас с этим строго было.
- Тело техника-лейтенанта вытащили из склада?
- Нет, я только споткнулся о него и ушел, никому ничего не сказав. Я просто не знал, кому сообщить о находке, он был не из нашей бригады - тело плавало там давно, а наша часть только подъехала. Я видел, что этот склад потом проверяли, но каков был результат не знаю.
- Как и во что одевались танкисты?
- Как и все, в гимнастерки одеты были. Ну, еще у нас комбинезоны были, мы их поверх гимнастерки носили. Комбезы нам настолько долго не меняли, что те уже были просто пропитаны маслом. В танке не бывает никогда комфортно: летом жарко, а зимой холодно, поэтому ранней весной и поздней осенью, когда становилось холодно, мы под комбинезон одевали теплые курточки-безрукавки. Иногда поверх новых комбинезонов надевали кожаные куртки, которые раньше выдавались танковым экипажам, или что-нибудь из трофейной немецкой одежды.
- Комбинезон ремнем подпоясывался?
- Да, поверх комбинезона я ремень надевал, на нем кобура с пистолетом висела, им и планшетку прижимал к телу. Нам, мехводам, под конец войны стали планшетки выдавать, мы там карты хранили: у командира своя, а у меня своя, чтобы знал, куда ехать. Кстати, свою планшетку я до сих пор сохранил, надо ее в музей сдать.
- Зимой использовали рукавицы во время управления танком?
- Нашими рукавицами управлять танком было очень неудобно, они были слишком толстыми, а если снимешь их, то руки быстро мерзли, поэтому мы старались найти трофейные трехпалые перчатки, в которых было гораздо удобнее.
- Как организовывали свой досуг после выхода из боев? Чем занимались?
- С нами обязательно проводили какие-нибудь занятия политруки, причем воспитательные занятия преобладали над остальными. Иногда организовывалась самодеятельность: собирали тех, кто мог петь или танцевать и давали концерты для своих однополчан. Я умел петь немного и об этом узнали наши старики-танкисты. Они стали просить, чтобы я исполнил для них какую-нибудь песню: “Сынок, а ну-ка спой. Только давай что-нибудь такое, про любовь”. Помню, весна уже была, апрель месяц, тепло, они легли на пригорочке и слушают, а я им начал петь: “За грибами в лес девчата гурьбою собрались. Как зашли они в лесок, так и разбрелись.” Они радостно загомонили: “Вот, вот, сынок! Про любовь давай!”
Приезжали к нам с концертами и настоящие артисты, я смотрел их выступления, правда, тогда я еще никого из них не знал. Помню, у нас слух разнесся: “Русланова приехала, выступать будет”. Ну, пошел я, послушал концерт, но кто такая Русланова - я тогда и не знал.
- Были у танкистов какие-нибудь ритуалы, суеверия, приметы?
- Кто его знает. Может у тех, кто постарше, и были, потому что у некоторых я видел православные письма “Живые помощи”, которые они хранили среди своих документов. Один говорил, что ему это мать написала, когда он на фронт уходил. Мне мама тоже что-то похожее зашила в мой сидор, но у меня его отобрали, когда переодевали в красноармейскую форму. Наши деревенские ребята признавались, что матери каждому из них зашили такое же либо в рюкзак, либо в одежду. Разумеется, все эти религиозные штуки на фронте были не очень популярны и комиссарами совсем не приветствовались: если заметят у бойца что-нибудь подобное, то один отвернется и сделает вид будто не заметил, а другой прикажет, чтобы выбросил к черту.
- Перед атакой наверняка наступало душевное волнение. Как Вы себя сдерживали?
- Перед боем себе место просто не находишь: хочется куда-то спрятаться, сесть посидеть или просто прислониться к чему-либо. Поэтому этот мандраж старались погасить любыми способами. Когда садишься на свое место в машине, это волнение достигает своего высшего предела, но стоит только вступить в бой, как ты уже совершенно меняешься, потому что страху там не место.
- Какое отношение было у Вас к старшим офицерам?
- Отличное отношение было! Командир, начиная от командира танка и выше, для меня всегда был царь и бог! И дисциплина у нас всегда была на высшем уровне, мы делали все, что нам приказывало командование. У нас были офицеры, которые ходили с палкой, колотили ею по броне танка, но это были, как правило, те, кто имел серьезные ранения и палка им помогала передвигаться. Эти командиры после выздоровления не пожелали уходить служить в какие-то тыловые команды, а вернулись к себе в экипажи, потому что были настоящими танкистами. Но не все командиры были идеальными, чего уж тут скрывать, но вот чтобы кто-то избивал своих подчиненных - такого я не видел.
- С генералами приходилось встречаться?
- На переправе через Дунай видел однажды, когда нам нужно было срочно переправиться на противоположный берег, а оттуда потоком шли раненые и мешали этому. Вот там, на берегу я видел Толбухина - он был одет в танковый комбинезон, а на голове у него была генеральская фуражка. В таком столпотворении, что там образовалось, никто не мог руководить, стоял сплошной мат: один кричит: “Твою бога мать, мне надо людей вывезти!”, а другой ему в ответ: “А мне в бой нужно! Мне задача поставлена, я ее должен выполнить!” В этой ситуации только генерал был способен навести порядок, поэтому ему пришлось взять руководство переправой в свои руки.
- Какие ощущения испытывает экипаж танка, когда в корпус ударяет болванка снаряда?
- Когда болванка сильно бьет, херовые ощущения он испытывает, я скажу. Даже затянутый в шлемофон, я всегда чувствовал эти неприятные ощущения от удара. И таких ударов по танку за бой не один и не два!
- На каком расстоянии друг от друга шли танки во время атаки?
- Где-то метров восемь или семь, а где-то и пятнадцать метров. Каждый раз по-разному: все зависело от поля боя, от его насыщенности техникой и людьми. Но чтобы шли один рядом с другим, такого не было, ведь это же очень хорошая мишень.
- Случаи трусости экипажей в бою имели место?
- Были такие хитрые ребята. Они обязательно старались идти в третьей очереди, прикрываясь своими товарищами. Их, конечно, замечали и после боя устраивали разбирательства, не стесняясь в выражениях. Чтобы морду им били, такого не видел, но мат-перемат при этом стоял страшный.
- Кто-нибудь сознательно выводил машину из строя, чтобы не идти в бой?
- Тоже были. Такие хитрецы были, есть и еще долго будут. У нас такими были в основном москвичи и ленинградцы, которые по сравнению с нами имели образование получше. Получалось, что они могли догадаться и схитрить, а мы, деревенские ребята, выполняли приказ и всегда шли в бой. Только хорошая воспитательная подготовка помогала справиться с такими хитрецами и то пока они молодые.
- Женские экипажи в бригаде были?
- Нет, не было.
- Рейды по тылам совершали?
- Нет, когда я пришел в часть, мы уже всегда в наступлении были.
- Давайте затронем трофейную тему. От продовольствия и выпивки до оружия.
- Нам политруки надоедали до предела своими речами: “Все зараженное, ничего брать нельзя”. А как только заходишь в населенный пункт, там в подвалах столько всего консервированного находили! Но только и слышно было: “Ни в коем случае! Ни в коем случае!” Да мы и сами не брали местное продовольствие, потому что нас кормили неплохо: как передовые части мы снабжались по первой категории. В сухом пайке нам давали американскую консервированную колбасу (она в банке уже была порезанная на кусочки), по сто грамм сала, хлеб и чай с сахаром. Когда стали уже идти по Венгрии и Югославии, нам часто встречались погреба, сделанные прямо рядом с виноградниками, в которых держали вино. Так комиссары строго следили, чтобы никто эти погреба не грабил и вообще вино не пил.
А что касается трофейного оружия, так у меня был пистолет марки “Маршаль”, никелированный, дамский с семью патронами. Я его в одном из домов пригорода Вены нашел. Он маленький был, в руке удобно лежал. Нас с демобилизацией задержали почти на год, мы ждали, пока прибыло новое пополнение и должны были сначала обучить его. А потом тех, кто подлежал демобилизации, под сопровождением офицеров, доставляли до границы с СССР, где пограничниками устраивался досмотр. И вот я, пока ехали к границе, все сомневался - оставить мне этот пистолетик или избавиться от него. Уж больно он мне нравился! И когда проезжали по мосту через Тису, я достал этот пистолет и выбросил его в реку.
Еще расскажу случай. Мы вместе с пехотой выбивали в Вене из домов фаустпатронщиков, потому что они жгли наши танки на узких участках улицы. Я зашел в одну из комнат, а там красивое все такое, диван из красной кожи стоит. Меня, крестьянского парня, это заинтересовало, сразу захотелось сесть на него, попробовать на мягкость. Но бдительности при этом не терял, смотрел, чтобы никто из немцев в комнату не ворвался, и автомат наготове держал. На письменном столе рядом с диваном стояла какая-то фигурка красивой бабёнки. Решил я эту фигурку прихватить с собой, поскольку она не была тяжелой. Но сорвать ее с подставки мне удалось, она была хорошо прикреплена и под рукой не оказалось ничего, что бы мне могло в этом помочь. Незадолго перед этим наш комиссар нас напутствовал, чтобы мы не нажимали никаких кнопок, никаких банок не открывали, потому что все может быть заминированным. На этой подставке была какая-то кнопка и я ее все-таки нажал, а сам при этом бросился за дверь, хотя прекрасно понимал, что если бы раздался взрыв, то я от него укрыться не успел. Спрятался за дверью, замер, и слышу, что где-то заиграла музыка. Оказалась, что играет она из вот этой самой подставки, на которой стоит бабёнка. Я вернулся, смотрю, у этой подставки палка лежит. Черт его знает, что это за палка такая! Там, на этаже стрельба идет, а меня тут любопытство разбирает: “Дай-ка, еще раз нажму на кнопку”. Нажал. Из подставки еще одна такая палка вывалилась. Но палкой я не стал интересоваться, я загорелся эту бабёнку оторвать, уж очень она красивая была и мне понравилась. Это потом уже я узнал, что, оказывается, эти палки можно было курить - сигарами они назывались.
Вдруг в комнату забегает пехотный капитан, у которого все лицо было утыкано крупинками несгоревшего пороха. Я сразу сориентировался и крикнул ему: “Свой!”, чтобы тот в горячке не открыл по мне огня. Он увидел меня и сразу с вопросом: “Ты что делаешь?”, я отвечаю: “Да вот, хотел себе фигурку забрать”. Он посмотрел на нее и сказал: “Давай я ее себе заберу, а тебе взамен дам вот - счетную машинку. Скоро война окончится, станешь бухгалтером, и она тебе пригодится”. Не хотелось мне отдавать эту бабёнку, но сопротивляться было бессмысленно - передо мной был целый капитан. Он достал из своего вещмешка и отдал мне маленький немецкий арифмометр, как сейчас помню, марки “Брунсвига”. Он хоть и был маленьким, но весил почти как снаряд. В общем, я взял арифмометр, а капитан эту фигурку себе отломил и забрал. Позже, на пересыльном пункте, я увидел такую же фигурку у одного из наших солдат, узбека, он открывал свой вещмешок и любовался на нее, говоря всем, что она сделана из золота и веса в ней около килограмма. Уж где он ее взял, я не знаю. Попытался у хозяина узнать, но тот не стал со мной разговаривать, а только, пробурчав что-то, убрал эту фигурку поглубже в свой вещмешок. А арифмометр мне и впрямь хорошо помог в работе, когда меня пригласили писарем в продфуражную службу. Каждый офицер, которому я выписывал для командировки продовольственный аттестат, считал своим долгом покрутить его блестящую рукоятку. Ну и докрутились… Сломали его к чертям!
- В немецкие засады вы попадали?
- Нет, мы только в открытых столкновениях участвовали. А вот сами засады иногда устраивали. Помню, на дивизию “Гитлерюгенд” устраивали, когда они старались перейти из нашей восточной зоны в западную, чтобы там сдаться американцам.
- Немецкие колонны давить приходилось?
- Да, давили. Но чаще всего, как только мы настигали какую-нибудь колонну, те сразу нам сдавались в плен, не рискуя оказывать сопротивление целой танковому подразделению. Однажды неслись мы вперед и наткнулись на немецкий обоз. Смотрим, а там уже кто-то из нашей пехоты хозяйничает. Как они там оказались раньше нас - ума не приложу. Как-то раз едем по дороге, а нам навстречу идет большая толпа людей. Оказалось, что где-то впереди освободили лагерь с военнопленными и они все отправились к нам в тыл. Там были и русские и югославы и другие национальности. Все хоть и истощенные, но сразу бросились приветствовать нас, каждый на своем языке.
- Кого-нибудь из этих бывших узников забирали к себе в часть?
- Нет, я такого не помню.
- Ночные марши совершали?
- Да, и очень часто. Потому что именно ночью происходило передислоцирование и сосредоточение в определенном районе для участия в бою. Немецкая авиация жестко действовала до последних дней войны, поэтому ночью можно было перемещаться без угрозы налета “Мессершмиттов” и “Юнкерсов”. И если “Мессершмитт” кидал по одной-две небольшие бомбы, то “Юнкерсы-87”, которые использовались как штурмовики, нас просто донимали своей бомбежкой. А вот “Юнкеры-88”, те могли и ночное бомбометание по нам осуществить, стоило им лишь заметить наше место сосредоточения.
- Маскировка на марше соблюдалась?
- Обязательно!
- Во время ночного марша командир танка где находился?
- Вместе со мной в танке. Подсвечивать дорогу ему не приходилось, мы как-то неплохо ориентировались в темноте. Мы открывали передний люк, чтобы дорогу было лучше видно. Фары включать нам запрещали и даже использовать щелевые насадки для них. Запрещали даже курить во время марша. Из-за светомаскировки столкновений на марше было сколько хочешь! Ночной переход без этого никогда не обходился, кто-нибудь обязательно въедет в кого-нибудь.
- Из вашего батальона кого-то отправляли в штрафную роту?
- Не знаю, я не помню таких случаев.
- Дезертиры были?
- У нас подавляющее большинство были молодыми ребятами, которые и мысли не могли допустить, чтобы сбежать. Но даже и те, кто был постарше, были настроены по-боевому.
- В плен кто-нибудь из батальона попадал?
- Пока я там служил, таких случаев не было. Однажды наш полк остановился на долгую стоянку, неподалеку расположились наши запасы ГСМ и меня назначили туда часовым, охранять полковое топливо. Стою, слышу, неподалеку внезапно поднялся шум и гам. Оказывается, это немцы на соседнюю часть налетели и “языка” взяли. Как они на мой склад не вышли - это просто везение. Я бы для них легкой добычей оказался: маленький, легкий. Да, к тому же, я в это время решил сменить портянки, а то ноги сильно потели в сапогах. Незаметно, пока я этим занимался, подкрались бы ко мне, оглушили и уволокли. Не знаю, удалось ли отбить нашего или все-таки утащили его немцы, но шум у соседей поднялся сильный. Я как услышал, скорее сапоги натянул, вскочил и стал пристальнее вслушиваться и всматриваться в окружающий лес.
- Как считаете, награждали в батальоне по справедливости?
- Я не могу это сказать. Но было заметно, что девчата, которые в штабе сидели, ордена получали, а тому, кто в танке горел - лишь медаль. У нас даже поговорка такая была: “Ивану за атаку - хер в сраку, а Маньке за п..ду - Звезду”. Видимо, не на пустом месте была выдумана эта поговорка.
- Какими наградами Вы награждены?
- У меня из орденов только орден Красной звезды за Будапешт. А из медалей я сначала получил “За боевые заслуги”, затем мне дали “За отвагу”, а потом уже “За взятие Будапешта”, “За взятие Вены” и “За победу над Германией”.
- Как Вы считаете, благодаря чему Вы выжили в этой войне?
- Благодаря полученному опыту и тому, что не употреблял спиртного.
- Вши были?
- Были и очень много! Когда после длительного перехода нас сразу бросают в бой, а выйдя из боя, не дают отдохнуть, а снова отправляют на какое-нибудь направление, времени на помывку найти было очень трудно. В таких условиях вши появлялись сразу же, скапливаясь в районе поясницы. Откуда они брались, было загадкой. Но, как только появлялась возможность, старшина для нас сразу же организовывал парную. А если не было возможности помыться в бане, то снимали с себя всю одежду и складывали ее в специальную бочку, где обрабатывали горячим паром. После пропарки заглянешь в бочку, чтобы забрать свое обмундирование, а вши там повздулись все. Одежду потом сильно встряхивали и эти вши с нее просто осыпались на землю. Бани у нас были редко, в основном когда мы города занимали. Помню, одна из бань была оборудована для нас еще когда мы воевали в Молдавии, а другая - на окраине Будапешта, когда нас вывели из боев на передышку на короткое время. Остальные помывки устраивались от случая к случаю в полевых условиях.
- Деньги вам платили?
- Я получал, да. Правда, когда мы шли по нашей территории, я не видел никаких денег. А вот уже на территории других стран нам денежное довольствие стали давать в местной валюте: в Венгрии форинтами, а в Австрии шиллингами. После того как закончилась война, нам стали давать на руки какую-то небольшую сумму в местных деньгах, а в Советском Союзе еще перечисляли определенную сумму в рублях на книжку. Когда я служил на офицерской должности, я получал шестьсот шиллингов и около тысячи рублей мне клали на сберкнижку.
- За уничтоженные вражеские танки и боевую технику деньги полагались?
- Полагались. Но когда дадут, а когда и нет. Начфин часто где-то задерживался и командование нам заявляло: “Нет денег”.
- Какие недостатки у Т-34-85?
- Я не очень-то хорошо этот танк и знал, чтобы делать такие заявления. Скажу то, что не нравилось мне. Например, недостатком являлось то, что нельзя было стрелять с ходу. Если выстрелишь на ходу, то отдачей танк сильно раскачивало и выбивало коробку передач. Еще этот танк трудно было маскировать, а командир мне постоянно говорил: “Ставь машину так, чтобы ее не было видно, и чтобы обзор для стрельбы был хороший”. Еще коробка передач и трансмиссия у этого танка были очень слабыми. Ребята наши получали новенькие танки в последние дни войны, так те уже были гораздо лучше, чем наши машины: и стрелять можно было с ходу и коробка работала отлично.
- Не знаете, немецкие танки тоже стреляли с коротких остановок?
- Да, они тоже для выстрела делали кратковременную остановку, но при этом чаще делали серию выстрелов. А мы остановились, сделали один выстрел и дальше вперед. Стоять на месте, пока перезаряжается орудие, было очень опасно.
- Поступающие на пополнение танки были новыми или после ремонта?
- Я всегда новые только танки получал. Еще у нас были иностранные танки, но никто не хотел садиться на них. Мы все в них побывали, облазили их - там внутри красиво, конечно, но все от них отказывались несмотря на эту красоту, предпочитая советские машины.
- Зимой танки красили в белый цвет?
- Не красили, а побелкой белили в обязательном порядке все танки, когда нужно было зимой незаметно подойти из места сосредоточения к передовой. Такие же побеленные танки я видел и дома под Сталинградом, когда через наше село проходила наша техника, идущая на Котельниково.
- А немцы свои машины красили?
- И они тоже красили, вернее, белили.
- Вы были маленьким и щупленьким. Как Вы управлялись с танковыми рычагами?
- Очень тяжело мне было! Но мне помогал мой командир, он научил меня всему. Особое внимание он уделял тормозам: если тормоза плохо сделаешь, то танк не сможет быстро развернуться на месте. Выжмешь сцепление, двумя руками ухватишься за рычаг и тянешь его на себя. Очень тяжело было управлять танком! Рычаги были мне практически по росту и, чтобы быть повыше и сидеть покомфортнее, я что-нибудь подкладывал себе на сиденье: телогрейку или, если найду, пару трофейных курток. Несмотря на малый рост, до педалей я доставал, но, правда, уже с некоторой натугой.
- Вас в экипаже было двое. Как при таком количестве управлялись с чисткой орудия?
- Да, банник был здоровый, да тяжелый очень! Иногда с другими экипажами договаривались: “Слушай, Вань, ну помоги немножко, не достаю я! А потом я тебе обязательно помогу чистить ствол!” Или сначала пойдешь ему поможешь сделать то, о чем он попросит, а затем вместе идем чистить мое орудие. Взаимопомощь между экипажами у нас была в обязательном порядке.
- Мелкий ремонт осуществлялся в одиночку?
- Мне всегда помогал мой командир танка. Для меня он был и отец и помощник. Бывало, что и бухтел на меня: “Эх, вашу богу душу мать! Наберут мелкоту всякую!”
- Куда дели тот ваш танк, который сгорел?
- А кто его знает… Обычно после боя приезжала или ремонтная служба или трофейная, цепляли эти подбитые танки и куда-то увозили. Мой танк стоял долгое время, никто его не забирал, пока его тоже куда-то не утащили.
- У вас были сыновья полка?
- Были, два паренька, на украинском разговаривали, по возрасту прямо дети. Их подобрали где-то на Украине и пристроили в полк. Они у командира как помощники были, бегали по его распоряжению с различными документами. Жили они в одном из экипажей, а числились при штабе.
- Кто и как в батальоне хоронил погибших?
- Мы сами не хоронили, этим занималась похоронная команда. Они же доставали и тела тех, кто сгорел в танке. А где и как это происходило захоронение - понятия не имею.
- По погибшим поминки устраивались?
- Больших поминок не было, каждый своих друзей по-своему поминал. Но делалось это потихоньку, не афишируя, потому что алкоголь категорически запрещался.
- Во встречном танковом бою приходилось участвовать?
- Чтобы танк в танк сходиться? Нет, у меня такого не было, а у наших ребят, кто подольше моего воевали, было. Один у нас был товарищ, боевой и опытный, так вот он рассказывал, что они и на таран ходили и в бок проезжающему мимо немецкому танку из пушки стреляли. Его, кстати, за танковый таран к Боевому Красному знамени представили.
- Подрывы танков на минах случались?
- Были подрывы, но мало. В основном минировались дороги. Город Яссы, помню, был сильно заминирован. Все подступы к нему были в минных полях, поэтому нас в город не пустили. Мы окружили его, а в городские кварталы пошла пехота.
- Сталкивались с использованием немцами нашей техники?
- Нет, я не встречал такого, чтобы немцы использовали наши танки. А вот наши, бывало, на немецких танках воевали. Еще видел, как наши использовали немецкие самоходные артсистемы, но это продолжалось ровно до тех пор, пока к ним имелись снаряды. Как только снаряды заканчивались, они их оставляли.
- Когда танк выходил из строя, но экипаж оставался жив, им давали новую машину или распределяли по другим экипажам?
- Если была возможность, то их временно придавали в другие экипажи, где было по два человека, пока не поступит новая техника. Как только поступал новый танк, этих танкистов забирали из экипажа, и они снова вступали в бой на собственной машине. Людей очень берегли!
- Если необходимо было танк врыть в землю, вы сами копали яму или вам придавали для этого пехоту?
- Обычно для рытья танкового укрытия нам давали в помощь пехотинцев, но, если это происходило где-то на окраине населенного пункта, то пехота выгоняла для этого кого-нибудь из местного населения. А местные не всегда подходили для физической работы: однажды командир привел двоих, а те, хоть и не старыми были, оказались больными. Они копать не стали, а легли на землю и показывали жестами, что у них и где болит. Мы вокруг них бегаем, пытаемся пинками поднять: “Бога душу мать! Ты копай давай!”, а они криком кричат, но за лопату не берутся. Тут уже видишь, что как человек этот местный никудышний. Да там таких больных было очень много, эта Европа - она вся больная! Даже бабы и те больные какой-нибудь заразой. Наших ребят сколько уехало, “награжденных” от местных баб хорошо как триппером, а то и сифилисом? Ой как много! Комиссары старались следить за этим строго и на границе, когда домой ехали, медики обязательно всех наших солдат проверяли на венерические заболевания. После войны весь личный состав, подлежащий демобилизации, собрали в одном месте и тут они пошли! Мы там сидели некоторое время, окруженные двумя рядами колючей проволоки, не имея даже возможности сбежать в “самоволку”, и вся беднота городских окраин, которые мы называли “Шанхай”, тут же отправилась к месту нашего сбора. Особенно пользовались спросом проститутки: солдату не составляло особого труда при желании справить нужду, договорившись с местными женщинами. Раньше солдаты часто самовольно бегали в местные “Шанхаи” по бабам: соберет он две пайки сахара и бежит к какой-нибудь, а та ему за сахар дает, чего он желает. Это было практически во всех городах, в которых мы побывали. А как только ехать домой нужно было, так у таких обнаруживалось какое-нибудь из “интересных” заболеваний, но многие умудрились повезти с собой эти “награды”. Венерические заболевания там были повсеместно!
- С “власовцами” приходилось сталкиваться в боях?
- Да, под Балатоном некоторых даже взяли в плен. Наша танковая колонна выходила из боя и уже стояла наготове. И в это время мимо нас провели пленных, сотни, наверное, полторы. Конвоиры специально приказали им поднять левую руку, чтобы мы все увидели у них на рукавах нашивки с буквами “РОА”. Это было в марте месяце, было уже тепло и “власовцы” шли без теплых курток и шинелей. Провели мимо нас их и куда-то погнали дальше. Хоть и шли они, понурив голову, сопротивлялись они яростно, до последнего.
- Письма домой писали?
- Разумеется писал. Все мои письма были сыновьи: писал, что жив-здоров, что все у меня хорошо, что мы идем вперед и крушим врага. А когда я получал обратное письмо от мамы, то оно обязательно было подвергнуто цензуре. Как ни получишь - треть письма, а то и половина, все черной краской замарано. Хотя, и она, наверное, от меня подобные письма получала. Жаль, что ни одного моего письма с фронта не сохранилось. Отправил маме как-то фотографию, где я худой, но в новом танковом обмундировании, так она это фото выбросила. Когда я после войны спросил ее, почему она это сделала, она ответила: “Ой, сыночек, ты там совсем поганый, словно и не мой сын. Чего ее беречь, эту карточку?”
- Вместе с вами воевали какие-нибудь национальные подразделения?
- На Балатоне во втором эшелоне с нами шли сербы. На них мы могли положиться, доверяли им как самим себе. Сербы - смелый народ и отчаянный. А вот румынам и болгарам, которые воевали на нашей стороне, никакого доверия в войсках не было.
- Вам довелось сражаться против частей как Вермахта, так и СС. Кто из них лучше воевал?
- Конечно эсэсовцы! Они были более устойчивые и организованнее других частей. В боях против эсэсовцев, еще не видя с кем сражаемся, сразу чувствовалось более яростное сопротивление. Прозеваешь их, и уже видишь, как загорелась сначала одна, затем другая машина. Тогда сразу дают команду отступить, а по этому месту сразу начинается артподготовка. К концу войны артиллерия хорошо работала: чуть что, тут же появлялись “Доджи три четверти” с 76-миллиметровыми орудиями и начинали подавлять огневые точки. Иногда пушку в 76 миллиметров цепляли и к “Виллису”, но тому было тяжело тащить ее, а вот “Додж” с этим вполне справлялся. Пушку-“сорокапятку” я в те времена уже и не видел на передовой, толку от нее никакого не было, в основном были “сотки” и “семидесятишестимиллиметровки”.
- Вам приходилось сталкиваться в бою с немецкими мощными танками, такими как “Пантера” или “Тигр”?
- Нет, мне не приходилось. Моими противниками, в основном, были немецкие “четверки”.
- В экипажах вашего батальона были бывшие уголовники или те, кто побывал в плену?
- Нет, не было у нас таких. Политработники у нас хорошо работали и, видимо, благодаря им, эти люди к нам не поступали на пополнение.
Однажды, под Веной, несколько американцев пришло к нам в часть на “братание” и среди них был один, который мог плохо говорить на украинском языке. Оказывается, его дед, уехал когда-то из Украины в Канаду, а этот солдат поступил в армию за деньги. Так вот он спросил меня: “А за что ты воюешь?”, я ответил: “За Родину, за товарища Сталина”. Стоявшие рядом американцы услышали знакомую фамилию и сразу между собой с каким-то страхом в голосе загалдели, загомонили: “Сталин! Сталин!” Я у американца поинтересовался: “А вы за кого воюете? За президента?” Те опять что-то буркнули по-английски, но я их не понял. А этот потомок украинцев на ломаном языке, используя русский мат ответил: “Нах..я мне этот президент? Мне надо дом построить и на заправку денег набрать. Поэтому я здесь в домах ищу картины дорогие, чтобы дома их продать. Мы как заходим в какой-нибудь город, я сразу по большим богатым особнякам иду, смотрю, где какие картины висят и где чего ценного можно раздобыть. А ты чего-нибудь для себя берешь?” Я ему отвечаю: “Нет, мне ничего не нужно”. Он посмотрел на меня с недоверием и спросил: “А сколько тебе лет?” - “Восемнадцать” - “Что же ты домой пошлешь?” - “Не знаю”. Со словами: “Подожди здесь”, этот украинец зашел в один из разбитых магазинов, взял упаковку зажигалок-“бензинок”, пачку кремниевых камушков для них и две пачки иголок разного вида для швейной машины. Отдал мне все это и сказал: “Отправь это все домой, мать продаст и голодать не будет”. Вот видите, этот американский солдат знал, как нужно поступать, чтобы выгоду иметь, а мы все этому были не обучены, у нас совсем другой взгляд был на то, как вести свое хозяйство.
- Вы в армии получили офицерское звание?
- Да, после того как основную массу офицеров после окончания войны уволили, поступил приказ, что тем из двадцать пятого и двадцать шестого годов, кто участвовал в боях, присвоить офицерские звания. Давали, разумеется, не всем. Кому-то присвоили звание “младший лейтенант”, а кому-то, как мне, “лейтенант”. Вот так я стал офицером, не заканчивая военного училища. Прослужил я в армии до января пятьдесят второго года и из Будапешта, где тогда стояла моя часть, вернулся домой. В звании я не вырос, так и остался лейтенантом.

| Интервью: | С. Ковалев |
| Лит. обработка: | Н. Ковалев, С. Ковалев |






