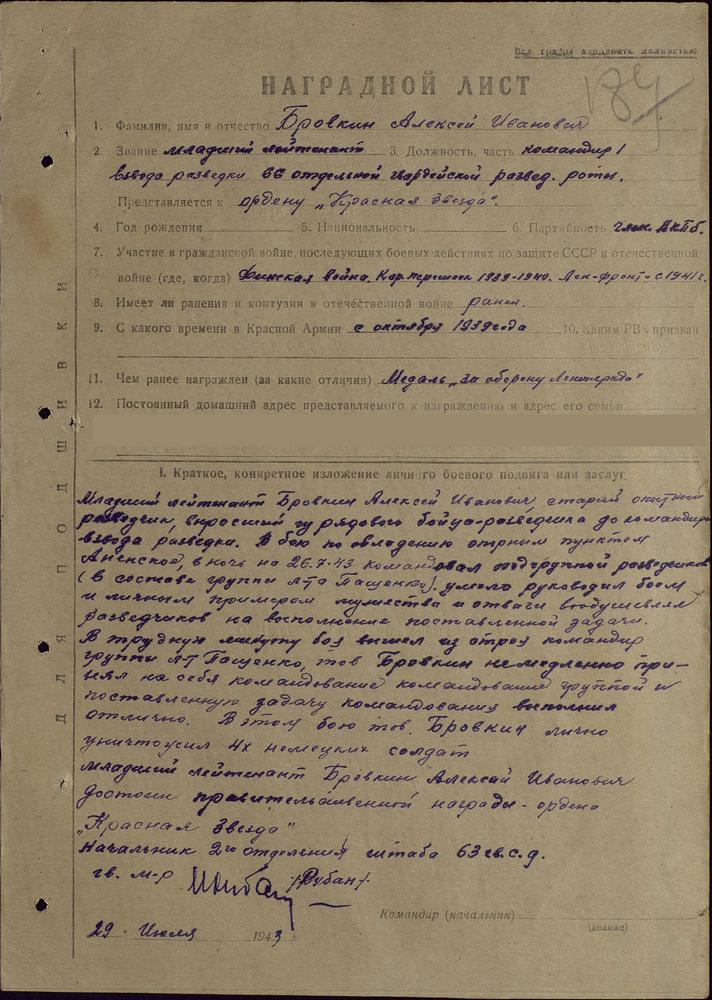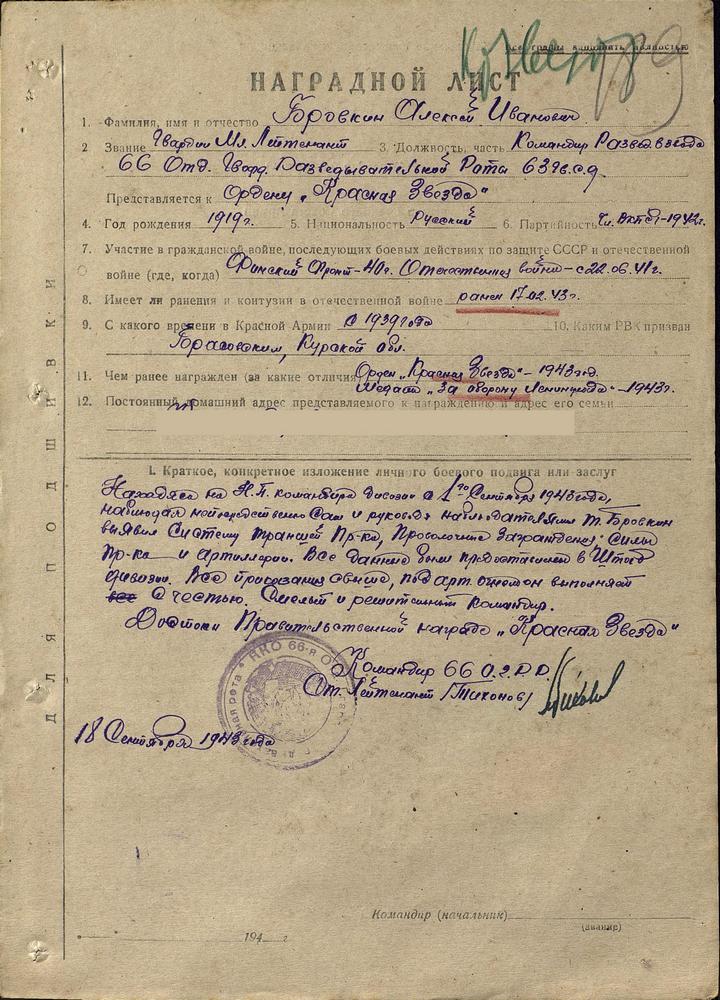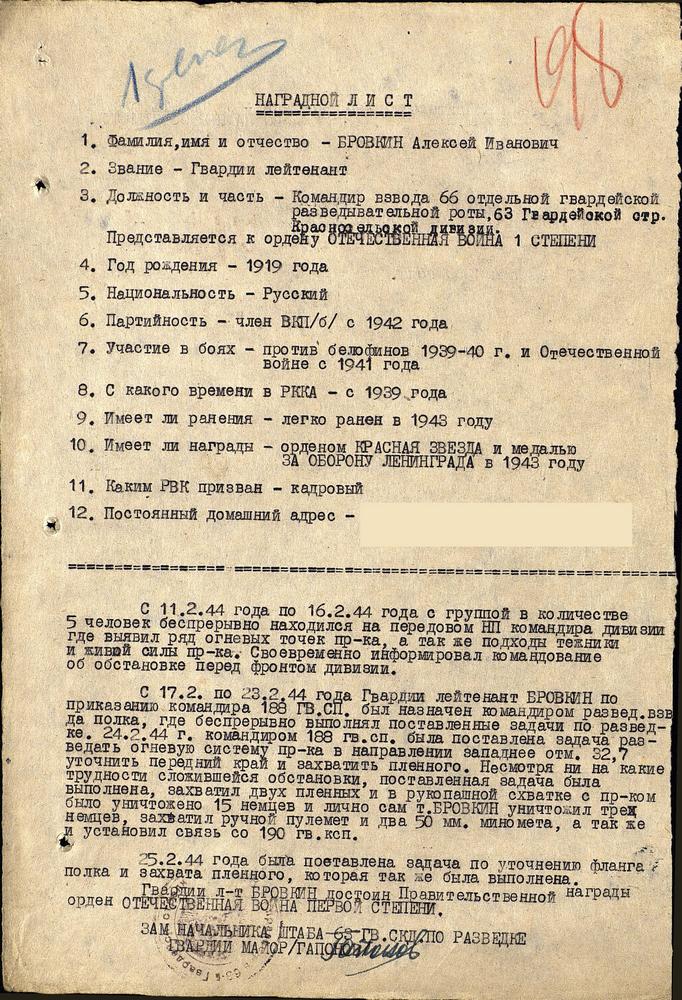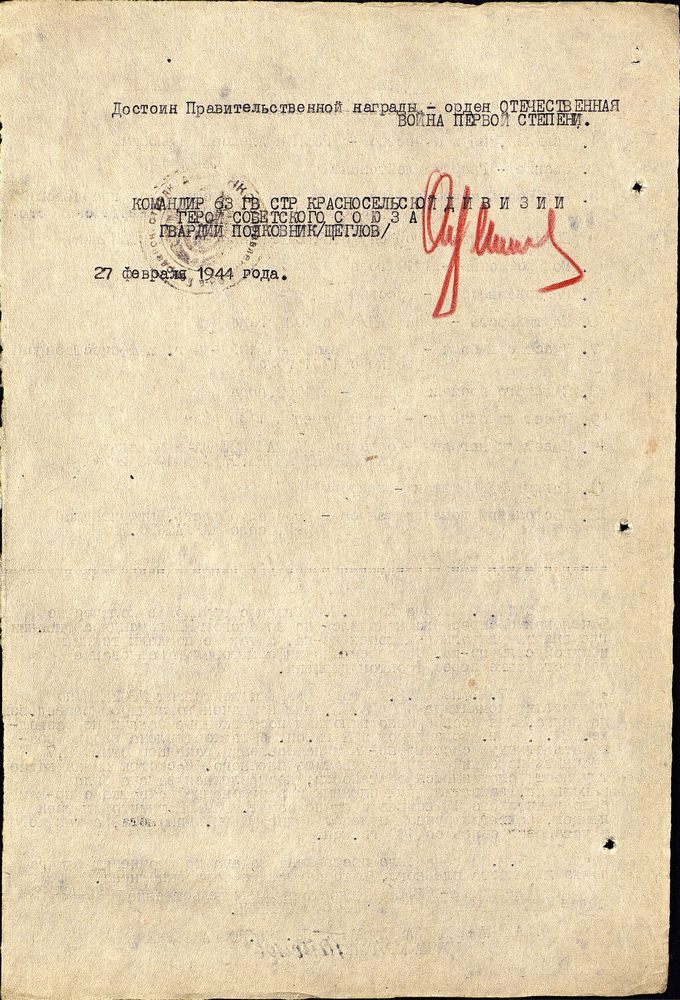Я, Бровкин Алексей Иванович, родился в июне 1919 года в Орловской губернии. Сегодня я не знаю ветеранов нашей дивизии из ныне живущих, старше себя.
Моя семья жила в селе Харланово Дмитровского уезда Орловской губернии. Место это глубинное, находится в ста верстах от Курска, ста пятидесяти – от Орла, до железной дороги 55 километров. Дмитровск, Дмитриев – эти места были отданы Петром Первым Дмитрию Кантемиру, молдавскому господарю. В наших местах помещиков почти не было, вся земля принадлежала царской семье. У нас хозяином был Великий князь Михаил, брат царя. В деревне Брасово была его усадьба – прекрасный дворец, в котором я потом учился, сейчас он в Брянской области. Михаилу принадлежали пять винокуренных заводов, паточный завод, сахарные заводы. Вся сельхозпродукция шла на перегон сахара, вина, водки. Ректифицированный спирт, 96 градусов, возили за сто вёрст в Орёл.
Наша семья крестьянская. Мой дед, Фёдор Никитович Бровкин, участвовал в Русско–японской войне, был Георгиевским кавалером, служил ординарцем у штабс-капитана, который научил его читать и писать. На войну он пошел, имея уже двоих сыновей: Ивана, моего отца, 1895 года рождения, и Семёна – 1902 года. После возвращения с войны у них с бабушкой родились ещё дочь в 1904 году, в 1906 – сын, потом ещё сын – в 1909. В общем, семь человек было – четыре дочери и три сына. Мой отец, 1895 года рождения, окончил три класса церковно-приходской школы с отличием. Как отличного ученика его порекомендовали для продолжения обучения в гимназии уездного города, но в гимназию не приняли потому, что крестьянин – «грязный». Весной 1915 года отца взяли на войну. К Февральской революции он был уже унтер-офицером. Армия развалилась, и отец вернулся домой, тут уже организовывалась Советская власть. Отец вступил в партию эсеров, это была крестьянская партия. Председатель Волисполкома назначил его председателем Военного Комиссариата Исполкома. Его задача – организовать для Красной Армии мобилизацию, он этим занимался весь 1918 год. Когда наши места занял Деникин, отец из деревенских ребят организовал партизанский отряд. После того, как Деникин ушел, отец вступил в Красную Армию, служил комиссаром полка по снабжению. Два раза был в плену у Махно. Один раз прямо из-под шашки его спас один хохол, а второй раз его спас сын нашего попа – штабс-капитан, служивший у Махно начальником штаба: он узнал отца и отпустил. Чекисты смотрят: как же так, ни один из комиссаров, попадавших к Махно, не возвращался, а тут дважды вернулся! Посадили в тюрьму, но потом разобрались. В 1921 году отца послали учиться в Харьковскую Политшколу, готовившую политруков, и он там проучился несколько месяцев, но было голодно. Харьков от наших мест находится в четырехстах километрах, и он попросил деда, чтобы тот ему выделил и послал мешка два картошки и ещё чего-то, чтобы продолжить учёбу. А дед ответил: «Ну да, я твою жену кормлю, твоих детей, да ещё тебя!» – не помог ему, и отец был вынужден отчислиться и демобилизоваться.
Осенью 1921 года отец демобилизовался.
Я себя очень рано стал помнить. В 1922 году родилась сестра, и я помню, как мать её родила, помню, кто был при этом. Говорю маме: «Я помню, как ты родила Сашу». Она: «Да ты что, да ты был маленький!» – я говорю: «Да помню я!» И вот я ей доказывал: «Мы с папой спали в амбаре, я описался, папа меня принёс и грел. Вот ты там лежала на полу, а вот на лавку положили девочку и там её заворачивали». Рассказывал, как её пеленали, какой цвет был. Мама удивлялась. В пять лет отец посадил меня на коня Бурого и я водил, а в шесть уже бороновал, в семь – вовсю пахал, сеять и косить только не умел. В школе учился три года. Учил нас пьяница – хороший мужик, поповский сын, но не тот, что служил у Махно – тот с Гражданской войны не вернулся, ушел вместе с Нестором за границу. В школе тогда было очень трудно: не было ни карандашей, ни бумаги, не было учебников. Помню первый букварь, назывался – «Красный пахарь». Мы написали письмо от нашей школы Крупской, что у нас ничего нет, она прислала нам посылку – тетради и карандаши. Тогда я впервые увидел тетради с таблицей умножения на обложке. В 1928 году выстроили прекрасную, хорошую школу, в неё я пошел в четвёртый класс. После войны она стала восьмилетней. А сейчас её разобрали – говорят, что учеников нет и учить некого.
В колхоз мы вошли первыми. Хорошо помню: в 1929 году председателем колхоза назначили двадцатилетнего брата моей мамы. Он был секретарём комсомольской организации села и председателем «кресткома» – крестьянского комитета. Он пришел к отцу, которого называл братом, и я даже помню их разговор. Он сказал: «Мне поручила партийная организация». Отец говорит: «Да ты знаешь, что это такое? Ты своим хозяйством не умеешь распорядиться, а это?» Тот отвечает: «Так вот, заставили меня, заставили!» После разговора с отцом он решил отказаться, а там ему говорят: «Да ты знаешь, твой брат хочет сам стать председателем, но мы ему этого не позволим!» А у отца и в мыслях такого не было. Ну, «состряпали» материал, и отца как «разлагателя колхоза» посадили в тюрьму. Две недели он сидел в райцентре, потом перевели в Орёл. Я с дядей Семёном, братом моего отца, ездил к нему на свидание. Тем, кого суд еще не осудил, свидания не разрешали, но дядя как-то добился. Отец мне сказал: «Ты, Алеша, посмотри: в чемоданчике должны быть записки, а они должны быть целы, ты мне их перешли». А записки какие: секретарь кустовой партийной организации, сельского «куста», Ревякин, когда собирали колхоз узнал, что мой отец был комиссаром по фуражу в полку Красной Армии и знал заслуги отца. Он был сам крестьянин. И вот, когда красноармейцы входили в деревню, а с этой деревни нужно взять пять – шесть лошадей, скажем, двадцать – тридцать пудов овса, сена пудов пятьдесят, для снабжения полка. Вы понимаете, какое снабжение тогда было? Отец приходил: если у тебя есть две лошади и семья небольшая – одну лошадь брал. Если в закроме у тебя, скажем, десять пудов овса, он три – четыре пуда возьмёт, остальное оставит. А были такие комиссары, что как приходят – «фи-ить», весь закром раз – и всё! Крестьяне говорили: «Ну вот, и деникинцы не всё взяли, а вы, красные, пришли – и всё забрали!» Так вот это отца спасло на Украине от Махно: когда его уже хотели зарубить, то один хохол подошел: «Та, батьку, то ж хлопець добрый, та не трэба вбываты, та вин нашу худобу не всю забрав!» Махно сказал: «А, дорог он тебе – забирай его!» – и отец недели две был у этого хохла: жил, помогал по хозяйству. И потом тот говорит: «Вот тебе моя сестра в жены», но отец не принял – у него же двое детей, и ушел обратно в Красную Армию. Ну, а второй раз, я вам говорил, спас его капитан – сын нашего священника. И, конечно, подозрение было: что такое – и там освободил, и этот освободил? Так что в Харькове его посадили, но ненадолго – недели на две, что ли, потом разобрались.
Я разыскал несколько этих записок, в которых Ревякин писал: «Иван Фёдорович, зная твою практику во время службы в Красной Армии, помоги собрать фураж. Лошадей поставили на общую конюшню, а кормить-то нечем» – и отец собирал фураж. К нему несколько раз обращались с подобными просьбами, и отец с удовольствием это делал, и бумажки остались. Мы отдали эти бумаги следователю – те видят, что донос оказался фальшивкой, и через две недели отца освободили. Вот это одна из черт, как собирались колхозы. Отец вернулся в конце марта или начале апреля 1930 года, в это время вышла статья Сталина «Головокружение от успехов», и всех лошадей хозяева из колхозов разобрали. Не знаю, как в других местах, а у нас были собраны только лошади, а плуги, телеги, хомуты оставались у крестьян. У нас в районе колхоз оставался только в нашем сельсовете, а остальные все были распущены все. Осенью 1930 года, под зиму, начали опять организовывать колхозы, и уже в 1931 году все полностью вступили в колхозы. Сейчас говорят, что загоняли – ничего подобного! У нас никаких эксцессов не было: кто не пошел в колхоз – ну и ладно. Потом, через неделю – месяца через полтора, все пошли. В это время шло раскулачивание, всё решали «Комитеты сельской бедноты», бывшие в каждом селе. У нас в «Комбед» входили две женщины, чьи мужья погибли в Первую мировую войну, безлошадники – у кого лошадей не было. У кого была лошадь – уже был маломощный крестьянин, просто крестьянин, или средний крестьянин, или зажиточный крестьянин, или уже кулак. У нас раскулачиванию подлежали только трое: Дьячук, поп и рядом у нас было раскулачивание с выселением – 28-я статья, и было раскулачивание, когда просто забирали хозяйство, но люди оставались на месте. Так у нас выселили только одного. Причём такая глупость была: сам кулак, как только всё началось, уехал, а его семья осталась – сын, который во время НЭП-а работал, сам за плугом ходил, а отец-кулак ничего не делал. И вот этого сына с бабушкой и женой выслали в Казахстан.
Дед мой был ктитором – приближенным к попу Демидову. Поп уважал моего отца потому, что когда приходил Деникин, отец сказал ему: «Не проявляй лояльность к белым, а то мы остаёмся партизанами, и ликвидируем вас» – и поп хорошо себя вёл во время революции. Когда я родился, его дочь, Александра Михайловна, попросилась стать моей крестной матерью. Когда всё это раскулачивание началось, ей посоветовали: «Уходи», – и она уехала за пятьдесят или шестьдесят вёрст, работала учительницей вплоть до войны. Когда пришли немцы, она приехала к куме – к моей маме – больше было не к кому, и говорит: «Я хочу, чтобы мне дом построили» – её дом к тому времени сгорел. Мама ей посоветовала: «Знаешь, кума, уезжай туда, где ты была, покуда партизаны тебя не повесили» – и та ушла. Сам поп умер рано, в 1926 году, я помню – я был на похоронах. Поп был консервативный, но умный. У нас многие из священников организовывались и, можно сказать, шли на преступление. Наш поп был приглашен в поповский заговор против Советской власти, но этого не принял. Вместе с попами организовались и старосты церквей. Были различные акции: у нас, например, повесили пионера, в организовавшейся коммуне сожгли на току урожай, уничтожили технику, оставшуюся от старой власти: паровики, молотилки – пожгли, уничтожили. Их порасстреляли, а потом говорили: «Вот, священников порасстреляли!..» Вот сколько я потом разбирался – дед у меня умер в 1961 году, он говорил: «Ни одного священника не расстреляли за то, что он был священником, ни одного!» После смерти нашего священника пришел другой, он был пьяница, люди не стали ходить в церковь. Он побыл–побыл и удрал, церковь закрыли. Но перед этим был опрос: закрывать церковь или нет? И ты представляешь себе: было такое огромное село, а подписалось всего человек девять, что ли! Церковь закрыли без всякого шума, всё было сдано: золотая чаша для причащения, серебряная купель – всё было сдано, ничего не разворовано! Потом сняли колокола. Сейчас вроде что-то восстановили, не знаю. Так что в отношении священников я не помню, чтобы доходило до преследований. Вот Зюганов – он же наш, орловский, говорил, что у нас не было репрессий, не было посаженых, ему никто не верил, «Комсомольская правда» организовала большую проверку – так всё что он говорил, подтвердилось! У нас очень спокойно было в этом отношении. Я скажу, что репрессированных у нас в селе вообще не было, а во время войны погибло 150 человек.
После окончания начальной школы я поступил в «ШКМ» – районную Школу крестьянской молодёжи, в неё принимали только крестьян, потом она стала называться Школой колхозной молодёжи. В ней готовили для крестьянских хозяйств агрономов, животноводов с неполным средним образованием. Там я окончил пятый и шестой классы, потом эти школы расформировали и объединили среднюю школу с городской. Окончив восемь классов, я поступил в Брасовский мелиоративный техникум – это между Льговом и Брянском. Я не знал, что я плохо учусь, а потом-то я понял, что плохо учился. Не от меня, может, и многое зависело, сколько такие учителя были.
В те годы уделялось большое внимание тому, чтобы нести культуру в село. Книжек было мало, поэтому организовали библиотечные передвижки. Тогда нынешние области входили в одну Центральную Чернозёмную область: Орловская, Курская, Белгородская, Воронежская и, по-моему, Тамбовская. Воронеж был единым центром. Там на плохой газетной бумаге, сшитые нитками, выпускались книги с рассказами Тургенева, Лескова, нашего деревенского поэта Кольцова. Впервые сельские ребята – молодежь, дети знакомились с этими книгами. Впервые мы, дети, получили такое, ну а когда я стал юношей, моими героями стали Овод, Павка Корчагин из книги «Как закалялась сталь», Андрей Кожухов Степняка-Кравчинского, ну и другие подобные герои. Вся молодежь была ими увлечена и очень их любила. Наше поколение было воспитано именно на этих героях. Сильное впечатление на меня произвела книга Виктора Гюго «Отверженные»: читал и плакал, как этого Жана собака выгнала из своей конуры, вы помните такое? Я перечитал всю русскую классику. У меня была вся подписка Жюля Верна, но он меня почему-то не захватывал – видимо, было поздновато потому, что я уже знал о подводных лодках и т.п.
В нашем техникуме я не слышал как-то слов о патриотизме, что «вот вы должны быть патриотами, любить Родину». Военруком у нас был участник Первой мировой и Гражданской войн, моряк, артиллерист береговой обороны. Он учил нас военному делу, но я не помню, чтобы он нас долбил, что «вы – патриоты», мы без этого были все такие патриоты. Мы готовились к войне – как только в Германии пришел к власти фашизм, нам сразу стали говорить: «Фашизм – это война». Мы только потом начали разбираться, что фашизм – это националистическая партия, какие у неё задачи, что есть такая книга «Майн Кампф», а тогда на вопрос: «Что такое фашизм?» мы отвечали: «Фашизм – это война». Вот не навязывали нам, что мы – патриоты, но работа велась: например, все учащиеся техникума должны были сдать нормы на значок «ГТО». В частности, у меня были сданы все нормы на значок «ГТО» первой ступени, все нормы на значок «Ворошиловский Стрелок» первой ступени и все нормы на значок «Ворошиловский Стрелок» второй ступени. На вторую ступень «Ворошиловского стрелка» надо было из боевой винтовки выбить не меньше 27 из 30 очков, а на первую надо было стрелять из мелкокалиберной, из неё я хорошо стрелял. Я сдал все нормы, были сданы на значок «ПВХО» первой и второй ступени. Имеющий вторую ступень был как бы специалистом этого дела, и таким предоставлялась возможность заниматься с начинающими, изучать противохимическую оборону. Так же я сдал все нормы на «ГСО» – «Готов к санитарной обороне». Так вот, когда я со студенческой скамейки пошел сразу же на Финский фронт, мне пришлось шестнадцать раз перевязывать раненых – своих ребят, и все они остались живы. Даже помню: такой Заяц был ранен пулей в живот – только мы выпили по сто грамм, покушали холодных макарон со льдом, и «кукушка» Зайца – в живот! Я его перевязал и отвёз в ППМ, а я слышал, что ранение опасно, когда кишечник полный, а мы только что поели. Я говорю врачу: «Товарищ военврач, вот я тут своими неумелыми руками сделал перевязку, пожалуйста, его – поскорее!» Он раскрыл его, посмотрел, и вот его слова: «О, если б у меня каждый фельдшер так бы перевязывал!» Думаю: «Неужели я так хорошо сделал?» – это я хотел сказать, что мы были подготовлены.
Семнадцатого сентября 1939 года мы вступили в Польшу, а девятнадцатого был приказ, видимо, Ворошилова: призвать всех лиц призывного возраста, кто не служил в армии и вплоть до 1920 года рождения, кто окончил среднюю школу и учился на первых курсах институтов – подчистили всех. Я учился на четвёртом курсе и уже писал дипломную работу, оставалось проучиться три или четыре месяца и получить диплом. Военкомат у нас рядом, военком пришел к военруку и говорит: вот таких-то и таких-то – быстренько на медкомиссию. На медкомиссии всех проверили и сказали: «Через две недели будьте готовы к отправке!» 22-го сентября я был призван, 22 ноября я поехал в армию, 24-го – был в части, 30-го началась война с Финляндией.
Служить я попал в 95-ю стрелковую дивизию, 190 стрелковый полк. Дислоцировались мы в Молдавской Автономной Советской Социалистической Республике, на территории нынешнего Приднестровья. Сразу, как мы приехали, всех с высшим и средним образованием направили в полковую школу. Меня зачислили в пулемётчики, но обучить нас ничему не успели – началась война, и наш стрелковый корпус направили на фронт. Когда поехали на фронт, меня, Мишу Дудина и нескольких ребят зачислили в новые, созданные тогда миномётные части. Наш командир пулемётного взвода сразу как-то меня заметил, и когда расформировали полковую школу и стали формировать миномётный взвод, то он нас, трёх человек, порекомендовал переместить из пулемётного в миномётный взвод. Мы были недовольны: что такое миномёт – мы его знать не знаем, а пулемёт мы уже разбирали, знали, как стрелять – было обидно. Но он сказал тогда: «Бровкин, я знаю, куда вас направляю!» Но я тогда не мог оценить потому, что ничего не знал. И вот уже на фронте: иду я с минами и вдруг встречаю этого лейтенанта – он идет, и рука у него перевязана. К тому времени я уже понял, что быть пулемётчиком и миномётчиком – большая разница: ни один из моих знакомых пулемётчиков цел не остался – или был ранен, или убит. Я говорю: «Товарищ лейтенант, как я Вам благодарен». Он говорит: «Теперь ты понял?» – я отвечаю: «Да, большое спасибо Вам». Поблагодарил его, а он пожелал мне здоровья, «а я, – говорит, – вышел из строя, пошел лечиться». Все трое мы собираемся и с благодарностью вспоминаем своего лейтенанта, умница такой был, реальное училище окончил.
Когда мы были уже в боях, Мишу Дудина взяли в батарею полковой артиллерии – в каждом полку была своя 76-мм артиллерийская батарея.
Я был подносчиком в расчёте 82-мм миномёта, носил мины с патронного пункта на боевые позиции. Обеспечивал полностью, был представлен к медали «За Отвагу», но не получил. Был ранен осколком, у меня и сейчас рубец под левым глазом. Повязку сделали, потом зашили, но я не ушел, остался. Видимо, это растрогало моего командира – младшего лейтенанта по фамилии, кажется, Гудыменко, и он меня представил к награде. Я даже не знал, что он меня представлял, и только в 1946 году я приехал на родину, в корзине с папиным архивом среди писем нашел письмо моего командира миномётного взвода. После окончания Финской войны мы поехали на Ханко, а наш командир с частью вернулся в Молдавию и в 1940 году освобождал Кишинёв. И он, когда поехал туда, писал отцу, какой я хороший, как хорошо меня воспитал отец, и что «я Вашего сына представил к медали «За Отвагу»». Я читал и думал: «Господи ты, боже мой, неужели я такой был?» – у меня о себе было не очень высокое мнение. В воспоминаниях Жукова я прочитал, что в 75-й Бердянской гвардейской дивизии отличился майор Герой Советского Союза и фамилия именно моего командира миномётного взвода – младшего лейтенанта Гудыменко. Я потом навёл справки – и действительно, именно он в 1943 году получил звание Героя Советского Союза.
В то время в Красной Армии не было какой-то особой зимней формы. Обычная форма состояла из майки или нательной рубахи, трусов или кальсон, хлопчатобумажной гимнастёрки и брюк, обязательно – шинель, летом её носили в скатке. Зимой дополнительно выдавали вторые байковые портянки – поверх бязевых, байковые же кальсоны и рубаху, и вместо фуражки – будёновский шлем. В Молдавии было тепло, и мы приехали в Ленинград в той форме, которая была нам положена на то время. Привезли нас в Песочное, оттуда поехали к Финляндскому вокзалу, приняли баню, и нам дали надеть фуфайку, ватные штаны, валенки, шинель, шерстяные подшлемники, будёновский шлем. Всем обязательно выдали каски и этот проклятый противогаз. Первоначально мы находились во втором эшелоне. Дело в том, что сильные бои на Карельском перешейке шли два месяца – декабрь и январь, а с конца января по четырнадцатое февраля перешли к обороне: ни финны, ни мы не наступали. Дали нам отдых, проводили переформировку. Когда мы находились ещё в резерве, меня случайно ранило при артобстреле осколком снаряда, наложили две металлических скобки. Долго я с ними ходил, повязку снял только когда после боёв пошли в баню. Выходит, всю войну проходил с перевязкой. Все ребята относились ко мне щадяще, даже некоторые говорили: «Дурак ты, пошел бы, отвалялся недели две – три, и в бою бы не был, и не мёрз бы!»
Первый бой мы приняли четырнадцатого февраля в районе станции Кямяря (ныне Гаврилово). Первый бой был тяжелый, страшный, но я непосредственно в бою не участвовал. Я отличился там как подносчик. Подносчику нужно было с патронного пункта на позицию принести два лотка, в лотке две мины – четыре мины нужно было приносить, в каждой мине четыре килограмма и сколько-то грамм. Ты их должен принести, открыть коробку, выложить, снять колпачок и идти за другими. Так вот, я пристроился так: на патронном пункте в ящике четырнадцать мин. Я пристроил полный ящик на лыжи и, толкая ящик перед собой, сразу приносил четырнадцать мин. Сходил четыре раза, и мои мины даже не успевали расстреливать. Потом мне на патронном пункте запретили брать мины с ящиком потому, что миномётчики лопаткой их ломали – и в костёрчик, у которого грелись, а ящики-то нужны были. Так я взял телефонный кабель, связывал за хвосты шесть мин – три мины впереди, три мины сзади – и на плечо. Было очень даже трудно, ещё и потому, что ходить можно было только по тропинке, протоптанной от позиций к патронному пункту, чуть свернул – взорвался. Все эти тропинки были пристреляны «кукушками». У нас в расчётах не было даже раненых, потери были только среди подносчиков. У меня был такой эпизод, за который мне и сейчас стыдно, и сейчас… Мы передвигались перебежками, всё было рассчитано: вот здесь я перебегу, а вот то самое страшное место, которое снайперы держат под прицелом – переползу. Вдоль этой тропинки лежало несколько огромных камней. Я вижу: около одного камня стоит «Максим» с заправленной лентой. Я думаю: «Хм, чегой-то пулемёт стоит?» Подхожу, а тут из-под камня: «Отойди прочь, солдат!» Я говорю: «Ты кто здесь? Ты – пулемётчик?» Он: «Ну да. А что тебе надо?» Я говорю: «Да как же ты, сволочь такая – «кукушки» стреляют со всех сосен, а ты лежишь под камнем!» Ну моё ли это было дело, а я его просто заставлял! Говорю: «Ладно, лежи, я сам». А я умел обращаться с пулемётом, тем более он был снаряжен, и мне оставалось только нажать на гашетку. Только я к пулемёту, а пулемётчик говорит: «Ладно, отойди» – меня за воротник и в сторону – здоровый был парень! И лёг, нажал гашетку, одну очередь дал, другую, а потом: бах! – снайпер ему прямо в лицо. Он повернулся ко мне, кровь потекла, говорит: «Ну что, ты доволен?!» – и всё – упал, убит, умер! Вы представляете? Прошло уже больше семидесяти лет, а у меня прямо – как только вспомню, так: идиот ты, ну что ты, твоё дело какое?! Я его легонечко так, любезно так, оттащил в сторонку, положил тут, и, ничего не помня, заложил ленту и врубил по ёлкам! Ленту одну, вторую заложил – у меня уже кипит вода в пулемёте, потом он стал красным и начал уже «плевать». Я встал, и пошел медленно-медленно по этой дорожке, зная, что она пристреляна, ожидая, что вот сейчас меня убьют. И пошел, пошел, пошел – и до сих пор хожу. Сбил я этого снайпера или почему он не стрелял? Я ожидал, что меня сейчас убьют. Я пошел потому, что считал, что мне незачем на свете жить. Вот вам эпизод… А парень-то какой – здоровый, хороший! Ай-ай, вот до сих пор – всё забыто, а вот его лицо и кровь осталось, зафиксировалось, мозг держит.
От обморожения в нашей части потерь не было. Где-то рядом погибали, но мы друг друга все знали, ни одного не бросили, всех кто был ранен, отправили. Помните, я доставил раненого в живот Зайца, рядом находилась военлавка, в которой продавали мочёные яблоки, и такой хороший запах шел. Заяц говорит: «Лёша, мне яблоко купи, дай». Я говорю: «Нельзя, ты же в живот ранен», и – к врачу, говорю: «Доктор, вот – яблок просит». Он говорит: «Ну, купи, купи, дай, дай ему пару яблочек». Потом Заяц из Алма-Аты прислал мне письмо в часть, в ту, которая вернулась в Молдавию, и оттуда ребята переслали его мне на Ханко – вот какие люди были, какая почта была! Столько письмо проколесило: туда, там кому-то нужно было узнать мой адрес, и я его получил на Ханко! В письме он меня благодарил и писал, что через месяц будет в части, думая, что и я там нахожусь. Почти все раненые, которых я перевязывал, были с пулевыми ранениями в ноги или в руки, только один грузин получил осколочное ранение.
У нас служил Сергей Горюнов из Торжка, студент первого курса Ленинградского Политехнического Института. Он был среди нас самый молодой, чуть ли не 1921 года рождения. Он куда-то пошел и пропал. Пошли его искать, и нашли Серёжу убитым. Мы вынесли его к Средне-выборгскому шоссе, сбоку выкопали маленькую могилку, земля же была – бетон. С трудом выкопали, кое-как закопали. Я взял крышку от минного ящика, прибил её к палке и написал: «Сергей Горюнов, из Торжка. 190 полк, 95 дивизия» – это было сделано с мыслью, что потом его перехоронят. А так убитых сносили, как всегда – в воронки, закапывали в снег кое-как. На войне не думали, как захоронить, как организовать. Было сказано: «Собрать и захоронить!» – ну а где хоронить, как? Пользовались только тем, что земля была взрыта воронками, туда убитых и сносили. Как дальше было, я не знаю. Во время Великой Отечественной Войны у нас в дивизии была похоронная команда.
Утром тринадцатого марта я с Рединым взял котелки, чтобы принести ребятам на позиции завтрак. Около кухни стояли два наших танка, и танкисты говорят, что «сегодня война кончится» – у них, наверно, была радиостанция. А нам эти байки надоело слушать: обычно шофёры ездили, подвозили, информировали, что там-то – то, там – это, много болтовни, что там наши прорвали, там наши ДОТ взяли… И мы не обратили никакого внимания – взяли котелки, пришли на позиции, поели, вдруг через какое-то время слышим: «Через пятнадцать минут закончится война!» Мы посмотрели с Рединым друг на друга – а мы-то и не поверили этим танкистам, так что, действительно война кончится?! И кричат по всей линии: «Передайте, что через пятнадцать минут закончится война!» И вот командир второго батальона Моргун кричит: «Батальон! Слухай, шо я скажу! До скончания войны с финнами осталось пятнадцать хвылын! Батальон – уперэд, що захопым – усе будэ наше! Вперёд!» – поднял батальон в атаку и пошел на сопку «Пузырь». Финны открыли такой огонь! Всё, что у них было: артиллерия, миномёты, пулемёты, автоматы… Они тоже знали, что кончается война, и за пятнадцать минут выпустили всё, что у них было на позициях. И наш батальон почти весь уничтожили! Позиции наших миномётов были под бережком ручья, немножко бережком укрыты. Командир взвода, младший лейтенант Гудыменко молчит, младшие командиры молчат. А у нас был солдат – инженер-текстильщик Лёня Золоторенко, он как закричит: «Миномётчики, слушай мою команду! Бровкин – слева наблюдателем! Горюнов – с правого фланга наблюдателем! Всем укрыться!» – все укрылись. Вокруг такой огонь был, а у нас ни одного раненого даже не было. Представляешь, что это был за командир? Какой «вперёд!» – раз двенадцать минут осталось, значит – решали-то не мы, решали-то в Москве! А этот дурак поднял: «Що захватим, то усэ будэ наше!»
Вот такие были у нас командиры: Моргун и Гудыменко. Гудыменко был очень хороший, он брал меня в разведку на наблюдение. Младшие командиры считали, что он трусоват, а я так не думаю. Наши командиры были одеты в белые шубы – полушубки. Финны это заметили и за ними охотились, а наш Гудыменко не стал полушубок надевать, так и оставался в шинели. Тогда командиры носили шлейки – это не портупея, а такие два ремня, надевавшиеся через плечи – снаряжение было такое: ремень поддерживался двумя ремнями через плечи. По этим шлейкам финны замечали командиров, и их тоже снайперы отстреливали в первую очередь. Когда мы шли в разведку, Гудыменко снял эту шлейку и закопал в снег, чтобы не отличаться от остальных бойцов. Младший командир спросил меня: «А где шлейка лейтенанта?» – я ему сказал, а он: «Трус!» – струсил мол, себя разоружил – вот так рассматривали. Потом лейтенант, видимо, пошел за этой шлейкой и не нашел, спрашивает: «Бровкин, ты не знаешь, где шлейка?» Я говорю: «Да вон, её взял командир отделения». А тот, хоть ему и не положено было, на себя её натянул. Младший лейтенант ему говорит: «Ты шлейку-то отдай мне!», а тот: «Та що Вы, та це ж моя, цэ ж мий трофэй!» Наверно не надо мне было Вам рассказывать такие детали.
Ровно в полдень наступила абсолютная тишина, аж в ушах звенит. Представляете: ни выстрела, ни шума – ничего. Сразу был указ – собрать всех раненых. Я не видел, но кто там ещё оставался на переднем крае, говорили, что финны поднимались во весь рост, выходили из траншей, некоторые грозили кулаком в нашу сторону, а некоторые кричали: «До свидания, русь, москали!» – и разошлись, всё. Мы с тринадцатого до шестнадцатого оставались на местах. Тут произошел ещё один случай с Моргуном, я вам расскажу. Мы с товарищем, несмотря на запрет, пошли на оставленные финнами позиции. Они были очень хорошо оборудованы: тёплые блиндажи, всё удобно. Мы взяли там примус, жестяную банку керосина, шило с дратвой и лоскутное одеяло. Нашли ещё мочёную бруснику или клюкву, но брать не стали – подумали, что вдруг она отравлена. И вот идём мы с этим со своим барахлом, а он стоит. А этот Моргун в Молдавии был у нас начальником полковой школы. Он нам кричит: «Мародёры! Расстреляю за мародерство!» – и наган вытаскивает. Я сразу весь задрожал, думаю: «Что же делать?» Кричу Редину: «Беги!» – и как врезал Моргуну в лоб, он сразу – в снег, а снег глубокий, он там барахтается, и наган с ним. Мы – бегом! Побежали, несёмся и думаем: «Что мы наделали?» Прибежали, и вдруг нашего Гудыменко вызывают к командиру батальона, он пошел туда, а мы дрожим, думаем: «Что с нами будет?» Что там было – я не знаю, только наш Гудыменко пришел и сразу: «Что вы наделали? Ну что вы наделали?!» Я говорю: «Товарищ младший лейтенант, вот мы живы, а он хотел нас расстрелять!» Гудыменко говорит: «Идите в штаб полка. Командир батальона приказал, чтобы вас в штаб полка». Как мы шли туда – не знаю. Пришли к землянке, сели. Сидим перед входом, боимся идти туда, докладывать. Вдруг выходит комиссар полка и спрашивает: «Вы кто? А, миномётчики! Это те, мародёры?» Мы говорим: «Да, мы – мародёры». Он спрашивает: «Что у вас?» Я ему докладываю, говорю: вот так и так, мы были, ходили к финнам. А он простуженный, хрипит: «Да нельзя ж было ходить, ведь война кончилась, а вы могли взорваться!» Я думаю: «Ага, тон-то другой, уже не мародёры!» Говорю, что вот мы пошли, взяли. Он: «А что вы взяли?» – мы показываем одеяло, он: «Да, ты, ты... Зачем вы это… Там грязная… на нём… Зачем вы взяли?!» Мы говорим: «Взяли, чтобы не на земле лежать». Он: «Бр-росте его!» Выбросили. Он спрашивает: «А это что?» Говорим: «да вот, примус». Он: «А, ребята, оставьте мне его. Я совсем остыл, мне нужно греться. А это что?» Мы говорим: «Шило и дратва». Он говорит: «А, ну это хорошо. Идите домой и скажите другим, чтобы не ходили туда!» Этот комиссар пришел к нам недавно, тот, с которым мы вступали в бой, был снят. Мы вернулись, но были озабочены тем, что комбат всё равно нас замордует. Думали, может, как-нибудь перевестись в другую часть, но вдруг нас вызывает Гудыменко, и говорит: «Мне очень жаль с вами расставаться, мы уже связаны кровью, но я возвращаюсь обратно в Молдавию, а вы поедете... Я бы очень хотел отправиться с вами, но комсоставу нельзя. Возвращается ещё приписной состав и третий год службы, остаются только первогодники 1939 года призыва». Я так обрадовался: слава богу, что я не попаду в руки Моргуна, потому что я ему заехал в лоб, и он бы этого не простил. И я бы ему не простил за то, что: «Всё будэ наше, уперэд!» – сколько ребят погубил!
На этой войне я видел много наших танков, даже такие, огромные, двухэтажные с двумя 76-мм пушками и тремя пулемётами. Они стояли у нашего пункта боепитания на обочине Выборгского шоссе, куда два раза в сутки приходила наша кухня. Один назывался «Клим Ворошилов», другой – «Иосиф Сталин» и третий – «Вячеслав Молотов». Мы их рассматривали. Танкисты рассказывали нам байки, что якобы за три дня или четыре до окончания войны ходили по улицам Выборга. Гусеницы у танков были шириной около метра, некоторые траки были задраны, сбиты. Танкисты показывали и говорили: «Вот – били прямой наводкой, а снаряды отскакивали, как горох!» На корпусах краска была ободрана пулями. Сочиняли тогда много, тем более, что мы были салагами.
Мы приехали в Ленинград, расположились на Кирочной. Нам сказали, что поедем на полуостров Ханко. Мы знали, что по мирному договору там будет наша военно-морская база. Первым был сформирован наш 335-й полк, он был сформирован на Карельском перешейке из нескольких стрелковых полков нескольких дивизий, которые там закончили войну. Основной была 24-я «Железная Самаро-Ульяновская» стрелковая дивизия, она была одной из первых дивизий Красной Армии. В 1918 году, когда был ранен Ленин, дивизия взяла его родной город Симбирск в честь выздоровления Ленина. После Гражданской войны дивизия дислоцировалась в Виннице, и тогда она была вся украинская. В 1937 дивизия была переброшена сюда, в Сертолово, и она первая вступила в бой в 1939 году.
Тринадцатого марта 1940 года закончился бой, а восемнадцатого – девятнадцатого уже сформировалась Особая бригада, которая поехала на полуостров Ханко. Командовал бригадой комбриг Крюков – это известный генерал, друг Жукова и муж знаменитой певицы Руслановой. Но Крюков быстренько уехал, нам тогда сказали, что освободили по семейным обстоятельствам. Позже мы узнали, что Русланова не захотела ехать на Ханко. Жуков тогда был уже начальником Генштаба, и он его заменил, вместо него прислал Симоняка.
Всех, кто остался жив, из нашего миномётного взвода перевели в 335-й полк этой бригады. Из нашего полка были ещё двое ездовых: командир взвода Пантелей Иванович Анисимов и его помкомвзвода, старший сержант. Ещё весь противохимический взвод 90-го полка пошел с нами на Ханко. В батареях тоже было много «молдаванцев», а вообще из моего мелиоративного техникума в Молдавии нас было тринадцать человек. В военкомате нам сразу сказали, что «поедете и будете курсантами полковой школы». Из тринадцати человек пятеро впоследствии были на Ханко, трое из них служили со мной в одном взводе, один студент служил в разведке – он погиб на Ханко. Остальные студенты были ранены во время Финской войны. Они нам писали письма из госпиталей, и потом почти все вернулись и участвовали в освобождении Бесарабии. Наша 95-я стрелковая дивизия в Одесском особом округе была на хорошем счету, во время войны она стала 75-й Гвардейской, после войны дивизия вернулась в Кишинёв. Бывший редактор дивизионной газеты Коля Черноус возглавлял отдел в газете «Советская Молдавия», редакция которой находилась рядом со штабом этой дивизии. Помню, он мне писал: «Алеша, я был в штабе дивизии, в которой служили вы с Мишей Дудиным, и видел портрет Михаила Александровича. Там его очень чтут!»
Тридцатого марта нам сказали, что мы отправимся на полуостров Ханко, и мы с тридцатого марта по седьмое апреля каждый день ездили в порт грузить корабли. На рейде стояли теплоходы: «Луначарский», «Вторая Пятилетка», «Иван Папанин», «Волга-Лес», «Волга-Дон», ледоколы «Ермак» и «Трувер» – кажется, всех я назвал. На эту эскадру грузили матчасть, продовольствие – ну всё что нужно. Седьмого апреля наш 335-й полк погрузился, и корабли отошли от причала, взяв курс на полуостров Ханко. Из начальства с нами, на «Володарском», шел начальник Политотдела бригады, были артиллеристы ПА, ПТО, миномётчики. На Кронштадтском рейде наш теплоход остановили, стоим почему-то. Вдруг видим: по льду идёт большая группа начальников, подходят, один прощается, а все остаются на льду. Ему спустили трап, и я слышу такие слова: «Ну, передайте товарищу Мехлису, что я сел, всё в порядке». Все: «О, Мехлис, Мехлис…» – знали, что Мехлис – начальник Политуправления Красной Армии. Оказалось, что это был дивизионный комиссар Романов, начальник политотдела нашей армии. Я это наблюдал, у него была отдельная каюта.
Переход был очень тяжелым: «Ермак» пройдёт, за ним льды сойдутся – и движения нет! Подходит более слабый портовый ледокол «Трувор» и берёт на буксир. Короче, седьмого мы вышли, а причалили на Ханко 24-го апреля – семнадцать дней шли. По пути вышли к Таллину, там была чистая вода, трое или четверо суток стояли на рейде – наверно, для нас пробивали проход, или что – я не знаю. Сходя на берег, мы думали, что мы первые, а смотрим – ходят красноармейцы. Потом мы узнали, что за четыре дня до нас на транспортном самолёте была высажена шестая рота нашего полка с тем, чтобы не дать финнам из города вывести оборудование – по договору всё недвижимое хозяйство должно было быть оставлено. Когда мы высадились на пирс, капитан артиллерии Бондаренко говорит: «Артиллеристы, миномётчики, мы будем располагаться на девятом километре от города Ханко в посёлке Синда. Будем жить в очень благоустроенных помещениях, нары не делать, гвозди не забивать!» Мы пришли, свернули с дороги налево, прошли ещё метров четыреста, смотрим – хорошая вилла стоит. Оказалось, это была дача шведского посла: на берегу, на скале, прекрасное здание, рядом гараж из силикатного кирпича, на бережку – баня и туалет. Там мы были до первого июня, потом перешли в лагерь. Когда подошла осень, стали строить ротные землянки для размещения целой роты. Мы, батарея ПТО и, кажется, рота связи, сделали себе казармы и построили столовую. В декабре перешли из лагеря в сырую, построенную из свежесрубленных, покрытых смолою брёвен, казарму. Всё было холодное, но в казарме поставили печку. Остальные жили в землянках. Всё делали сами: валили лес, пилили, сами носили, сами грузили на платформы, разгружали и строили. Нам в батарее было легче – у нас были свои кони, потом машины дали, а в пехоте – у них ничего нет. У нас никаких материалов не было – сами вязали рамы, сами пилили. Самое тяжелое положение было с крышей – ни железа, ни рубероида не было. Тут появляются два Ивановских парня – Михаил Дудин и Коля Жуков, они сказали: «Нужно дранкой покрывать». У нас были всё больше украинцы, они не знали, что такое дранка. Под руководством будущего ленинградского архитектора Коли Жукова отковали ножи и организовали так называемую артель «Дранка». День и ночь на станке они делали дранку, так что покрыли ею все казармы, столовую и даже «ПТО». Где бы впоследствии ни писали о Дудине, везде вспоминают его дранку. Михаил и сам много писал. Позвонит и просит: «Слушай Лёша, расскажи-ка мне вот что…». И вдруг – получаю рукопись книги! Всё, что он со мной обсуждал – в этой книге. Он говорит: «Ты напиши-ка, пожалуйста, предисловие». Мне легко, я написал предисловие к его книге «Где наша не пропадала!» Она посвящена, в основном, Финской войне.
Всё лето я работал по топосъёмке полуострова Ханко с топографами – меня командировали, я эту дорогу прокладывал. Стали её насыпать, но не насыпали и десяти процентов этой дороги, началась война. Её так и не было, а он её так «укрепил», «накрыл»… И когда читаешь, думаешь – ну что это такое? Поэтому-то я и не хотел рассказывать. Вы сами потом станете смотреть: слушай – «этот то говорит, этот – так!» –это очень трудно, дорогой мой. Мы после войны собирались много раз, у нас даже был Ханковский день – второе декабря – день, когда мы уходили с Ханко. В этот день мы все собирались здесь, со всего Союза приезжали. Последний раз собирались в БДТ имени Кирова (ныне – Мариинский театр), нас было две с половиной тысячи – моряков, пехотинцев и всех... Когда станем говорить – как на разных языках! Один то видел, другой – другое... Иной воевал в пехоте – и то ему нечего сказать, а другой просидел три года писарем в политотделе и из винтовки ржавой ни разу не выстрелил – так ему хочется что-то, и он сочиняет! Или, например, – он три года крутил дивизионную печатную машину, я не говорю, что он не нужен – он нужен, но что он может сказать!? Или вот мой ординарец, Ваня Дуванов, он умер месяц тому назад. Я знаю, что он воевал, хороший парень, читаю его воспоминания – ну путает, путает всё! Путает местность, где он был, путает время – ничего не помнит!
На Ханко было 43 процента украинцев. Например, четвёртая рота состояла из одних украинцев, и командир роты украинец, не помню сейчас фамилию, а они его звали Червонный. Командиры батальонов были почти все украинцы.
Как я уже говорил, тринадцатого марта 1940 года окончился последний бой, а уже восемнадцатого или девятнадцатого сформировалась Особая бригада, которая поехала на полуостров Ханко. Всё лето 1940 года я работал с топографами на прокладке дороги. Однажды я делал съемку на привокзальной территории пограничной станции, и пригнали что-то не понятное. Думаю: «что же это такое?» – вся затянутая парусиной огромнейшая, огромнейшая платформа, и видно только одни колёса, я стал считать – шестнадцать осей, представляете себе!? Паровоз отцепили, и финны её передавали – это была одна из 305-мм железнодорожных пушек. Специально для них от железнодорожной ветки отводили особые «усы», на которых оборудовались огневые позиции. Сапёрные части строили укрепления вдоль границы и противодесантные – на побережье. Много успели, но к началу войны ни один ДОТ ещё не был достроен, только ДЗОТ-ы.
В 1940 году вышел первый поэтический сборник Дудина «Ливень». Ещё в «Красной Звезде» были напечатаны его стихотворения с Карельского перешейка, посвящённые Финской войне. Писатель Николай Тихонов познакомился с этими стихами, узнал, что на Ханко служит этот молодой поэт, и написал его командиру, что «в Вашей части есть такой-то поэт, я бы хотел, чтобы Вы создали ему условия службы, связанные с возможностью заниматься творчеством» – и Михаила перевели в библиотеку полка. Мы продолжали с ним дружить ещё со времени учёбы на пулемётчиков в полковой школе. Свой первый сборник он мне первому принёс: как-то в выходной день, говорит: «Пойдём на бережок, почитаем вот эту книжку» – пришли на берег Финского залива, он вынул из-за пояса книжку, я смотрю: Михаил Дудин, «Ливень». Я почитал, стихи мне показались слабыми, о чём я и сказал, что-то ему ляпнул, думал, что обидится, но он был выше этого. Потом вышла эта «Звезда», он сразу пришел, говорит: «Пошли читать». К стихотворению «Походный котелок» мы подобрали мотив и пели у себя на батарее:
Поднималась пыль густая
Вдоль проселочных дорог,
И стучал, не уставая,
Мой походный котелок.
Пела пуля в непогоду,
Смерти кровная сестра,
Я с тобой ходил в походы,
Спал и мерзнул у костра.
Из тебя в метель ночную —
Помнишь пушечный набат?—
Пил водицу снеговую
Насмерть раненый комбат.
И однажды на опушке —
Густы ели, снег глубок —
Недобитая «кукушка»
Мой пробила котелок,
После боя раным-рано,
Как умел я и как знал,
Боевые его раны
Красной медью заклепал.
И опять пошел в дорогу,
Дует ветер, путь далек.
И подсчитывает ногу
Мой походный котелок.
А был такой эпизод: когда он завтракал, «кукушка» пробила ему котелок.
Когда началась война, Михаила забрали в редакцию бригадной газеты «Защитник Родины». Ещё на Ханко выходила газета военно-морской базы «Красный Гангут». Когда, во время войны не стало бумаги, нашу газету пришлось свернуть, и выпускалась только гарнизонная газета «Красный Гангут», сотрудником которой стал Михаил. Вы знакомы с ответом гангутцев Маннергейму? Вот это – тоже его произведение!
О приближении войны мы не то что догадывались, а твёрдо знали. Романов, который на Кронштадтском рейде сел на наш пароход, был наблюдателем от дружественных стран при разгроме Франции, и, вернувшись, нам говорил прямым текстом, что будет война с Германией. Я это сам слышал на так называемом «семинаре». Всё, что нам говорили, мы передавали красноармейцам. Правда, иногда Романов говорил: «Ну, это вы не сильно «размазывайте» там, это я для вас, для ориентирования». Когда в 1946 году я всего на месяц приехал домой, в отцовской корзине, где среди других документов хранились мои письма, нашел своё письмо от февраля 1941 года. Смотрю – на кальке чернилами письмо отцу, в котором я писал, что я, наверно, к концу службы – а служба уже кончалась – буду направлен в училище и дальше чётко, ясно написано: «Папа, будет война». Я читаю, думаю: «Что я писал? Что я, такой умный, что предсказывал уже в феврале 1941 года?» – а потом вспомнил. И вот, когда объявили, что «внезапно» – мы только переглянулись. И потом приехал какой-то политрук, говорит, что вот «война... внезапно…», а мы ему сразу: «Как “внезапно”? Романов нам ещё когда говорил, да мы все знали, что будет война, а Вы тут!..» – политрукам с нами было очень трудно разговаривать о внезапности. Никакой внезапности не было. Девятнадцатого июня мы начали занимать позиции. Финны дали нам четыре дня: 26-го они открыли огонь. До этого они нас «ощупывали», мы их. Мы смотрим, как они готовятся, они смотрят на нас. Я был подносчиком в расчёте, а в данном случае подносчики были не нужны потому, что был приказ всем артиллеристам, миномётчикам – весь боезапас хранить непосредственно на боевых позициях. Наш склад находился от позиции на расстоянии 15 – 20 метров. Меня назначили в отделение разведки батареи 120-мм миномётов. Я умел обращаться с буссолью и другими инструментами, поэтому меня назначили корректировщиком огня, старшим группы из трёх человек: мы ходили, болтались по всему переднему краю по траншеям вместе с пехотой. Своей связи у меня не было, когда нужно было вызвать огонь, я пользовался связью, которая была у командиров рот и взводов. Хороший наблюдательный пункт был у разведчиков «ПА» (полковой артиллерии). У меня имелся только бинокль, а у ребят на наблюдательном пункте – стереотруба, она поточней, и если, скажем, цель находилась в их зоне, то я сразу приходил к артиллеристам. Они были ребята грамотные, подсказывали мне что-то там. Тогда же я познакомился с комиссаром нашей бригады Иваном Тимофеевичем Довгаленко, он был очень хорошим человеком, его все любили. В разговорах с красноармейцами, мне кажется, он немного прикидывался свойским. Ночью он пришел к нам в первую траншею – тогда он был старшим батальонным комиссаром, как майор носил две шпалы – слышу: разговаривает с одним, тоже украинцем, по фамилии Мандадыр, спрашивает его: «А ты где пуп оставил?» Тот: «Що?» Комиссар: «Да я тебе кажу, ты где пуп оставил?» – а тот никак не поймёт, где он пуп оставил. А тот: «Ты не хохол? Я ж тебе говорю: “Где ты родился?”» Он ему: «А-а, да, я полтавский». И вот, когда мы отходили с Ханко, в одного красноармейца в траншее попала финская мина. И потом в отчёте было написано, что «полк эвакуировался, потери – один человек» – Мандадыра убили, а я его знал: такой хороший был солдат, смелый, выдержанный. Очень любил ходить в «секрет», у нас было несколько «секретов», вынесенных метров на пятьдесят в нейтральную зону.
Финны открыли огонь 26-го числа, а до этого была полная тишина, только на большой высоте над нами пролетали немецкие самолёты. 22-го июня «Юнкерсы» бомбили морскую базу Ханко, но мы ничего не слышали – все-таки 22 километра! В наступление финны пошли тридцатого июня, вклинились в нашу оборону, но мы их выбили. Потом они на острова некоторые нападали, а мы перешли к активной обороне. Вокруг Ханко огромное количество островов, одни принадлежали нам, на других были финны, они обстреливали нас кинжальным огнём, ведь расстояние было всего два километра, в самом широком месте – пять километров! И мы перешли к активной обороне, за время которой мы взяли у финнов девятнадцать островов. Некоторые острова переходили из рук в руки, но ни один наш остров финны не захватили. Была попытка высадиться, но почти весь десант перебили, немногие ушли. Во время финского наступления наши потери были не очень большие, у финнов, говорят, много было убитых, я не знаю, не видел сколько. Знаю только, что финнам дали некоторое время, чтобы убрать трупы потому, что стояли очень жаркие дни, сухо. Сразу началась вонь и наши предложили, чтобы они убрали. Я этого боя не видел – как раз в то время на правом фланге был другой, а я был на левом. Вся наша батарея – четыре миномёта – вела туда огонь, а я был как бы вне боя. Финны наступали на посёлок правее железной дороги, а я находился левее, моей была вторая половина левого фланга сухопутного фронта. А всего перешеек в том месте шириной два с половиной километра, этот бой я только слышал, но не видел. У нас было спокойно, здесь финнам было труднее перейти – овраг. Это как раз то место, где Пётр Первый перетаскивал корабли, когда шведы его отрезали при Гангутской битве в августе 1714 года. Финская артиллерия вела очень сильный огонь, от него загорелся лес, горел мох, всё было в огне. Только к октябрю финский огонь немного ослаб потому, что мы уничтожали их огневые точки, действовала береговая и флотская артиллерия. У нас был очень хороший артиллерийский полк, в нём батареи 76-мм орудий, 122- и 152-миллиметровых – три дивизиона. Уже на Ленинградском фронте ему было присвоено звание: «Артиллерийский снайперский полк».
Тогда в бригаде появился первый Герой Советского Союза – Сокур, он был снайпером. Как рассказывали, когда наступали финны, он был на своём месте – где-то замаскирован, и финны через него перепрыгнули, и когда бой был, он якобы отсиделся, а когда финнов погнали и они отступали, он вылез из своего укрытия и трёх финнов взял в плен. Когда он привёл их на командный пункт, там был Дудин, и расписали его – мне потом Миша рассказывал. Я говорю: «Ну и сделал из дурака героя!» В 1942 году Сокур некоторое время служил комиссаром роты в заградотряде дивизии, а после гибели заградотряда в бою под Усть-Тосно, Сокура забрали, и он всё время был в Доме Офицеров на Литейном. Я много раз был там у него.
В десантных операциях пехота почти не участвовала, острова брали в основном моряки–«гранинцы» – Гранин был командиром десантных отрядов. Но тот Гранин не имеет никакого отношения к Гранину-писателю.
За время обороны к финнам перебежали всего двое: младший лейтенант Сенкевич и боец нашей разведроты по фамилии Халява, после чего разведроту расформировали – решили, что плохо воспитывали и плохо они действовали с первых дней. В разведроте было два взвода пеших и один – конной разведки. Взвод конной разведки оставили, им командовал Игнатьев; потом, когда в 1942 году у нас в полку сформировали разведроту, его назначили командиром роты, и в Усть-Тосно старшего лейтенанта Игнатьева убило, под танком. Хороший был парень и командир, за Финскую войну он был награждён орденом «Красного Знамени».
По всему фронту финны установили громкоговорители, и я сам слышал выступление Халявы, говорившего, что его очень хорошо приняли, что его готовятся отправить на Родину, и что «вот мне поручили сказать, что украинцы, наша местность освобождена немцами, спешите, переходите и поедем тогда домой!» Не помню, раньше или позже этого Халявы, я слушал речь Маннергейма, говорившего очень чистым, русским языком: «Доблестные защитники гарнизона полуострова Ханко, к вам обращается боевой генерал Русской армии полковник Маннергейм!..» И говорил, что «от большевиков освобождена почти вся Украина, немцы начали отправлять на Родину украинцев, мы знаем, что у вас их большинство – сдавайтесь, и мы вас отправим домой!» На это обращение Маннергейма Дудин и ещё один – забыл его фамилию – подготовили известный стихотворный ответ.
О предстоящей эвакуации я узнал немного раньше. У меня был друг – радист Зотов Коля – он по радио узнал, что один батальон тихонько ушел в Ленинград на Ораниенбаумский плацдарм. А потом уехали рабочие плавучего завода «Молот», он стоял у причала и все рабочие на нём были гражданскими. Коля мне сказал: «Мы уходим, эвакуируемся». Я пришел к командиру своего отделения и говорю: «Мы скоро уходим отсюда». Он – такие глаза на меня: «Что ты провокацией занимаешься?! Что за пропаганда?!» – тогда строго было, лишнего слова сказать было нельзя. Я говорю: «Знаешь, я тебе ничего не говорил!» А потом, вдруг – то у нас была строгая диета, ограниченные и сахар, и масло, и хлеб, а тут приходят ребята на кухню – бери, сколько хочешь и супу, и каши, и сахара! Ну, тут все молча поняли, что будем уходить. И всё равно всё не съели, многое уничтожили. Ребята рассказывали, что на острове Руссари были продовольственные склады, и они масло ящиками бросали в море. Но и многое удалось вывезти, Жданов говорил, что в декабре «гангутцы» привезли для Ленинграда продовольствия на три дня.
Все железнодорожные, сапёрные рабочие были здесь же призваны в армию, их объединили с инженерными батальонами и сформировали полк. Перед войной на Ханко на практику приехало много курсантов военных училищ – стажеров. После начала войны им присвоили звания лейтенантов и с разрешения свыше оставили у нас. Теперь их назначили командирами взводов и рот. Это был третий полк, который после приезда в Ленинград получил номер, и у нас стала уже не бригада, а дивизия.
На эвакуацию нам выделили три дня. Свои миномёты мы разбирали и закапывали в землю, уничтожали другую материальную часть. Свои четыре машины мы ещё раньше передали в автобатальон, мины передавали сапёрам, которые из них делали фугасы. Землянки и укрепления никто не взрывал, оставили всё как есть. Пока мы шли двадцать километров, какие-то наши орудия стреляли, стреляли беспрерывно, как бы прикрывали. Проходили мимо парка наших машин: «ГАЗ», «ЗИС» – стояли, будто на парад, чистенькие, хорошие. Потом кто-то говорил, что их вроде бы сожгли. Пришли в порт, видим, что Симоняк вышел из своего «ЗИС-101», стукнул её по боку, машина загудела, шофёр вышел, и она булькнула в залив. Видел, как в воду сталкивали орудийные платформы, пушки на них были разобраны, взорваны. Когда стояли на рейде, видел взрывы портовых сооружений, было уже темно, ночь со второго на третье. Нас погрузили на эстонскую лайбу, все моряки на ней были эстонцами, а командир, капитан-лейтенант – русский. Эта лайба сделала три рейса Кронштадт – Ханко – Кронштадт без потерь. Это было обыкновенное торговое судно, пароход. На него погрузилась батарея «ПА», наш штаб, наш батальон, при нас было только личное оружие. Народа было столько, что в трюмах люди задыхались – там же туалетов нет. Я из этого вылез на палубу. А оказывается, командиром экипажа был назначен начальник артиллерии нашего полка, капитан Бондаренко, он увидел меня и говорит: «Бровкин, назначаю тебя по левому борту вперёдсмотрящим, а что это такое – тебе объяснят!» Подошел моряк и объяснил, какая моя обязанность – надо было высматривать мины. Вот я увидел первую мину и кричу: «Слева по борту мина!» А там справа кто-то кричит: «С правого борта мина!» Когда я кричу, корабль чуть отворачивает. У меня был такой шест с рогаткой, я забыл, как он называется. Моя задача была: если я достаю, то эту мину оттолкнуть от борта. Одну я оттолкнул метра на два – полтора, насколько хватило длины. Раньше я видел морские мины на складе – эта была тоже рогатая, похожая на нашу мину, но не такая. Больше мин я не видел, а по правому борту кричали много. Когда мы выходили на рейд, там стояло столько кораблей, что если бы финны нас рассмотрели и выпустили несколько снарядов… Кричали команды: «Такому-то – в поход, такому-то – поход, такому-то – поход!..» – и стали расходиться, мы и пошли. Флагманом был турбоэлектроход «Сталин», гражданским было ещё только наше судно. Я видел два эсминца, их я и раньше видел у нас на рейде – это «Быстрый» и «Бесстрашный», было несколько тральщиков. Когда подорвался «Сталин», я сам слышал три взрыва, впоследствии было несколько версий: подрыв на минах, торпедирование и попадание артиллерийских снарядов. Судить не берусь, но я не помню, чтобы был обстрел. Я видел, как прыгали люди с него на катера, потом подходил тральщик – он тоже был намного ниже – и на него прыгали, и некоторые падали между кораблями в воду. Видел, как оставшиеся ребята прикладывали к сердцу гранату и взрывали себя, видел, как люди плавали в ледяной воде. На наш корабль подняли морячков с нескольких катеров. Эвакуацией гарнизона руководил вице-адмирал Валентин Дрозд, он три раза ходил из Ханко, последний раз тоже. Штаб Кабанова был на «Сталине»; говорили, там у него и каюта была, и мундир его висел, а его последний командный пункт был на каком-то острове и на «Сталин» он не вернулся, ушел на другом корабле, а мундир его поехал в плен. Несколько кораблей оказались перегружены и с трудом дошли до Гогланда. Мы благополучно дошли до Кронштадта, без потерь, очень хорошо, нам повезло. Когда прибыли в Кронштадт, Кабанов докладывал Жданову, что теплоход «Сталин» затонул, и все мы считали, что оставшиеся на нём погибли. Я лично только в 1943 году, даже позже, узнал, что пароход не затонул, а попал в плен. Писатель Рудных, написавший книгу «Красный Гангут», показывал, и я сам читал, что в реестре торгового флота СССР написано, что турбоэлектроход «Иосиф Сталин» затонул на Ханковском рейде третьего декабря 1941 года.
И только в 1944 году, когда освободили Таллин, оказалось, что он стоял у какого-то причала в Таллине, его использовали как лагерь военнопленных «гангутцев». Мне вскоре после войны довелось прочитать в «Красном Балтийце» статью, в которой было написано, что когда все корабли пошли в Ленинград, командиру тральщика, капитан-лейтенанту такому-то, было приказано подойти к «Сталину», взять его на буксир и отбуксировать его к ближайшему острову. Тот в ночь пошел. Где он там ходил… – вернулся и доложил, что на рейде, где стоял теплоход, его нет, а значит – утонул. В общем, делался вывод, что он не захотел, побоялся исследовать, струсил: пришел и доложил – утонул. Потом я встречался с тремя, попавшими в плен на «Иосифе Сталине», там было много и из наших солдат. Я просто «терзал» их: «Скажите, как это было?» А потом в 1959 году из Липецка приехал Карасёв с батареи «ПА», я его знал, он был в плену и тоже мне рассказывал, как немцы подходили, а они стреляли, бросали гранаты, не давали им взять на буксир. Немцы отходили. Какой-то интендант нашего полка выбросил белую простынь, его тут же убили. Но потом все командиры собрались, стали решать, что делать. Решили дать немцам взять их на буксир. Их отбуксировали в Таллин. Финны запросили передать им около пятисот человек, чтобы разминировать и привести весь полуостров Ханко в порядок. И вот этот Карасёв попал туда, там они весь плен провели. Рассказывали, что когда их привезли на Ханко, девять или десять сапёров сбежали. На линии обороны они обосновались в ДЗОТ-е, который и я знал, нашли там два пулемёта, гранаты, консервов много, и сколько-то дней они там сопротивлялись, воевали с финнами. Их там и уничтожили. Потом один мне рассказывал, что в 1944 году к ним приехал Жданов, бывший в то время представителем союзнической комиссии в Финляндии по разбору пленных. Зная все обстоятельства пленения, он дал приказ: «Здоровых – всех на фронт, больных – в госпиталь, инвалидов демобилизовать. Всех – без проверок!» Обращаясь к ним, он ещё сказал: «Предателей, которых вы знаете, отдать в “Смерш”!» Я спрашивал, много ли было таких? Мне ответили что немного, но были, десятка полтора было.
Второго декабря мы покинули полуостров Ханко, четвёртого – прибыли в Кронштадт. Десять дней пробыли в Кронштадте. Никто не знал, почему нас там держат, потом выяснилось, что лёд был слабоват. Когда он окреп, мы из Кронштадта перешли в Горскую, в Горской под посадку было подготовлено несколько эшелонов. Вместе с нами с Ханко прибыл отряд пограничников, они разместились в двух последних вагонах состава, которые по неизвестной причине взорвались, и пограничники погибли. Считалось, что это была диверсия. Мой командир миномётного отделения ехал в третьем вагоне, и рассказывал восторженно так, эмоционально: «Ты понимаешь, мы были в следующем вагоне!.. Во, как нам везёт: и оттуда, с Ханко, ушли и здесь!..». Долгое время считалось, что это была диверсия, и только потом мне сказали: «Помнишь? Это не диверсия была, это – ошибка железнодорожников. Был приказ заминировать всё железнодорожное хозяйство на случай оставления Ленинграда». То есть взорвались мины, заложенные нашими минёрами, и это не диверсия, а несчастный случай – вот так это было разъяснено, не знаю, насколько это правда.
Наша бригада была преобразована в 136-ю стрелковую дивизию. 335-й полк, бывший на Ханко, приехав в Ленинград, стал 286-м – это потому, что он потерял знамя. Я точно обстоятельств этого не знаю, Дудин написал, что командир комендантского взвода попал в плен, а знамя было обёрнуто вокруг его тела и сгнило на его теле, но это его выдумка – про знамя так никто ничего не знает. За утрату знамени полк расформировали, но никого не наказали. Сами солдаты ничего не заметили, просто присвоили другой номер – 269-й. Командира полка как бы сняли, но повысили в должности, назначив командиром тринадцатого УР-а 55-й армии, начальника штаба направили в другую дивизию командиром полка. Командиров батальонов сняли и послали в другие части, как правило – тоже с повышением.
Всё это потому, что полк выполнил свою задачу на Ханко: пять с половиной месяцев мы дрались на переднем крае, не сдали ни одного метра. Ребята, воевавшие на Ханко, и раненные там, писали в архивы, что «вот же я – «ханковец», защищал Ленинград, был ранен», а им отвечают: «По перечню Генерального Штаба Советской Армии 269-й полк не числится, то есть он в бою не был, а вы пишите, что были в бою и ранены». И вот я лично писал в Архив всё подробно, что это был 335-й, 269-й, 188-й гвардейский полк, сейчас он в Сертолово под номером 516, и «почему у вас его нет?» Так мне ответили, что «ошибка исправлена, что полк действительно был, что полк боевой, что полк не расформирован был потому, что вышел организовано с оружием» и так далее. И ребятам дали медали «За Оборону Ленинграда». Это произошло в начале шестидесятых, а до этого двадцать лет был молчок. Началось движение однополчан – а до этого все порастерялись – мы стали встречаться. Дудин написал большую статью в «Известия», что мы разыскиваем однополчан и хотелось бы встретиться, что «батя» – командир базы генерал береговой службы Кобанов – жив и поддерживает… Организовалось гангутское братство, стали присылать письма. Столько писем было, столько писем! Мне приходилось отвечать. Состоялась грандиозная встреча «гангутцев», потом были только встречи бригады. А полк наш был действительно боевой! За бои на Ханко командира полка наградили орденом «Красного Знамени», командиры рот – некоторые награждены орденами. Командир нашего второго батальона Цукач тоже награждён орденом «Красного Знамени» – это который защищал «Петровскую просеку» и два огромных острова. Командир второго батальона Сафонов – не знаю, был ли награждён, а командир третьего батальона тоже был награждён. Снайпер Ваня Исаичев получил «Орден Ленина», снайперу Андреенко дали орден «Красного Знамени». Их было четверо награждённых снайперов: Сокур, Исаичев, Андреенко и Савельев. По-моему, орденом «Красного Знамени» был награждён артиллерист Шишкин – у него получилось, что финны пошли в атаку, а они в орудие зарядили снаряд, и оно не выстрелило, так они вопреки всем уставам как-то пристроили банник и выбили снаряд. (Интервью с Шишкиным есть в разделе «Артиллеристы») А позже у нас миномётчик Саша Редин совершил подобный поступок: наша артиллерия и миномёты поддерживали попытку отбить сопку «142» – здесь, на Карельском перешейке, в 1942 году. Опустили мину – а она не выстрелила! Они вытащили «пятку» из опорной плиты, на лафете подняли казённик – мина вышла, Саша её подхватил – а она семнадцать килограмм – и всё. А ему даже медаль не дали! Высота «142» под Лемболово господствовала над всей территорией, командование решило финнов с неё выбить, но высоту не взяли, погибло много солдат. Была создана армейская комиссия, выяснить, почему не взяли. Когда собрали трупы и оружие, выяснилось, что в винтовках как было по пять патронов, так и оставалось – четыре в магазине и по одному в казённике – ни одного патрона никто не выстрелил! У нас обучали стрелять, если видишь цель, а попусту не стреляй! Немцы же, когда шли в атаку, то стреляли из автоматов, пулемётов, создавали «огневой вал», не давая нам поднять голову. Вывод комиссии был, что наш солдат не верит своему оружию, стреляет только когда видит цель, а нужно создавать «огневой вал». После этого стали проводить специальные занятия, чтобы солдаты хорошо знали своё оружие, а главное – ему верили. С другой стороны – ну сколько боеприпасов с собой наберёшь – два диска, ну три: два с собой, третий – в автомат! Две, три, ну четыре гранаты. Но ведь если пустить автомат, он тебе сразу пятьдесят патронов выпустит, а потом? В 1944 году такое дело было: влезли на «Воронью Гору» – и у меня боеприпасы закончились, у других. И у немца тоже! Друг на друга смотрим: немец на меня, а я – на него. Он в меня не стреляет, я в него не могу – и расползлись. Всегда не хватало боеприпасов, всегда. Поэтому я говорил ребятам: «по возможности – короткой очередью, 3 – 4 патрона!» Но это я далеко ушел от декабря 1941 года.
И вот нас привезли в Ленинград на Финляндский вокзал. Поначалу пришли в казармы на Рузовской, но они оказались заняты, тогда мы расположились в «Первом ЛАУ» (Ленинградское Артиллерийское Училище №1) на Международном проспекте (ныне Московский проспект). Прошло недели две или три. Там при дивизии сформировался миномётный дивизион. Начальник артиллерии полка Бондаренко оставил в своём полку человек четырёх «ханковцев» из миномётного взвода. Снова на поезде мы доехали до 5-й ГРЭС (государственная районная электростанция), а оттуда пришли в Новосаратовскую колонию. Это была немецкая колония, сперва мы жили у них в доме на втором этаже. Там жили два мальчишки, отец у них воевал. Потом в конце марта 1942 года немцев всех выселили и отправили в тыл. После приезда три дня ничего не ели. Объясняли тем, что поехали на ДПП (дивизионный продовольственный пункт) – а там ничего нет. Рассказывали, что Симоняк лично поехал к Жданову и говорит: «Что же вы делаете? Самую хорошую дивизию не кормите?» Потом что-то стали давать и даже прибавили: привезут какой-то чёрной муки, наболтают в кипятке, вкусно было… В конце декабря стали давать чистый хлеб, без дуранды, а то было так: получишь кусочек хлеба, возьмешь в руку, жиманёшь – оттуда вода вышла и есть нечего!
Началось большое переформирование, в каждом батальоне должна была быть миномётная рота. Мне присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения 82-мм миномёта. Мне было и скучно и как-то неприятно. Встретился как-то Бондаренко и спрашивает: «Ну, как осваиваешься?» Я отвечаю: «Нет, товарищ майор, не хочется мне…» – что-то высказал ему плохое, ну и расстались. А потом вызывают меня в штаб. Думаю: «Что такое?» Заместитель начальника штаба спрашивает: «Ты на лыжах ходишь?» – я говорю: «Хорошо хожу». Он говорит: «Мы формируем лыжный батальон, и в батальоне будет взвод миномётов» – и смотрит мне в глаза – знал, как я неохотно перешел из 120-мм на 82-мм, а в лыжном батальоне были 50-мм ротные миномёты. Говорит: «Ты будешь командиром этого взвода». Я говорю: «Я отделением-то не умею командовать. Уже у меня тут не получается!» Он говорит: «Слушай, всё получится» – он как-то на меня надеялся, что ли… Этот разговор произошел 31-го декабря 1941 года. Я прихожу в лыжный батальон, смотрю: а там старший сержант – он уже отделением три года командует, на Ханко был, Финскую войну ротными миномётами командовал, и он – помкомвзвода. Я – к командиру роты: «Так вот же командир взвода, а я помощником у него буду». И так всю зиму: он – командир взвода, а я у него – помкомвзвода. Когда лыжный батальон формировался, то в него вошли три роты, из каждого полка по роте. Был расформирован зенитный дивизион, и часть людей перешли в батальон: в частности начальник штаба батальона, делопроизводитель батальона. Две роты лыжного батальона располагались в Рыбацком. Мы стояли в частном доме, у хозяйки было четыре дочери две постарше и две маленькие девочки. Нам к чаю выдавали по две карамельки – подушечки или ложечку сгущенного молока, я свои конфеты отдавал детям. Кстати, Галочка вот уже два года как не звонит, а то всё звонила: «Я помню тебя Лёша, Лёша». Голодные были, приходилось кусочек отдавать.
В данное время сложилось такое положение, что дети, пережившие блокаду, имеют больше льгот, чем вот я – воевал и инвалид. Вот эта Гала как-то звонит, поздравляет меня и спрашивает: «А сколько у тебя пенсия?» – я отвечаю: «Десять». Она говорит: «Да ты что?! У меня – двенадцать». А вообще-то в этой семье у меня была любовь – девочка семнадцати лет, Шура. Но женился я на другой девушке, Шура конечно обиделась: «Я себя сберегла, для тебя, а ты!..» Я говорю: «Надо же было ещё и писать!» – а связь у нас прервалась – вот так получилось. Потом она хорошо вышла замуж.
Всю зиму 1942 года не воевали. В марте мы перешли в Осиновую Рощу, оттуда – в Песочное, дальше в Сестрорецк. Май, июнь и июль – нас использовали на строительстве оборонительных сооружений. Наши артиллеристы, в частности дивизион 120-мм миномётов, стояли на боевых позициях и участвовали в боях, в частности во взятии сопки «42» – высоты в Лемболово, у Медного Завода. Тыловая норма была очень скудной, но у нас никто не умер. Был только один случай: когда мы перешли в Осиновую Рощу, один купил у гражданского бутылку растительного масла, поел его и умер. А так – ни одного. Дистрофики были. Потом от начальника медсанбата я слышал, что от истощения в дивизии шестнадцать человек умерли. Я голод полегче переносил, чем другие, я и до сих пор считаюсь «малоежка». Но ноги не ходили, а главное – никаких желаний, даже газету не хотелось читать – ничего не воспринималось, тупой какой-то стал. Но старался – всё же меня командиром поставили, надо было не только самому держаться, но и людей подталкивать. Взвод у меня был небольшой – три миномёта, человек, наверно, двадцать. Плохо было, но скажу: у нас воровства не было. Говорят, там залезали в склады, и другие голодные мерзости случались, но наш взвод был хорошим в лыжном батальоне, его даже в пример ставили.
Первого мая лыжный батальон находился в Сестрорецке, приходит приказ: «Перейти в Лупполово». Пришли в Лупполово, команда: «Расформировать!» – и расформировали. Из лыжного батальона сделали 194-ю отдельную мотострелковую разведроту 136-й стрелковой дивизии, командир лыжного батальона стал командиром роты. В ней было три взвода, девять отделений, дали пять машин – по машине на взвод, хозяйственная машина и машина возить кухню. В один день могли работать сразу два или три отделения, а остальные – отдыхать. Комиссар дивизии Довгаленко проводил партийное собрание, на котором было решено организовать в нашей роте комсомольскую организацию. Я был уже кандидатом Партии, и вдруг меня зовут: «Тебя выбрали секретарём Комсомольской организации роты». Я говорю: «Как!? Никто ни слуху, ни чего…». Довгаленко: «Так що, я виноват? Ты ж дюже хорош для своей «комсы». Хлопцы, тебя гарно любят – они тебя избрали. А що я буду спорить с ними?» И я был командиром отделения, и одновременно – секретарём комсомольской организации; эти обязанности я с себя снял только когда перешли к обороне у Усть-Тосно.
Так как изначально бригада была укомплектована из солдат дивизии, формировавшейся на Украине, то большинство бойцов разведроты были украинцами. Было пять евреев, потом с пополнением пришли мордовцы. Был один татарин, он после войны работал шофёром, водил автобус №10, умер. Был один осетин – он погиб, армянин Иванян, и казах Костя Жанузаков – он был детдомовец, хулиган непослушный. Идёт рота строем, а он отстанет, говоришь: «Жанузаков, подтянись! Жанузаков, почему отстаёшь?!» – он отвечает: «А я не отстаю, это вы уходите от меня!» – вот такой юморист был (рассказывает, улыбаясь) Под Усть-Тосно Костя потерял ногу. После войны он приезжал ко мне с женой и сыном, показывал медаль и почётную грамоту: «Лучший следователь города Павлодара». Ни одного ленинградца в нашей роте не было. Как ранее – три роты лыжного батальона, так и теперь – три взвода разведроты, каждый взвод состоял из солдат, служивших раньше в трёх полках дивизии. Каждый взвод разведчиков работал в зоне полка, где они ранее служили. Это было очень умно сделано. Подозреваю, что это сделал комиссар Иван Ерофеевич Довгаленко, его все любили. И вот, когда было задание, и это был мой полк, то я говорил: «Это я пойду» – я прихожу к миномётчикам и говорю, что «ребята, я иду туда, пожалуйста, если будет ракета – значит, дайте туда огонька!» Они отвечают: «Иди, иди, мы тебя поддержим». Придёшь в батальон – там знакомый командир, легче договориться. Чувствовалась хорошая поддержка.
Приказу №227 мы были рады, мы его ожидали: все понимали, что что-то надо предпринять, чтобы сорвать триумфальный поход немцев на юг, на Кавказ, на Сталинград, и вдруг – этот приказ! Его приняли очень хорошо, очень хорошо. А то что же: всё отступают, отступают, отступают! Просто не было настоящей организации в этом деле. Но всё же главное – была очень плохая связь, командующие фронтами не могли определить, кто где. Вот почему Сталин посылал Жукова: «Поезжай, разберись, в чём дело» – и он своей настойчивостью, жесткостью, можно сказать жестокостью… Но это нужно было. Я много слышал рассказов об отступлении, окружении, интересовался этим.
Из оставшихся бойцов лыжного батальона был создан заградотряд. Но в условиях блокады подобные формирования были совершенно бесполезны – отступать-то было некуда, а с поддержанием порядка в ближайшем тылу вполне справлялись пограничники. Май, июнь, июль и часть августа – заградотряд базировался рядом с нашей разведротой. Я был секретарём комсомольской организации роты и дружил с комсоргом заградотряда. Как-то я его спросил: «Чем вы занимаетесь?» – он отвечает: «А ничем! Спим да отдыхаем». Наверно поэтому, когда во время Усть-Тосненской операции сложилось тяжелое положение, заградотряд был брошен в бой как пехотная часть и почти весь погиб потому, что использовали его бездарно; после никаких заградотрядов у нас не было. Да я и не помню, чтобы на Ленинградском фронте кто-то бежал – какая-то группа или единичные дезертирства, я о таком не знаю и не слышал никогда. А показательный расстрел у нас был только один раз, ещё на Ханко. За что его расстреляли, я сейчас уже не помню. У меня был случай в 1943 году на Синявинских высотах: шел сильный бой, у одного моего разведчика не выдержали нервы, и он ушел по траншее в тыл. Я говорю: «Андрей, сейчас же вернись!» – вернул его, а потом ребята говорят, что он опять удрал. Я построил пятерых разведчиков, чтобы его расстрелять. Он просил прощения, и мы его не расстреляли. Я командиру дивизии сказал, что «вот так и так» – он говорит: «Расстрелять его надо!» Я объяснил, что так и так, не расстреляли, простили. Он говорит: «Ну, и ладно, правильно сделал». Этот Андрей Комаровский остался жив и хорошо себя проявил при снятии блокады, был ранен. Когда в июне 1945 года дивизия вернулась в Песочное, я ещё лежал в больнице Мечникова, но уже ходил. Мне нужно было выправить документы, получить орден, и я приехал в дивизию. Был в штабе дивизии, меня там приняли, как калеку, как больного, и потом я попросил: «Отвезите меня в разведроту». Мне дали хороший тарантас и мы приехали в разведроту. Андрей подошел ко мне, опустил глаза и поблагодарил, что я ему жизнь оставил. Другое дело – в бою. Мой командир роты Тихонов сам признался, что когда в феврале 1944 года юго-западнее Нарвы был тяжелый бой, его разведчикам для выполнения задачи придали взвод пехоты, и пехотинцы не поднимались. Он: «Вперёд!» – они лежат, он: «Вперёд!» – они не встают. И он сказал, что он двоих расстрелял. Вот такое было: за отказ от выполнения приказа непосредственно в бою, не после, без трибунала – давалось право. Рассказали, что он расстрелял этих двоих, а задачу выполнил блестяще.
Перед началом Усть-Тосненской операции выдали «смертные медальоны». Во время Финской войны и пока мы воевали на Ханко, медальонов у нас не было. Разведчики, конечно, медальоны не носили.
В Усть-Тосненской операции нашу дивизию использовали по частям. Первым пошел в наступление 342-й полк Кожевникова, немцев выбили из их траншей. Это был первый успех, и то, что немцы побежали, очень воодушевило. Я наблюдал эту атаку и слышал, как закричали: «Ура-а!» и закончили «Ура!» Вот если Вас интересует, хочу сказать: когда всё время говорят – шли: «Ура-а! За Сталина, за Родину!» – никогда я не слышал, никогда. Этого не может и быть, чтобы ребята кричали: «Ура! За Родину! За Сталина!» Вот в январе 1943 года перед нами замёрзшая Нева, шестьсот метров. Шестьсот метров надо идти, что кричать «ура»? – выдохнутся. Спросите любого солдата, ходившего на штурм: что, кто-нибудь кричал: «За Родину, за Сталина!»? Никогда! Может быть, в начале войны и кричал комиссар или командир, но в 1942 году вышел приказ Сталина о том, что Ворошиловский приём времён Гражданской войны – ходить командиру в атаку первым и кричать – было запрещено. Даже командир взвода уже первым не поднимался, а летом 1943 года в Арбузово даже и «ура» не кричали.
Когда тридцатого августа полк Кожевникова вступил в бой за Ивановское, меня с группой разведчиков направили на противоположный, правый берег Невы. Связисты проложили по дну Невы телефонный провод к наблюдательному пункту командира дивизии, располагавшемуся между Усть-Тосно и Сапёрным, а сам командир дивизии Симоняк держал свой наблюдательный пункт на крыше завода Ленспиртстрой. Наш наблюдательный пункт находился на высоте – сейчас её называют «Курган славы», думаю, это название он получил вот почему. У меня там был оборудованный наблюдательный пункт; шестого или седьмого сентября вдруг ночью у нас на НП появляется Говоров. Видимо, из предосторожности мне никто не звонил, не предупреждал, что кто-то должен появиться. Командующий фронтом пришел с несколькими офицерами и некоторое время наблюдал за противоположным берегом. Утверждать не могу, но думаю, что название «Курган Славы» присвоили, чтобы отметить заслуги командующего фронтом. С наблюдательного пункта открывался очень хороший просмотр вплоть до деревни Захожье и Никольского. Мы наблюдали, откуда ведётся огонь, куда перемещаются резервы. Бывало, что шли из Ивановского в Отрадное. Там ещё был посёлок Бадаева, деревни: Феоктистово, Степановка, Чернышевка, Мишкино. У меня на наблюдательном пункте был траншейный перископ, но он себя не оправдал, поэтому пользовались в основном биноклем и стереотрубой. Потом мы сменили на «ПДМ» – это Симоняку подводники, когда уходили с Ханко, подарили подводный дальномер, и вот такую тяжеленную штуку мы таскали. Я с ним расстался уже только после Вороньей горы в начале 1944 года. Обо всём замеченном на левом берегу Невы я сообщал на командный пункт дивизии. Обстановка в воздухе была далеко не в нашу пользу, «Юнкерсы» зверствовали над нами. Он пикирует и запускает сирену – это действовало очень сильно, аж дрожали все «нервочки», натягивались, дрожали… И-и-и! Бах!!! – очень эффектно у них получалось это над нами. Все стоявшие неподалёку дома белого кирпича превратили в развалины. Район плацдарма ни наша авиация, ни немецкая бомбить не могли потому, что там наши и немцы стояли, как говорится, нос к носу. В воздухе шли непрерывные бои: самолёты отгоняли друг друга, но немецкая авиация имела огромное превосходство. Они наших так лупили, сбивали! Вот в районе Малое Манушкино, Большое Манушкино, Ёксолово – здесь в лесах наших лётчиков много лежит. Когда мы видели, что наши лётчики спускались на парашютах, то ребята из соседнего взвода ходили им помогать. Помню, они рассказывали: «Один лётчик зацепился парашютом и висит на сосне. Видит, что мы идём и кричит: «Не подходите, сволочи, стрелять буду! Перестреляю всех! Фрицы!» Мы ему: «Да ты что, сдурел? Это же мы, наши!» Он кричит: «Не-ет, я не вижу, что это наши солдаты!» Мы говорим: «Ну и чёрт с тобой, виси, мы уйдём!» Тогда он кричит: «Ну ладно, снимайте».
Позади нашего кургана был песчаный карьер, принадлежавший силикатно-кирпичному заводу, недалеко от него стояли полуразрушенные силикатные домики. В подвал одного дома мы перенесли свой наблюдательный пункт, оттуда было хорошо видно Отрадное: все дворы, дома, траншеи. Так вот, в первых числах сентября в карьере стали устанавливать под углом деревянные рамы – мы их потом называли «боронами». К этим рамам ребята по двое носили и устанавливали в них тяжелые мины, которые мы называли «головастиками», а потом их прозвали «Иван-долбай». Они были разного веса: одни около сорока килограмм, другие – что-то около восьмидесяти пяти килограммов. Я помню, как ребята тяжело их носили. Потом подвели провода, откуда-то подали ток, и они: Выу-у! Выу-у! Выу-у!… Снаряды падали в Отрадном, между церковью и железнодорожными путями, на которых стоял разбитый паровоз, служивший нам ориентиром. Я видел эту работу и передавал, что наши тяжелые миномёты из карьера пускают снаряды, и что там всё кипит: красное, чёрное, огненное, коричневое – всё клокочет и кипит. Об этом, увиденном, я написал в донесении. Через какое-то время меня приглашают в штаб, там сидят двое в военной форме без знаков различия и двое в гражданских костюмах. Интересовались, что я видел, потом спрашивают: «Ты можешь точно указать это место?» – я говорю: «Ну конечно!» Так вот дали мне задание сходить туда ночью. Я с тремя ребятами по наплавному мостику, наведённому в устье Тосно ниже шоссейного моста, переправился через Тосно и притащил два немецких трупа. Там было очень маленькое расстояние от наших траншей до немцев – чуть ли не на бросок гранаты. У меня была очень маленькая надежда на успех, но нам повезло, что немцы лежали на нейтральной полосе. После этого удара наши там наступали, поэтому лежали и наши, и немцы, но отличить одних от других труда не составляло – немецкие трупы были все обуглившиеся.
Специальная комиссия рассматривала эти трупы: изучали, как они погибли, от чего. На них не было ни одной царапины, но они были все чёрные. После войны в газете «Ленинградская Правда» я прочитал статью журналиста Игоря Лисочкина, в которой он писал, что наши учёные-пиротехники изобрели такую смесь, такую взрывчатку – и описывает почти слово в слово то, что я видел своими глазами. Помню ещё, что ребята- разведчики рассказывали, что немцы кричали: «Рус, если вы ещё раз будите применять эту адскую машину, то мы пустим газы!» И якобы по этой причине больше такую начинку не применяли.
После тяжелых боёв в Усть-Тосно наша дивизия перешла к обороне, и вот тут-то началась работа для разведчиков. В то время не говорилось, что нужен «язык», а говорили, что необходим контрольный пленный. И этого контрольного пленного мы никак не могли взять, какие немецкие части находились на нашем участке, мы и так знали. Пленного надо было взять, чтобы узнать о намерениях противника: может немцы готовятся отступать или наоборот – идти в контрнаступление. Начальник разведки 55-й армии говорил мне, что, мол, у тебя есть предпосылки, ты должен взять пленного. Надо сказать прямо, что в то время разведчики действовали плохо, очень плохо: ещё не научились, как следует, взаимодействия не было. К этому времени противник и мы уже основательно заняли свои траншеи. Мы находились недалеко от впадения реки Тосно в Неву, между шоссе и железной дорогой. Левее находилась сырая лощинка, проходившая у нас под названием «Куриная лапа». Нам надо было перейти железнодорожную насыпь, левее у моста она находилась в руках немцев, там стоял пулемет, обстреливавший единственную переправу на «Ивановский Пятачок». В месте, где нам предстояло работать во время боёв, немцев сперва немножко подвинули, захватили две передние траншеи, а потом они выгнали наших из одной траншеи, и таким образом между немцами и нами образовалась нейтральная зона. И вот без рекогносцировки, без всякой предварительной подготовки мы пошли в ночь, преодолев нейтральную полосу, прыгнули в траншею. Со мной был Неверов, Саранча и ещё несколько человек. Немцы разбежались, и ни одного мы не поймали. В погоню за одним немцем бросился Саранча, и больше мы его не видели. Там была землянка, но необычная потому, что в ней мы нашли много каких-то документов, я все их собрал и сложил в мешок. Был у нас бывший шофёр, пришедший с пополнением, он был старше нас и я не знаю, кто его послал с нами. Я смотрю – ну зачем он здесь нужен – и говорю ему: «Карасёв, на тебе мешок, и давай быстро в свои окопы. Доставь документы!»
В немецких окопах меня ещё удивило, что в нише траншеи стояло несколько наших котелков, но не грязные, какими они бывают у наших солдат, а отмытые и начищенные до блеска, тут же стоял наш 50-мм миномёт, а рядом в красиво оформленной нише лежали два лотка с красными немецкими минами. В это время уже завязалась драка, начали стрелять. Я сел верхом на этот миномёт, говорю ребятам: «Смотрите, где будут рваться мины и делайте поправки» – и начал стрелять. Я стоял на коленках и так увлёкся, что не заметил, как сзади подобрались враги, и из-за поворота траншеи немец бросил в меня свою «лимонку». Она взорвалась буквально у моих ног, было такое впечатление, что у меня «там» всё вырвало. Но оказалось, что у меня были изорваны брюки и кальсоны, но «там» не было ни одной царапины (рассказывает, улыбаясь). У меня с этого времени к этим немецким гранатам не было никакого доверия, они были очень слабые. Всё это происходило как во сне. Я и не заметил, как мы остались только втроём с Неверовым и Борей Савинским. Куда все подевались? А немцы подходят. Я схватил миномёт, забросил его через бруствер траншеи в свою сторону, и мы с ребятами выскочили и поползли. Два немца хотели нас отрезать, я крикнул Неверову: «Стреляй!» – и тут прилетела ещё одна граната. Я схватил её и отбросил, а немцев, по-моему, Неверов ухлопал. Мы вскочили и побежали. По нам открыли огонь из пулемёта. Одна пуля прошла у меня чуть сбоку от позвоночника, ну буквально под кожей прошла. Когда я спрыгнул в свою траншею, то почувствовал, что саднит в спине и в правой руке засел осколок. Подошел санитар. Я ему говорю: «Вот, посмотри руку». Он говорит: «О, у Вас осколок!» Я говорю: «Так вытащи» – он отвечает: «Не-ет, ни в коем случае. Я операции в траншее не делаю». Тогда я сам приловчился и вытащил его зубами. Другой осколочек засел в районе кисти. Когда я их получил, не знаю: то ли в траншее, то ли когда отбросил вторую гранату. Выяснилось, что не вернулись Саранча и Карасёв. Мы всё же надеялись и ждали: бывало так, что человек, где-то заплутает, а потом возвращается – но нет. И всё же эта история имела продолжение. Спустя лет двадцать после войны приезжает ко мне Боря Савинский. Он и ещё несколько ребят, в том числе и Саранча, были из Белоцерковского района Украины. И Боря мне говорит: «А Саранча-то жив! Он был в плену, а сейчас он жив, работает. Я хотел в военкомат сходить и заявить, но потом думаю: нет, надо сперва с Бровкиным посоветоваться». У меня сразу так и загорелось: «Ах, – думаю, – сволочь, ушел! В плену был!» Но потом подумал: «Вот время прошло. А мы знаем, как он попал в плен? Он, может, бежал за немцем, увлёкся, а его там и схватили. А сам он, может, и не хотел сдаваться. А мы своим заявлением можем ему испортить всю жизнь» – и так Саранчу мы оставили, но занозой этот случай у нас остался.
Ну вот, а в тот раз, когда я пришел – а Карасёва-то с мешком документов нет! Мне начальник штаба дивизии говорит: «Знаешь что, надо найти этого Карасёва. Наверно он убит» – и мы с сержантом Алябьевым полезли туда. А в нейтральной зоне было столько трупов! Причём большинство – наших бойцов, немцев было очень мало. Убитые лежали ещё с августовских боёв и уже пропахли. Но наши поиски облегчало то, что погибшие были в гимнастёрках, а Карасёв был в шинели. Но сколько мы ни ползали, рассматривая трупы, Карасёва так и не нашли. А я, дурень, ещё и пополз именно к тому месту, где вчера мы прыгали в немецкую траншею. Смотрю: на бруствере стоит направленный в нашу сторону пулемёт, и пулемёт-то наш, «ДП–27», а рядом никого нет! Я тихо потянул его за ствол – тишина. Взял пулемёт, а патроны в диске как загремят! Я диск потихонечку снял, а пулемёт взял, и мы ушли. Хотел принести пулемёт к себе, но подумал, что если расскажу, как его достал, то мне скажут: «А-а, где-то в нейтральной зоне подобрал, а сам говорит, что у немцев отобрал!» – так я никому и не сказал. Саша Алябьев просто взял его и принёс в роту – и тоже молчок. (По данным ОБД «Мемориал»: Красноармеец 136 с.д. Карасёв Кузьма Иванович 1913 г.р., уроженец Воронежской обл., разведчик-шофёр, и Саранча Иван Васильевич 1918 г.р., уроженец Харьковской обл., ефрейтор, командир отделения. Убиты 24.09.1942. Похоронены Усть-Тосно Лен. обл.)
Кто-то рассказал корреспондентам, что вот Бровкин захватил миномёт и уничтожил много немцев, меня сфотографировали и фотографию поместили в газете, а под ней такая подпись: «Герой нашего фронта старший сержант разведчик Бровкин ворвался во вражескую траншею, захватил миномёт и выпустил по противнику 270 мин». Не знаю, была ли хоть какая-нибудь мысль у написавшего это человека. Ребята-миномётчики в полках увидели и говорили: «О, наш Лёша-то, ну и брехун, ну и брехун!» Потом при встрече издевались надо мной: «Слушай, как это ты умудрился столько мин выпустить?» Но я знаю точно, что выпустил девятнадцать мин: в окопе стояло два лотка, в каждом немецком лотке по десять мин и, когда немец бросил в меня гранату, во втором лотке оставалась последняя мина.
Через несколько дней примерно в том же месте, но несколько правее, мы снова пошли к немцам. Там уже было установлено минное поле, поставлены проволочные заграждения, увеличен промежуток между нами и немцами. Перед выходом ребята хорошенько оправились: освободили кишечник, мочевой пузырь и поползли. И вот я вижу на фоне немного более светлого неба силуэт человека. Я ребятам дал сигнал и мы – тихо- тихо, ползком, а потом прыжок – и схватили! Я ощупал его плечи, а у него на шинели всего один погон. «Ага, – думаю, – эсэсовец». А «эсэсовец» вдруг как закричит: «Я свой! Я плен! Я плен!» – я смотрю – азиат, а уже шум поднят. Притащили его в свою траншею. Оказалось – казах, шел в плен, снял с трупа эсэсовскую шинель, надел и шел сдаваться. Когда мы его схватили, он решил, что это немцы, и закричал: «Я плен! Я плен!» Мы «поддали» ему и отдали особистам. Так у нас сорвалась очень хорошо продуманная и подготовленная операция.
В следующий раз ходили за пленным в районе Красного Кирпичника. Там был противотанковый ров, вырытый ещё нами, он был занят немцами, и там у них проходила первая траншея, очень глубокая. Там было сделано так: по стене рва, обращённой в нашу сторону, шла такая специальная дорожка, а внизу стояла вода. Нейтральная зона была очень большая, около шестисот метров. Несмотря на то, что было уже одиннадцатое октября, трава стояла высокая, всё пространство заросло высоким бурьяном. Группа захвата со своим командиром не проявляла никакой инициативы: отползут метров десять пятнадцать и лежат. А уже подходит рассвет. Нас контролировал старший политрук, этот политрук подполз ко мне и говорит: «Бровкин, видишь – ничего не получается, не идут. Бери на себя!» При нас были сапёры, которые разминировали проход, они прорезали проход в проволочном заграждении. Я оставил двоих разведчиков, чтобы они охраняли этот проход, в который мы и прошли. Я спрыгнул в траншею и схватил немца, держу его и кричу своим: «Берите, тащите!», они сверху, в темноте – хлоп, хлоп прикладами. У немца была каска, а у меня фуражка. Один врубил мне по голове – у меня фуражка упала, кровь пошла. И они удрали и оставили меня один на один с этим немцем. Как я вырвался – до сих пор не понимаю: немец был здоровый, сильнее меня. Я ему прострелил ногу, но, несмотря на это, он здорово двинул мне в скулу, потом выбил у меня автомат. Когда он кричал, я стал зажимать ему рот, а у него, видимо, был мостик, я его выдавил и эти зубы, они остались у меня в левой ладони. До сих пор, как вспомню – скользкая эта слюна у него… (говорит с содроганием).
При мне оставались две гранаты и наган. Я прижал немца, думаю выстрелить, но слышу: немцы-то уже наверху – услышат и сейчас меня схватят. Я его – наганом, несколько раз, в висок. Когда он захрипел и осел на корточки, я вскочил ему на плечо, другой ногой – на голову и выскочил из траншеи. Бегу и вижу, что дорога к своим перекрыта – когда разведчики побежали, то немцы обнаружили наш проход и начали по нему лупить. А тут ещё идут четверо немцев: так спокойно идут к проволоке, а мне деваться некуда, рогатки с проволокой высокие, в два ряда. И вот что у человека, какие силы бывают? Я перепрыгнул заграждение, оставив на нём кусок маскхалата, свалился и ещё успел бросить две гранаты – так и ушел. Прихожу к своим, а они так на меня смотрят: «Как ты ушел?» – а я и сам не знаю, как я ушел. Потом, уже в Ижорах, построил себе барьер такой же вышины, хотел перепрыгнуть – господи ты, боже мой, даже и думать нечего! Тогда я никому не говорил потому, что если рассказать, никто бы не поверил, сказали бы: «Что ты брешешь?» Так мы и не смогли взять контрольного пленного, но это было не только у нас, а по всей линии обороны 55-й армии.
У меня вот бывало такое положение, что я схватывался в траншее с немцами. А так, в основном, обычно были «четыре О»: обнаружили, обстреляли, отошли, оправдались. Так разведчики и оправдывались: «Мы подползли, нас обнаружили, обстреляли, мы отошли». У меня было правило: плохо ли, хорошо ли, как есть – так и докладывать, а вы принимайте меры. Поначалу этим я вызывал недовольство и недоверие, зато впоследствии заслужил такую вещь: 17 сентября 1943 года на Синявинских высотах командир нашей дивизии Щеглов по радио докладывает командиру нашего Гвардейского корпуса Симоняку обстановку и говорит: «Вот сейчас ко мне разведчики пришли и вот это доложили». Симоняк выслушал и говорит: «Афанасий, а какие разведчики? Я ведь их всех знаю». Щеглов отвечает: «Бровкин» – а я сижу рядом в землянке командира дивизии. Симоняк говорит: «Афоня, я Бровкина знаю, ты ему верь». Я сижу, и то ли от счастья, то ли от чего – как будто парализован, думаю: «Господи, боже мой, Симоняк, что меня ругал, дураком называл – и вдруг говорит своему подчинённому: Бровкину верь!» – я ошалел просто! Не знаю, понимаете ли Вы моё состояние, но это была для меня высшая награда.
В боях под Усть-Тосно против нас сражались в том числе и эсэсовцы. Не скажу, что они воевали как-то экстремально или что-то ещё – всё как обычно. Например, в Арбузовской операции летом 1943 года не было ни одного эсэсовца, а воевали немцы, сопротивлялись, как говорится – дай бог! Не сложилось у меня мнение, что эсэсовцы воевали лучше. Думаю – это наша пропаганда, чтобы оправдаться: «Вот нам было очень трудно потому, что тут отборные были». Я не знаю, то ли они лучше сопротивлялись, то ли мы хуже наступали. Под Усть-Тосно было первое наступление нашей дивизии за время войны, наступательного опыта у нас не было. Не так всё шло хорошо, как потом мы научились делать, когда было уже отработано взаимодействие артиллерии с пехотой, связь и так далее.
Одиннадцатого октября нашу дивизию отвели в Рыбацкое, где мы начали готовиться к боям по прорыву блокады Ленинграда. Позже за успешные действия в этих боях нашей дивизии будет присвоено наименование «63-я гвардейская стрелковая дивизия». Готовились очень серьёзно, каждый день занятия, три раза проводили учебное форсирование Невы между Новосаратовской Колонией и Рыбацким. Лично Ворошилов приезжал с проверкой готовности дивизии к преодолению Невы. Ноябрь, декабрь – шли интенсивные занятия.
Под новый год помкомроты с группой разведчиков вышел на наблюдательный пункт в районе предстоящего прорыва, и до двенадцатого числа вели там разведку. Утром десятого января наша разведрота на лыжах первой выступила из Рыбацкого к исходным позициям, одиннадцатого числа все были в районе Чёрной речки на правом берегу Невы. Ещё до начала наступления в батальоны были направлены группы разведчиков – действовать в боевых порядках рот. Эти группы, четыре – пять человек, были свободны от боя, они наблюдали, где сосредотачивались немцы, где отходили, и обо всём увиденном тут же докладывали командиру батальона или командиру роты, или вообще солдатам. Как бы подсказывали, что делать – потому, что командир же не может всё видеть, а разведчики это делали, они же брали пленных и отправляли в штаб. Когда утром двенадцатого января началась артподготовка, я находился на командном пункте Симоняка. После последнего залпа «катюш» были даны зелёные ракеты, служившие сигналом к началу атаки. Но в некоторых местах роты не выдержали и сорвались в атаку минуты за три – пять до пуска ракет, выскочили на лёд. Как только пустили ракеты, музыкальный взвод сразу заиграл Интернационал. И под Интернационал – гимн Советского Союза – вся пехота выскочила на лёд и пошла форсировать Неву. Наша рота покуда оставалась в распоряжении командира дивизии. Ответный немецкий снаряд разорвался перед амбразурой Симоняка, и её завалило снегом, льдом и землёй. И вот разведчики Дуванов, Егоров и Грунин выскочили и под огнём руками всё разгребли. Симоняк был восхищён их храбростью и тут же им вручил по медали.
Среди музыкантов был ранен мой знакомый, Лордкипанидзе – это был хороший музыкант, скромный грузин. На Ханко он служил в комендантском взводе, а потом – в дивизионном оркестре, очень хорошо играл на скрипке. Он дружил с моим командиром, Борисом Киселёвым, они оба занимались в драмкружке и переиграли почти все пьесы Островского. Больше Лордкипанидзе в дивизию не вернулся, а потом уже после войны узнаю, что он – профессор Тбилисской консерватории. У меня есть письмо Путилова в бытность его заместителем командующего Закавказским Округом к командиру нашего полка Шерстнёву, где он пишет: «Ну что тебе сказать, здесь много ханковцев говорят, что есть какой-то великий музыкант…» – это шла речь о Лордкипанидзе. Были ли ещё потери среди музыкантов, я не знаю. Наумов, дирижер оркестра, долго жил, служил уже в Сертолово. Я с ним встречался, он хорошо освоил баян и в Сертоловском доме офицеров работал баянистом.
Я наблюдал, как шло наступление через Неву. Первыми шли штурмовые группы, нёсшие с собой лестницы – на нашем участке вражеский берег достигал высоты 10 – 12 метров. Я не видел, как они взбирались, а видел только, как они шли по льду и помню, что на Неве потерь не было. А вот с левого фланга, где наступал полк Кожевникова, наступала 86-я стрелковая дивизия Героя Советского Союза полковника Трубачева. И она залегла под огнём на льду, не дойдя до левого берега. Они должны были наступать на Пильную Мельницу, потом на высотку «Башмак». Я это наблюдал, а потом говорю Симоняку: «Товарищ генерал, смотрите – дивизия Трубачева лежит, надо бы помочь!» А он: «Иди своим делом занимайся!» – а сам соединился, наверно, с Духановым и говорит: «У соседа-то дело – швах». А тот ему ответил, что-то вроде: «Я в курсе». Симоняк высказал такую мысль, что: «не помочь ли?» – это что я слышал и запомнил. А потом ночью им позволили перейти Неву на нашем участке и продолжить наступление уже с берега. На нашем, правом, фланге наступал со своей дивизией Борщёв Николай Семёнович. Неву он форсировал нормально, зацепился, наступал, а потом его контратаковали и тринадцатого он не наступал.
Мы вышли к Первому и Второму рабочим посёлкам. Немцы решили нас подрезать, отрезав от Невы, организовали хороший контрудар. Справа от нас непосредственно на Невдубстрой шла 286-я дивизия Борщёва, она немцев пропустила, и командир нашей дивизии был вынужден послать нашу 694-ю разведроту. Рота была большая – 121 человек, и человек семьдесят пошли, прикрыли наш правый фланг вместе с переправившимися к этому времени танкетками, которые к нам направил Путилов. Танкетки нам очень помогли, у них пулемёты хорошие, ещё они хорошо маскировались. Машины были окрашены в зелёный цвет, их заложили ветками и завалили немного снегом. Там четырнадцатого января в посёлке Электрострой-1 я как бы случайно взял пленного. Это был резервист, поляк. Я схватил его, он кричит: «Я пОляк! Я плен, я плен, я пОляк!». Он был ординарцем командира роты. Они бросили землянку, землянка хорошая была, и отступили. А потом, как он объяснил, жалко стало оставленный в землянке очень хороший радиоприёмник, командир роты его направил: «иди и забери!» Он с санками приехал, а землянку-то мы уже заняли! Его и взяли. В это время из роты связи к нам был прикомандирован связист высшего класса, Володя Виноградов, и мы ему этот приёмник отдали. Потом он вспоминал: «А помнишь, как вы пленного привели, и приёмник?» Что-то вот уже года два Володя мне не звонит, и я не звоню, не знаю, жив он или нет.
В пятом посёлке сильное сопротивление оказали бывшие наши пленные. Среди пленных ребята узнали санитара из сапёрного взвода нашего полка. Бывший командир сапёрного взвода, впоследствии начальник инженерной службы полка, Толя Репня – он был ещё на Ханко, а до войны закончил «МИУ» – Московское Инженерное Училище; и он узнал, говорит: «Ах ты сволочь, мы думали, что ты убит под Усть-Тосно, а ты тут!» Он его лупил-лупил, не знаю, расстреляли его или нет – некоторых-то стреляли. Я там участвовал, чтобы не дать всех перебить, отбивал от своих, живых отправили в штаб.
А до этого меня из-за них Симоняк дураком назвал. Пятый посёлок было никак не взять, Симоняк послал узнать, что это там за такие укрепления, что не могут никак их взять? В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое января я ходил и обнаружил, что слышна русская речь, а когда крикнул: «Братья-славяне, скажите пароль!» – немецкие карабины, «шмайсеры» и ручной пулемёт открыли такой огонь! Как же так, русские, а стреляют? Когда я доложил и говорю: «вот так и так, я пришел, а там – русская речь, встал на колени и говорю: «Братцы-славяне…», а стреляют немцы!», – Симоняк спрашивает: «Так кто там, немцы или русские?» Я говорю: «Русская речь», – он: «Да ты что, заблудил?» А я сам не могу ответить и понять, как это так – речь русская, а стреляют немцы. Там первым наступал командир девятой роты младший лейтенант Володя Михайлов. Я вернулся к нему, он сидит в воронке. Я его позвал, он легко оттуда выпрыгнул – боксёр бывший, я говорю: «Скажи, пожалуйста, ведь там же ведь наши?» Он отвечает: «Где? Да ты что, охренел? Я с двенадцатого числа иду в авангарде. Впереди меня никого нет!» Я говорю: «Да как же нет? Там русские!» Он: «Да что ты ерунду говоришь? Ты слышишь, стреляют? Так есть там хоть один выстрел из нашего пулемёта или автомата?» – я говорю: «Нет». Он говорит: «Так чего ж ты мне голову морочишь?» Я взял ещё одного разведчика и опять туда вернулся поближе. И снова слышу – разговаривают по-русски. И вот это всё я генералу говорю, ну и он: «Вместо того чтобы всё узнать, ты переговоры там устроил». То, то, то, он меня и дураком назвал. Когда он меня дураком назвал и сказал, что я заблудил, я говорю: «Я, товарищ генерал, не заблудил, ориентируюсь хорошо». Он говорит: «А что же тогда?.. Уходи с глаз долой!» Я и пошел, сам не знаю что – дурак-дураком, действительно. Может я что-нибудь бы ещё сделал, но когда ходили в последний раз и отползли, переговариваемся: «Что делать? – Не знаю, что делать», – и в это время из-за Невы наша «катюша» сыграла очередь по квадрату, где мы располагались. А там торфяник, и когда «эрэсы» взорвались, я лежу и думаю: «Ну всё, конец нам!» У нас халаты беленькие были, чистые, а тут – чёрные, как черти, вымазаны торфом, грязные. У меня осколком валенок, как бритвой, от колена до самой щиколотки разрезало, а брюки даже не задело. Одного парня легко ранило. Я поднимаюсь, думаю: «Ну, жив я, жив». Поднимается один, второй – и все, как один, все живы. Вот самое страшное оружие я испытал на себе, думаю: «Может и по немцам наши так бьют? Может наши только так говорят, что «катюша, катюша», а она может не такая грозная?» Когда я рассказал это начальнику артиллерии полковнику Морозу, он возмутился: «Кто это такое сделал?» Нам были приданы две батареи «катюш», стоявших на правом берегу Невы. Он хотел узнать, кто автор этого удара, но не нашел.
Восемнадцатого числа взяли этот рабочий посёлок, и всё выяснилось, когда взяли пленных. Они были одеты в различное обмундирование, кто-то говорил, что были даже канадские шинели, были и наши, были и немецкие – в общем, какая-то всякая «рвань». Бросилось в глаза, что мы были тощие, худенькие, а у них морды такие красные. Это были перебежчики, которые бросили свои позиции и перешли к немцам, таких было немало. Немцы их содержали в специальном лагере, а в трудный момент использовали. Я помню, что пятьдесят человек их было взято в плен. Но у меня есть письмо заместителя командира дивизии Путилова к Шерстнёву с воспоминаниями, так он пишет, что «я помню, что были предатели в Пятом рабочем посёлке» и называет цифру – 75 предателей-перебежчиков было взято в плен. Начальник разведки дивизии майор Рубан Иван Яковлевич – он меня защищал перед Симоняком – говорит мне: «Слушай, друг, а ведь Николай Павлович говорил начальнику штаба: “Иван Ильич, а ведь разведчик-то был прав, а я его обозвал”!». Мне Симоняк ничего не сказал, но с тех пор изменил ко мне своё отношение.
Когда мы взяли Пятый Рабочий Посёлок, там бродили лошади. У немцев были сделаны временные конюшни из сосновых веток. В основном, видимо, лошади были артиллерийские потому, что тяжелые. Среди них верховая гнедая кобылица и даже с уздечкой, а я с детства любил лошадей, знаю их повадки. И так обрадовался ей, подошел, похлопал, погладил и запрыгнул на неё, но что-то сделал не так – она сделала «свечу» и я свалился. Ребята захохотали, мне стало как-то неудобно, захотелось исправить ошибку, опять сел – и снова она сделала «свечу», и я свалился с этой кобылицы. Тут подошел командир разведроты, капитан Слатковский Сергей Митрофанович, и говорит: «Бровкин, не трогай, не трогай, не твоего ума дело!» – а он когда-то закончил Тамбовское Кавалерийское Училище. Подошел к ней, сел и что-то там стал говорить, делать, и она пошла танцевать. Он говорит: «У лошадей, что в нашей армии, что в немецкой, выучка одинакова». Потом он получил задачу и ушел. Тут подошел заместитель командира дивизии Путилов, а он тоже ещё в царской армии имел какое-то отношение к кавалерии. Я тоже получил задачу, а куда девать лошадь? Мы её уже Машкой назвали. И подарил её Путилову. Он обрадовался, взял её, поехал. В середине 1943 года командовать дивизией пришел Щеглов. Я в поле проводил занятия с взводом, а он объезжал, смотрел, как проходит подготовка. Я ему доложил и смотрю – он на Машке. Я подошел, похлопал её и говорю: «Товарищ гвардии полковник, это моя Машка». Он говорит: «Как – твоя?» – я ему объяснил. А до этого был аналогичный случай: я его ещё не знал, он приехал на мотоцикле, я говорю: «О, это мотоцикл мой» – перед этим мы отбили у немцев три мотоцикла: два отдали начальнику штаба, а один оставили себе, но потом и его забрали.
Тогда он тоже: «Как – “мой”?» Я ему объяснил. И вот, когда я похлопал Машку и сказал: «Это моя Машка» – а он: «Что-то твоего дела тут много! Может и жена моя – твоя?» Так вот дальше: в 1945 году 30-й Ленинградский Гвардейский корпус возвращался в Ленинград, Щеглов был уже командиром корпуса. 63-я дивизия входила по Международному проспекту (ныне Московский проспект), я лежал в больнице Мечникова, и слышу по радио: «Вот на коне въезжает командир корпуса Герой Советского Союза генерал-майор Щеглов». Думаю: «На коне, не на Машке ли?» А потом появилась кинозапись входа дивизии в город, и смотрю – Машка моя. Каждый год показывают эти кадры возвращения корпуса на зимние квартиры, в Ленинград. Теперь, получаю на 65 лет Победы поздравление от губернатора и там, на открытке, комбинированные фотографии, в том числе и силуэт Машки. Вот история лошади Машки, моего трофея.
Семнадцатого я уже получил задачу увязать связь с Волховским фронтом между Третьим и Пятым рабочими посёлками, если взять узкоколейку, связывавшую Шлиссельбург с Синявино. Рельсы с неё были сняты, и немцы использовали насыпь как грунтовую дорогу. Они чувствовали, что мы вот-вот замкнём кольцо и соединимся с Волховчанами, поэтому стали выводить войска из района Шлиссельбурга. И вот всю ночь с семнадцатого на восемнадцатое января они группами отходили на Синявино. Мы подошли, смотрим – идёт группа: такие унылые, кажется, даже без оружия, везут на саночках раненых, может быть даже, это были убитые. Потихоньку идут. Ну, мы решили пропустить, а потом это затянулось надолго. Мы стали очень нервничать, что опоздаем и не свяжемся, а проскочить незамеченными через дорогу было маловероятно – мы не видели, но чувствовали, что этот их отход кто-то прикрывал. Прошла одна, другая группы, потом пошли боевые с оружием, даже несли вьюки с 81-мм минометами. Начало уже рассветать, и мы решили проскочить. Саша Редин не выдержал, пустил в ход автомат и гранату, немцы убежали и потом их не стало – наверно решили по полям проскочить. Было уже светло, вдруг я заметил солдата. Экипировка у него была другая, и я сразу понял – волховчанин. Видим мы его – и он смотрит, увидал меня. Я ему показываю рукой: подойди сюда. А у него винтовка за плечом и он её снимает, я говорю: «Ну, ну!» Он винтовку бросил, я подбежал к нему. Он сел, смотрит исподлобья. Я спрашиваю: «Ты откуда?» – молчит. Я говорю: «Чего ты молчишь? С какого ты полка?» – молчит. Я говорю: «Я же вижу, ты волховчанин» – молчит, сверкает глазами. Я говорю: «Мы – ленинградцы» – он молчит. Мы стоим перед ним, все зашнурованы в маскхалаты, в руках автоматы. А накануне мы захватили хороший немецкий склад обмундирования и взяли неношеные, новые мундиры и поддели – уж больно они были удобные, волховчанин и увидел немецкий воротничок. Я говорю, что мы ленинградцы, а он пальцем: «А что это?» Я говорю: «Да нет!..» – короче, нашли мы общий язык. Он заплакал, положил мне голову на плечо. Снимает мёрзлые рукавицы, вытирает слёзы и говорит: «Я знал, я знал, что мы сегодня встретимся с Ленинградцами!» Он оказался связным командира роты – шел куда-то и заблудился. А время уже подпирало – мы знали, что скоро должны наступать и наши, и Волховчане – так было договорено. Моей задачей было узнать – кто, где наступает, чтобы не перестрелять друг друга. Практика говорила, что даже если где-то встречаются две дивизии, бывают столкновения. Я ему говорю: «Беги скорее, скажи, что Ленинградцы здесь, чтобы огня не было!» Я даже фамилию не запомнил этого солдата – что-то наподобие «Волков». Он побежал, я тоже одного из своих разведчиков послал быстро к командиру батальона. Минут через десять – пятнадцать со стороны волховчан из-за берёзовой рощицы по нашему квадрату «сыграло» несколько артиллерийских залпов. Я тогда сам бегом к командиру батальона Собакину, сказал, чтобы не открывал огонь и так далее. После нескольких залпов волховчане тоже прекратили. Я говорю Собакину: «Можно выйти». Но он отнёсся недоверчиво: подумаешь, пришли какие-то, разведчиками называются! Неинтересно ему было – не пошел, ожидал, когда дадут приказ. Я говорю: «Тогда сообщи, у меня связи нет!». Он говорит: «А это моё дело!» Ну, «твоё дело» – и ладно. И он тянул. В те дни я познакомился с Володей Михайловым – командиром роты, он был очень инициативным, очень энергичным командиром роты. Я ему тогда сказал, что вот так и так, он говорит: «Понятно, буду иметь в виду». Так мы предотвратили возможное столкновение с «волховчанами». Они тянули часа два или три. А там была уже введена, кажется, 123-я морская бригада, которая пошла и в Первом рабочем посёлке соединилась с волховчанами. А если бы Собакин не тянул, то мы бы соединились первыми, на несколько часов раньше.
Во время операции «Искра» разведчики в поиск не ходили – и без этого нашей дивизией было взято девятьсот пленных. Это я почему называю цифру девятьсот человек? Когда на командный пункт к Симоняку приехал Ворошилов и начальник штаба фронта Гусев с офицерами штаба армии, Симоняк доложил и добавил, что пленных взято девятьсот человек. Рядом стоял полковник разведчик из штаба армии, который поправил Симоняка: «Как – девятьсот? Всего только шестьсот». И Симоняк стал оправдываться перед Ворошиловым, что: «Вы знаете, шли блокадники, озлились и вот, мол, месть, расстреливали…» – в таком ключе. А Ворошилов на это сказал, что «дивизия получит звание Гвардейской, ты получишь звание Героя Советского Союза, а очередное звание задержу на год»! Это было сказано 18 января 1943 года, а 16 января 1944-го во время операции по снятию блокады Симоняк пришел в расположение нашей дивизии, а у нас там кухня разведчиков стояла, старшина забегал его угощать. Мы как раз с ребятами вернулись с задания. А только перед этим на командный пункт командира дивизии Щербакова передали, что Симоняку присвоено звание генерал-лейтенанта. Я это слышал и первый его поздравил, напомнив: «Ровно через год». А он так посмотрел и говорит: «А ты что, помнишь?» – я говорю: «Помню». И он сказал громко-громко: «А что, Маршал Советского Союза, член Политбюро трепаться, что ли, будет? Сказано – сделано!»
22 января мы вышли из боя, а уже вечером, в Рыбацком, Симоняк собрал всех офицеров и провели разбор. Тогда некоторым дали: «Вот ты глупость сделал: вот почему ты развернул свои силы туда?..» – всё было «обсосано». Так делалось каждый раз и в последующих операциях уже учитывалось, тогда всё разбирали «по горячему». После войны командование округа нас приглашало на военно-научную историческую конференцию: вот так – прорыв блокады, вот так – снятие. И вот хорошо подготовленный оперативник говорит: «А было вот так надо!..» – а мы и сами это знаем, тогда сразу это было отмечено. Вот и сейчас говорят, что «вот так надо было, и тут – неправильно», и что не жалели людей, и на Жукова – что он «мясник». Я Вам скажу – это всё ерунда, я знаю для кого это, это – политика: вот, мол, они не так делали под руководством…
Нас отвели на отдых на правый берег Невы, в посёлок имени народовольца Морозова Всеволожского района Лен. области. В этих боях наша разведрота потеряла убитыми и ранеными буквально несколько человек: я помню только одного погибшего, разведчика Кошкина. Мы немножко сократили свою роту: раньше был 121 человек, а стало – 91, остальных отправили в пехоту. И вообще, при прорыве блокады потери у нас были небольшие: несколько человек погибло на Неве – там начальник артиллерии капитан Давиденко организовал огонь прямой наводкой и разделал так передний край немцев, что все огневые точки были подавлены. Больше погибло в конце операции, семнадцатого – восемнадцатого числа. Нам много дала Усть-Тосненская операция – были учтены все ошибки, а главное – мы готовились. Приезжал Ворошилов и просто не давал нам жизни, подготовлены были отлично.
Второго февраля пошли в Усть-Ижору, Понтонное, Колпино в распоряжение 55-й армии, которая собиралась наступать на Красный Бор, чтобы освободить дорогу на Москву. Для этого были переданы две дивизии: 45-я гвардейская и наша, 63-я. Как раз нам присвоили звание Гвардейской. Это никак не отмечалось: приказ, присвоили – и пошли, праздновать было некогда. А вот после окончания Красноборской операции было здорово: вручали знаки, и Говоров вручил Симоняку Гвардейское знамя.
После того, как блокада Ленинграда была прорвана, мы немного отдохнули и уже десятого февраля 1943 года пошли в наступление на Красный Бор. Дней за пять до этого несколько разведчиков во главе с помкомроты прибыли на наблюдательный пункт – готовить операцию: выявить, что там, как. Но разведка очень мало работала и плохо, ничего мы не знали. В общем, подготовки никакой не было, в первые два дня наступления успех был большой, а потом захлебнулись. «Голубую дивизию» отвели, а ввели другие, уже немецкие, части. Мы взяли посёлок Красный Бор, Поповку, вышли к Саблино, взяли ещё несколько небольших деревень. Здесь немцы окружили командный пункт командира полка майора Афанасьева, там была большая резня. Наши разведчики спасали окруженных, но я к этому времени был уже ранен. Командир разведроты капитан Слатковский был в том бою ранен. Так случилось, что этого никто не заметил, и он остался один. Когда к нему подошли немцы, он притворился убитым. Один из немецких солдат остановился над ним, расстегнул свою ширинку и описал его. Когда разведчики пришли в подразделение, то сразу спохватились: «А где Слатковский?» – «Нет!» – «Найдите!» Его отбили, взяли, вылечили. Он, конечно, был очень обижен, но там было какое-то обстоятельство, почему он остался один. Сергей Митрофанович дожил до Победы, окончил войну в Китае и был комендантом Порт-Артура. Я скажу, что раненых разведчиков всегда выносили, ни одного не оставили. У нас была группа охотников, они ходили за Красный Бор. Один из них подорвался на противопехотной мине, и ему оторвало стопу – это было далеко за Саблино – и его ребята принесли.
Штаб Симоняка находился в подвале церкви, а у нас рядом была такая кирпичная арка. Двенадцатого числа, смотрю – идёт полковник в погонах, и погоны не полевые, а золотые – это был первый раз, когда я увидел погоны, хотя мы уже знали, что они введены. К их введению я отнёсся, что «так и надо, это – наша, русская традиция». Хоть я был сержантом, старшим сержантом, но знаков различия не носил, эти треугольники нам не давали. Я и не помню, чтобы у нас сержанты или старшина их носили, а погоны уже все начали.
Кажется, в первый день наступления на Красный Бор был взят в плен капитан, командир батальона «Голубой дивизии». Вместе с ним в подвале, из которого его вытащили, была красивая, интересная наша студентка второго курса Медицинского Института. Помню, что капитану было очень жалко с ней расставаться. Мы её не трогали, а сразу передали чекистам – у нас с этим было строго. А в пехоте, конечно, могли, – с этим у них в два счета… Я пытался беседовать с капитаном по-немецки, он был очень доброжелателен. Смотрю, вокруг всё бегает испанский солдат – это был денщик капитана. Он хотел подать хозяину закурить, но не знал, как это сделать, потом всё же достал красивый такой портсигар, открыл его и протянул мне. И только когда я отказался, подал капитану. То есть, солдат сперва соизволил подать своему врагу, или как бы освободителю – многие из них считали, что мы их освободили, говорили: «Освободили и слава богу, что мы немцам больше служить не будем».
Там же был один случай, про который мне рассказывали. Допрашивали одного испанца, а он говорит: «Я добровольно пошел в эту экспедицию на Восток, только с тем, чтобы при первой возможности сдаться в плен. Потому, что знаю, что мой родной брат-республиканец уехал в Союз и, может быть, живёт в Москау». Проверили – и действительно, всё оказалось правдой. Не знаю, соединились ли они или нет. Пленных испанцев было много, мы их отводили на командный пункт дивизии. Там оказалось, что никтоне знает испанский язык, пришлось из штаба фронта вызывать Давида Захаровича Франкфурта. Мы с ним потом подружились, и для меня он был просто «Додик». Это был очень хороший человек, в совершенстве знавший большинство европейских языков. К сожалению, он погиб в 1944 году на Пулковской высоте. Про испанцев я могу сказать, что они, конечно, воевали хуже немцев.
Тринадцатого я с группой пошел в разведку и вдруг справа и слева – трескотня автоматов, выстрелы. Немцы впереди, а тут – справа и слева стреляют! Я оказался между двух огней. Оказывается, наш правофланговый батальон Ефименко и левофланговый батальон Собакина, соседнего полка – друг на друга пошли в атаку. Они перепутали: один думал, что здесь немцы, а другой – что это немцы, а я оказался между ними. Вот такой был трагический и глупый эпизод. Не знаю, как мне это удалось, но я их развёл. В штабе Шерстнёва был скандал, и он послал разобраться командира роты автоматчиков, тот почему-то подумал, что всю эту катавасию затеял я, мы с ним чуть не подрались – вот такой конфликт был, глупый какой-то. Ещё был такой случай: там через железную дорогу был проложен шоссейный мост, по этому мосту из Красного Бора пошел один наш танк. Мост не выдержал и танк провалился, это произошло на моих глазах. И танк так удачно провалился, что встал на обе гусеницы, не потеряв равновесие. Я близко не подходил, но говорили, что он нисколько не пострадал.
В Красном Бору мы захватили бельгийскую скорострельную малокалиберную зенитную пушку. Сперва мы стреляли по немецкому самолёту-разведчику, но безуспешно – не доставали. Потом «раму» прогнал наш истребитель, а нам пришлось много стрелять по наземным целям. Пушка была очень красивая и хорошая, я тоже сделал из неё несколько выстрелов. Помню, пришел капитан Дирин – начальник отдела кадров дивизии, мы его угостили шнапсом и тоже дали пострелять. Эта история также имела своё продолжение после войны. Как-то я с сыном и двумя его товарищами на своём «запорожце» поехал в Выборг, проголодавшись, решили зайти в привокзальный ресторан. А нас не пускают! Говорят: «У нас тут иностранцы, финны». Ах, ё-моё!.. В 1940-м году этот Выборг брали, в 1944-м наша дивизия за него воевала, а тут финнов кормят, а своего – нет! Я разозлился, говорю: «Директора!» – директор выходит. Я смотрю – Дирин, и он смотрит на меня – вроде узнал. Я говорю: «Слушай, гвардеец, что это?..». Он сразу: «Успокойся, успокойся… Да что ты!.. Да я её сейчас!..» – эту официантку сразу разделал. Привёл, посадил нас отдельно, угостил и даже что-то мало с нас взял. Я ему напомнил: «А помните, как Вы в Красном Бору из пушки стреляли?» – ему было так приятно, что вот и у него был боевой эпизод, и он проявил героизм, а не только сидел с бумагами в кабинете. Уж очень он был рад, на прощанье всё говорил: «Да что ты, заходи, заезжай, не стесняйся!»
В другой раз там же, в Красном Бору, я стрелял по низко летавшей «раме» из противотанкового ружья. Поставил «ПТР» на землянку, и вот – я не заметил, а ребята говорят: «Ты посмотри: пуля скользнула по самолёту и, светящаяся, ушла в сторону». Я сам не видел, но все говорили: «Ты попал, попал, но этот «Хенкель» снизу бронированный».
Вместе с нами на Красный Бор наступала 45-я гвардейская стрелковая дивизия. Ею командовал Краснов, он перед этим провалил операцию по прорыву блокады, провалил и операцию в Красном Бору. Десятого февраля мы стали наступать, тринадцатого его сняли. Командующий фронтом назначил командиром 45-й гвардейской дивизии заместителя Симоняка, бывшего начальника штаба полка, а впоследствии – командира 270-го полка Путилова. Тринадцатого числа спрашивают: «Разведчики, кто-нибудь знает, где командный пункт Краснова, 45-я дивизия?» Я отвечаю: «Я знаю – там в железнодорожной насыпи, перед Поповкой». Он говорит: «Возьми солдата, отведи меня туда». «Тьфу ты, – думаю – напросился. Вот тоже, можно же было промолчать!» – ну, пошли. Оказывается, Краснова сняли, а Путилова назначили. Путилов принимал; помню такие слова Краснова: «Знаешь, Савелий Михайлович, не будь таким дураком, как я» – выпивши был генерал-майор, а Путилов – полковник. Путилов отвечает: «Да ты знаешь, мама говорила, что даже в детстве не замечала за мной такого, чтоб быть дураком» (рассказывает со смехом).
Путилов был умница: надо сказать, что в 335-м полку это был самый грамотный, умный офицер, он самым последним уходил с полуострова Ханко. После войны служил в Грузии заместителем командующего округом по боевой части. И вот представляете, шестнадцатого я был ранен, о чём сейчас расскажу, попал в госпиталь, там лежало много раненых ребят из дивизии Краснова, раненых ещё при прорыве блокады и в Красном Бору. Такая хорошая, боевая ребятня, и хвалятся своей дивизией, командиром Красновым. А я им говорю: «Да, вашего Краснова уже нет. Его сняли!». И-и-и!.. Меня чудь не побили там: «Нашего генерала?! …». А он у них такой кумир был: 45-я была единственной Гвардейской дивизией на Ленинградском фронте. Сам Краснов был красивый мужчина, холёный, высокий, усы хорошие, бронзовое лицо такое – ну прелесть-мужчина Краснов! Я так посмотрел, залюбовался. Они даже сочинили песню: «Мы – Красновцы, мы – гвардейцы, усачи …». Может быть это байка, но говорили, что Краснов приказал, чтоб всем иметь усы, чтоб гвардейцы были усачами. Так рассказывали, что молодые ребята угольком подводили, чтоб усы были (рассказывает, улыбаясь). Но то, что его любили – это я сам почувствовал.
Прошло что-то дней десять, кто-то, видимо, навещал ребят и сказал, что Краснова у них уже нет. Так они все головы повесили, а потом, проходя мимоходом, говорят: «А ты прав, что Краснова нет». Для личного состава дивизии снятие Краснова было настоящим ударом – для своих солдат он был кумиром. Звание Героя Советского Союза он получил в Финскую войну, командуя, кажется, батальоном. Бабник, пьяница, матюгальник, простота, а это очень любили – «вот это наш!» Поэтому Путилов был принят плохо, да и нужно сказать, что он по-настоящему дивизию не выправил. Она плохо воевала июль – август, в «Арбузовской» операции. При снятии блокады в январе 1944 года у 45-й тоже плохо шло дело, очень плохо воевала юго-западнее Нарвы в феврале. Я не знаю, но говорят, что в июне 1944 года на Карельском Перешейке 45-я воевала очень хорошо. В 30-ом Гвардейском Корпусе всё же лучшей была 63-я.
Наши части никак не могли взять деревню Поргузи. И меня послали разведать, что это за такая крепость и взять пленного. Это было шестнадцатого февраля ночью. Группа состояла из семи человек: шестеро разведчиков и санинструктор. Инструктора мы оставили позади себя в овражке, в окопчике. А мы подползли к немецкой траншее, заметили замаскированные танки, движение. Немцы не спали, ходили, что-то подносили, устанавливали. Мы подползли, слушаем – проверяют пулемёты: чёк, чёк, чёк – один-два выстрела – всё в порядке, короче, готовились. Взять пленного не было никакой возможности, да ещё нас обнаружили и открыли огонь. При этом обстреле двоих разведчиков – Соколова и Ковалёва – убило, а я был ранен – разрывная пуля вырвала кусок в нижней трети бедра. Мы пытались забрать наших погибших, но не смогли – нести было некому: оставалось только трое невредимых, а из немецкой траншеи уже поднялись несколько, чтобы нас взять. Я дал сигнал на отход. Это был единственный случай, когда мы оставили своих погибших. Сначала я полз сам, но от потери крови стала кружиться голова, и я начал слабеть. Даже когда меня взяли на спину, я не мог держаться. Очень хотелось пить, потерял много крови. Ребята меня вынесли в ППМ, я подозвал к себе сержанта Редина и говорю: «Передай командиру дивизии Симоняку, что немцы не спят и готовятся к наступлению. Подтаскивают боеприпасы, проверяют пулемёты». Когда часов в семь утра меня на машине везли из ППМ в медсанбат, я услышал сильную канонаду и понял, что это началось немецкое наступление. Помню, ещё подумал: «Правильно я определил, правильно. Молодец ты, Бровкин». Редин передал мои слова командиру дивизии, как тот принял это сообщение – я не знаю. Но потом, как мне рассказывали, когда немцы пошли в наступление, Симоняк сказал, что «представляю Бровкина к ордену “Красной Звезды”. И обязательно надо ему присвоить офицерское звание!» В то время я был командиром взвода, а звание у меня было – старший сержант. Я этот орден ждал. Помню, у нас в госпитале лежало много гвардейцев, раненых в боях по прорыву блокады и под Красным Бором. Как-то приехали из штаба дивизии вручать ордена и медали: командиру роты автоматчиков – «Красное Знамя», политруку – медаль. Думал, что и мне вручат, но нет, проскочило. Потом мне объяснили, что «мало ли что комдив сказал!..» Надо было сразу заполнить наградной лист, а этого не было сделано. Симоняк же не мог запомнить всех. После войны на одной из встреч я напомнил ему про обещанный орден, он сказал: «Ну что же ты? Надо было напомнить!» – а кто же будет напоминать?
Два месяца я лечился и ушел из госпиталя с открытой раной. Думал, что всё будет нормально, пришел в часть, но началось рожистое воспаление раны. Пришлось лечиться две или три недели, но с палочкой я ещё долго ходил. Если точнее, то я просил-просил, но врач не выписывала. Я пришел к старшему хирургу госпиталя, он пошел мне на уступку, но только поставил условие, что я ещё двадцать дней должен лечиться в батальоне выздоравливающих.
Батальон выздоравливающих 55-й армии находился в Шлиссельбурге. А я был на офицерском довольствии, у меня обмундирование офицерское, оклад офицерский. Командир батальона и начальник штаба смотрят: что это такое – пришел такой «фраер»: и портупея, и сапоги не кирзовые, а хромовые, и брюки, и гимнастёрка. Я им объяснил, показал документы, что я – командир взвода, хоть и старший сержант. Тут как раз приехали отбирать на курсы младших лейтенантов. Говорят: «Вот – первый кандидат, старший сержант». А я говорю: «А я на курсы не пойду!» – ох, как он взбеленился! А тут же сидит врач, капитан, увидел, что я туда не хочу и спрашивает: «Товарищ полковник, а когда там начнутся занятия?» Полковник отвечает: «Да там занятия уже идут». Врач говорит: «Дней через пятнадцать – двадцать я его вам выпишу». Полковник: «Какие двадцать, там уже занятия идут!» – врач говорит: «Нет, ему нельзя», и он меня вычеркнул. А на третий день я ушел к себе в часть. Потом у меня была встреча с этим доктором. Я ехал в свой госпиталь на Исаакиевской площади, к своей девочке – тогда я был ещё не женат. Вхожу с палочкой в трамвай, «семёрку», а у меня уже была звёздочка младшего лейтенанта, смотрю – сидит, вроде лицо знакомое, но мало ли знакомых! А он меня взял за шинель, смотрит: «Ну что? О, значит присвоили!» Я смотрю – ах, и сразу вспомнил, говорю: «Да». Он спрашивает: «Я правильно тогда понял?» Я отвечаю: «Доктор, большое спасибо, что Вы тогда правильно поняли».
В это время мне присвоили звание младшего лейтенанта. Тогда было очень трудно, не давали первичное звание без подготовки. Наши кадровики на меня в 55-ю армию два представления подавали, но там отказывали потому, что звание младшего лейтенанта присваивалось после шестимесячных курсов, а Симоняк не посылал. Он нескольких ребят – сержантов послал, они окончили курсы, звания им присвоили, но в дивизию они не возвратились, а были направлены в другие части. Вот Симоняк и сказал командующему 55-й армии Свиридову: «Я больше не дам вам ни одного курсанта!» – и не дал. Когда в апреле мы вышли из подчинения 55-й армии, был сформирован Тридцатый Гвардейский Стрелковый корпус, находившийся в резерве командующего фронтом. Мне и ещё нескольким ребятам уже сам Говоров подписывал о присвоении звания. Нас не отпускали даже когда я был ранен, на моё место никто не был назначен, я и выписался раньше, чтобы только вернуться к себе в разведку. Прямо скажу, к нам относились по-отцовски и сам Симоняк, и особенно начальник штаба Иван Ильич Трусов. Но Симоняк был назначен командиром корпуса, а командовать дивизией пришел Щеглов. В тот день командира роты не было, и я исполнял его обязанности, Щеглов приехал на мотоцикле, подходит и командует: «Постройте!» Я говорю: «А кто Вы?» – он отвечает: «Я – командир дивизии». Я говорю: «У нас командир дивизии – Симоняк», он: «Я – командир дивизии». Я говорю: «Я не знаю…» А ребята говорят: «Он из 55-й армии, был у нас в Красном Бору, приходил, майор». А он, действительно, был начальником оперативного отдела 55-й армии, майором, и ему, отправляя в дивизию, сразу дали полковника. А в тот раз он сел на мотоцикл и уехал на «Пороховые», где стоял наш полк, и когда он уехал, принесли приказ, что командиром дивизии назначен полковник Щеглов. Я думаю: «Ну-у дурак, теперь тебе будет!..» Я так боялся, что окажусь у него в немилости, но он наверно забыл, и у нас сложились очень хорошие отношения.
Апрель, май, июнь разведчики были в Ленинграде, на Малой Охте. Ночами выходили в Ржевский лесопарк, там ползали, отрабатывали ночные поиски. Многие ребята, квартировавшие в частных домах, встречались с местными девушками и некоторые женились. Например, будущий Герой Советского Союза Масальский, но что-то у него потом не получилось, и он женился вторично. Женился Семён Иванович Шепитько, он уже умер, и жена его похоронила там, у Рябовского шоссе. На «Пороховых» после войны много маленьких «гвардейцев» бегало.
Находясь в госпитале, я познакомился со своей будущей женой, Валей. Правда, сперва я положил глаз на другую сестричку, только потом её рассмотрел: милая, хорошенькая такая. Не выделялась она, были там более заметные сёстры, но умней её не было. В общем, она меня выбрала. Только мы познакомились, как второго апреля она с другими девочками была откомандирована в Пере – на Карельский перешеек, на заготовку дров. А потом я выписался, она приехала ко мне в батальон выздоравливающих. Я был дежурным по батальону, начальник штаба говорит: «Бровкин, там жена к тебе приехала». Я спрашиваю: «Какая жена?» – он говорит: «А я знаю, какая? Сколько их у тебя там?» (рассказывает, улыбаясь) Валя моя приехала. Обычно как думали: ну познакомились, пошептались, может, поцеловались – и всё, а она вот вдруг приехала! Я вернулся в часть, но заболел. Две недели пролежал в госпитале, она приехала, навестила меня, ну а потом мы поженились – вот так. И она меня не бросила, когда под Нарвой меня тяжело ранило. Я ей говорил: «Устраивай свою жизнь, жив останусь – разведёмся» – это было для неё оскорбление. 54 года я прожил с Валей, без единого побега, трудно ей было со мной. До войны она окончила три курса института. Потом, когда я лежал в больнице Мечникова, говорю ей: «Бросай госпиталь, иди, заканчивай». Она окончила кораблестроительный техникум и работала на «Петрозаводе» в конструкторском бюро 32 года.
Летом 1943 года вручали медали «За Оборону Ленинграда». Всё прошло буднично: сунули – и всё. Уже после мы оценили, что это – самая дорогая награда, а тогда не было никаких таких ощущений.
Чувствовалось, что готовится что-то серьёзное. В конце июня дивизии корпуса вышли в район Манушкино – Большое Манушкино – Малое Манушкино – Ексолово Всеволожского района Ленинградской области, там проводились штабные занятия. Мы расположились в деревушке Берёзовка, там шли непрерывные занятия. Мой командир роты подхватил в городе триппер и ушел, я остался командиром роты. Остался потому, что не было приказа, никто не пришел из штаба и не сказал, что «ты вот исполняй обязанности командира роты». Командир первого взвода по штату являлся заместителем командира роты, и я – вот он.
Неву перешли по понтонному мосту в районе Марьино. Командный пункт штаба дивизии расположился в карьере за 8-й ГРЭС.
Тогда нам выдали стальные нагрудники, но мы их не носили. Я надел и тут же снял. Их давали пехотинцам, тем, которые штурмовали траншеи. Нам в разведке они были не нужны – мы же не знали, что будем выполнять задачу пехотинцев. Я не видел их и у ребят Масальского, в роте автоматчиков. По-моему, они как-то мешали – в общем, не выдержали критики. Ни до этого, ни после их у нас не было.
К каждой армии Ленинградского фронта был прикомандирован офицер из разведуправления фронта. У нас, на Мгинском направлении, был полковник Украинцев. С ним я был хорошо знаком, иногда он сам ставил мне задачи. В частности, одиннадцатого июля он вызвал меня и говорит: «Давай, ты тут хорошо знаешь топографию, территорию, где расположен враг, будем проводить разведку боем в районе «золки» (зольная сопка). Ты им подскажи, где лучшее направление. Командир, капитан, у них хороший, хороший разведчик». Это была 24-я штрафная офицерская рота Ленинградского фронта. Там были умные, грамотные, горячие ребята, все офицеры. Среди них был полковник Иванов – проштрафившийся командир дивизии. Когда он увидел, что я тут немного контролирую, говорит: «Слушай, лейтенант, возьми меня в свои ординарцы. Мне тяжело, ты посмотри, какие тут молодые ребята – меня же убьют! Тяжеловат…» – ну, он так и не ходил в атаку. Вся операция длилась чуть дольше десяти минут. Я был свидетелем, как они ворвались в первую траншею, потом – во вторую, где захватили оберлейтенанта–финансиста. В районе «золки» шли тяжелейшие бои. В шестидесятые годы я строил садовый домик под Мгой, мне был нужен лес, и я обратился в мгинское лесничество. Познакомился с лесниками, и как-то спросил у них про зольную сопку, они сказали: «А, “золка”!.. Так её срыли, там у нас теперь лесопитомник».
22 июля началась Мгинская операция. Корпус наступал двумя дивизиями: 45-я и наша, 63-я, наступавшая двумя полками. К этому времени мы были уже 66-й отдельной гвардейской разведротой. Операция шла до четвёртого августа, положили много людей, а успеха не было. Задача была взять Мгу, но мгинской операцию не называли, а назвали Арбузовской. Тогда мы взяли Анненское. После боёв по прорыву блокады нейтральная зона проходила, кажется, по оврагу, идущему к Неве. Овраг был весь в спиралях «Бруно», в минах. Володя Масальский со своими бойцами захватил этот овраг и гнал немцев по центральной траншее, но потом он застрял, и командир дивизии дал мне задание. Я выгнал немцев из Анненского, но потом немец и меня тоже потеснил. Ой, мне тяжело про это рассказывать! (произносит, тяжело вздыхая). В Арбузовской операции у меня самые лучшие разведчики – восемнадцать человек – погибли. 27 градусов жары, зелёные мухи: он погиб – через час уже вспух, от него запах. Где хоронить? В траншеях. Сейчас там перекапывают их, говорят: «Вот, безвести... не похороненные бойцы валяются». Когда сейчас вспоминается, меня трясёт – как мы их похороним, бой идёт! Я говорю: «Закопайте, пожалуйста, вот здесь». И родителям писали, что ваш сын погиб там-то, там-то: «двести метров севернее деревни Арбузово Ленинградской области». А тут – «безвести пропавшие»! Перекапывают их, это же кощунственно! Потом, работали похоронные команды, они выворачивали у убитых все карманы, забирали документы и «смертные медальоны», лежавшие, как правило, в специальном брючном карманчике. Медальоны отдавались писарю, который выписывал данные погибших. Вот и находят сейчас солдат, а медальона нет – этот труп был уже «обработан»! Другое дело, что почти всегда их хоронили не там, где указано: наши славяне – раз в воронку, где-нибудь в окопе закопают, да ещё и не очень. В июле 1943 года я брал Анненское, вот в Анненском, где сейчас кладбище, у меня закопаны разведчики: от Анненского до реки Мойки – я в Мойку немцев засадил. Когда после боя стали подводить итоги, выяснилось, что один мой разведчик пропал без вести. Спрашивал у ребят, которые закапывали: «Где он убит?» – никто ничего не знал. Я пошел в ближний ППМ, поинтересовался, кто проходил из наших разведчиков, кому перевязку делали – его не было. Пошел в медсанбат, но и в медсанбате он не проходил. Вместо того, чтобы написать: «без вести пропавший», мы с писарем решили написать, что он погиб. Мы знали, как воспринималось «без вести пропавший» – поэтому и написали: «Погиб». Я написал письмо и отправили извещение. Через какое-то время приходит письмо от его жены: «Товарищ Бровкин, поздравляю тебя с большой брехнёй! Ты написал мне, что мой муж погиб, а он жив, был ранен…» – вот такое письмо. В девяностые годы вышла «Книга Памяти» Орловской области. Мне подарили том, в котором были записаны погибшие из нашего и ещё двух районов, В нём записан мой отец. Так там были записаны погибшими три человека из нашей деревни, один из которых, правда, уже умер, а двое других к тому времени были ещё живы. Вот так – написали, как и мы, что погиб, а он выжил! Моя родная тётя получила на мужа две похоронки, а он приехал и ещё долго жил.
Когда мы сделали бросок на Анненское, немцы буквально проспали. Рядом с траншеей, накрывшись брезентом, спали четверо или пятеро немцев. Я подскочил, сорвал это одеяло и кричу: «Ауфштейн!» – они встают. «Хенде хох!» – они поднимают руки. А потом думаю: «Что с ними делать? Куда их?» – тем более командир дивизии говорил: «Бейте их, пленных не берите». Филатов Андрей бросил две или три гранаты, и мы ушли. Что с ними было – не знаю. Вот такое. Много там было, тьфу, не хочу больше!..
У немцев в траншее было много ящиков с гранатами на длинных ручках. У них нужно было сначала выдернуть из ручки шнур, а потом бросать. Отступая, мы нахватали много этих гранат. Вырываем, бросаем – а они не взрываются! Оказывается, гранаты были не снаряжены: надо было отвернуть ручку, подсоединить запал – и снова ввернуть. А мы их много разбросали и ни одна из них не взорвалась! Вижу – Куруленко, весь в крови, я его взял, несу к своей траншее, сил уже нет! Я его уронил, он хрипел, и потом… Я говорю ребятам: «Возьмите его» – взяли его и тут же закопали. А там остались: Лотарь Петя, Сёмин Ваня, Безпятный Вася, Петя Мордвин, Малявьев Саша, Палин Ваня… Много там, в Анненском, осталось. Где сейчас кладбище, помню, лежала огромная надгробная плита, было написано, что вроде какой-то князь был похоронен.
Мы вернулись в свои траншеи, а немцы придвинулись близко, на бросок гранаты. Я как-то немножко высунулся и очередь пулемёта – р-р-раз!.. У меня была артиллерийская фуражка: одна пуля – в кант, а вторая – прямо в чёрную окантовку, выпорола картон. Меня не задело, но лоб потом болел. Бойца, который сидел в траншее сзади меня, этой же очередью ранило в руку. Я любил фуражки и долго их носил, даже в сентябре в Синявино, а тогда мы вернулись, и я докладывал командиру дивизии, он спрашивает: «А это что у тебя?» Я отвечаю, что это пулемётной очередью меня. Он кому-то говорит: «О, посмотри: вот лоб так лоб – пули отскочили!» И когда мы потом собирались, он часто вспоминал, и говорил: «Вот лоб, от которого рикошетом немецкие пули летят!»
Один раз между Арбузово и Анненским вышли четыре немецких танка. Сейчас не могу сказать, но каким-то путём я там шел с ребятами. Сначала вышли два танка, вот тут я очень близко увидел эти «Тигры»! У нас там были очень хорошо замаскированы два «КВ» – они были врыты в землю и только башенки торчали. Я подошел к танкистам и говорю: «Вон, идут!» Они говорят: «А мы слышим, но нам не видно». Я говорю: «Выберитесь, посмотрите!» – они вылезли, посмотрели. Я говорю, что надо стрелять, они отвечают: «Мы не поразим…» Как мне объяснили, настильный огонь у «КВ» – четыреста метров, а там было больше. В это время открыла огонь наша артиллерия с правого берега Невы – они тоже увидели «тигров». Вскоре «КВ» тоже открыли огонь, тут же стали стрелять и бронебойщики. Были подбиты два танка, остальные задом-задом – отползли к Анненской, к Мойке. Говорили, что и они были, в конце концов, подбиты. Я организовал трёх – четырёх парней с автоматами, чтобы стрелять, когда будет выскакивать экипаж – я ждал, что танкисты будут выскакивать из башенного люка или люка водителя, но так ничего и не увидел, а потом смотрю: от танка убегают немцы. Всему виной моё невежество: оказывается, у «Тигров» есть десантный люк под танком. Я не видел, кто подбил эти танки – артиллеристы или танкисты, так потом была сводка, что артиллеристы подбили два, танкисты подбили там три… Из четырёх там было «подбито» двенадцать – шестнадцать! (смеётся). Понимаете как: каждый стреляет – «А-а, мы попали!!!» А что, увидишь, что ли, какое орудие попало?! А каждый бы хотел: «я стрелял, попал!», и каждый – себе на счёт. После войны я жил на Большой Охте, в нашем доме внизу жил шофёр, оказалось – бывший танкист. Я слышу, он кому-то рассказывает, что он подбил «Тигр». Я думаю: «Ну вот, ещё один “снайпер”!» – уж сколько я их там тогда знал! (рассказывает, улыбаясь). Я спрашиваю: «А где?» – он говорит, что вот так и так. Я чувствую, что это он, спрашиваю: «А как?» Он говорит: «А нам пехотинец какой-то – попросил, показал: “Смотрите, – говорит, – открывайте огонь!”» – повторил мои слова. Это было чудо какое-то! «Я, – говорит, – за это получил орден «Отечественной Войны» второй степени!» – ну ладно, он подбил или кто. Два оставшиеся у нас танка наши быстро утащили, я их потом на этом месте не видел.
Хочу сказать, что вот там разведка очень плохо использовалась – ну ничего она разведывательного не делала! Второго или четвёртого августа нас заменили, на наше место пришла морская бригада. Они только пришли и ещё не освоились, а на следующее утро немцы их потеснили, и потери были. Возбудили вопрос, почему дивизия так сдала участок, не информировав сменщиков, в 67-й армии, видимо, была создана коммисия. Мы были уже в Щеглово, ко мне в роту приехал полковник – начальник Политотдела 67-й армии, спрашивал: «Почему вы так сдали?» А мы должны были, уходя, взять пленного, но не взяли – ребята знали, что на следующий день мы уходим, поэтому отсиделись, отлежались, не пошли: «Завтра уходим! Возьмём – не возьмём, а месяца полтора живы будем!» Тогда была такая психология: как только солдат узнает, что завтра–послезавтра будем заменены – лежат, ничего их не сдвинешь никуда. Ну а он приехал: «В чём дело?..» А, «в чём дело?» – говорю: «Командира роты не было, а я – какой командир, меня никто не назначал, я сам!» Он говорит: «Как?» – я отвечаю: «Да вот так! Теперь, – говорю, – командир дивизии использовал нас не по назначению, рота понесла страшные потери!» Он всё выслушал, записал, и ушел. Потом меня вызывает командир дивизии Щеглов: «У тебя был полковник Нестеров? Что ты ему говорил?» Я ему рассказал всё, что говорил, он спрашивает: «И так ты ему говорил, что командир дивизии неправильно использовал?» Я говорю: «Ну да, так и говорил». Он так на меня посмотрел, и говорит: «Ну, если так, как ты говоришь, то всё правильно. Иди!» – вот такая речь. А ему дали выговор. А чего ему – выговор, у него это был первый бой после принятия дивизии. Почти у всех так бывает: у командиров дивизий, полков, батальонов и даже рот.
Тогда же ещё был такой случай: я пришел в оперативный отдел штаба, посмотрел на карту, и говорю: «А у вас в карте неправильно отмечена немецкая траншея и наша – неправильно!» Начальник оперативного отдела Захаров: «Как неправильно?!» А он – подполковник, а я – младший лейтенант. Я и ляпнул: «Теперь-то мне ясно, почему наши снаряды не долетают до немцев, а рвутся около нас!» Зашел Щеглов: «А где, где немцы? Что не так?» – я ему объяснил и достаю свою карту, говорю, что вот так и так. Щеглов, услышав, что снаряды не туда летят, говорит: «Я кого-то расстреляю!» А тут заходит сапёр полковник Ступин, заявляет: «Мои сапёры говорят, что наша карта верна». Зашел командир полка Шохин – и тоже против меня: два подполковника и полковник! Я говорю Захарову: «Ну вы же были со мной! Вот, мы были в этой траншее, а не здесь!», – а он своё. Приходит мой начальник разведки – Рубэн, начальник оперативного отдела спрашивает его, а он отвечает, что плохо ориентируется – и так я снова влип! И зачем мне всё это было надо? Я «веду» свою, синюю линию – отвечаю за врага, а за красную, где наши расположены – это дело «оперативников», я мог этого не говорить. Ну, командир дивизии взбесился, вызывает военного топографа, капитана, говорит: «Сейчас идите и уточните, и чтоб через час мне доложили!» Я его привёл на исходное положение, но не ориентирую его, не говорю где, что. Он идёт, смотрит свою карту, берёт ориентиры. Мы пришли, и он нарисовал одинаково с моей картой – тютелька в тютельку, или как говорят топографы – «сику в сику». Мы вернулись и он доложил. Эти взбесились – два подполковника и полковник: что как же так – какой-то младший лейтенант!.. Щеглов говорит: «Идите все!!!» – я говорю: «Простите. Освободите меня, я уже две ночи не спал! А потом, зачем мне идти?..» – он так посмотрел на меня и говорит: «Иди, отдыхай». А они все пошли туда, с чем они вернулись – это понятно. В 1975 году мы отмечали в Сертолово тридцатилетие Победы, съехалось много–много ветеранов, и приехал Захаров, он был генерал-майором, служил военным атташе в Египте. Я подошел к нему и говорю: «А я Вас хорошо знаю!» – он говорит: «И ваше лицо мне знакомо». Я говорю: «Я – разведчик», он остановился: «Это ты тогда заварил всю эту кашу?» – я обрадовался, что он помнит. Он говорит: «Да, я там ошибку большую сделал!» Я говорю: «Не будем об этом, я уже не помню ничего».
За участие в «Арбузовской» операции меня наградили орденом «Красной Звезды».
Да, конечно, мы часто использовали трофейное оружие. В той же «Арбузовской» операции Комаровский Андрей захватил пулемёт, я видел, как он поливал немцев, которые бежали и нескольких срезал. И гранаты использовали, но это накоротке. Конечно, у нас в роте было много трофейных автоматов: смотрю – и у того, и у другого, но мы их не поощряли – мы всё же привыкли к своему, поэтому скажу, что наши лучше! Во-первых, у нас и «ППШ», и «ППД» – с дисками на 72 патрона, а у «шмайсера» в рожке – я не помню – пятнадцать, что ли. У нас – диск в автомате и два диска – в запасе, вполне устраивали. В разведку ходили: диск – в автомате и один – в запасе, вполне достаточно. «Шмайсер» был лёгкий, но потом появился наш «ППС», у него тоже был откидывающийся металлический приклад. А потом в «Шмайсере» мне очень не нравилось, что у него затвор слева, а мы привыкли к правому. Всё же мы предпочитали своё оружие, видимо, это – привычка. Из обмундирования у немцев были очень хорошие «выверты» – двусторонние костюмы: с одной стороны они были такого же цвета, как всё их обмундирование, а с изнанки – белого цвета. И карманы были сделаны и с одной стороны, и когда вывернешь – очень, очень удобные брюки. Я был в таком костюме под Красным Бором, когда меня ранило. А мундиры – носили некоторые: при прорыве блокады захватили очень большой склад с обмундированием, и наши его весь растащили. Носили их или нет – не знаю: открыто их никто не носил, наверно так, пораздавали куда-то. Я взял один френч, но когда потом стояли в Рыбацком, я отдал его одному парнишке, он очень был доволен.
Разведчики по внешнему виду очень отличались от остальных солдат: с весны до осени мы ходили в комбинезонах тёмно-синего, серого или чёрного цветов – я помню, что в 1942-м году мы так ходили. У нас на поясе были финки. Обуты мы были лучше, носили хромовые сапоги «подарок Черчилля», оставшиеся ещё с лыжного батальона, потом мы их немножко перешивали. Как правило, эти комбинезоны использовали во время боя, а когда уходили на отдых в Рыбацкое или Щеглово, то комбинезоны снимали и ходили в обычной красноармейской форме, а комбинезоны хранились у старшины в машине. Знаю, что нас звали уголовниками, бандитами – наверно, некоторые ребята себя так проявляли. Чуть сносилось обмундирование – сразу заменяли, наши «чмошники» нам не отказывали: если мы обращались, то заменяли. Потом, нас кормили немножко лучше: помню, после «Красноборской» операции стали выдавать триста грамм чёрного и триста грамм белого хлеба. Но разведчики предпочитали лучше получить шестьсот грамм черного хлеба, чем триста и триста: булку эту проглотил – и всё, голодный. Спирт у нас не выводился: двадцать литров всегда стояло в машине, но никто не пил. У меня было только два разведчика, которые могли перед выходом в разведку выпить пятьдесят–шестьдесят, до ста грамм, остальные перед выходом не пили. Вот вернётся – полкружки «жиманёт», поест – и на восемь часов спать, а то и на десять! А так каждый знал, что выпьешь – и теряешь равновесие, теряешь контроль, а это значит подставить себя под пулю.
В пехоте перед боем давали, но тоже не все пили, а пили в основном повара, старшины, писаря: он получит, скажем, на двадцать человек, а вышли из боя пятнадцать. Но я в эти дела не вникал, хотя некоторое время был военным дознавателем и мне давали несколько заданий – в каждом подразделении был военный дознаватель. Например, у нас в Рыбацком один разведчик украл у кого-то морской китель – я расследовал. Ещё на стрельбище у нас один был ранен в ноги по небрежности – я тоже расследовал. Потом после «Арбузовской» прокурор мне дал на расследование два самострела: один стрелял себе в руку через дощечку, другой – чтобы не обжечь, стрелял через мокрую тряпку. Тот пехотинец раненый пришел в медсанбат, там заподозрили, что самострел. Меня прокурор вызывает и даёт поручение, я спрашиваю: «А как?» Он мне объяснил: «Ты его возьми, скажи: «Веди!» – пусть он тебя приведёт на то место, где в него попала немецкая пуля. Он тебя обязательно приведёт на то место, где он стрелял. Спроси: где он был, откуда прилетела пуля, как он стоял? Когда он всё расскажет, ты его и спроси: «Ну, а потом, после, ты куда эту тряпку бросил?!». Я так посмотрел на прокурора с недоверием, а оказывается, у них всё уже отработано! Я пришел, солдат мне всё показал: «Вот тут я был, вот тут стоял». Я спросил его: «А где у тебя был автомат: на груди или на плече? А где у тебя была рука в момент ранения? А после того как в тебя пуля попала, куда ты бросил тряпку?» – он не опомнился и сказал: «Вон туда». Что с ними было дальше – я не знаю. Как правило, их лечили и отправляли в штрафные роты. Оба самострела были русскими: один – из Николаева, другой – тамбовский, по-моему. Дознавателями становились очень просто: следователи из прокуратуры беседовали с политруком и командиром роты, и те просто указывали – и всё: «Ты будешь!..» – немного побеседовали – и всё! Потом было же и воровство! У нас, например, разведчикам выдавали «сухой спирт» – такие баночки, как гуталинные, и фитилёк. Их брали с собой, когда уходили на трое – четверо суток, можно было водичку погреть и тушенку разогреть. Писарь и старшина этот «сухой спирт» жали через полотенце и спирт пили. Мы знали, что среди нас есть засекреченные осведомители из «СМЕРШ», кто-то из них доложил, что «так и так – хищение!» Проверили – да. Тоже мне поручали, но я отказался потому, что у нас отношения были неладные – они «баловались», недодавали. Например, разведчикам полагалась корейка по двадцать грамм, а они недодавали. После разбирательства их списали в пехоту.
Четвёртого августа мы вышли из боя, а первого сентября я ушел с группой под Синявино. Нашей задачей было взять Синявинские высоты, операция длилась с 15-го по 22-е сентября. Было взято село Синявино, от которого оставались только развалины церкви, и, главное, немцы были сбиты с Синявинских высот. То есть, Синявинская высота одна, но имеет несколько отметок: самая низкая – 41, потом – 43, 50.3, и самая высокая отметка – 56, это даже не заметно. Отметки я вам говорю как разведчик, как топограф. С Синявинских высот немцы наблюдали за нашей железной дорогой, проложенной по берегу Ладожского озера вдоль коридора, пробитого в январе, и когда шли наши поезда, они вызывали огонь. Если помните, я рассказывал, что в январе 1943 года наши войска были остановлены у подножия Синявинских высот, в июле или августе инженерно-штурмовой батальон ночью захватил «отметку 41», эту кромку высоты они удержали и передали пехоте. Когда пятнадцатого сентября начался штурм, то командный пункт командира дивизии Щеглова находился в первой траншее. Высоту взяли девятнадцатого сентября. Захватили не только высоту, а немножко побольше, потом немножко отступили, бой там тяжелый был. Девятнадцатого числа разведчики взяли 26 пленных, все – резервисты. Они сказали, что прибыли в часть три дня назад.
Накануне нашего наступления мы сменили державшую на этом участке оборону 11-ю стрелковую дивизию, против которой стояла тоже 11-я пехотная дивизия немцев – вот такое интересное совпадение. Когда мы принимали позиции, выяснилось, что контрольного пленного не было в течение всего лета, они не знали никаких подробностей или замыслов немцев. Перед наступлением на позиции прибыл командир дивизии, мне говорят: «Готовь группу поиска и взять пленного – завтра утром наступать, а сегодня вечером надо брать!» Я говорю командиру дивизии: «Знаете, неладно так» – он так резко: «Как?» Я говорю: «Группа у нас есть, но ведь немцы могут узнать, что мы завтра наступаем: я не гарантирую, что немцы не схватят одного из наших– и будет у них “язык”, который скажет, что мы завтра наступаем. И всё сорвётся». Он говорит: «А так может быть?» – я говорю: «Да. Но знаете, группа у меня хорошая. Завтра утром за два часа до наступления пойдёт группа и возьмёт немца в первой траншее. И даже если кого-нибудь схватят, и он расскажет про наше наступление– они не успеют!» – и он со мной согласился. Утром группа пошла, схватила немца, шедшего с котелком супа, и отошла, не потеряв ни одного человека. Но что он мог рассказать, я не знаю. Во всяком случае, ничего нового он ничего не сообщил, что бы уже не знали наши начальники. Щеглов всем участникам дал орден «Красной Звезды». Этот случай характеризует Щеглова, что он с маленьким человеком считался. Потом этот эпизод широко обсуждался, но сам приём я позаимствовал из опыта 1942 года: там, у Сестрорецка, ребята ещё в темноте выползли, осмотрелись, высмотрели, сделали бросок, выхватили финна, и когда наши были уже в своей траншее, наша артиллерия открыла огонь.
Непосредственно в этом бою и поиске я не был, постоянно находился при командире дивизии. Доложили, что вот там группа немцев пробирается – я приказываю Егорову с отделением пойти туда-то, они пошли туда и эту группу уничтожили. Разведчики, работавшие в боевых порядках батальонов, докладывали мне, а я докладывал командиру дивизии. Когда батальон Ефименко немцы окружили или в другом месте сильно наседали, то наша рота во главе с командиром и командиром второго взвода ходила выручать. Шли сильные бои и у нас были потери. Когда мы прикрывали правый фланг разведки – я вам рассказывал, там прикрывала рота автоматчиков 190-го полка. Командир Снежко – он за этот бой первым в дивизии был награждён орденом «Александра Невского», мы были рядом, но друг друга не знали. Он был малограмотный, тоже офицер из старшин. Когда потом вспоминали этот бой, он рассказывал, как у него получилось. Командир полка поставил ему задачу – он пошел со своими автоматчиками и заблудился. Заблудился – и вышел на немецкую трёхорудийную батарею, которая вела интенсивный огонь. Для тех и других встреча была неожиданной, но бой кончился победой наших автоматчиков, потом им стало трудновато. Там же действовала одна наша группа разведчиков, выполнявшая отдельную задачу: ребята чувствуют, что наши там попали в какую-то катавасию, и, как он мне потом рассказывал, дивизионные разведчики хорошо им помогли «расчихвостить» немцев.
Когда на командный пункт приходил командир дивизии, то с ним всегда были два или три радиста, два телефониста и обязательно из оперативного отдела – заместитель начальника отдела капитан Слепенков. Это был грамотный офицер, я у него учился, и мы с ним очень хорошо дружили, потом он стал начальником штаба 190-го полка. После победы над Германией он был отправлен на Дальний Восток и участвовал в войне с Японией. Слепенков был очень самолюбивым, мог нагрубить командиру дивизии Щеглову – не уступал. И ещё будучи капитаном, говорил: «Я всё равно генералом буду!» – и стал им. С Митей Слепенковым мы так сдружились, что когда он пошел начальником штаба полка, то обращался к командиру дивизии с просьбой отдать меня ему в полк помощником по разведке, но Щеглов меня не отпустил.
На Синявинской высоте 190-й полк наступал только двумя батальонами – так же, как и полк Шерстнёва тоже наступал двумя батальонами. Когда через сутки стало ясно, что операция не удалась, то и 64-я дивизия не вводилась, и батальоны, которые были в резерве – тоже. По существу, наша дивизия в Синявино наступала только четырьмя батальонами. Помню, прямо у нас перед перископом – нам хорошо было видно – вышли три наших танка «Т-34». На одном было написано белой краской: «Подарок Ленинградских женщин», а на втором – то ли: «За Родину», то ли «За Ленинград». Танкисты были, наверно, безграмотные: остановились так, что подставили борта под немецкие пушки, и по ним немцы открыли шквальный огонь! Один, по-моему, загорелся, а два были подбиты, ребята выскочили из танков. Немцы танкистов хотели окружить, Щеглов послал группу разведчиков и этих танкистов выручили. Я командовал этой группой. Там командиром танкового полка был майор Трусов, и он всех разведчиков наградил медалями. Это я рассказал про трёх неудачников, а был ещё один танк – в районе развалин церкви у немцев был хорошо укреплённый пункт, и этот танк так ходил по траншеям, утюжил немецкие землянки! Выкуривал немцев огнём из огнемёта – нам в перископ было хорошо видно. Щеглов просто прыгал: «Вот герой! Вот! Бровкин, узнай этого героя!» – ну а как я узнаю! В общем, так и не узнал, кто он, откуда, был ли из полка Трусова – я так и не знаю. Так же с наблюдательного пункта я видел, как наши штурмовые отделения из сапёрного батальона во время наступления использовали переносные огнемёты по немецким землянкам и траншеям.
Пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого сентября были тяжелые бои, а самый тяжелый был девятнадцатого сентября – потому, что немцы пошли в контратаку. Бой был очень тяжелый, и мы выдохлись. А главное – не было команды вводить резервы: по-видимому, командование поняло, что предел достигнут. 22 сентября мы вышли из боя, передав позиции 11-й дивизии. Немецкие укрепления я вблизи не рассматривал, в основном вся Синявинская высота была изрыта траншеями. Там, где сейчас стоит мемориал, у нас похоронен командир батальона капитан Салтан и мой разведчик Мозгов Ваня. (По данным ОБД «Мемориал» – гв. капитан Салтан Андрей Николаевич 1912 г.р., уроженец Запорожской обл., убит 12.09.1943г. Место захоронения – высота 43,0. Синявино Мгинского (ныне Кировского) района Лен.обл. Гв. ст. сержант ком. отделения Мозгов Иван Алексеевич, уроженец Московской обл., убит 18.09.1943г. Место захоронения – 400 метров юго-восточнее 5 рабочего посёлка Мгинского района Лен. обл.) После войны мы часто туда ездили со школьниками, собирались ветераны. Ещё была видна яма на месте командного пункта на высоте 40,1. Из Новгорода приезжал Савинский, у него хорошая память и он там бегал и говорил: «Вот, вот – наша землянка, а вот – командный пункт, а вот – начальника артиллерии…». Когда я ездил с ПТУ-шниками – у них была воспитателем коренная жительница посёлка Синявино – она рассказывала, как пришли немцы, и она была свидетельницей, как они взрывали церковь. Немцы их эвакуировали в Мгу.
За участие в этих боях я был представлен к ордену «Красная Звезда». Мы со Щегловым были уже как бы на дружеской ноге. Приносят ему наградные документы, он читает: «Разведчики… О! Бровкину – “Красная Звезда”!» А я возьми, да и скажи: «А у меня уже “Звезда” есть». Он так подумал и написал: «Медаль “За Отвагу”» – по существу, я сам отказался от «Красной Звезды».
Одиннадцатого октября я уехал на Пулковскую высоту, начиналась подготовка к операции по полному снятию блокады Ленинграда. Раз в неделю к нам на наблюдательный пункт приезжал Щеглов – посмотреть, поспрашивать, я его ориентировал. Как-то приезжает, и говорит: «Там разведчики твои распустились: пьянствуют, по бабам ходят!» Я говорю: «Подмените меня хотя бы на несколько дней, пришлите командира второго взвода Юру Деева» – прислали Юру. Мы собрались, и я думал, что больше сюда не вернусь. Приехал уже поздно вечером: никого в роте нет, пусто – кто на гуляньи, кто на танцы, кто-то к бабам ушел. Потом начали появляться, появляться. Я там пробыл дней, наверно, восемь, вдруг приезжает командир дивизии, злой. Вызывает меня: «Завтра отправляйся на Пулково!» Я спрашиваю: «А что такое? Что случилось?» – а он приехал, а на пункте никого нет – спят все! В общем, разведчики работы никакой не ведут. Думаю: «Господи боже мой: тут плохо, там плохо!» – в общем, за три месяца разведрота полностью разложилась! Помкомвзвода у меня был хороший парень, но он был когда-то рядовым разведчиком – со всеми запанибрата. А там рядом рабочие посёлки Ириновских торфоразработок, там одни девчонки. Девочкам раз в месяц выдавали по пол-литра водки, разведчики это хорошо знали – берут по полбуханки хлеба, и туда – гуляют, попойка! В общем, три месяца они там не столько готовились, сколько «отдыхали». Командиром роты был пограничник, начинавший войну помполитом, его сделали политруком роты, а затем два года был в резерве, после присвоили командирское звание – тогда из политруков переводили. В военном отношении он был очень плохой, а тем более разведчик – и разведрота наша «упала». Если в своё время мы получили благодарность от Говорова, то теперь… Но потом разведка очень хорошо работала.
В начале декабря я слушал речь Власова – немцы её передавали по громкоговорителям. Очень хорошая была речь, Власов говорил хорошим русским языком, но воспринимал я его как предателя. Я загнал ребят в землянку, чтобы они не слышали, а сам слушал (рассказывает, улыбаясь). Это была чёткая, правильная пропаганда: он углубился в историю и, начиная с подавления Кронштадтского мятежа, рассказывал, какие беды делала Советская власть – очень умная была пропаганда. Чего не скажешь о немецкой агитации – особенно это касается листовок, которыми они нас просто засыпали. Вот, например, когда мы приехали с Ханко, всё было засыпано: «Вот скоро мы возьмём Ленинград, первоочередной нашей задачей будет – повесить комиссаров на Невском проспекте. Если проспекта не хватит – будем вешать на параллельных улицах!» Я прочитал – и подал заявление в кандидаты Партии, сказав, что хочу быть повешенным вместе с нашими комиссарами, если такое получится. 31 декабря 1941 года меня приняли в кандидаты, а в мае 1942 года я стал членом Партии. Наши тоже работали, у нас был инструктор политотдела по разложению войск противника, Зиновий Эпштейн. Он, как правило, брал три или четыре человека разведчиков, чтобы его сопровождали, шел в первую траншею, и в рупор агитировал немцев. А главное – листовки, листовки, листовки. Надо сказать, что в начале войны немцы нас не знали и их листовки как-то отвращали, не давали задуматься, хотя некоторые брали, прятали.
На Пулковской высоте я был начальником наблюдательного пункта №1 42-й армии. В поиск нам ходить было запрещено. Я только, пользуясь служебным положением, дважды крадучись выползал в нейтральную зону, поближе к немецким заграждениям – мне надо было визуально уточнить две немецкие огневые точки. А так – только наблюдение с засечкой батарей противника: увидим вспышку выстрела, засечём время до разрыва. Смотрим по справочнику – 105-мм немецкое орудие: начальная скорость снаряда такая-то, конечная такая-то, вычисляем её дальность и вычисляем место. И так же – пулемёты.
Я, лейтенант, командир взвода разведки, перед боем делал рекогносцировку командирам полков. Командир дивизии мне поручил: «Расскажи моим командирам полков, начальникам штаба, что и как, где они будут наступать». Я всё точно знал, где – полк Шерстнёва, где – Афанасьева, где – Кожевникова, когда вступает в бой артиллерия – весь план боя я знал потому, что присутствовал даже, когда Симоняк давал приказ командирам дивизий корпуса.
Все знали, что предстоит наступление. В конце 1943 года из прилегающих районов эвакуировали население, но точная дата была неизвестна, день наступления несколько раз переносили. Говорили, что первоначально наступление было намечено на седьмое или восьмое ноября, но в связи с тем, что какой-то капитан перешел к немцам и выдал эти наши секреты, наступление было отложено. Но это так, штабные разговоры – немцы не знали, что мы будем наступать пятнадцатого января – в первый день наступления сразу после артиллерийской подготовки мои разведчики взяли первого пленного. Ещё не прорвали первую линию, а он был уже доставлен в штаб дивизии, его тут же Мороз допрашивал – и немец не знал.
За неделю перед наступлением в районе Александровки, перед УР-ом, наши штрафники проводили разведку боем. Я слышал эту стрельбу, видел, наблюдал, но это было далеко – километра полтора или два. Результатов нам не сообщили. Я ходил, узнавал у разведчиков УР-а, но они сказали, что «нас не информировали». Это не от нас сделали, а проводил штаб 42-й армии.
Перед началом операции у нас находились: начальник артиллерийской разведки нашей дивизии, начальник разведки тяжелого танкового полка прорыва Аркадий Лондон, еврей. Ещё когда я только пришел на Пулково, звонят мне из штаба 42-й армии, и говорят: «Выйди к подножию горы и встреть машину с офицером!» Я говорю, что сейчас пошлю своего разведчика, а они: «Нет, сам сойди» – это из Ленинграда звонил начальник оперативного штаба 55-й армии. Я вышел, машина подошла, из кабины выходит младший лейтенант – знакомое лицо, еврей. Я его узнал: в 1943 году мы разбили испанскую дивизию, взяли пленных, но во всей нашей дивизии не оказалось человека, который знал бы испанский язык. Вынуждены были запросить, и из штаба фронта приехал сержант, еврей, он знал испанский язык и был в Испании переводчиком, кажется, у Москаленко. Кроме испанского языка, он знал итальянский, французский, немецкий, русский и, как он мне потом говорил, староеврейский, на котором сейчас говорят. Это был Давид Захарович Франкфурт, он вёл разведку радиостанций, прослушивал. Он пробыл у меня четыре месяца, а 24 декабря снаряд попал в землянку и он был убит осколком в висок. (По данным ОБД «Мемориал»: Франкфурт Давид Захарович 1918 г.р., уроженец г. Ленинград. Военный переводчик. 04.08.1941 г. Вступил добровольно в народное ополчение. Место службы: Лен. Фронт, 472 ОРД. Звание: младший лейтенант. Убит 24. 12. 1943г. Похоронен в Шувалово.) И вот эти два еврея были совсем разные: Лондон матюгался через слово, два раза горел в танке, Франкфурт – интеллигентный, воспитанный человек, отец его был зубным врачом и лечил, вставлял зубы Жданову; его мать была врачом-акушером. У нас в разведроте служило пять евреев, один из них был по фамилии Кравец, он был награждён двумя орденами «Славы». Кончилась война, вдруг он меня разыскал, приехал и рассказывает: вот так и так, товарищ гвардии лейтенант, я как еврей не смог поступить в Военномеханический институт – мне отказали. Я: «Да ты что болтаешь такое?!» – он говорит: «Э-эх, Алексей Иванович, Алексей Иванович, Вы ведь ничего не знаете!» И он мне пояснил, что ректор ему сказал: «Есть указание принимать не более трёх процентов евреев». Я говорю: «Да что-то ты врёшь!». Я с ним – к ректору на Первую Красноармейскую, ректор мне всё пояснил. Я говорю: «Ну как же так?» – а он: «Не могу против закона, понимаете». Мы дали телеграмму в Москву, Говорову: мол, так и так. Помню, девятнадцать рублей я заплатил за эту телеграмму (говорит, улыбаясь). Дня через три приходит ответ: «К ректору». Приходим, этот ректор хвалил–хвалил меня: «вот молодец, вот указание: “Зачислить Кравца! Генерал Говоров”». Говоров знал, что наша 66-я отдельная рота была одним из лучших разведподразделений Ленинградского фронта. Шесть лет Кравец отучился, закончил с отличием, его оставляли в институте в аспирантуре. Приходит ко мне, рассказывает, я говорю: «Ну, повод есть, давай оставайся!» Он ответил: «Нет, я хочу те знания, что я получил, сразу применить» – и уехал на Урал. Через год приезжал, но не сказал, где он работает: «Я доверяю Вам всё, но то, что я подписал... – я не могу». В 1957 году он погиб. Там был Пятнадцатый городок – как же его… – известный научный город, где работали первые атомщики. Взорвался какой-то отстойник с отходами. К тому времени он был уже кандидатом наук и готовился к докторской диссертации, его работа была потом опубликована и ему присвоили доктора, уже после смерти. А Малинкович уехал в Израиль, его дочь и зять были атомщиками, работали в Дубно, а он в Хабаровске работал редактором на радио. Потом состарился, приехал в Дубно, а зять и два сына сбили его: сказали, что в Израиле у них очень большие перспективы, а он один, старый, остался – дети поехали и его с собой забрали. Уезжая в Израиль, он ко мне заехал – это был советский человек, настоящий коммунист. Он мне звонил два раза в год – на Новый год и в День Победы, говорил: «Ты знай, если на Новый год или 9-го мая звонка не получишь – значит меня нет». И потом звонит из Израиля дочь и говорит, что «папа умер, и перед смертью сказал, что обязательно позвони, и скажи, что я…» Это был прекрасный разведчик, студент Исторического факультета Ленинградского университета, но он был москвич.
На правом фланге корпуса, на участке 64-й дивизии, были населённые пункты: Финское Койрово, Русское Койрово, Средне Койрово, Искино. Искино – это была уже первая немецкая траншея. Там должна была наступать, кажется, 21-я дивизия НКВД – точно я не помню. Эта дивизия 31 декабря 1943 года проводила поиск: они в Искино взяли очень драгоценного пленного, который дал очень ценные сведения перед нашим наступлением. Разведротой там командовал Слатковский Сергей Митрофанович – помните, я рассказывал о нём? В Красноборской операции он командовал нашей разведротой, был тяжело ранен тремя пулями и после к нам не вернулся – он был очень обижен тем, что его раненого бросили. Пришли немцы, его ногой повернули, и как он мне говорил: «Думая, что я мёртвый, один вытащил... и облил меня». Говорил, что «терпел полученные ранения, но когда он меня описал – заплакал». Потом начальник разведки дивизии вернул разведчиков, которые его бросили, и те вынесли командира с поля боя. После войны я с ним встречался, он даже когда-то был комендантом Порт-Артура. За удачный поиск, проведённый 31-го декабря, он был удостоен большой награды. Сергей Митрофанович рано умер, это был очень хороший человек, грамотный офицер, выпускник Тамбовского Кавалерийского Училища.
Пятнадцатого января я возвращался с группой разведчиков после выполнения задания командира дивизии – выбрать командный пункт. Иду, смотрю: стоят наши танки, тридцатьчетвёрки, посчитал – их было восемь танков. Идём, а из первой машины высунулся танкист: «Братцы-славяне, есть у вас сапёры кто-нибудь?» Я спрашиваю: «Что?» Танкист говорит: «Да вот – наехал, вон – мина под танком!» Первый танк ехал и гусеницей – на край мины и вывернул её из снега, и она торчит из-под него. Я подошел, смотрю: а на взрывателе натяжки – три провода – значит, она ещё и как противопехотная: зацепишь – и взрыв. Я взял финку, тихонько отрезал один, другой, третий, тихонько взял мину за ручку и аккуратно в воронку положил. Он говорит: «О, вот видно, что ты специалист!» Из третьего танка выглядывает полковник, я его знал – Хрустицкий, может, слышали такую фамилию: улица есть его имени, это – командир 45-й гвардейской танковой бригады. Он участвовал с нами в прорыве блокады, его батальоны поддерживали нас под Синявино в сентябре. Он был придан нашей дивизии, и я был свидетелем, как он получал здесь задание: когда он должен вступить в бой, какая его задача. Вот он здесь стоит, а уже давно должен быть в бою! И я снова взялся не за своё дело, зная, что уже – время, и он давно должен быть в бою, подхожу и говорю: «Товарищ гвардии полковник, Вами недоволен командир дивизии!» – а он уже знал меня, примелькался я ему потому, что часто был на глазах, когда он бывал у командира дивизии. Он поблагодарил меня, и говорит: «Передай, что вот я так и так», и потом мне говорит: «Лейтенант, я найду – обязательно представлю к награде». Я пришел в штаб, доложил командиру дивизии, что так и так, но не рассказал, что я от его имени сказал, что он недоволен. А потом, когда полковник докладывал командиру дивизии, и сказал, что «ну, как лейтенант мне передал, что…» и я ему… Командир дивизии смотрит – а я не знаю, куда деваться – спрятать глаза, спрятать голову, думаю: «Вляпался я!!!» А командир дивизии смотрит на Хрустицкого, смотрит на меня: что там передавал этот лейтенант? Потом я ему пояснил, он сказал: «Смотри, больше от моего имени никаких распоряжений не делай! Понятно?» Уже после войны приехал ко мне из Киселёва мой разведчик Шабалин, вспоминаем, и он говорит: «А помнишь, как я тебе по шее дал?» Думаю: «Как “по шее дал”, когда?» – «Ну когда ты мину-то вытаскивал из-под танка. Я тебя спрашиваю: “Что ты делаешь, лейтенант?!” Я тебе по шее дал, а ты всё равно вытащил её!» – напомнил мне вот этот эпизод, про который я никому ничего не сказал, чтобы там ничего такого не пошло, что вот Бровкин какой-то подвиг совершил. Хрустицкий погиб под Тайцами 22-го числа. Представлял он меня к награде, или нет – не знаю: навряд-ли, у меня таких обещаний много было.
17 января 270-й полк Афанасьева вышел к Вороньей горе. По рации Афанасьев сообщил в штаб дивизии, что командир его роты автоматчиков Масальский завязал бой на улицах Дудергофа. Я это хорошо слышал – рядом сидел. Командир дивизии полковник Щеглов как подскочил – ну молодой был, 32 года – говорит: «О, Володя Масальский уже на Вороньей горе!» Берёт трубку, звонит начальнику штаба корпуса Трусову: «Иван Ильич, Иван Ильич, ты знаешь – Володя Масальский завязал бой на Вороньей горе, мне только что сообщили! Просит помощи, я ему сейчас посылаю свою «гвардию»». «Гвардией» в Гвардии считали разведчиков. И прямо говорит: «Я его представляю к званию Героя Советского Союза». А тут же сидели два журналиста из газеты «На Страже Родины»: Стрешинский и Франтишев, они сразу в блокноты записали и дали «На Страже Родины» заметку: вот так и так, так и так. Командир дивизии даёт мне задание: «Бровкин, бери всю роту, и – к Масальскому. Штурмуйте Воронью гору, помоги ему!» Я взял два взвода, и – туда. Нашел начальника штаба того полка и говорю: «Слушай, Дмитрий, где Масальский?» А майор уже выпил после обеда, говорит, что Масальский ранен. Я спрашиваю: «Как ранен? А он на Вороньей горе был?» А он мне: «Да ты что, очумел?» – только, знаете – так, по-солдатски. Я спросил его, знает ли он, где Масальский, вижу, что он пьян и всё равно ничего не знает, и я ушел, побежал с ребятами дальше. Там был вырыт противотанковый ров, ещё в 1941 году, подковой охватывавший Воронью гору. Смотрю: там сидят ребята Масальского, отделение, а я знал Володю и некоторых его солдат. Смотрю: там сержант Виктор Иванов, я говорю: «Слушай, Иванов, а где командир роты?» Он отвечает: «А командира роты часа полтора как отправили в госпиталь». Я спрашиваю: «А вы на Вороньей горе были?» Он: «Да ты что!?» Я говорю: «Ну как же, получили сведения, что…» – Виктор говорит: «Да нет, мы досюда дошли и во рву остановились». Я посмотрел – за рвом следов не было, снег не тронут. Я спрашиваю: «И никто из наших не ходил? А как же – вот было сообщение?..» Он отвечает: «Не знаю, о чём ты говоришь, мы вот самые первые идём». Я понял, что командиру дивизии неправильно сообщили. Там же, во рву, я встретил командира, кажется, с четырьмя солдатами, спрашиваю его: «Ты кто?» – он отвечает: «Капитан, командир лыжного батальона». Я говорю: «Вот ты мне и нужен. Дай мне свою рацию, я свяжусь с командиром дивизии!» Он сказал радисту, чтобы тот развернул радиостанцию, радист говорит: «А я не знаю позывных». Я спрашиваю: «Как? А какое вы задание выполняете?» – командир молчит. Я ему объясняю, что вот я – командир разведроты, выполняю задание командира дивизии, встретил вас, так вы мне скажите. Он мне ничего не мог сказать. Я тогда написал записку командиру дивизии, что мол, так и так: «Вы дезориентированы: Масальский до Вороньей горы не дошел два с половиной километра и был ранен, рота разбита, наступления нет. А здесь, в квадрате таком-то, я встретил командира лыжного батальона, жду Ваших приказаний, а пока веду интенсивную разведку в направлении красносельского лагеря до воды» – имелось в виду Дудерговское озеро. Мне не надо было писать фразу «Вы дезориентированы» – посланный мною связной рассказал, что начав читать, командир дивизии прямо взбесился! Вернувшийся вестовой передал приказ идти к командиру полка Шерстнёву, который вышел уже к Большому Лагерю, под командование Шерстнева поступал также лыжный батальон и учебная рота. Это происходило в ночь с 17 на 18 января, к этому времени полк понёс большие потери и нуждался в усилении. В полку оставался только один командир батальона, другие два были убиты. Шерстнёв был очень рад, что я пришел, и дал задание взять Горскую. Для усиления из лыжного батальона Шерстнёв выделил мне два расчёта с ручными пулемётами и два – с противотанковыми ружьями. Расчётом одного из ПТР были отец и сын. Для артиллерийской поддержки дали командира батареи артиллерийского полка, старшего лейтенанта. Но артиллерийским огнём я не мог воспользоваться потому, что территория моя была небольшая, рядом наши солдаты, думаю: перебьют они их. Горскую я взял к утру, посёлок находился как раз перед Вороньей горой. Взяли два немецких пулемёта и орудие. Очень помогли пулемётчики из лыжного батальона, их было человек пять или шесть, такие замечательные ребята, молодые, жизнерадостные. Когда я посылал своего ординарца в штаб дивизии, один ко мне «прилип», моим охранником был (рассказывает, улыбаясь), и он убит был.
Ребята хорошо воевали. Шерстнёв посадил на танки роту лыжного батальона и учебную роту и, послав их в обход Дудерговского озера, вышел немцам в тыл, окружив Дудергоф и Воронью гору. Полк Шерстнёва вышел из пределов своей полосы наступления на полосу наступления 64 гвардейской дивизии, что было строго запрещено. Но он как-то договорился с командиром полка, на чью полосу пришлось зайти, и вышел к Красносельскому Большому лагерю. Я ему отчистил путь, послав туда два отделения, которые выгнали немцев из южной части Большого лагеря, немцы частью отступили в посёлок Дудергоф, частью – в Красное Село. Была ещё ночь, вдалеке на снежном поле я увидел какие-то призрачные тени. Сперва мне показалось, что это большое стадо овец. Подойдя поближе, понял, что перед нами огромное кладбище немецких солдат, просто тени от небольших крестов ввели в заблуждение, посередине кладбища стоял какой-то памятник. Восемнадцатого января пытались по железной дороге пройти к Дудергофскому вокзалу, но не получилось. Можно сказать, что весь этот день боя не было. Утром девятнадцатого числа на три танка КВ было посажено одно отделение разведки, бывшее у командира дивизии – там был заместитель начальника разведки дивизии старший лейтенант Мороз, взвод учебной роты под командованием Школьникова, ещё участвовал третий батальон Трошина 188 полка и моя рота. Мы штурмом взяли Дудергоф.
У немцев возле школы стояли две 75-мм пушки, которые били по танкам, шедшим по железнодорожному пути к вокзалу. Три танка были подожжены, погибли два моих разведчика и заместитель начальника разведки дивизии старший лейтенант Мороз, еврей, хороший мужик, но разведчик никуда не годный. Он хорошо знал немецкий язык и был у нас переводчиком непосредственно в бою. (По данным ОБД «Мемориал»: Мороз Аншель Пейсахович, 1911 г.р., урож. г. Минск, ст. лейтенант, помощник начальника штаба 20 ТД, шт. 63 гв. с.д. Умер от ран 19.01.1944 г., от проникающего ранения в грудь.)
Вокруг Вороньей горы столько легенд, столько вранья: рассказывают, что её брали штурмом. Эта гора состояла из трёх: Лысая гора, Ореховая гора и Воронья. Я с ребятами забрался на Лысую гору. Там, во впадине между Лысой и Ореховой горой, проходила Дудергофская улица и стояло несколько домов, у немцев там была зона отдыха для солдат и унтер-офицеров – туда их направляли отдохнуть на пять-десять дней. Мои ребята взяли там две коробки с презервативами, причём знатоки говорили, что это японские, с двумя усиками, они надували, смеялись над ними. Также были взяты коробки с несколькими кинофильмами. Мы стали было их крутить на нашей дивизионной кинопередвижке, но быстренько приехали «смершевцы» и арестовали фильмы. Я посмотрел несколько – было очень интересно посмотреть, как немцы показывали нас и себя. Был фильм, который мы там захватили: коротко – стоит Сталин, по колено в крови, и кричит Рузвельту с Черчиллем: «Ну давай, вставайте, второй фронт открывайте!», а они ему отвечают: «Да куда вставать-то, когда ты захлебываешься в крови!» Потом было, что «вот как нас видят русские, и – как на самом деле: вот Кукрыниксы изображают так и показывают, что немецкие солдаты бьют кувалдами вшей у себя в мундирах, а вот – как на самом деле – показывают: купаются, обуваются, чистые, мундиры начищены, выглажены, сами они выглаживаются, причесанные, чистые. Вот ещё: как нас Кукрыниксы представляют, а вот – как на самом деле, как нас враги представляют, а как – на самом деле!» Фильмы были на немецком языке. Была пропаганда и на русском, я тоже был ошеломлён. Смотрю: газета «Правда» – точно «Правда», отпечатана, думаю: наша что ли? Читаю-читаю, смотрю – текст русский, оформление – ну настоящая «Правда», ну никак не поймёшь – «Правду» читаешь, настроены эмоции, настроен сам что-нибудь узнать, а там – про Красную Армию вся гадость! Потом я встречал эту газету и в Волосово, и в Кингисеппе.
Ещё в этом доме отдыха летом на озере была устроена хорошая купальня. Короче, там не было ни одного орудия, ни одной траншеи, но была очень хорошая смотровая площадка. На одной большой ёлке на высоте, наверно, двадцати метров, находилась смотровая площадка, к которой вела лестница: не прибитая, а очень хорошо заделанная. Нет, Вы меня не поняли: не наблюдательный пункт, а именно – смотровая площадка. А разница вот в чём: наблюдательный пункт – это пункт, на котором всё время ведётся разведка, наблюдается противник, это пункт имеет связь и хорошо оборудован. А на ту площадку приезжали гости, командиры показывали им с Вороньей Горы обзор: открывалась огромная территория – с высоты 172-х метров. Со мною вместе шел начальник разведки этого полка Толя Котов, ему тоже было интересно. Я говорю: «Подожди Толя, не трогай, посмотрим». На каждой ступенечке лежал снег, я подсчитал, когда шел снег – там несколько дней – неделю примерно никто не был на площадке. Связи там не было, поэтому я не имею права сказать вам, что это был наблюдательный пункт – это была смотровая площадка для гостей. А наблюдательный пункт находился на отметке 112, «ДОТ Типанова». Утром я обошел всю Воронью гору – мне было интересно, я три месяца за ней наблюдал, и ни разу ни одного выстрела не видел, хотя в сводках всегда сообщалось, что с Вороньей горы бьёт «Берта». Даже у Дудина есть поэма «Песня Вороньей Горе», в которой есть такие слова:
«… Весь Ленинград, как на ладони,
С Горы Вороньей виден был.
И немец бил с Горы Вороньей.
Из дальнобойной «берты» бил.
Прислуга в землю «Берту» врыла,
между корней, между камней.
И, поворачивая рыло,
Отсюда «Берта» била,
Била все девятьсот блокадных дней…»
Я его потом привозил, водил туда, спрашивал: «Ну, покажи, где твоя «Берта» была?» – ему стыдно было.
Меня интересовало, где какой ДОТ, где какая батарея, правильно ли я давал сведения. И мне сразу было очень радостно, что разведка дала точные сведения, и наша дивизия имела очень большой успех. Она получила почётное звание: «Красносельская», Щеглов за эту операцию получил звание Героя Советского Союза. Этого звания был удостоен и командующий артиллерией дивизии, он был тяжело ранен 16 января. А Масальскому дали ни за что. Когда журналисты Стрешинский и Франтишев писали книгу, я им всё рассказывал, говорил, что «вот вы написали!..» А они говорят: «Ты же сам можешь подтвердить, что Щеглов сам сказал, что представляет Масальского к званию Героя Советского Союза! Ну, мы это и написали, а там и понеслось». Я с Володей встречался уже после войны, он говорил: «Когда я лежал на Васильевском Острове в госпитале, принесли мне газету, я был удивлён, что в обход к кому-то в тыл зашел…» – он честный парень был, и солдат был хороший. Воевал он в Арбузово, и за Анненское бился вместе со мной. Он был малограмотный, грубый, можно сказать – солдафон. Офицер он был – не офицер: такой как я, нигде не учился, на Ханко служил оружейным мастером, ремонтировал стрелковое оружие. Брал только «на ура», «в твою душу…». Масальский – это вообще герой войны, но Героя Советского Союза дать за то, за что ему дали? Ему самому стыдно было потому, что он знал, что этого не делал. Герой войны – судьба его не сложилась, послали учиться в Академию, но он не смог учиться, был малограмотным. Начал пить, пропил свою Звезду…
Так вот, бой был такой простой за Воронью Гору: ничего не было разрушено, все дома остались, наши не стреляли потому, что у немцев там ничего нет. А сейчас туда ездят и экскурсоводы говорят, что вот «склоны Горы обледенели, наши не могли на неё забраться, туда пригласили альпинистов…» – такая гадость, что тьфу! Так вот я тебе хочу сказать такую вещь: трудно, очень трудно и нельзя сказать всей правды о Великой войне. Правды у неё не найдёшь – у каждого своя правда, и кто честно относится к ней – он не может врать, а врёт тот, кто хотел сказать, что и он пахал.
Журналисты тоже разные: был такой радиожурналист – Лазарь Маграчёв, его знал весь Ленинград. Как-то он мне звонит и говорит: «Слушай, друг, я тебя разыскиваю уже двадцать лет. Ты же прорывал блокаду, был в Усть-Тосно, в Красном Бору» – тоже приходилось с ним беседовать, причём сам держит под столом микрофон, а я не знаю, с ним беседую, вдруг слышу по радио своё выступление! Много журналистов приезжало во время войны. Вот, скажем, «Арбузовская операция» – сколько там журналистов было: из «Комсомольской Правды», «Красной Звезды». Они, конечно, приходят в штаб, в политотдел, им нужны «жареные» материалы – ну больше этого у разведчиков. Едут к разведчикам, беседуют с ребятами. Потом получаешь газету – и стыдно: рвали и сжигали. Им нужен был подвиг, а у нас – рядовая работа солдата-разведчика. Я рассказывал сейчас о мине, которую вытаскивал из-под танка: если б там тогда был журналист, газетчик, то ведь, знаете, можно было написать на Героя Советского Союза! Если скажем, кто-то закрыл грудью ДОТ, дал возможность наступить роте, то почему же не написать, что вот «такой-то спас целую танковую бригаду, благодаря чему она вовремя вступила в бой и спасла положение!» – можно же написать, да? А про это никто не знает, и не надо.
Так же никто не знает, что 15 января 1944 года командир гвардейской дивизии Щеглов был сбит с бруствера немецким снарядом. Он свалился в траншею, а снаряд не взорвался. Щеглову в тот день как раз сравнялось 32 года, дивизия только вступила в бой и он наблюдал. Я был рядом, он кое-как заполз в землянку, а я не могу – мне мёрзлая глыба свалилась на ноги, я выбраться никак не могу. Он оттуда кричит: «Бровкин! Бровкин!» Я собрал нервы в кулак – ведь рядом снаряд зашел. Я чувствую, что если он не взорвался, то и не взорвётся – опыт-то есть, кое-как вытащил ногу из валенка, обмотал портянкой, вытащил валенок, а он опять кричит: «Да ты что?!» Я отвечаю: «Сейчас иду», заполз к нему туда. Про этот случай ни он, ни я никому не рассказали – так надо на войне, это обычно. Если бы в это время там был журналист, то он бы расписал это. Один снаряд-то ведь, как он попал сюда?! Я знал эту батарею: она стояла в деревне Ханново, трёхорудийная стомиллиметровая. Я знал, куда она била, она никогда не била по этому квадрату. А тут – через несколько минут после начала наступления, ещё не пехотного, а только артиллерийского, командир дивизии наблюдает – и такое случилось. Представить – нет командира дивизии, дивизия была бы небоеспособна! Кто бы его заменил, заместителя у него не было – разве командующий артиллерией, недалеко был его командный пункт. Только когда писали книгу «Генерал Симоняк», я этим ребятам рассказал этот эпизод, они удивлялись: «Да что же, мы были там, и ничего не знаем» – не считалось нужным, это был рядовой эпизод. Щеглов, когда прочитал этот «роман» думал: «Кто рассказал это писателям?» Потом ему напомнили наши политруки, когда он приезжал, ему сказали: «Разведчик Бровкин Вам привет передаёт» – он говорит: «Бровкин? Так он жив? А-а, так это он размазал журналистам про снаряд!»
Полковники и подполковники войну знают по штабу, а солдат, сержант знает по окопу, по драке – это большая разница. После войны даже в наших соединениях Симоняка Советы ветеранов возглавляли политруки – они из офицерского состава, как правило, больше всех живы остались. И вот они после войны встали во главе ветеранских организаций: например, командир полка Шерстнёв – заместитель командира дивизии – потерял ногу на Карельском перешейке, и он не был председателем Совета ветеранов дивизии, а был председателем батальонный политрук! Языки у них подвешены хорошо, их приглашали на телевидение и на радио, они проводили большую работу в школах и в подразделениях с молодыми солдатами, хорошо проводили патриотическую работу. Когда они стали умирать или становились неспособными стариками, пришли молодые ребята. Вот у нас, например, председателем Совета ветеранов стал сержант Олимпиев (рассказывает и улыбается). Представляете: то были политруки, а тут – сержант!
Во время войны отношения с комиссарами были трудными. Когда война уже кончилась, и мы выезжали на конкретные рубежи боёв, они не знали точную обстановку, конкретные бои, а только общую картину. У нас в дивизии тринадцать Героев Советского Союза, и все они были выдвинуты политруками. Они каждый день отправляли политдонесение в политотделы, в которых обязательно надо было показать, кто отличился. Им всегда надо было показать, что там, где он был – там солдаты воевали лучше, чем где-то в другом месте. И так они как бы соревновались, и получалось героев очень много. Поэт Михаил Дудин, человек с которым я дружил 53 года – с 1939 года по 1993 год. У нас на Ханко был первый Герой Советского Союза – Сокур Петя. Никакого особого героизма он не проявил, но Михаил написал ему такую реляцию, и ему дали Героя. Потом-то он часто себя упрекал, но дело сделано – присвоено. Я, например пытался доказать, что незаконно Героя повесили Масальскому, но мне сказали: «Ведь дело-то сделано, ну что ты себя подставляешь? Дело сделано!» Я с полной ответственностью говорю, что почти каждый мой разведчик сделал в сто раз больше, но это же наша работа! Или есть такой Герой Советского Союза, Молодцов Митя – его тоже сделали Героем. Я приводил к «его» ДОТ-у, говорил: «Покажите: что? где? кто знает как он погиб?!» – он погиб примерно в двадцати метрах от этого ДОТ-а, где и нашли его труп, а в реляции написано, что он своим телом закрыл амбразуру. Какой он подвиг совершил – никто не знает – увидели только, что он с проводом лежит. То есть, как солдат он погиб, выполняя свою задачу. Может быть, героизма там он вовсе никакого не проявил, но присвоили? – присвоили! А вот был Тимофей Пирогов – так я знаю, за что ему присвоили: он действительно из пулемёта там перестрелял немцев, которые из Шлиссельбурга отходили на Синявино. Я их пропустил потому, что выполнял задание. Фашистов было, наверно, около трёхсот человек. А он их расстреливал. Не только я – все считают, что ему дали Героя за дело. В мае 1943 года отмечалось 240 лет Ленинграда, в «Доме Офицеров» был праздник, пригласили меня и ещё одного разведчика. Тимофей сидел в президиуме, там я с ним и познакомился. После войны он приезжал, мы с ним встречались, он говорил: «Знаешь, Лёша, мне даже стыдно за Звезду». После войны он работал в колхозе, был награждён орденом «Октябрьской Революции». Хороший, прекрасный парень Тимофей, сержант. А есть Герой Советского Союза Саша Типанов, его именем названа улица в Московском районе – он был удостоен звания за то, что в январе 1944 года под Красным Селом закрыл грудью амбразуру. Но там не ДОТ был, не огневая точка, а командный, наблюдательный пункт на отметке 112, и он погиб перед ним. Отличный был наблюдательный пункт, туда приезжали с инспекцией – оттуда очень хорошо был виден Ленинград. Я этот командный пункт хорошо знал потому, что всё время за ним наблюдал с Пулковской высоты. Он действительно был железобетонный, двухэтажный, мы приходим туда, я спрашиваю: «Похож он на ДОТ? Покажите мне амбразуру!» – сочинили тоже. Но мы ходатайствовали, чтобы мать Саши Типанова приехала, ей в Красном Селе дали квартирку.
Я не хочу сказать, что политруки вообще… Я знаю, что политруки – это были отцы, которые спасали много: хорошие, умные, в нашей дивизии таких Комиссаров было очень много и солдаты их любили. И было очень плохо, когда институт Комиссаров совсем ликвидировали, ввели единоначалие: а если солдату что-нибудь нужно, кому он пожалуется? Вот и сейчас молодые солдаты нуждаются в воспитании, а им навязывают попов!
Лично моё отношение к тому, чтобы закрывать грудью амбразуру – это варварство. Почему нужно идти и закрыть своим телом?! Обойди ты этот ДОТ, ведь у нас же территория огромная! Я вам приведу пример: 16 января 1944 года командир дивизии мне говорит: «Давай с ротой – к командиру полка, он там застрял, не может никак взять огневые точки!» Я прибежал к Кожевникову, говорю: «Прибыл в ваше распоряжение!» – он говорит: «Слушай, вон две огневые точки, мне нужно их взять, но самому мне никак». Я говорю: «Я их взять не могу!» – он говорит: «А чего же?.. А чего ж ты пришел!?» Я говорю: «Товарищ гвардии полковник, почему мне нужно на них идти? Погибнут все мои разведчики, а взять – мы не возьмём. Вот если я пойду ночью, то я их возьму: потеряю два – три человека, но возьму! Или дайте в моё распоряжение пушку – мне лично, я сам стрелять умею, и я расчихвощу эти огневые точки!» Я понимаю – закрывают амбразуры своим телом, чтобы дать товарищам без потерь овладеть этой огневой точкой: потери – один человек, огневая точка уничтожена, и продвижение подразделения обеспечено. Я понимаю это, но ведь если этот пулемёт подавить, скажем, «сорокапяткой»: она ему туда вмажет – и пошло подразделение, и взяли огневую точку противника! Так в основном и брали, но кто-нибудь поставит вопрос, чтобы этому артиллерийскому расчёту, который туда загнал снаряд, Героя дать кому-нибудь? – медали не дадут! А подвиг-то одинаковый!
А что стали творить после войны? Присвоили звание Героя Советского Союза президенту Египта Абдель Насеру, Фиделю Кастро!.. Это же не согласовывается ни с чем! Или вот давали звание командирам дивизий. Если ты – командир дивизии, и тебе поставлена задача, это – твоя работа: ты командир, обязан выполнить задание. Выполнил отлично задачу – хорошо, дать поощрение, но при чём здесь героизм!? Вот у нас был случай: немцы схватили нашего солдата и повели по траншее, один немец шел в впереди, второй позади. Солдат наш видит – гиблое дело. Чуть приостановился и заднего фрица каблуком врубил в яйца! Тот заорал, сел, шедший впереди немец, не разобравшись, бросился помочь товарищу, а солдат удрал! Был тут героизм, или нет? И скажи ты кому нибудь про это, тебе поверят? Спросят: «А ты не соврал?» Поверьте старому человеку, самый героический поступок – это подняться из своего нагретого окопа, преодолеть страх, выскочить, и с криком: «Ура!» или «В твою мать!..» – вот это самый мужественный момент! Если ты его преодолел – вот это настоящий героизм! Это очень трудно: выскочить из траншеи и пойти на пулемёт, на огонь, это страшно, но это преодолевает солдат – вот это настоящий героизм.
Теперь: это ерунда, что в атаки ходили со знаменем… Ну, в общем, у нас не ходили: знамя полка находилось далеко от передовой, в штабе полка под охраной комендантского взвода, где находился начальник штаба, а он не находился на командном пункте, и так же было со знаменем дивизии. Вот представляете: командир дивизии находится на высоте, а начальник штаба – километра три с половиной дальше в тылу, с ним оперативный отдел, штаб отдел, сапёрное отделение, отделение связи и там было знамя. Это Дудин в «Песне Вороньей Горе», помню, писал: «Знамя, исхлестанное в боях, Водрузили на Вороньей Горе. Масальский был ранен, а подхватил разведчик Бровкин». Я ему говорю: «Ну что ты ерунду… Наслушался о Гражданской войне, что где-то на дальневосточной сопке водрузили знамя!» Такого не было никогда. Для того, чтобы показать, что это место занято, я, например, вырезал из какого-то лоскутного одеяла кусок, привязал двумя кусками телефонного кабеля за углы и говорю Мише Примаку (а он высокий был): «Привяжите его повыше к сосне, чтобы наши артиллеристы увидели и перенесли огонь» – вот и всё, проза. А тут: «Водрузили!..» Или вот пишут в газете: «38-я лыжная бригада под командованием полковника Потехина водрузила на куполе церкви Шлиссельбурга красное знамя». Я потом спрашиваю: «А в какое время?» – «В три часа дня восемнадцатого января» А в ночь с семнадцатого на восемнадцатое в Шлиссельбурге не было ни одного немецкого солдата – ушли, я их всех пропустил на Синявино! А Тимофей Пирогов – тот молодец: посмотрел и не пропустил, расстреливал их из пулемёта! А они, видите ли, днём восемнадцатого штурмом взяли Шлиссельбург (смеётся). Когда вот такие вещи знаешь, так возмущаешься. Я, правда, тоже один раз писал о разведке так, что потом стыдно было читать.
Когда образовался Совет ветеранов, стало приходить много писем, писали родственники и лично мне. Вот пишет: «Мой сын погиб семнадцатого января 1944 года, при снятии блокады. Сообщите, где он похоронен – я бы хотела приехать на могилу». А как раз этот писарь, Сураков, с которым мы воевали в Финскую и на Ханко были, я его спрашиваю: «Василий, вы выписывали похоронки. Где хоронили?» – он сказал, что пятнадцатого, шестнадцатого числа всех хоронили в братской могиле на Пулковской высоте, а с семнадцатого по девятнадцатое – всех хоронили в Красном Селе. А потом я спрашивал тех, кто хоронил, было ли так? Они говорят: «Да конечно нет! Разве всех перевозишь – у нас же было всего две лошади, запряженные в сани!» То есть хоронили кое-как, кое-как, мой дорогой.
За «Воронью Гору» я был награждён орденом «Отечественной Войны» первой степени.
После войны в Совет ветеранов приходило много писем, также и лично Дудину, адрес такой: «Союз писателей Ленинграда, Михаилу Дудину» – все знали, что он служил в нашей дивизии. А он говорит: «Алёша, возьми там эти письма и попробуй сам ответить на них» – я возьму письма, разберу и отвечаю. Он считал, что ему некогда! Ещё расскажу такой случай: Дудин написал стихотворение, в котором говорилось, что «впереди командир роты, а сзади – особист!» – дескать, рота наступает, а особист сзади случай чего – расстреливает. Он принёс его в журнал «Аврора», но ему там отказали это стихотворение опубликовать, он там что-то взбеленился. В редакции «Авроры» меня знали, они мне звонят и говорят: «вот так и так, был ли такой случай, что особисты сзади стоят и случай чего – из пулемёта стреляли?» Я говорю: «Это ерунда!» Потом когда я с Мишей разговаривал, говорю: «Ну чего ты написал? Сколько у нас в полку было рот? Пятнадцать. А особистов сколько было? Один, Осадчий. Так что? Как Особый отдел мог стрелять? Осадчий был один и при нём ординарец, как он мог все роты контролировать?!» – ну ему стыдно было.
Наверно в других местах всякое бывало, но без Особого отдела было нельзя. Особенно в тяжелой обстановке, когда в подразделении идёт разлад, когда есть нытики или даже вредные люди. Ведь враг к нам запускал огромное количество шпионов! В нашу разведроту был заслан один, но просмотрели, просмотрели. Под Вороньей горой он был ранен в руку и попал в госпиталь, где моя жена работала медсестрой. Она видит в списках – раненый из 66-й разведроты 63-й дивизии. Ага, пришла в приёмный покой, в палату, спрашивает: «Вы из разведки? Из 66-й разведроты? Бровкина знаете?» Он: «А что? А что тебе? Знаю» – в общем, вёл себя настолько странно… Это она мне уже потом рассказывала. Короче он немного побыл, и исчез из госпиталя. А вот как он к нам попал: когда мы получали пополнение, обязательно всех проверяли – кто, откуда? Потом приходил начальник «Смерша», брал список, расспрашивал, кто их знал, к кому пришли. Его информировали, и некоторых он вычёркивал: «Вот этого спишите». Я очень часто ершился, говорил: «Ну почему?!» А он посмотрит на меня такими глазами: мол, «дурак ты, дурак – я перед командиром дивизии не отчитываюсь, ни перед начальником штаба, а вот тебе должен сказать, почему!» Но вот этот случай был другой: я три месяца вёл разведку на Пулковской высоте и помкомроты оставался за меня. Как-то приехал с Пулковской высоты, пришел в штаб дивизии и сразу – к начальнику разведки дивизии. А он мне говорит: «Слушай, Бровкин, в роту вернулся старый твой разведчик – ну, этот, с орденом «Красного Знамени» и «Отечественной Войны»». Я говорю: «Как это? У меня такого разведчика не было!» Он говорит: «Ну, как же – Булгак. Булгак у тебя был?» Я говорю: «Булгак был. Смелый». Я думал, что он в моём взводе – в моём взводе его не оказалось, и я занялся делами и не обратил внимания, а потом уехал обратно. И там меня заскребло: как «старый разведчик»? Булгак им никогда не был. И с двумя орденами? У нас, разведчиков, с орденом «Красного Знамени» никого не было. Но он был во втором взводе, я с ним не сталкивался, и опять так прошло. Он ничем не отличался, откуда он был взят? И когда я узнал о случае в госпитале, то стал его разыскивать, где он – исчез, сбежал! Видимо, после разговора с женой он понял, что стоп, его засекли тут. Потом я искал его, но он вообще не числился нигде, ни по каким спискам – где, откуда попал.
22-го января мы вышли из боя. В Рыбацком переформировались и 27-го попрощались с Ленинградом, 27-го в Ленинграде состоялся салют. Как раз в тот день я послал ординарца к себе на квартиру – отвезти вещи: форму, сапоги, награды. Мы с ротой были уже под Волосово. И вдруг нас догоняет на мотоцикле посыльный из оперативного отдела и говорит: «Сворачиваем направо!» 42-я армия повернула на Псков, а мы перешли в подчинение Второй Ударной армии Федюнинского и повернули направо на Нарву.
Где-то в Кингисеппском районе мы шли пешком по лесным тропам. Нам была поставлена задача: проверить, не остались ли в лесах группы немцев. При Особом отделе дивизии были созданы подразделения, которые должны были узнавать, кто как себя вёл в оккупации, не оставили ли немцы где нибудь своих разведчиков. Видимо, у них была такая задача – прочищать. Сами они были трусоватые, примазались к разведчикам и шли с нами, мы с ними и ночевали вместе, но особой дружбы у нас не было. В одном месте в поле стоял танк, как мне сказали – «Т-IV». Я уже говорил, что хорошо знал немецкие пушки, пулемёты, автоматы, а в танках и самолётах не разбирался, знал только звук и силуэт «Ю-88» и «Хеншель» был, разведчик. Вокруг танка никого – ни наших, ни немцев. Я в этот танк залез, нажал на что-то – и закрутилась башня, нажал на какую-то кнопку – и башню повернул. Справа от пушки лежит несколько снарядов, я открыл замок, заложил туда снаряд. А куда стрелять? Покрутил – а там невдалеке лесок был – и в лес сделал выстрел. Недалеко там была усадьба совхоза «Первомай», что ли, там ребята нашли вкопаные в землю чаны с квашеной капустой, а мы голодные были, ребята набили котелки. Мы сидим у танка, едим эту капусту, я ещё сказал, что не надо жадничать, а то можно заболеть.
Смотрю: едут такие роскошные санки, застланные ковром, в них два человека. Подъезжают: «Кто стрелял?!» – я: «А кто вы такие?!» Один, который был в кожаном пальто, такой чистый, сказал, что он командир партизанской бригады, забыл название. Говорит: «А вы знаете?» – Я говорю: «Ничего я не знаю…» – в общем, я заершился: «Кто вы, да что?..» – он тогда говорит: «У меня в лесу люди, крестьяне – мы их спасали от угона, от немцев, а вы нас обстреляли. У нас люди погибли!» И-и-и, я тут и задрожал, думаю: «Что ж я наделал!» – вся спесь с меня сошла! Мы поближе познакомились, а потом он видит, что я перетрусил, и говорит: «Ну, ладно, успокойтесь, жертв не было. Поэтому мы и пришли – думали, что откроют ещё огонь». Не могу вспомнить фамилию этого командира – он был Героем Советского Союза – вертится на губах, ну потом вспомню. Через двадцать лет меня пригласили в редакцию газеты «Вечерний Ленинград» – редакция проводила встречи с участниками боёв за Ленинград. Помню, выступал какой-то артиллерист, Герой Советского Союза, и был приглашен этот командир партизанской бригады. Я подошел к нему, говорю: «А мы с Вами уже встречались» – напомнил ему. Он отлично помнил этот случай, но в лицо меня не узнал.
Немцы занимали предмостное укрепление на правом берегу Наровы – кто как называл: кто «Нарова», кто – «Нарва». Нашей задачей было спихнуть немцев с плацдарма. После тяжелых боёв в районе Ивангорода нас отвели, и вскоре дивизия по льду форсировала реку Нарву юго-западнее города Нарвы, до которого было где-то километров четыре или пять. Наступали двумя полками, полк Кожевникова был в резерве, его ввели на второй день на левом фланге потому, что на левом фланге дивизии никто не наступал. 45-я и 64-я дивизии наступали правее, продвинулись быстро и хорошо, заняли все мызы. Командир дивизии перешел на левый берег, а потом застопорилось – немцы, по-видимому, опомнились. Четырнадцатого февраля мы всё же вышли к шоссейной дороге Нарва – Таллин, перерезав железную дорогу Нарва – Таллин, это была наша последняя атака. Первый батальон 188-го полка, которым командовал хороший командир, капитан Жилин, вышел к населённому пункту с православной церковью, называвшемуся Тирикюля. Разведчики открыли, что в этом Тирикюля за домами прячутся «Тигры» – машин пять, я сразу доложил командиру полка. «Тигры» повели атаку на первый батальон, которым командовал Жилин, при нём же находился командир роты миномётчиков Ваня Внученко. А Ваня у меня был ещё в Финскую и на Ханко был командиром отделения, мы с ним дружили. Кто-то мне сказал, что командный пункт батальона раздавили «Тигры» и Внученко там погиб, я с четырьмя разведчиками побежал туда – был порыв помочь Ване, но не получилось, наши оттуда бежали. Угрожая расстрелом, я их остановил перед железной дорогой, они залегли, приняли бой, и вклиниться немцам уже не дали. Там было несколько солдат с противотанковыми ружьями, они открыли огонь по танкам. Сам я этих «Тигров» вблизи не видел, а только с наблюдательного пункта, в бинокль. (По данным ОБД «Мемориал» Жилин Василий Александрович 1920 г.р., гвардии капитан, командир стрелкового батальона 188 гв.с.п. 63 гв.с.д., погиб 15.02.1944г., место гибели и захоронения не указано. Внученко Иван Афанасьевич 1917 г.р., место рождения – Курская обл., гвардии старший лейтенант, командир миномётной роты 188 гв. с.п. 63 гв. с.д., убит в бою 14.02.1944 г., место гибели и захоронения не указаны.)
В это время полки дивизии действовали самостоятельно – они были отрезаны от штаба дивизии, связь осуществлялась только по радио. Так как у меня не было связи, я со своими четырьмя разведчиками решил вернуться в штаб дивизии. Иду мимо командного пункта командира полка Шерстнёва и, обращаясь к нему, говорю: «Товарищ гвардии полковник, я иду в штаб дивизии. Что передать командиру дивизии? Какую обстановку?» Он посмотрел на меня и говорит: «А ты знаешь, что мы отрезаны? Как ты там пройдёшь?» Ну а я посмотрел на него и отвечаю: «Я со своими ребятами пройду где угодно. Даю Вам полную гарантию, что через несколько часов буду в штабе!» Он тогда, спросив, сколько нас, говорит: «У меня осталось пять разведчиков, командиров нет. Бери себе моих разведчиков и будешь при мне!» Я отвечаю, что «нет, я должен к командиру дивизии!» Он говорит: «Вот будет у меня очередная связь, я скажу командиру дивизии!» – я что-то заершился. Тут он мне напомнил боевой Устав нашей армии: «Мы находимся в окружении врага. Я – старший в этой группе, и мои приказы, мои распоряжения должны выполняться беспрекословно!» Я говорю: «Понял. Только, пожалуйста, я хочу, чтобы командир дивизии знал, где я» – и я установил ему там обстановку, разведал все просеки и даже взял одного пленного, хотя у меня не было такой задачи. Получилось это случайно: там вёл огонь 120-мм миномёт, в расчёте которого было несколько ребят, служивших ещё на Ханко. От них требуют вести огонь, а их обстреливает пулемёт! У меня двое ребят – Костоглот и Гниловченко – они зашли сзади и под ёлкой обнаружили пулемётный расчёт, навалились, одного убили, а второго взяли в плен. Пулемёт мы отдали миномётчикам – отстреливаться, а пленного я привёл в штаб. Переводчика там у нас не было и мы сами его допрашивали. А он, дескать: я не знаю немецкого языка, «я – Эльзас». Я ему говорю: «Франсуа, де Пари». Там батарея была, я туда пошел, спрашиваю: «Ребята, у вас кто нибудь толмачит по-французски?» Нашелся один старший лейтенант, я прошу: «Допроси его». Он стал его что-то спрашивать, а потом говорит: «Да что ты его ко мне привёл, он ничего не знает, никакого французского он не знает!» – старший лейтенант по-другому сказал (рассказывает, улыбаясь). Я тогда всё понял, взял немца так по-братски за ухо и говорю: «Шпрехен дойч, говори по-немецки». Он сразу: «Яволь, яволь». Мы повели его в штаб дивизии. А пройти было очень трудно: там была одна просека, она простреливалась немцами. Я немца хорошо проинструктировал: что «ты иди вперёд, выйди на просеку, постой, посмотри». Он понял, что если он выйдет, его увидят немцы – он стоит, значит, они там успокаиваются, а мы перебегаем эту просеку. Короче, мы вышли. После того, как его там допросили и отправляли в тыл, так он просил, чтобы ему дали «папир», чтобы там было написано, что он вывел нас из окружения (смеётся) – мудрый такой! А вообще-то он ничего не знал: ни расположения, ни номера частей. Только два дня, как прибыл в часть, из резерва, с пополнением. Его наш начальник по разведке стал бить за то, что он ничего не хочет говорить. Но потом пришел «немец», Миша–переводчик, я с ним сидел тут же, он допросил и говорит: «Знаешь, Алеша, он ничего не знает».
С тринадцатого февраля наблюдательный пункт нашей группы находился в домике лесника. Ночью мы растопили плиту, чтобы приготовить себе покушать. Жена и дочь лесника сидели в комнате и к нам не выходили. Сам лесник хорошо говорил по-русски, охотно с нами общался. Потом вышла его дочь, с нами посидела, она тоже сносно говорила по-русски. Я её спрашиваю: «Как к вам тут немцы относились?» Она мне пояснила: «Да немцы-то все такие же, как и вы – все хорошие, а фашисты – звери. Они точно такие же, как коммунисты!» А я ей и говорю: «А я – коммунист, вот он – коммунист!» Как она закричала: «Маман, коммунистэн!» – такой крик подняла! Отец выскочил: «Что такое?! Что такое?!» Я говорю: «Да вот я ей сказал, что мы коммунисты». Он говорит: «Э, дураки вы!» – вот так эстонцы понимали, что такое коммунисты (рассказывает, улыбаясь) Мне на наблюдательный пункт позвонил заместитель командира полка по политчасти майор Силонян, мы его звали комиссаром полка – он меня хорошо знал, потому, что мне его дважды приходилось спасать – и говорит: «Бровкин, высели лесника из домика. Скажи, что будем наступать, завтра здесь будет бой, чтобы он с семьёй ушел». Я леснику сказал, что вот так и так, надо уезжать. У него была лошадь, корова, две овцы. И настолько мы были благодушны, что было как-то неудобно смотреть, как они свои пожитки укладывают в возок. Они отъехали километра два или три, их там проверили, и в возке нашли радиостанцию – он держал связь с немцами! И как только они уехали, снаряд врезал в кухню, где мы были, один капитан был ранен – видимо, лесник сообщил, что уехал. Мне потом говорили: «Эх вы, разве вы разведчики? Вы не разведчики, вы так – слюнтяи!»
Раз вам интересно, расскажу о двух эпизодах с Силоняном. Первый случай произошел ещё в 1942 году под «Красным Кирпичником», когда мы стояли в обороне после Усть-Тосненской операции. Я готовил разведку: помните, когда я с немцем подрался – я вам подробно рассказывал. В том месте к немцам тянулась лощинка, она была хорошо заминирована и вся в проволочных заграждениях, пройти там было нельзя. Я хотел в этом месте пробраться к немцам и попросил начальника инженерной службы полка дать мне схему минирования. Он говорит: «Я-то свою схему тебе дам, а до меня тут с 1941 года менялись части. Кто, сколько, где минировал – никаких схем нет!» Силонян – армянин, говорил с акцентом, на Ханко он был младшим политруком, здесь уже стал старшим политруком, комиссаром батальона. Каким-то образом он попал в эту лощинку. Я слышу, он кого-то тихо зовёт – я к нему туда. Посмотрел… Думаю: «Господи ты, боже мой, как ты сюда попал, и ещё живой?!» А он там запутался в колючей проволоке и не мог выйти. Не знаю, но как-то я туда пробрался и вывел его за руку. Он знал меня и раньше, но тут, как говорится, стал моим крестником и считал, что я его спас.
А второй раз это было уже в «мешке» юго-западнее Нарвы. Я получил задание и пошел с тремя разведчиками. Прошли наши боевые порядки, прошли боевой порядок немецкий, продвигаемся – и слышу голос знакомый! А было тихо: ни выстрела, ночь тёмная. Мы залегли. Слышу голос Силоняна – а его голос ни с чьим сравнить нельзя: такой глуховатый, армянский акцент. Слышу, а где он – никак не могу понять! Передо мной густая-густая ель и нижние ветки лежат на земле. Я понял, что он там, тихо позвал: «Силонян!» – замолчал. Я тихо: «Силонян, ты где?» – он затих. Короче, я к нему приполз. Он с одним солдатом спрятался здесь, и не знает, куда идти – как он туда забрёл? Прошел немецкие позиции! А он шел на командный пункт к командиру полка и заблудился (смеётся). Я спрашиваю: «Как? А Вы знаете, где находитесь?» Он отвечает: «Вот этого-то я и не знаю». У него была карта и фонарик-жужалка, мы накрылись, я показываю: «Вот мы где» – он: «Да что ты?! Да ты что-то меня путаешь! Вот уж… так, а как же?..» Я показываю: вот командир полка – вот тут, а у меня задание. Он замолчал, потом говорит: «Так что, ты меня тут бросишь?» – я говорю: «Товарищ майор, у меня ж задание!» Он говорит: «Бровкин, тебе будет очень трудно жить, если ты меня бросишь. Ты же будешь мучиться!» – и вот так мне говорит, опыт у него, наверно, был, много видел, большой он был умница. И я был вынужден выполнение задания прекратить, и его вывести. Прошли немецкие порядки, а наши пехотинцы начали стрелять – их не предупреждали, они же не знают, кто там идёт. Я кричу «пропуск», так они и «пропуска» не знают, и у них ручной пулемёт ещё!.. Но всё же мы выбрались, я его вывел (рассказывает, улыбаясь). Он говорил: «Век не забуду», потом говорил командиру дивизии: «Ну что у тебя Бровкин там командиром взвода ходит, переведи его к нам!» Командир дивизии меня отпустил, и первого марта я был назначен заместителем командира полка по разведке. А Силонян потом погиб под Выборгом: (Силонян Арам Аршакович 1917г.р. Место рождения – г. Баку. Заместитель командира полка по политчасти, гв. майор 188 гв. с.п. Красносельской Краснознамённой 63 гв.с.д. Убит 03.07.1944г. Похоронен – г. Выборг, в парке) Я пришел, а командир полка Шерстнёв говорит: «Бровкин, мне сейчас не нужен ПНШ. Мне восьмого марта надо брать Нарву, будут уличные бои» – и дал мне роту автоматчиков.
Самый тяжелый бой для меня и для нашей дивизии был юго-западнее Нарвы. С 11 по 29 февраля не выходили из боя ни на час, не отдыхали. День и ночь шли тяжелейшие бои, тяжелейшие потери, а разведку – и вовсе всю перебили. 29-го мы выходили из боя вместе с командиром полка Холошней – можно сказать я их выводил: там все просеки были перерезаны немцами – и там, и там. А я кое-какие из этих просек знал, и этими просеками мы вышли без боя. Там я встретил своего друга–миномётчика ещё с Финской войны и Ханко – Мишу Чукраева, он был уже командиром миномётной роты.
С восьмого на девятое марта я был тяжело ранен.
Когда пошли в наступление, я со своей ротой автоматчиков был в резерве у командира полка. Там наступали, а мы весь день находились возле командного пункта полка. Ночью я спросил командира полка: «Где мне расположить ребят?» – Шерстнёв говорит: «А вот здесь и располагайся». Я разместил один взвод, второй. Сам я, ординарец и ещё младший лейтенант расположились втроём в лесу. Этот младший лейтенант прибежал из госпиталя, он до ранения служил в этом полку. Его Силонян знал и говорит: «Бровкин, возьми его к себе этого парня». Я говорю: «Так у меня же командиры взводов есть», а он говорит: «Ты возьми, он тебе нужен как резерв». Мы с ним разгребли снег, накидали еловых веток, на них постелили плащ-палатку, легли и другой плащ-палаткой накрылись. В это время на исходные выходили наши танки и новые самоходные орудия, которые должны были наступать утром девятого марта. Видимо, немцы слышали шум и открыли сильный артиллерийский огонь, и мы в этот квадрат попали. Рядом со мной спал этот младший лейтенант. Когда я очнулся, было уже светло, у лежавшего рядом младшего лейтенанта снесло голову: волосы, кровь... Лежу, не могу пошевелиться – ничего. Рядом со мной лежит красное пятно, на мне, на лице – тоже волосы, кровь. Я стал кричать, рядом был сруб Шерстнёва – никто не слышит. Оказывается, в срубе с командиром полка находился командир гаубичного полка, который должен был поддерживать наше наступление. Артиллерист говорит Шерстнёву: «Давай уйдём: вот здесь взрыв, а вот – второй снаряд, третий – будет наш потому, что мы взяты в «вилку»». Шерстнёв потом мне рассказывал: «Я послушался и мы ушли». Потом я думал: «Ну вот, командир полка! Я у него был в резерве, а он сам ушел! Сказал бы мне, подошел – и мы бы сменили место или хотя бы зашли в сруб!» – и ведь хороший был командир полка. Потом под Выборгом он потерял ногу, мы с ним дружили. Он был председателем Совета ветеранов, я – членом Совета ветеранов. Перед смертью он передал мне свои воспоминания, сказал: «Вот, возьми и передай журналистам, написавшим книгу «Генерал Симоняк»». Когда он умер, я передал воспоминания Михаилу Стришинскому, а он вскоре умер, и куда делись воспоминания Шерстнёва – я не знаю, но опубликованы они не были. У меня лежит черновик, листов наверно двести – триста. Вообще-то, у меня есть воспоминания и других, некоторые журналисты у меня просили, но я не отдал – у меня доверия к ним не было! Думал потом поработать над ними с сыновьями, но ни сыновья, ни внуки – никто не взялся!
На мои крики пришел старший лейтенант Верёвкин-Захальский, его отец был генерал-майором, но в другой дивизии, оттащили в ППМ. Я был весь избит, шинель и даже шапка изорваны. Всё было в крови, в ППМ сняли даже нижнее бельё, завернули в две простыни. Самое тяжелое ранение у меня было в шею: осколок разбил третий- четвёртый позвонки, впился в спинной мозг, и у меня был полный паралич: ни руки, ни ноги не работали, и только голова немножко поворачивалась. На правой ноге у меня было три раны, на левой три, в голове было несколько мелких осколков величиной с гречневую крупу, но я их и за осколки не считаю. Привезли в медсанбат, стоявший на Луге, в деревне Волково, что ли. Знакомая врач обработала, завернула меня ещё в две простыни, в два одеяла. Положили меня в машину, и она сказала шофёру и санитару: «Гоните на Кингисепп потому, что сейчас будет отходить «вертушка» на Ленинград» («вертушкой» назывался санпоезд) Приехали на станцию, санитар побежал узнать, где стоит поезд, прибегает обратно и спрашивает: «Лейтенант, где у тебя документы?» Я отвечаю: «Вот, лежат на груди, в бумажнике». Потом санитар кричит шофёру: «Давай скорей! Бери скорей на носилки, понесли!» Подбегают, а паровоз уже: «У! У!» – и поезд двигается. Они к одной теплушке – закрыто! К другому вагону – закрыто, тогда они застучали, кричат: «Немедленно откройте, Героя Советского Союза примите!» Дверь отодвинулась, они вдвинули мои носилки и говорят: «Лейтенант, мы выполнили задание. Будь жив!» – вот и я поехал. Подходит капитан и спрашивает: «Кто это тут Герой Советского Союза?» Я открываю глаза, смотрю – Репня, начальник инженерной службы полка. На Ханко он был командиром сапёрного взвода, он там и минировал, и проволоку тянул – хороший парень.
А мы четвёртого марта были на рекогносцировке: командир полка, начальник штаба и начальник инженерной службы Репня. Тогда он был ранен: разрывная пуля раздробила ему локоть, я его перевязывал. У него был «парабеллум», который я ему переложил в правый карман бекеши. Так вот он меня спрашивает: «Бровкин, а когда это тебе присвоили звание Героя Советского Союза?» Я говорю: «Репня, да какой я Герой, это вон ребята придумали!» – они, конечно, молодцы, спасли меня – следующий поезд отправлялся через двое суток, за это время я бы там умер. Я Репне говорю: «Толя, пристрели меня» – он: «Да ты что!» Я говорю: «Тебе что, на меня смотреть не жалко?» Он говорит: «Да чем же я тебя застрелю?» Я отвечаю: «У тебя в правом кармане “Парабеллум”»… Ну, он ухаживал за мной.
Привезли меня в Мечниковскую больницу. Во время блокады в Ленинграде было два распределителя: в Мечниковской больнице и в Лавре. В Александро-Невской Лавре принимали раненых с Ивановской, Красного Бора, Пулково, а в больнице имени Мечникова – с Карельского перешейка и «Невского Пятачка». Когда нас привезли, я слышу: Репня потихоньку спрашивает врача: «Слушай, а он жив будет?» А тот: «Какой вопро-о-ос, ну какой вопрос? Раз к нам попал – конечно, жив будет» (рассказывает, улыбаясь). Репня подошел ко мне попрощаться, сказал, что в больнице Мечникова его не оставляют, а переводят в другую больницу, и мы расстались. И я в Мечниковской больнице пролежал ровно восемнадцать месяцев. Поставили диагноз: полный перерыв спинного мозга. Жене, Вале, сказали: «Жить он не сможет: моча не идёт, стула нет, двигаться не может». Я лежал в хирургическом отделении, а вызвали невропатолога. Обыкновенная женщина-ординатор нашла, что перерыва полного нет: она заметила, что на левой ноге шевельнулся большой палец, и написала: «Оперировать». Пришел профессор, Назаров Василий Михайлович, отметил: «Да нет – перерыв спинного мозга». Начался спор. Пришел профессор Раздольский Иван Яковлевич, невропатолог, подтвердил диагноз своего ординатора, и сказал, что надо оперировать. Василий Михайлович не хотел оперировать. Жена по рекомендации врачей пошла к нейрохирургу, профессору Молоткову, тот выслушал её и говорит: «Не-ет, я Василия Михайловича Назарова знаю, он прекрасно справится с этой работой». Десятого марта я к ним попал, и они всё торговались: оперировать – не оперировать, и лишь шестнадцатого марта оперировали. Я стал шевелить плечом правой руки. Оказалось, полного перерыва нет. Осколок трогать не стали – как сказал профессор: «Он своё гадкое дело сделал и сидит очень плотно в третьем позвонке. Если его вынуть, то позвонок развалится» – и вот я с ним живу. После операции стал потихоньку двигаться, двигаться. Через год даже начал есть левой рукой, потом сидеть стал, потом вставать, ходить. Это заслуги персонала Больницы имени Мечникова, врачей, сестёр, санитаров, няней. Ведь это не военный госпиталь, это – гражданская больница, весь персонал гражданский, ни одного военного там не было. Вот мой пример: я полтора года отлежал, совершенно не двигался, парализован, и они меня поставили на ноги и я до сих пор живу.
Я знаю второй случай: лётчик, он в 1942 году упал, не раскрылся парашют. Как мне говорили, когда его привезли в больницу, это было сплошное кровавое месиво, но человек дышит, живой. Я лежал на втором этаже, в «нервном» отделении, а он – на первом, там было психиатрическое. Как мне рассказывали, сперва он встал на ноги и начал ходить, но ничего не помнил, ничего не знал. Ко мне на консультацию пригласили врача из психиатрического отделения, так вот она сказала, что «мы теперь знаем его имя и фамилию: Сорокин Дмитрий. Я его пришлю к вам под видом, что на втором этаже лежит офицер, он очень любит газеты читать, ему надо почитать». И он пришел, мы с ним познакомились. Он с 1942 года – как вылетел, так и считался пропавшим без вести, и они его восстановили! 28-го августа 1945 года я выписался, а его в сентябре должны были отвезти на родину, кажется – в Казахстан. Врач говорила: «Вот я его привезу – там ни за что не поверят, с каким диагнозом он поступил! Это только мы могли его наблюдать три года». Это всё только благодаря медикам!
Меня оперировал профессор Назаров, «покопался» в спинном мозге, что-то там сделал, поколдовал – и я через полтора месяца уже стал двигать плечом, потом ожили пальчики – в общем, почувствовал, что тело есть. А сделал он эту операцию по настоянию простого невропатолога, ординатора Татьяны Константиновны, кажется, её фамилия – Теришева? Вот никак сейчас не могу вспомнить! Сёстры были студентками Второго Медицинского института, нянечки?.. Ведь меня надо было три-четыре раза повернуть, два-три раза натереть от пролежней, покормить… И выходили они меня. Год и два месяца я лежал в «нервном» отделении, тоже не двигался. Заведующей отделением была Лойко Ванда Ивановна, врач – Пантелеймонова Ольга Николаевна, она же была и преподавателем, медсёстры: Маша Морозова – вот я их всех личики помню. Профессор-невропатолог – Раздольский Иван Яковлевич, который прописывал мне лекарство и говорил: «Я их сам не пробовал. Буду их на тебе, Лёшенька, пробовать. И буду писать диссертацию» (рассказывает, улыбаясь). Я говорю: «Иван Яковлевич, скажите, а я буду ходить?» – а он отвечает: «Слушай, а откуда я знаю, будешь ты ходить или нет – это же от тебя зависит! Мы всё делаем, чтобы помочь тебе. Если ты захочешь, значит, будешь ходить!» Я говорю: «Ну, если это только от меня зависит, то я не только ходить буду, а и бегать». Он: «Вот это мне и надо от тебя! Это от тебя зависит и от времени, а мы всё приложим, чтобы помочь тебе» – вот такой был персонал, такое было отношение. И так относились не только к нам с Сорокиным. Мы просто были двумя ранеными, которые лечились с момента поступления до выписки, а большинство других через какое-то время эвакуировали в тыловые госпиталя, и отдалённого наблюдения за ними не было. Меня тоже хотели эвакуировать: в июне 1944 года пришла комиссия – генерал от медицины – и: «Эвакуировать как нуждающегося в длительном лечении!» Десятого июня намечалась крупная операция по освобождению Карельского перешейка, и необходимо было освободить койки, и тех, кто больше двух или трёх месяцев нуждался в лечении, назначали к эвакуации. Я стал отказываться, а медицинский генерал сказал: «И спрашивать тебя не будем!». Я говорю: «Как вы можете со мной так говорить? Вы знаете, что я – гвардейский офицер, лейтенант? Со мной советовался генерал Симоняк! Меня выслушивал командир дивизии, Герой Советского Союза! Какое вы имеете право?!» Он слушал, слушал и говорит: «У нас своя задача». Я говорю: «Если вы меня только отправите, я достану вену зубами и вскрою! Никуда я не поеду, у меня жена здесь!» Он вышел и врача спрашивает: «А он что, может это сделать?» – она ответила: «Да, у него есть уже силы это сделать». Тогда он сказал: «Оставьте его» – это врач мне уже потом рассказала. Генерал мог так распоряжаться потому, что мы лежали на «оперкойках», они были в оперативном подчинении у военных, военные их как бы арендовали.
Да, вот ещё третий пример: командир артиллерийской батареи, старший лейтенант Джакулов Тимур. Его привезли из-под Пскова примерно тогда же, когда и меня. Положили рядом, он не ходил, не говорил – ничего. Что с ним? В чём дело? Никак не могли узнать – в «карточке передового района» ничего не написано. Что у него за ранение? Нигде раны нет, контузии не показывает – это мне рассказывали врачи. Оказалось, у него было ранение мозжечка: осколок величиной с просяное зёрнышко вошел в шею. Покуда его возили по госпиталям, ранка заросла, и врачи ничего не могли понять, только снимок показал, что в мозжечке есть инородное тело. И потом все симптомы говорили о мозжечковом ранении. Его тоже выходили в Мечниковской больнице. Когда я выписывался, он уже начинал ходить по палате, опираясь на спинки кроватей. Я рано выписался, меня могли ещё держать полгода. «Оперативные», «военные» койки – все аннулировали и всех военных распределяли по разным госпиталям, я не согласился, сказал: «Я демобилизуюсь, и буду жить дома». Когда в 1946 году я вернулся из санатория, нашел Тимура в госпитале, он готовился уехать на родину в Казахстан. Он уже хорошо ходил, внятно говорил, сохранил память – всё к нему вернулось. Играл в шахматы, и хорошо играл – примерно так на вторую категорию, я с ним играл. Это был третий случай – Тимур Джакулов, казах, кадровый офицер, умный парень такой. Я ему помогал: документов при нём не было, никто не верил, что он офицер, никакого содержания он не получал. Мы написали в часть. Короче, он не получал деньги два года, а тут за все два года получил все сразу. Когда Тимур получил эти огромные деньги, он мне говорил: «Это твои деньги, это ты мне их отдал». Я говорю: «Перестань. А вот если хочешь, давай мы это отметим. Давай из этих денег полторы тысячи, мы попросим Валю, пусть она купит колбасы, закуски, четвертинку водки, и отметим! А остальные деньги положим на «полевую книжку»».
Вы и сами знаете, что после таких тяжелых ранений, пусть и на короткое время, но обязательно возникает мысль о самоубийстве. Здесь, конечно, человек сам должен побороть душевную слабость и уныние, но очень важно, чтобы рядом были родные и товарищи по несчастью, уже прошедшие через это. Со мной в палате лежал командир артиллерийской батареи – он в Тарту выпил метилового спирта, в результате чего развилась атрофия зрительного нерва, и он почти полностью ослеп. В «карточке передового района» у него было так и записано: «Отравился трофейным спиртом». Когда ему пришло время выписываться, то ему написали: «Инвалидность первой группы, не связанная с пребыванием на фронте». Он был буквально на волоске от смерти, как же так, он приедет искалеченный и с такой записью! Я его спрашиваю: «У тебя кто-нибудь в полку был, хороший товарищ?» Он отвечает: «Да – комиссар полка, он меня уважал». Мы написали письмо этому комиссару полка: что так и так, дают такую инвалидность, просим – поддержите, дайте характеристику! В полку сообразили, что к чему, и написали, что «такого-то числа, будучи на командном пункте, старший лейтенант руководил огнём батареи. Старшина принёс обед и положенные сто грамм спирта, старший лейтенант всё это принял, и стало ему плохо. Оказалось, что старшина принёс трофейный спирт, о чём командир батареи не знал». Также прислали очень хорошую характеристику. Но тут врачи всё равно руководствуются «карточкой передового района». Я тогда говорю: «Давай напишем письмо в Главное Санитарное Управление Красной Армии». И написали, приложив характеристику и письмо комиссара. Из Москвы пришла бумага, подписанная генерал-лейтенантом медицинской службы, чтобы «инвалидность такого-то считать связанной с пребыванием на фронте» – представляете?! Они с женой считали меня просто спасителем. Он женился на сестричке из нашей больницы, уехал к себе на Украину, у них родились два сына, и он долго жил.
Во время войны я не видел вокруг себя ни одного религиозного человека. Сам я потом много думал, читал Евангелие, но это всё не то. Я знаю, что некоторые были подвержены: вот, например, к нам прибыл молодой парнишка с 25-го года, Петя Лотарев. Мы отдыхали на Большой Охте, пошли в баню. Я смотрю – а у Пети на груди крестик! Я посмотрел и спрашиваю: «А ребята не смеются над тобой?» – он говорит: «Никто не видел. Его мне надела бабушка, когда я пошел на войну». Я говорю: «Ну смотри, а лучше положи его куда-нибудь к себе в карманчик. Это твоё дело: носи – не носи, но только чтобы ребята не смеялись над тобой». Так вот, этот Петя Лотарев как раз там, где сейчас пустое поле за Анненским, был ранен в траншее. Я голову ему поднял, а он мне говорит: «А вот зря я крестик снял!» До сих пор я думаю: «Ну, это я, наверно, виноват, что он его снял». Умирая, он вспомнил о крестике. Был он религиозный или нет? Я считаю, что не мог он быть религиозным. Это бабушка-умница дала ему этот крест и, может быть, этот крест и спас бы его, если бы он его не снял. Вот у меня боль какая! Не знаю, поняли вы меня?
Летом в хорошую погоду меня выносили на носилках в больничный парк, там гуляли больные из психиатрического отделения. Здесь мне впервые показали Митю Сорокина – он тогда ещё не разговаривал и ходил, перетаскивая то правую ногу, то левую. Один больной всегда подходил к моим носилкам строевым шагом, всегда был в пилотке, как подойдёт – руку под козырёк и: «Разрешите папиросочку?» – у меня папиросы всегда лежали на подушке. Им в психиатрическом отделении папиросы не давали, я говорю: «Возьми». Он возьмёт и отчеканит: «Благодарю вас», чувствовалось – такой выправки офицер, именно кадровый.
Как я уже говорил, сперва я лежал в хирургическом отделении, но там было очень тяжело: лежали очень тяжелые больные и обстановка была нехорошая. Со мной лежал раненый в руку младший лейтенант, его родная сестра работала медсестрой в «нервном» отделении, и она его туда перевела, хотя он был ранен в руку. Он приходит и говорит: «Знаешь, Алексей, давай переходи, там хорошо». Я говорю: «Да как же я перейду, тут меня все знают и как ухаживают за мной, а там нужно привыкать!» Он говорит: «Покуда я там буду лежать – создам тебе условия». А там уже считали, что я – их больной и если я соглашусь, они меня с удовольствием туда возьмут – и перевели. В офицерской палате на восемь человек с июня 1944 года и до 28 августа 1945 года, когда я демобилизовался, кроме меня было всего двое, получивших ранения. Остальные – как правило, младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны – были больными, заикались – то есть, были контужены. И были просто симулянты, я их там разоблачал. И что я хочу сказать: это были не офицеры, а так – барахло: вот такие там были в последнее время, человек пятнадцать таких было.
Когда меня выписывали, сестра-хозяйка пошла принести мои вещи. Возвращается и говорит: «Слушай, Лёша, а там ничего твоего нет, только страшное: там лежит шапка, лежит в крови портянка, ремень и портупея – четыре куска». Кто их положил со мной? Как они пришли? Видимо, было правило: офицерские вещи оставлять. Я говорю: «А что? Ты бы принесла их мне показать» – она ответила: «Что ты? Мне страшно было».
Всё же наши люди меня потрясали: из госпиталя уходит в часть и, причём, на передний край, сразу в бой. Что человека двигало?! Тогда мне было ясно: я сам весной 1943 года не долечился, ушел – это ответственность за свою страну. Я видел, как люди умирали. У меня всё тело, руки и ноги были все в крови, я их таскал и хоронил. Так что, они зря погибли?! В это время у нас были, в основном, украинцы, их семьи остались в оккупации. У меня тоже мать, сестра, три брата, отец – остались в оккупации, я думал, как их выручить. Когда говорят, мол, патриотизм был – ну как ты хочешь, так его и называй. Я не называл это патриотизмом – это мой долг был. Понимаете? Не удержусь, хочу рассказать вам: на территории больницы имени Мечникова расположен прекрасный парк, по нему гуляли раненые, а лежачих – таких, как я – выносили в парк на носилках. И вот как-то лежу я, смотрю: идёт человек в халате, в тюбетейке, кальсонах и тапках. Смотрю – Гриша Гниловченко, мой разведчик – парень, который был на Ханко, потом со мной в лыжном батальоне, только я там был командиром отделения, а он у меня – первым номером 50-мм миномёта. И в разведроте он был со дня её формирования, в моём взводе, был ранен под Красным Бором, вернулся в роту, когда мы участвовали в «Арбузовской» операции. А в этот раз Гриша был ранен после меня, под Нарвой, лежал в госпитале на Старо-Невском проспекте. А в это время, в конце мая, наша дивизия пришла из Эстонии и разместилась на Карельском перешейке в районе Песочное, Сертолово, Чёрная речка. Гриша знал, что я лежу в Мечниковской больнице и, сбежав из госпиталя, пришел ко мне. Он спрашивает: «Ты знаешь, где наши? Говорят, что дивизия наша пришла». Я спрашиваю: «Чего ты хочешь?» Он говорит: «Я хочу уйти». Я спрашиваю: «Ты, что сдурел?» Он говорит: «Я здоров, а меня не выписывают! Как мне туда добраться?» Я говорю: «А как ты в халате пойдёшь?» – а он знал, что когда мы два с половиной месяца стояли на Большой Охте, то оставили у хозяйки дома бывшие в употреблении обмундирование и обувь. Гриша говорит: «Я сейчас пойду к Анне Константиновне». Я одобрил, подсказал, он от моего имени написал записку – Анна Константиновна без меня бы ему ничего не дала. Он поехал, переоделся. Я подсказал ему, как доехать, как обмануть КПП, находившийся в Осиновой Роще, и Гриша вернулся в разведку. Анна Константиновна собрала в узел оставленные халат, кальсоны, и привезла в госпиталь. А её там арестовали: как же – такой-то дезертировал, сбежал. Вызвали наряд из комендатуры. В комендатуре она всё объяснила: «Вот, можете поехать – его командир лежит в больнице Мечникова, он, наверно, его организовал, а я поехала и исполнила честно, что меня просили». А у нас в дивизии служил майор Деревянко, после тяжелого ранения его признали ограниченно годным, и он служил помощником коменданта города. Он услышал, что говорят, понял, о чём идёт речь. Когда она мне рассказывала, что там какой-то майор пришел и говорит: «О, молодец! Ах, молодец!», я подумал: «Ну, слава богу, хоть освободили».
Вот другой случай: весной 1943 года со мной в госпитале лежал наш гвардеец- артиллерист по фамилии Рауль, русский немец. Его друзья, тоже из разведки, тайком принесли ему обмундирование. Рауль попросил мою будущую жену: «На-ка, Валя, спрячь до определённого времени, потом я его у тебя возьму» – она взяла и положила его себе под подушку. А второго апреля её откомандировали на заготовку дров. Когда Валя уходила, то обмундирование Рауля передала старшей сестре: «Вот, – говорит – Рауль будет просить – отдай ему». И вот та Раулю отдала его обмундирование, Рауль оделся и ушел. Там переполох: «Ушел? Как ушел?!» Старшая сестра объяснила: «Вот, Валя Куликова мне отдала, а я – ему». Валю вызвали: «Как же ты, комсомолка, поспособствовала дезертировать?!» Она говорит: «Какой “дезертировать”? Он – гвардеец, гвардейской дивизии артиллерист!» Конечно, Особый отдел написал запрос, а из дивизии ответили: «Красноармеец Рауль прибыл в часть и выполняет свои боевые обязанности» – это вот я вам привёл два примера. И хочу, чтобы вы подумали тоже: что это? Я считаю, что это – воспитание, именно советское, мы воспитаны по-другому, иного от нас ждать было нечего. В дополнение хочу сказать, что Гриша погиб в сентябре 1944 года в Эстонии, причём погиб нелепо – зарезали бритвой в туалете. Когда мне сообщили, что Гришу Гниловченко зарезали эстонцы, я сразу «перелистал» все наши встречи. Вот говорят: «Мужественный, бесстрашный», – а он был разумный, его работа была незаметной. У меня он считался самым умным разведчиком: объясняешь операцию, он всё сразу схватывал, всё видел. У него была одна сестра где-то на Волге, ни отца, ни матери не было. Что его тянуло? (Гниловченко Григорий Андреевич, гвардии старшина, командир отделения разведки. Уроженец Сталинградской области. Убит в бою 07.11.1944. Похоронен г. Кейло Эстонской ССР.)
О судьбе Рауля я ничего не знаю. Жена на встречах однополчан расспрашивала о нём, но ничего не узнала. Он дружил со старшим политруком Тищенко, с которым лежал в одной палате после ранения при прорыве блокады. Я спрашивал Тищенко о Рауле, но он ничего не мог сказать – его после тяжелого ранения назначили комиссаром какого-то госпиталя и он ушел из дивизии.
Страх, конечно, был, но я стал бороться со своими страхами ещё в детстве. Когда я был ребенком, то часто жил у дедушки с бабушкой, особенно в зимнее время. В одной из хат собирались мужики, курили, беседовали. Дед меня туда брал, и я слушал страшные рассказы: что «где-то в деревне из подворотни…, какая-то ведьма в белом…, где-то нечистая корову подоила…, где-то он шел, а его там…» – ну, такие страшные вещи. Я переживал. И когда стал мальчишкой, боролся с этими страхами и переборол себя. Помню свой первый «геройский» поступок: мне тогда не было и десяти лет. У нас большие леса, и в них много орешника, мы орехи мешками заготавливали. Как-то я пошел в лес за орехами – там были ещё барсучьи ямы, барсуки жили – и вот вдруг я слышу почти рядом: «О-ох». Я вздрогнул, смотрю, вдруг справа: «О-ох». Что такое? Стою, уже пот холодный по позвоночнику. Сзади: «О-ох. О-ох». Первая мысль – драпануть. И вот тут я подумал: «Если я драпану, значит я – трус». А что дальше делать? Опять: «О-ох». Стою, оцепенев, думаю: «Что делать?» И вдруг вижу – маленький комочек, зелёненький такой. Что такое? Птенчик, маленький. Потом смотрю – другой, и вижу – куропатка. И вот она их тут в траве собирает, и у неё получается: «О, о, о». И вот я победил себя, удержался потому, что всё, что я раньше слышал – это всё проскочило в мозгу.
Второй раз мне было уже лет восемнадцать, я девочку провожал. А на Орловщине очень тёмные ночи. Проводил её до дома – а она далеко жила, два с половиной километра, это по дороге, а если через лесок, по тропинке – то на полкилометра короче. Я сократил. Иду, смотрю: на тропе стоит что-то в белом, человеческого роста. Я остолбенел, оно тоже не шевелится. Я достал перочинный ножичек, открыл и думаю: «А что же дальше?» И тоже думаю: «Если я сейчас поверну и уйду, то это будет трусость». Я чуть-чуть влево взял и иду. И слышу: где-то там за ним, в кустах, говорит кто-то: «Это студент». Я думаю: «И-и-и, значит, кто-то знает меня», – пошел-пошел, и пришел в общежитие. Товарищи спрашивают: «Что с тобой?» Потом они говорили, что я был белый, как полотно, и мокрый весь, пот холодный, но победил, не струсил, ушел. Потом я узнал, что в это время на станцию приходил поезд из Харькова на Брянск, и со станции в посёлок шли пассажиры, и там у них часто отбирали чемоданы. Вот это два моих «героических» поступка, такое самовоспитание. Я себя пересилил, и это мне помогало много-много раз потом. На войне у нас никаких примет или амулетов – ничего такого не было. Единственно всегда настраивались, что нужно выдержать, нужно одолеть. Вот идут ребята – нужно проверить обмундирование, оружие, экипировку, всё подтянуть. Подходим, я говорю: «Ребята, опорожните кишечник, опорожните мочевой пузырь». Спрашиваю: «Всё нормально?» – отвечают, что нормально. Только вышли за свои боевые порядки, подходим к немецким, смотрю – один снимает штаны. Я: «Ты что!..» – а потом вспоминаю, как говорят: «Со страху в штаны наложил», думаю: «Вот чего штаны-то он спускает – нервы не выдерживают». У меня такого не было, но понять такое я могу. Кто говорит, что не страшно – то я не верю: становится не страшно, совсем забываешь страх, когда завязался бой. Перед этим нервы натянуты, думаешь всякое… А как завязался, то всё – страх уходил, вот так.
Во время Финской войны у красноармейцев не было никаких документов, ничего. У меня в бумажнике лежала только справка, что я – студент четвёртого курса техникума, выбыл из Брасово по призыву в РККА. Только когда на Ханко я был в топографической партии, мне выдали удостоверение потому, что у нас там было десять погранзастав, а мне нужно было выходить на границу. И вот меня пограничники нигде не задерживали. «Красноармейскую книжку» я получил в конце декабря 1941 года. Летом 1942 года в городе уже требовали не только «красноармейскую книжку», но и увольнительную из части. Валя мне рассказывала, что осенью её забрали в комендатуру – у неё всё было нормально, но существовало негласное распоряжение: каждые десять или пятнадцать дней писаря подчёркивали на последней странице книжки, где вписаны выданные красноармейцу вещи, например «шапку». Следующие пятнадцать дней должно было быть подчеркнуто, допустим, слово «ремень» – и так далее. Валю забрали потому, что у неё неправильно оформлено было, но потом разобрались и отпустили. А на увольнительных в одном из углов должна была стоять определенная на этот день буква. Если этой буквы нет или стоит какая-то другая, то увольнительная недействительна, и человека забирали. Букву ставил тот, кто выдавал увольнительную, вписывал чернилами печатную «К» или «Н» – почему-то чаще всего использовались эти буквы. Это было самое трудное, но я наловчился и Гришу Гниловченко научил: надо было потихоньку подойти к КПП, там пограничник проверяет документы. Я Грише сказал, что ты сделай так: подойди и через плечо проверяющего посмотри букву – я сам несколько раз проделывал такое. Например, когда находился на Пулково, мне надо было посылать в Щеглово посыльного. Увольнительные мы сами делали хорошо, а буквы-то не знали! Так я сам подошел тихонько, заглянул проверяющему через плечо и тут же отошел. В 1942 году нам выдали «смертные медальоны», помню, как я его заполнял, но куда он потом делся – не помню. Наверно я его сдал, когда начал ходить в разведку, наверно так. У нас их ни у кого не было.
У нашего командира дивизии был радист, начальник радиостанции Колесов Коля. Я его знал, но мне было неизвестно, остался ли он жив или что. После войны Николай окончил журналистский факультет «МГУ». И вот как-то я был в санатории в Сочи, мне жена говорит: «Знаешь, в «Правде» написано про разведчиков». Я пошел в библиотеку, взял газету, смотрю – Колесов Николай, читаю. Статья посвящена нашей разведроте, и есть фотография разведроты, пишет не просто журналист, а человек, который нас знал. У нас в разведроте была санинструктор Зоя, она была любимицей разведчиков. Она погибла 19-го февраля 1944 года в том «мешке» юго-западнее Нарвы.
Когда летом 1943 года мы стояли в Щеглово, там на уборке работали девочки из 105-й школы с улицы Бабурина, девочки подружились с разведчиками и особенно – с Зоей. Я в Щеглово почти не жил в связи с тем, что находился то в Синявино, то на Пулковской высоте. Лидером девчонок была Тося Журина, тогда Уткина, она переписывалась с Зоей. Зоя ей писала: «Пришли мне, пожалуйста, сказку Горького «Девушка и смерть»». И вот Тося была уже замужем и жила в Таллине, Колесов с ней встретился, она ему всё рассказала и дала нашу фотографию. Правда меня и моих четырёх разведчиков на фотографии нет потому, что в это время мы были на Пулково. И я Колесову написал, что «у тебя тут много ошибок: нет того-то, того-то, не указал того-то, не отмечено то-то...» Он мне написал, что так и так, а потом мы встретились. Он приехал ко мне, и говорит: «У меня мысль: написать книгу – «Гвардия гвардии», о нашей разведроте. Я и материал собрал, помоги мне». Я дал согласие, много ему рассказывал, а потом он говорит: «Пиши». Я написал, помню, сорок одну страницу и отправил большим пакетом. Он мне ответил, что «спасибо, очень хорошо, этот материал очень пойдёт» – Николай работал заведующим отделом в «Правде», а потом его перевели заместителем начальника «ТАСС». Он мне говорил, что «сейчас так занят» – в то время он сопровождал Брежнева в Америку и повсюду, куда тот ни ездил, как журналист от «ТАСС». И вдруг он умирает! Миша Дудин был в Москве, я ему говорю: «Знаешь, зайди к жене Николая, скажи, чтобы она возвратила этот материал». Он вернулся и говорит: «Знаешь, она мне ничего не дала, она сказала: “Это не материал для книги, а это – письма Бровкина моему мужу!” – и показывает мне титульный лист, где ты написал: “Уважаемый Николай, посылаю тебе своё большое письмо”. Ну, ты видишь – большое письмо, а никакой не материал, а письма мужа я никому не отдаю!» – вот такая умница. Ну и я после этого бросил что-либо писать: да ну, думаю, это всё!
В больнице у нас была офицерская палата на восемь человек. Где-то с середины апреля мы со дня на день ожидали окончания войны, поэтому День Победы был, конечно, радостным, но к этому все были готовы. А если хотите знать, для меня был самым тяжелым день возвращения гвардии в Ленинград из Курляндии, на зимние квартиры. Ко мне приехали двое разведчиков и рассказали, что они стоят у «Средней рогатки», чистят сапоги, подшивают подворотнички – будет торжественный вход корпуса. Начальник разведки сказал: «Возьмите Бровкина, привезите, чтоб мы были вместе». Я, конечно, был рад, но не мог. И когда передавали по радио, что «вот 63-я гвардейская дивизия вступила, идёт, шагает… В таком-то ряду идёт гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза Щеглов, с ним – Герой Советского Союза Масальский, чья рота…» – я рыдал..., ну я не знаю, как это передать. А День Победы!..
Есть кадры хроники возвращения нашего корпуса в Ленинград. Видно, как Щеглов едет верхом на моей Машке и как он идёт пешком. Показано, как ленинградцы цветами встречали, это было замечательно. Ребята потом ко мне приходили и рассказывали, что в каждом букете или «пол-литра» или «маленькая» водки. Где-то там были ещё парадные приёмы, банкеты, подарки. Особенное внимание уделяли 63-й дивизии. 64-ю ленинградцы мало знали потому, что она была Волховского фронта, а особенно хорошо встречали 45-ю – они же первыми получили звание Гвардейской, ещё в 1942 году. Ребята очень этим гордились, носили гвардейские значки на полушубках, шинелях. Они же красивые были, хорошо сделаны. Помню, на одну из годовщин Победы, когда в Сертолово приехало очень много ветеранов из других городов, командование заказало новые знаки и вручали – многие же утеряли. Помню, приезжали двое моих разведчиков из Краснодара: старшина роты и разведчик Костоглот, из Хабаровска – Малинкович, и там объявили: «У кого знак утрачен, мы вручим!» – и вручали. Это было очень хорошо, все были очень довольны. Возвращались со встречи в Ленинграде с новыми гвардейскими знаками.
Из нашей разведроты первого формирования, 1942 года, немного осталось в живых: Дуванов, Комаровский, Железнов, Парошин, повар Ряшко Петя, Лёня Савинский – он был ранен, Дмитриенко Опанас – он тоже был ранен при снятии блокады. Ещё Борис Ржанковский, еврей – он был ранен в Усть-Тосно, вернувшись из госпиталя, был в каком-то привилегированном положении: то экспедитором на почте – носил письма, газеты, а потом стал ординарцем у начальника разведки дивизии. Там и войну кончил, и в бою уже не был. Это вот все, кого навскидку могу припомнить.
Вы спрашивали о женщинах на войне? Женщина в окопах или в тылу – разница только в положении, в которое они попали. У меня самое высокое понятие о женщинах на войне: я видел, как она в снегу ползёт, тащит раненого, а он – такой огромный битюг. Я смотрел, и у меня просто душа кровью обливалась – так мне их было жалко. Если при мне начинали говорить о женщинах какую-нибудь пакость, то я пресекал. Были, конечно, как их называли – «полковая», но это единицы. Зимой 1943 года нам придавалась рота медицинского усиления, в «Красноборской» операции они, помню, даже использовали для эвакуации раненых собачьи упряжки с волокушами. Вообще, у нас в дивизии женщин было мало. Во-первых – в полках, санитарки в санвзводе при ППМ, связисты – непосредственно в штабах, но их было мало. На кухне штаба дивизии всю войну поваром была женщина, потом женщина была в прокуратуре, ну и конечно – медсанбат. Была санитарка и в разведке – Зоя Павлова, она раньше была в полку. Во время «Арбузовской» операции в июле 1943 года среди разведчиков было много раненых. Наш санитар тоже был ранен и отправлен в тыл, и нашим раненым оказывала помощь санитарка стрелкового полка, в полосе которого действовала рота. Так она познакомилась с разведчиками. А потом я смотрю: сидит у нас в расположении с ребятами девушка, и курит с ними. Потом ребята говорят: «У нас нет санитара, возьмите её, она такая…» – я пошел к начальнику отдела кадров, спрашиваю: «Можно?» – вот так. С её приходом в роте прекратилась матершина и грубость, можно сказать, что это была святая девушка. Она никому не позволяла за собой ухаживать, для всех была как сестра. Она очень любила одного человека. Я уже рассказывал, что Зоя подружилась с ученицами 105-й школы. Её подруга показывала мне Зоины письма, которые Тося отдала в школьный музей. Тося мне рассказывала, что у Зои была очень большая любовь, она очень переживала, что нет взаимности. Она писала Тосе, что «мне очень хочется перечитать сказку Горького «Девушка и смерть»», и просила найти её и прислать. Девятнадцатого февраля 1944 года она погибла от пули снайпера, я не видел её гибели и на похоронах не был. Все относились к ней прекрасно, как она сумела себя так поставить, не знаю. (По данным ОБД «Мемориал» Павлова Зоя Тимофеевна 1918 г.р., место рождения – Ленинградская обл. Новгородский район с. Крещевица. Гв. сержант, санинструктор-разведчик 63 гв.с.д. Убита 19.02.1944г. Похоронена Эстонская ССР, пятьсот метров севернее д. Мустазаи.) Когда на Нарве построили плотину и образовалось Нарвское море, вся низина юго-западнее Нарвы, где мы наступали, была залита водой, Зою перезахоронили в Сланцы.
Ещё у Вас был вопрос о союзниках. У всех было мнение, что союзники – это так, только чтобы войну им выиграть. Мы хорошо понимали, что эти союзники ожидают: проиграем мы – то они сразу заключат с Гитлером договор. Если бы мы проиграли, допустим, Сталинград и отошли за Волгу, то даже Турция объявила бы нам войну и Япония – тоже. Все солдаты об этом знали. Из союзной помощи у нас на Ленинградском фронте почти ничего не было. В 1942 году от союзников для Ленинграда поступала сгущёнка, потом – консервированный жир, называвшийся «сало – лярд», чуть позже стали поступать колбасные консервы, очень вкусные. Техники не было – наверно, она была нужнее на других фронтах. Впервые «Студебеккеры» я увидел после войны: в 1958 году я получил участок, и строительные материалы мне привозили на «Студебеккере» – очень хорошая машина, вездеход, переходила там у меня речушку Мгу. Из обмундирования ничего не помню, только для офицеров шили брюки, кителя, говорили, что материал канадский. Да, вспомнил: у девочек-регулировщиц были автоматы. Я посмотрел – сделаны хорошо, но для нас он тяжеловат. Знаете, наши солдаты любили своё оружие. У меня была на Ханко винтовка «АВС» – хорошая, прекрасная винтовка, но ненадёжная в окопах: песок попал – и она барахлит, ребята от них отказывались потому, что она могла подвести в самый критический момент.
Ещё у меня была бесшумная винтовка: в 1942 году в разведроту прислали три винтовки – по одной на взвод. В первом взводе дали её мне, во втором – Хвостикову и в третьем – Савельеву. Мы подписывали три каких-то документа о неразглашении, о сохранении: никому не показывать, не рассказывать. Даже не помню, как я от неё избавился. Но после «Усть-Тосненской» операции их у нас не стало потому, что одна из винтовок с глушителем пропала. Сейчас не помню, но возможно даже и моя, пришлось писать длинное объяснение. Наш писарь был большой специалист, он придумал, что прямым попаданием в винтовку её разбило, о чём составили акт. Я был дознавателем и должен был подписать. Меня уговорили и я, ничего не читая, подписал. Я из бесшумной винтовки стрелял только на стрельбище в Осиновой Роще: мишень стояла в ста метрах, при выстреле было слышно, как щёлкает затвор и как пуля щёлкает в щит, но, по-моему, не все пули долетали. Винтовка была самая обычная – Мосина, на неё, как штык, крепился глушитель. Он был не очень тяжелый, носился на поясе. Там трубочка такая и две резиновые прокладки. Но главное было не в этом, а в патроне – патрон был очень лёгким. Пуля была отмечена – кажется, зелёненьким с ободком. Выдали по десять штук. Один раз мы решили зарядить обычный патрон, при выстреле выбросило эти пыжи, но глушитель не разрушился и я просто заложил запасные резинки. Савельев из третьего взвода на Ханко окончил курсы снайперов, он охотился в районе Белоострова, выползал, и, как он говорил, несколько финнов из «бесшумки» щёлкнул. Ночью он подползал на пятьдесят метров, маскировался, а днём охотился. Рассказывал, что финны очень нервничали: как же – убивают, а выстрелов не слышно? Лично я был рад, что избавился от «бесшумки»: она мне изрядно надоела, все ходят с автоматами, а я – с трёхлинейкой, да ещё мне, как командиру отделения, полагался пистолет.
В первых числах сентября 1941 года на Ханко я получил последнее письмо от отца. Он писал: «Уже приближается фронт, мы спешим убрать с полей урожай. Саша готовится уйти на фронт». Саша – это сестра. Вот это было последнее письмо, на которое отвечать я не мог потому, что знал, что туда уже пришли немцы. В сводках ничего не было, тут действовало «цыганское» радио. Я искал, но нигде не сообщалось даже о том, что Орёл сдан. Его оставили, кажется, пятого октября, а я об этом узнал где-то в начале ноября. Как мне рассказывали, немцы пришли нескоро – они прошли большими дорогами, а мы жили в стороне. Потом через нас пробирались окруженцы с Брянского направления, мама их спрашивала: «Ребятки, а вы что-нибудь о Ханко знаете?» Они: «Мать, мы не знаем, что вот тут делается, а где нам про Ханко что-нибудь знать!» Во время оккупации моя семья находилась между двух огней. Был создан Орловско-Курский партизанский отряд, штаб одного отряда находился в полутора километрах от нашей хаты. А почему? А потому, что секретарём райкома Партии был наш – деревенский парень Андрей Федосюткин. Его отец работал по лесным разработкам, а он мальчишкой ему помогал, и лес ему был с детства знаком. Он окончил лесной техникум, работал в райлесхозе, потом работал секретарём райкома Комсомола. Перед самой войной, или уже война началась, он был избран первым секретарём райкома Партии, ему и поручили создание партизанского отряда. Потом он был комиссаром всего Орловско-Курского отряда. Из окна нашей хаты была видна береза, на которой у партизан был наблюдательный пункт. Брат Петя, которому тогда было двенадцать лет, ходил к ним туда из любопытства, его там знали. Он рассказывал, что видел, как к ним на поляну приземлялся «кукурузник». И вот что получалось: днём придут немцы, заберут картошку, кур переловят, корову уведут. Ночью партизаны придут, спрашивают: «Мать, немцы были?» Мама отвечает, что были, и вот то-то, и то-то. Они ковригу хлеба заберут, в рюкзак наберут картошки – и пошли. И вот партизаны спрашивают: «Немец был?» – мама отвечает: «Был». Немцы приходят: «Матка, партизан был?» – мама: «Был». Представляете? Наша хата стояла второй от леса, а в первой жил Василий Васильевич – он шесть лет был в немецком плену: в пятнадцатом попал, а в 1921-м вернулся. Он говорил по-немецки, и немцы его очень часто посещали. Когда в конце февраля 1943 года армия Рокоссовского освободила наши места, я смотрел, рассчитал и решил, что наши не дошли до нас, а остановились под Курском, поэтому домой не писал. В это время я лежал в госпитале с первым ранением. А у нас ещё на Ханко в политотделе служил парень, Николай Митькин, женатый на сестре этого Федосюткина, он был инструктором политотдела по учёту коммунистов и комсомольцев. С ним я познакомился летом 1942 года: когда в мае мне вручали партийный билет, приехал начальник политотдела и с ним писарь. А билет выписывал этот Николай Митькин, у него был красивый почерк, он смотрит: «так, Харланово, Дмитровский район, Бровкин…». И вот они приехали к нам в Осиновую Рощу, и он начинает со мной говорить, спрашивает что-то. И я соображаю, что наверно, это зять Федосюткина, спрашиваю: «У тебя жена Аня?» – так мы с ним познакомились и были как самые близкие люди. И когда в 1943 году я выписался из госпиталя, он меня спрашивает: «Ну как, ты что нибудь получил из дома?» – я говорю, что нет, и объясняю, что так и так. А его село было в Михайловском районе – это от нас километров сорок–пятьдесят, он говорит: «А я уже получил ответ!» Я говорю, что «это вас освободили, а моих ещё нет» – он отвечает: «Так и Харланово освободили!» Я: «Как освободили?!» – он говорит: «Да я ж тебе говорю, освободили!» Ну, я написал письмо. Тогда я не знал, что наш поселок, оказавшийся на передовой, был весь эвакуирован под Курск. И вот что характерно: я написал письмо по своему адресу, и это письмо дошло под Курск, где всё лето жила эвакуированная семья. Вы представляете, как работали люди? Не бросили – ничего. Я получил ответ, что Серёжа в первых числах марта ушел на фронт, отец тоже на фронте, но сведений от него нет. Когда семья вернулась из эвакуации, то нашли только стены и печку. Двор разобрали, в хате полы выдрали, окна сняли – всё пошло на строительство землянок. Потом Петя и Ваня снимали в землянках полы, а сами их взрывали, доставали бревна, из которых соорудили дворик. Когда я приехал в 1946 году, рамы были уже поставлены, на полу были накиданы доски.
Когда образовалась Орловско-Курская дуга и фронт стабилизировался, наша хата оказалась в полутора километрах от первой немецкой траншеи. Вы не представляете себе, сколько после этих боёв осталось боеприпасов, сколько мин было установлено! Когда в 1948 году я приехал домой, мне рассказали, что из десяти шестнадцатилетних ребят в нашей деревне, шесть ребят погибли – подорвались. Я знал троих ребят, оставшихся без ноги, мой брат Петя был весь изрублен. Сперва наши стояли в обороне, а когда началось наступление, ушли, оставив целые склады – не смогли увезти. У нас колодец – 23 метра глубиной – был полностью забит снарядами. Мама рассказывала, что не знала просто, что делать, говорит: «Смотрю: на печке целый ковш взрывателей для гранат!..» У брата был карабин, автомат.
Ещё хочу сказать о погребении. В нашей хате располагался перевязочный пункт. Мама рассказывала, что за три или четыре месяца, что он находился в нашем доме, умерло человек пятьдесят. Их хоронили в двухстах метрах на опушке – там у нас орешник, лесок. Мои братья Петя, которому было в 1943 году тринадцать лет, и Ваня, одиннадцати лет, сносили туда умерших красноармейцев, была ещё одна братская могила. Когда наши пришли в конце февраля 1943 года, был бой. А Орловщина – это не Ленинградская область: у нас в начале марта снег уже начинает таять. И вот, на южном склоне, где снег сошел, хоронили погибших красноармейцев. Когда я приехал, то организовал ребятишек: мы обозначили эти могилы, окопали, посадили одну берёзку. После 1973 года я на Родине не был, а до того мне рассказывали, что каждое лето, чуть ли не со всего Советского Союза приезжали родственники погибших. Каждое лето приезжал один, а то и два или три, их туда водили, рассказывали. А потом приехали «гробокопатели» и всех выкопали. Не знаю по указу или… – я не знаю, но все были возмущены.
Мы посчитали, что члены нашей семьи прослужили в Русской Армии в общей сложности 350 лет: отец, дед, прадед, дяди, двоюродные дяди, три брата, сыновья и внуки. Ведь у меня четыре внука, две внучки.
Михаил Дудин
Однополчанину Алексею Бровкину и самому себе.
Противно пахнут пенсией и сединой года.
Забудь, душа, претензии и просьбы навсегда.
Ты отслужила времени и вышла из огня,
Соскакивай со стремени, рассёдлывай коня.
Твоею славой громкою натешилась земля.
Бегут дорожной кромкою к закату тополя,
Над тополями гибкими густеет лёгкий дым,
Мир удивлять ошибками настало молодым.
| Интервью и лит. обработка: | А. Чупров |
| Правка: | С. Олейник |