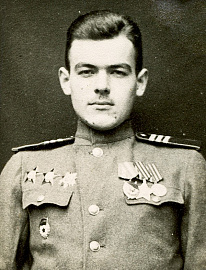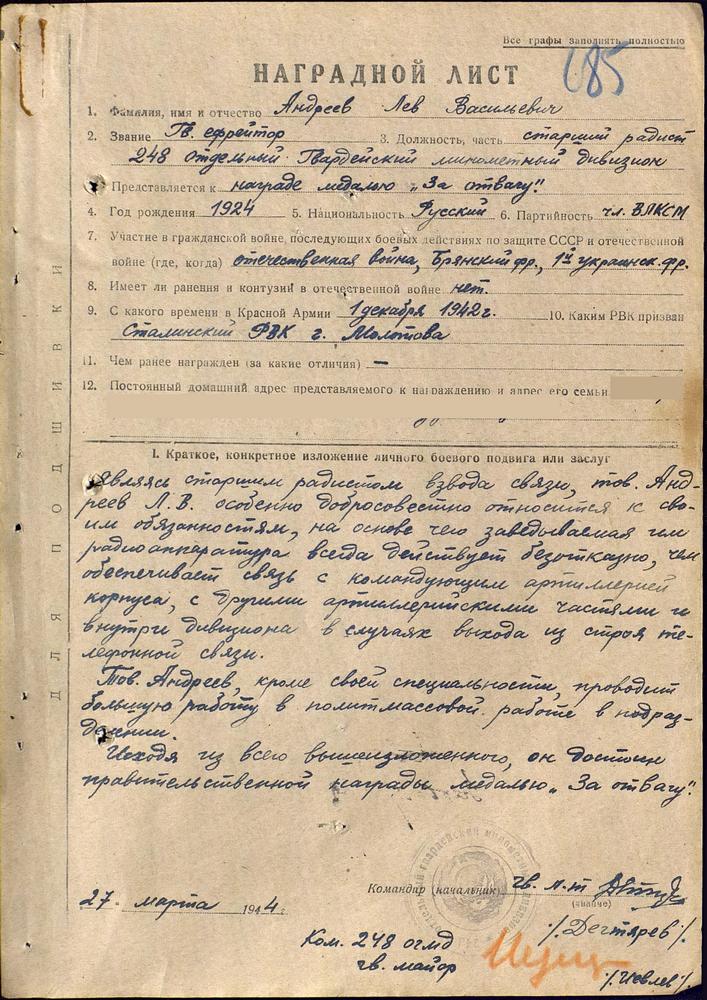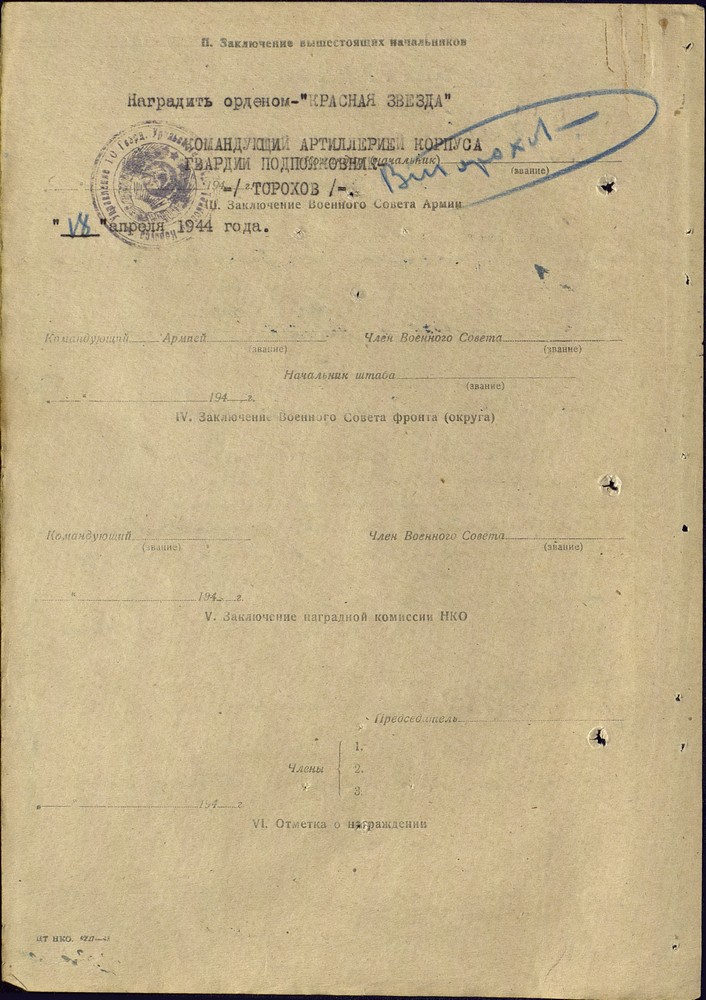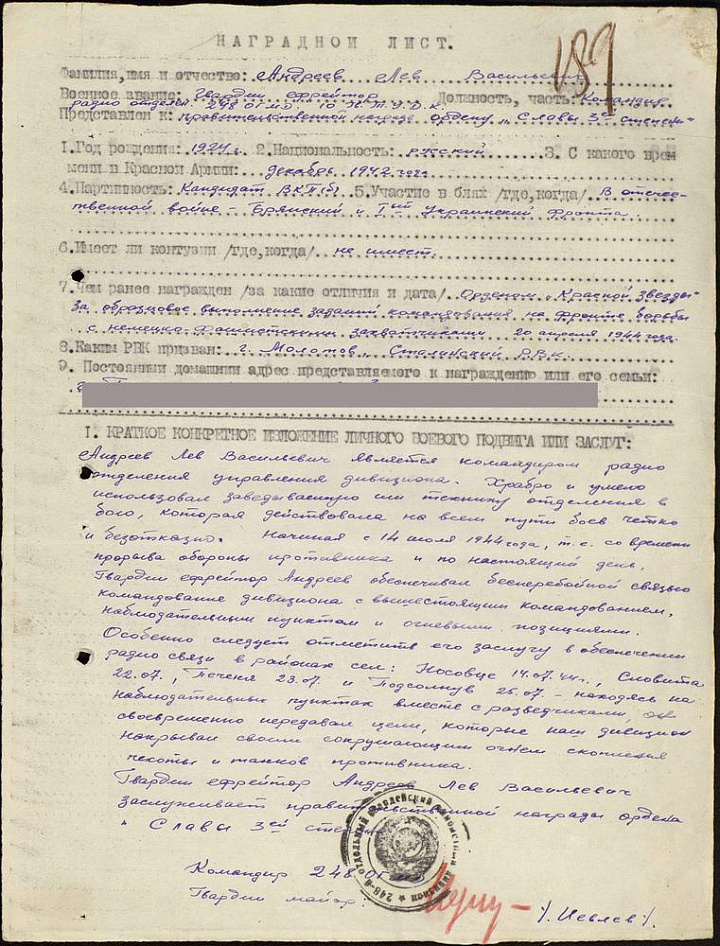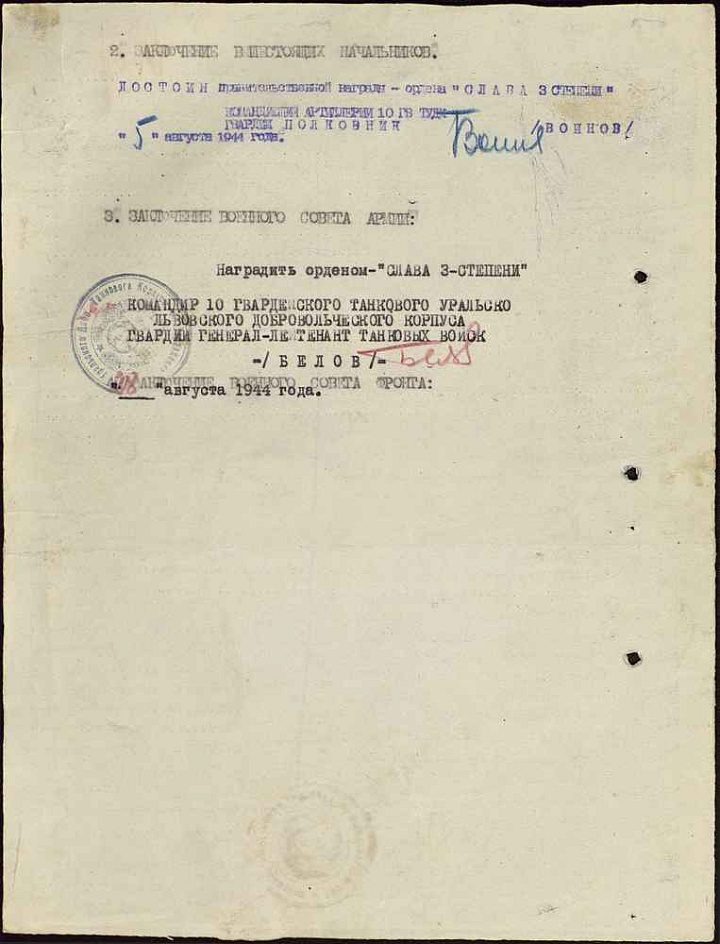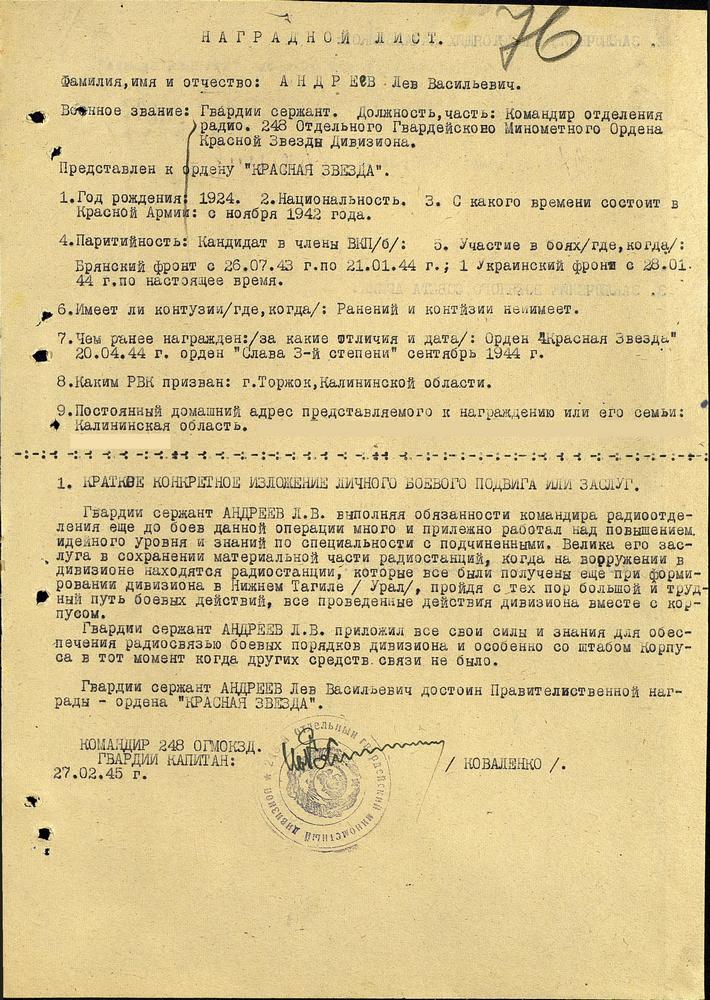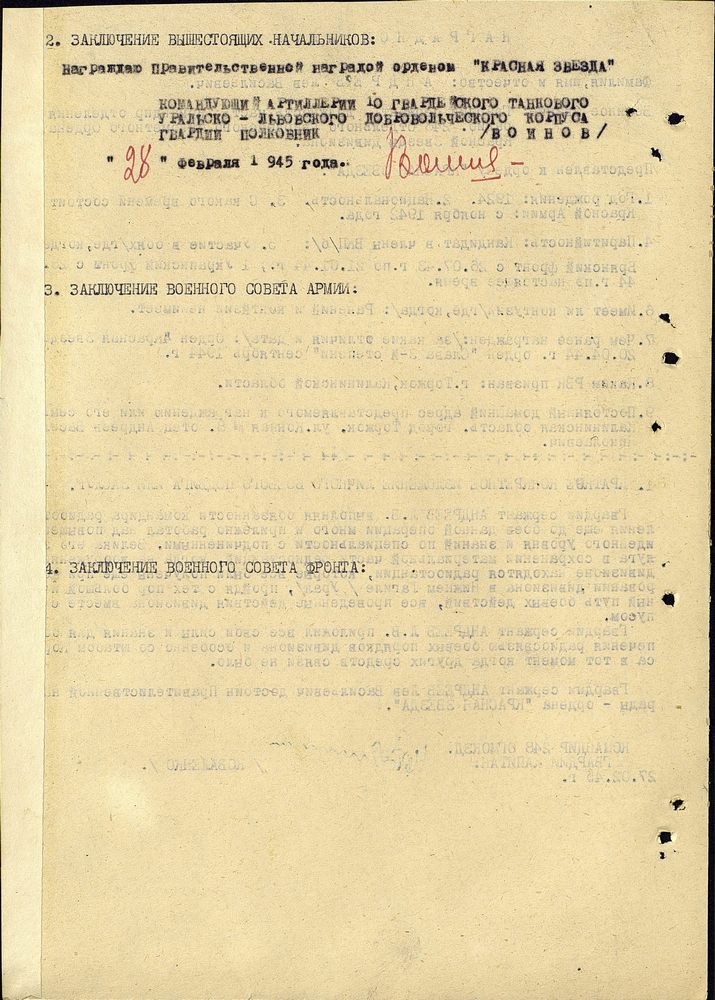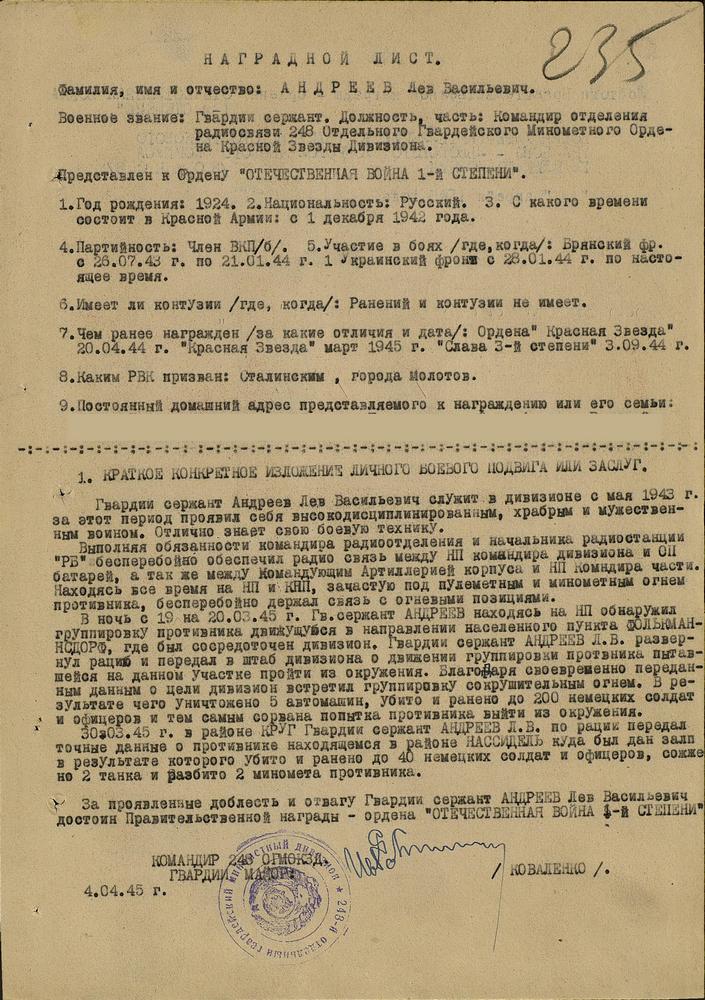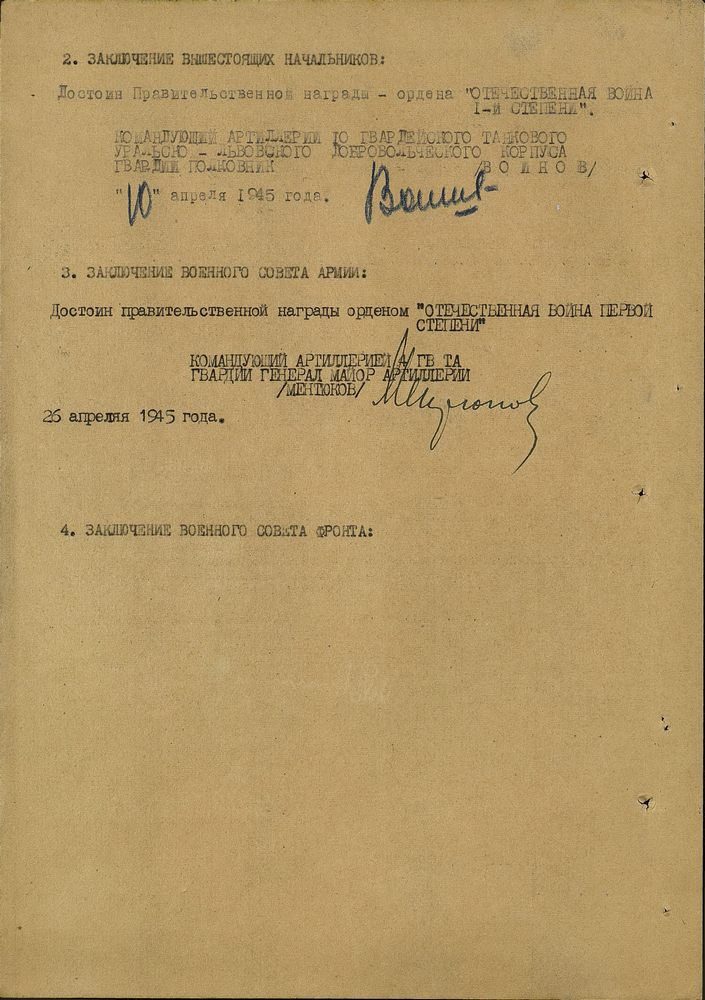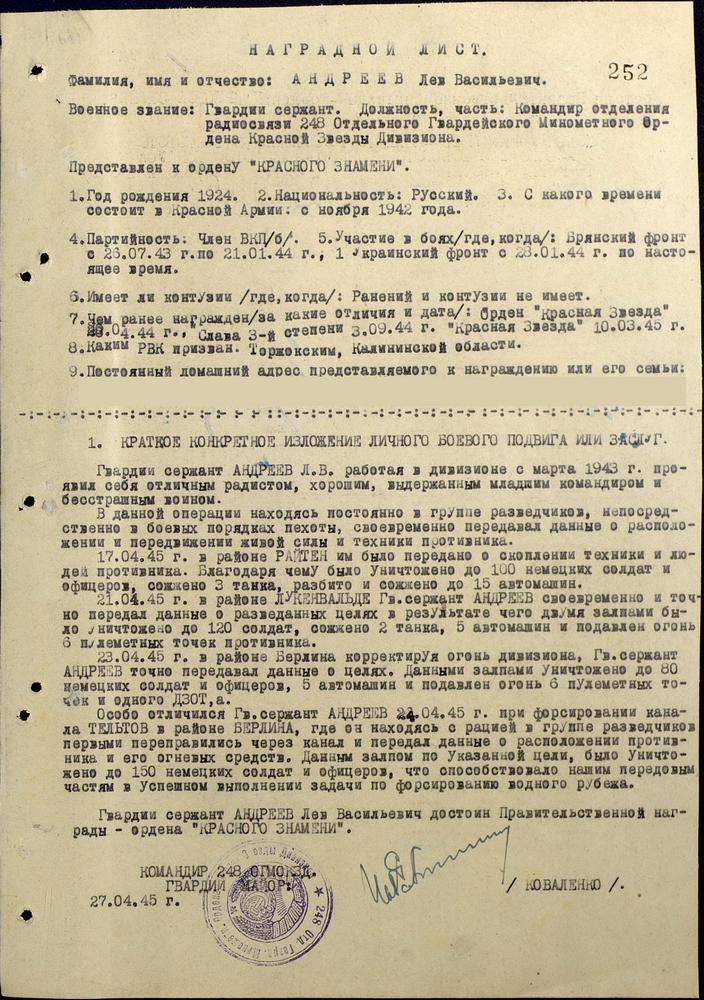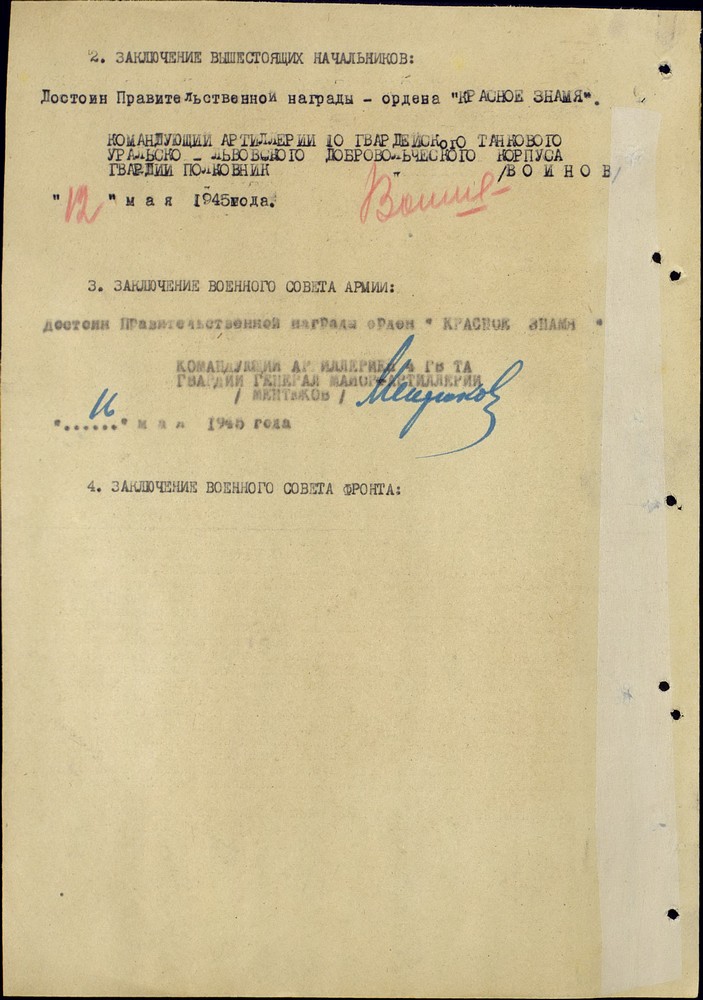Я 1924-го года рождения. Уроженец Калининской, ныне Тверской области. До начала войны спокойно жил в своем родном Торжке, учился в школе. Весной 41-го окончил 9-й класс и перешел в 10-й, но тут началась война…
Как вы узнали о ее начале?
Дело в том, что у нас с младшим братом была «мечта идиота» - купить велосипед. В детстве я катался на трехколесном, причем, это был еще дореволюционный велосипед, и докатал его до того, что вилка на переднем колесе совсем перетерлась и отломалась. А, начиная с 5-го класса, я уже стоя катался на дамском велосипеде. Других ведь не было. И вот мы с братом потихоньку копили деньги на новый велосипед. Например, когда ему на день рождения дарили «тридцатку», он их сразу клал в копилку. А я с подачи отца уже немножко подрабатывал, увеличивал для методического кабинета картины из букваря. Не знаю как сейчас, а тогда в младших классах использовали такой метод, когда на уроке дети подробно описывали, что они видят на картине. И вот к лету 41-го мы, наконец, собрали необходимую сумму, и я поехал в Москву. Ведь в свободной продаже велосипедов не было. Так, по каким-то договорам, еще как-то можно было достать, а вот так, чтобы пойти и свободно купить – такого не было.
Поехал в Москву и 21-го июня купил в «Мосторге» большой мужской велосипед производства харьковского завода. Приличный велосипед, правда, немножко тяжеловат на ходу. А в воскресенье рано утром сел в поезд, но в вагон с велосипедом не пускали, поэтому я его сдал в багаж. Но чтобы доехать к нам в Торжок, в Калинине нужно было с ленинградского пересесть на ржевский поезд. И вот когда часов в двенадцать дня в Твери шла пересадка, то я стоял на пешеходном мосту через пути и сверху любовался, как мое сокровище с биркой на руле перегружают в багажный вагон ржевского поезда. Как вдруг в это время по радио раздается голос Молотова, его знаменитая речь, которая заканчивалась словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Сердце, конечно, сразу упало… Ведь мы же в семье очень интересовались последними известиями, международным положением. Отец получал газету «Известия», так мой брат-семиклассник вырезал из нее карты, в общем, все мы интересовались и знали положение вещей в мире. Поэтому в первый момент мне и стало страшно, ведь перед этим были сплошь победные немецкие марши: Польша, Франция, Югославия, и вдруг такая сила на нас наваливается… В общем, лично я такого патриотического ажиотажа и подъема не испытывал. Не в смысле того, что я не патриот, просто я уже тогда трезво оценивал положение вещей, и сразу понял, что это будет трудная эпопея… Так оно потом и вышло.
А потом пошли известия с фронтов: «… после ожесточенных и кровопролитных боев наши войска оставили город такой-то…» Но мы все верили, ждали, что вот-вот подойдут наши основные силы, начнется мощное контрнаступление, и уж тогда-то мы «… и на вражьей земле мы врага разгромим, малой кровью могучим ударом!» Но как потом мы узнали, что эти резервы подходили, но брошенные сходу в бои, перемалывались немецкой военной машиной…
А в школе мы, как самые старшие руководили работами в школе. Готовили школу к зиме, а на случай бомбежки, обклеивали нарезанными тряпками и бумагой стекла окон. Знаете, наверное, так крест на крест. Наш Торжок немцы целенаправленно не бомбили, но случайные бомбежки случались. Где-то прилетит самолет, наугад бросит пару бомб, но это же настоящие бомбы…
А потом нас, четверых учителей и пятерых учащихся старших классов, направили работать в колхоз. Маленькая деревня, не помню уже названия, и в ней нас так и звали «косцы из Торжка». Потому что вначале мы косили сено в бригаде косарей. Причем, некоторые из нас, и я в том числе, до этого косили только лопухи вокруг дома, а там же все всерьез. Но ничего, втянулись, научились, набили руку. Причем, когда пошли дожди, колхозники все сидели по домам, а мы под дождем косили. В общем, завалили сеном этот колхоз. Потом в другом сельсовете пришлось копать картошку. И только как с ней закончили, вернулись домой.
Какие настроения царили в деревне?
Рабочие. А вот, когда нам пришлось идти через Новокарельский район, был такой тогда в нашей области, то вот там настроения оказались совсем другими, прямо чувствовалось, что карелы ждут перемен... Я потом еще обязательно расскажу об этом.
А в ночь с 12-го на 13-е октября на город случился большой налет немецкой авиации. Поздно вечером 12 октября, уже почти ночью, мы слушали известия, как вдруг по радио объявили воздушную тревогу. А у нас уже заранее был вырыт длинный окоп, и все население нашего большого флигеля, несколько семей педагогов, расположились в этом убежище. Очень ясно помню, что я остался стоять у входа наверху, и слушал оттуда, как в городе раздавались взрывы. Когда вся эта трескотня, наконец, закончилась, мы вернулись домой и легли спать.
Утром встали, радио уже не работало, и после завтрака отец мне поручил съездить к дяде Сереже. Мы ведь тогда жили на северной окраине Торжка. Отцу как преподавателю педучилища выделили квартиру в городке педучилища, который располагался на старой государевой дороге, прямо за петербургской заставой. Там стояли учебный корпус, начальная опытная школа, которую я и окончил, и длинные деревянные флигеля с квартирами учителей и студентов, за которыми сразу начинались поля. А в нашем родовом дедовском доме на Власьевской улице, что прямо напротив Борисоглебского монастыря жила тогда наша бабушка восьмидесяти семи лет и семья дяди Сережи. Он сам, его жена, и их дочь и сноха с годовалыми детьми, которые вскоре после начала войны приехали к ним из Ленинграда, в поисках относительного спокойствия.
Сел я на свой любимый велосипед и отправился узнать, как они пережили бомбежку. По пути заехал на центральную площадь, а там огромная воронка, залитая водой… Оказывается, большая бомба попала в угловое двухэтажное здание, где располагался райисполком, и разнесла его… Вокруг развалин уже поставили забор, а двое пожарных из воронки насосом выкачивали воду. И мне еще запомнилось, что посреди площади в новой военной гимнастерке ходил наш учитель физики Иосиф Адамович Ланц - великий методист, чудесный совершенно, и очень остроумный человек. Ходил с карабином и следил за порядком, но обстановка в городе уже нормализовалась и люди занимались своими делами.
Пришел к дяде и застал его собирающим какую-то одежду, посуду, еду. Он рассказал, что когда во время налета несколько бомб упали на нашу улицу, то он всех своих перевел на Тверецкую набережную. Там «на берегу» жил его приятель учитель Побережец, в доме которого был каменный подвал, и там они все прятались остаток ночи. В общем, мы с дядей Сережей немного поговорили, и потом он убежал к своим. Я остался один, но тут подошел мой одноклассник – Слава Ползунов, который жил на этой же улице: «Пойдем, покажу тебе кое-что!» Привел на свой участок и показывает на небольшие воронки: «Вот смотри, к нам в огород упали четыре бомбы!» Причем эти воронки были буквально метрах в десяти от ровика, в котором пряталась их семья…
Вдруг на городском валу начала бить зенитная батарея 85-мм пушек, и я стал смотреть, куда же они бьют. Они стреляли под косым углом в сторону Калинина, и тут среди разрывов снарядов, похожих на барашков, я разглядел, что оттуда нескончаемой колонной идут самолеты. Тройками, звено за звеном, эскадрилья за эскадрильей, как на параде… А я стою и смотрю на них, как завороженный и понимаю, что они направляются в центр города, и должны пройти как раз над дедовским домом. Смотрю, и вдруг вижу, что у головного самолета отделились точечки, и было такое ощущение, что эти бомбы летят прямо в меня… Но бомбы упали на другом берегу, по звукам разрывов я понял, что они рвались в центре города. На верхнем городище загорелась целая улица, а с Кузнечной пошел густой дым, видимо, по торговым рядам попало… А я в это время сидел в ровике и оттуда наблюдал, как эти тяжелые двухмоторные бомбардировщики не пикируя отбомбились, и потом ушли на юг.
Когда эта волна прошла, я выскочил, еще раз посмотрел в сторону центра, как там на городском валу целая улица пылает и горит, вскочил на свой велосипед и помчался домой. Но еще когда я ехал по улице Дзержинского, то начался второй налет. Помню, мне навстречу попался какой-то рабочий, который бежал в центр города, видимо, домой. Крикнул мне: «Давай, быстрее давай!» Наконец, примчался домой, все соседи уже сидят в окопчике, а мама рыдает навзрыд – такая бомбежка, а меня все нет… Вот так мы впервые почувствовали войну по настоящему. Ведь до этого она нас толком и не коснулась. Да, в первое время мы дежурили, по улицам ходил патруль, всех заставляли плотно зашторивать окна, а если у кого-то проглядывал огонек, то за это даже привлекали к ответственности. Да иногда по ночам немецкие самолеты сбрасывали осветительную бомбу на парашюте. В северной части города, где сейчас находится большой комбинат пожарной техники, тогда стоял завод ППО - противопожарного оборудования. Так в одну ночь, немцы повесили над ним эти «фонари», а мы стояли у своего дома и видели оттуда, как на завод падают бомбы. И интересно, что перед этим от завода вверх поднялись две ракеты, т.е. там кто-то специально подавал немцам сигнал... Но ведь давно уже не секрет, что в начале войны в прифронтовой полосе действовало очень много засланных шпионов.
В общем, 13-го октября немцы целый день бомбили Торжок. Весь центр горел, столб дыма поднимался высоко вверх и там наверху расходился таким грибом, как изображают взрывы атомной бомбы… Вот тут, конечно, все занервничали. Масса беженцев буквально хлынула из города по Ленинградскому шоссе.
В сторону Твери?
Нет, на север, в сторону Ленинграда. Быстро собрались и мы. Я, конечно, взял свой любимый велосипед, на него навесили сумки с вещами и продуктами и пошли. В двадцати километрах от Торжка в сторону Твери есть деревня Марьино - родины мамы. И если бы не было такой страшной бомбежки, то мы, может быть, и туда бы пошли. Но мы ведь жили на северной окраине и чтобы выйти на дорогу в ту сторону, нам нужно было пройти через разрушенный центр, и родители на это просто не решились. Поэтому мы пошли вместе со всеми, на север. А по той дороге через десять километров стоит деревня Владенино - бывшее имение Львовых, в школе которой отец раньше преподавал. И учителя и его бывшие ученики встретили нас с распростертыми объятиями, разместили в классе.
Провели там день, а потом пришел какой-то представитель то ли райисполкома, то ли горсовета, и сказал, что объявлена всеобщая эвакуация Торжка, и всем кто уходит, он уполномочен выдать документы. У него с собой была печать и пачка листов, вырванных из недописанных тетрадей, и он прямо при нас выписал отцу справку: «… такой-то эвакуировался из Торжка, а с ним семья из трех человек». А потом нам неожиданно повезло – мы получили лошадь с телегой. Оказывается, директор педучилища хотел увезти свою семью на двух подводах, но потом где-то договорился с водителем попутной полуторки, а эти две подводы оставил для педсостава. Взрослые решили съездить на них за вещами. Женщин отпустили вперед, а сами пошли за ними некоторое время спустя. Но прошли совсем немного, как смотрим, женщины, вовсю нахлестывая лошадь, мчатся обратно. Оказывается, началась новая бомбежка, причем в этот раз немцы бомбили вагонный завод, который находился совсем рядом с нашими флигелями. Мы предлагали им вернуться, но в ответ – совершенная паника: «Нет! Нет!!!»
Короче говоря, на этих двух подводах вместо одной семьи директора из Владенино уехали сразу шесть семей. На нашей телеге, например, ехали мы и семья учителя математики. У него было трое маленьких детей: старшей дочке было лет шесть или семь, четырехлетний карапуз и самому младшему два с половиной года. Все они сидели лицом назад и всю дорогу выли. Я шел с велосипедом, рядом мой брат, а отец, как Чайлд Гарольд, шел впереди, выбирая нам дорогу. Математик правил лошадью, а его жена и наша мама шли позади телеги. Мама несла подойник - эмалированное ведро, в которое наливали молоко, купленное по дороге в деревнях. Помню, как на каком-то глухом переезде перешли полотно Октябрьской железной дороги. Ведь мы знали, что основные дороги немецкая авиация беспощадно бомбит, поэтому шли по глухим тропам и проселкам северных районов Тверской области, через какие-то глухие деревеньки, с севера огибая Калинин. А когда шли, то по ночам видели два зарева, это горели Торжок и Калинин…
Так прошли Лихославльский район, а в Новокарельском (Новокарельский район - административно-территориальная единица в составе РСФСР, существовавшая на территории Калининской области в 1935-1956 годах. По статистическим данным 1930 года 95 % населения района составляли карелы – прим.Н.Ч.) карелы откровенно ждали немцев.
В чем это выражалось?
Они в нас чуть ли не плевали. Бабки так прямо и говорили: «Пью, чтобы вы больше сюда не возвращались! Придет батюшка Гитлер, и нам будет хорошо!» По дороге мы везде ночевали в каких-то деревнях, и только у карелов нас никто не пускал к себе… Помню, когда уже выпал снег в какой-то деревне появился высокий молодой карел, разодетый в бурки. А тогда только ответственные работники носили пыжиковые, пушистые ушанки и белые бурки, отороченные коричневой кожей. И вдруг этот, видно, их односельчанин, ходит в каком-то городском пальто, в этих бурках и меховой шапке. Ему говорят: «Ну, ты прямо как жених!» А он смеется в ответ: «Хоть сейчас к Адольфу…» И рассказал, что в Твери народ разграбил магазины, и он тоже принял участие в этом. Но там не только магазины грабили, но и частные дома. Нашу квартиру ведь тоже разграбили. Мы же не думали, что так получится. Думали, уйдем недалеко, переждем и вскоре вернемся, поэтому просто заперли ее на висячий замок и ушли. Но этот замок сбили свои же соседи, из соседних частных домов, а потом уже проходили солдаты. И у нас все пропало, особенно жалко шикарную отцовскую библиотеку, ведь среди книг там были настоящие фолианты в позолоченных переплетах. Хорошо мы взяли с собой паспорта, а так ведь все документы пропали. Мой аттестат об окончании 9-го класса, похвальные грамоты с портретами Ленина и Сталина, которые я получал каждый год за отличную учебу. Отец мне, кстати, рассказывал, что когда он сам был учеником, то тоже получал похвальные грамоты, но дед оклеивал ими стены гальюна… Тут бы я хотел пару слов сказать о своем деде.
У деда было одиннадцать человек детей. Вообще, рождено было тринадцать, но двое умерли еще в младенчестве. И потом от детей у деда было двадцать внуков и двадцать четыре правнука. Он был титулярным советником в Земской управе, колоритный такой мужик, с бородой, в железных очках в тонкой оправе. Умер уже при советской власти в 1930 году, но я его помню.
А когда мне еще и года не исполнилось, меня принесли ему показать. Конечно, такое событие для него, ведь первый внук от любимого младшего сына. Спрашивает отца: «Крестили уже?» Папа замялся: «Нет, сейчас это не принято. Да и вообще мне нельзя, я же педагог». Дед насупился: «Плохо!» Потом полез в ящик стола, достал нательный золотой крестик на шелковой голубой ленточке, накинул на конверт со мной, перекрестил и говорит: «Расти таким же социалистом, каким был Иисус Христос!» Вот с этого момента я считаю себя христианским социалистом. А через четыре года у нас состоялась встреча, которую я хорошо помню.
Привели меня к деду, отец сзади подтолкнул: «Подойти к дедушке, дай ему ручку!» Он поцеловал мне ручку, уколол усами и пощекотал ее своей косматой бородой. Потом посмотрел на меня и говорит: «А песенки петь знаешь?» Я только кивнул молча головой. «Ну, спой дедушке песенку!» Я выпрямился, принял стойку, с левой ноги взял вот так, и спел ему песню, которую всегда пели красноармейцы из взвода охраны военного завода, когда строем проходили мимо наших окон. Припев у нее был такой:
«Винтовочка бей-бей,
винтовка бей,
красная винтовочка,
буржуя не жалей!»
Спел я один куплет, припев, и тут дед прерывает песню. Посмотрел на меня поверх очков и говорит: «Так вот ты фрукт, какой! Отвратительная песня! Тьфу!» Головой затряс, борода развивается, потом поднял палец кверху: «Буржуй тоже человек и тоже жить хочет!» Я, конечно, не ожидал такого приема моего искусства, попятился и бросился с ревом бежать. Отец меня потом нашел в комнате бабушки, я там стоял в углу вместе с ухватами и метелками и горько рыдал. Отец, как мог меня успокоил: «Дедушка хороший, это он так просто». Привели опять к деду, он сидел немножко смущенный, что сорвался. Погладил меня по головке: «Ничего-ничего, на, вот тебе конфетину», и дал такой батончик из прессованного сахара. Они если долго лежали, то делались просто каменными. Неделю потом можно сосать, но откусить было невозможно.
В общем, так мы и шли пешком за этой подводой. А потом этот математик решил остаться в одной деревне: «Чего я дальше с детьми попрусь? Тут хорошие люди, лучше я здесь пристрою детей, вступлю в колхоз, и поработаю до призыва, все равно ведь меня скоро заберут в армию». И действительно, его семья жила в этой деревне до конца войны. А его самого призвали в армию, и мы с ним встретились в 1945 году, когда шла демобилизация.
А мы пошли дальше и за двадцать восемь дней пути дошли до города Мышкин, что в Ярославской области. На паром через Волгу была просто колоссальная очередь, и пока мы в ней стояли, отец сговорился с водителем какой-то попутной машиной, что он нас возьмет с собой до Рыбинска. Сразу перекинули в нее вещи, а лошадь с подводой отец сдал в городское хозяйство. Потом пошли погреться в соседний домик, нас пустили и говорят: «Слушайте радио!», и мы сразу узнали голос Сталина. До этого я слышал его голос дважды. В первый раз, когда он в 1937 году выступал на выборах перед избирателями Сталинского округа Москвы. До сих пор помню, что это выступление транслировалось он начала до конца со всеми овациями. А потом, когда мы слышали его знаменитое выступление 3-го июля 1941 года. С шести утра в тот день по радио постоянно шли позывные радиостанции: «Товарищи, будет важное правительственное сообщение!» Наконец, объявили, что выступит сам председатель Комитета обороны, Генеральный секретарь партии Иосиф Виссарионович Сталин. Помню, вначале молчание, откашливание, бульканье воды, видимо, волновался, и только потом начал таким неуверенным, немножко дрожащим голосом. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» В общем, это была такая проникновенная речь, что отец даже пустил слезу.
Дослушали его выступление, вернулись к машине, и когда, наконец, переправились через Волгу, то водитель нас докатил до Рыбинска чуть ли не за час. Оттуда в тамбуре попутного пассажирского поезда доехали до Ярославля. А там для таких как мы был отведен специальный барак, в котором мы несколько дней прожили на полу, ожидая эшелона на Пермь.
Почему решили поехать именно в Пермь?
Выбор у нас был совсем небольшой. Либо в Вятку, где жил старший папин брат, либо в Пермь, где жила мамина младшая сестра. И родители решили, что чем ехать к старику, лучше поехать к маминой сестре. Она ведь была одинокая, к тому же могла бы помочь с устройством на работу. Незадолго до этого она окончила в Воронеже сельскохозяйственный институт, и работала в областном земотделе. И когда мы к ней приехали, она через областной отдел народного образования устроила отца в педучилище городка Чердынь. Есть на севере Пермской области такой старинный купеческий городок на реке Колва. В ту пору летом к его пристани регулярно приходили речные пароходики, грузились. Но проблема была в том, что на семь тысяч человек аборигенов туда приехало аж две тысячи эвакуированных одесситов, которые буквально смели все продукты во всем городке. Даже ведро картошки купить было невозможно, только по блату, по знакомству или за большие деньги. Потому что часть этих одесситок, с непривычно быстрой для нас речью, ждала продавцов на рынке, а остальные караулили на подходе, и тут же все скупали.
А как тяжело мы добирались в эту Чердынь. Отец уехал туда первым, с огромным трудом снял крохотную комнатку в трехоконной избушке, и только после этого поехали и мы втроем. Доехали по железной дороге до Соликамска, а оттуда еще надо было проехать на попутной машине километров сто. Ведь в Чердыни железной дороги до сих пор нет, но если летом можно добраться туда пароходе, то зимой только на машине или на лошадях. Но в то время, там основным транспортом были сани. Лошади такие мохнатые, а все погонщики словно на подбор, такие здоровенные пермяки и все в малицах. Это такая местная меховая одежда с рукавами и капюшоном. Скорее даже не капюшон, а просто небольшое отверстие для лица. Длинная, почти до пола, и без пуговиц, которую надевали через голову поверх своей одежды.
В общем, в Соликамске в ожидании попутной машины мы проторчали почти неделю. Все это время жили в «доме колхозника», где на троих нам выделили обитый клеенкой топчан, и мы по очереди на нем спали. Где-то удавалось получить баланду, но вся беда в том, что я сильно простудился. Ведь там двери постоянно открывались, закрывались, вечные сквозняки, к тому же на улице большой мороз. Наконец появилась попутная машина, на которой мы и поехали. А с нами в Чердынь поехал еще один человек. Как уже в дороге выяснилось, только что освободившийся из заключения поляк по национальности. В телогрейке, в меховой шапке, в ботинках с обмотками, носастый такой, с небольшой подстриженной бородкой, как у инженера Гарина или Айвенго. Он постоянно болтал, и мы с ним вроде даже как подружились. Рассказывал, что в Гражданскую войну он воевал кавалеристом и был ординарцем у самого Котовского. Помню, рассказывал, что когда они шли в атаку, то пику привязывали к колену. Но, по-моему, он очень сильно прихвастывал, скорее всего, он не был никаким ординарцем Котовского, а просто служил в его коннице. Короче говоря, поехали вчетвером на машине.
Проехали километров семьдесят пять, как машина съехала с наезженной трассы и увязла в снегу. А водитель вместо того, чтобы нас высадить и расчистить путь, начал буксовать, буксовать и подплавил подшипники в ступицах колес. «Все, - говорит, - дальше не поедем, придется ждать кого-то». Тут поляк говорит: «Я ждать не могу, пешком пойду!» Остались мы с шофером вчетвером. Я и так простуженный, зуб на зуб не попадает, всего трясет, а тут еще на морозе неизвестно сколько придется торчать. Водитель, в ведро масла налил, зажег, получилось что-то вроде костерка. В общем, кое-как ночь провели, а утром на санях приехал отец. Рассказал, что вечером к нему пришел этот поляк, сообщил, что мы застряли, и рано утром отец выпросил сани, чтобы съездить за нами. Мама услышала это: «Ты что, оставил его досыпать в комнате? Он ведь бывший заключенный!» Но отец даже не сомневался: «Он же был ординарцем у Котовского, вряд ли он станет красть». И действительно, этот поляк ничего не взял, только занял денег у отца, которые, правда, так и не отдал. Мы его потом видели, он уже верхом на коне ездил, видно где-то там в лагерях начал служить на хорошей должности. Как-то он мимо нашего домика проезжал, папа в окно увидел, выскочил к нему, а тот только улыбнулся. Ну да бог с ним…
А я на два месяца слег с двухсторонним воспалением легких. Потом пришел в школу записываться в 10-й класс только в первых числах марта, а меня не принимают. Ведь не было никаких документов, что я окончил девятый. «Вы, - говорят, - 9-ый окончили, вот в 9-ый и идите!» Спорили-спорили, потом говорят: «Ну, хорошо, мы вас возьмем, но условно. И если вы за месяц пройдете программу первого полугодия, то мы вас оставим». А моего брата с тем же условием приняли в 8-й класс. Но 10-й это не 8-й, там ведь строго следили за процентом успешно сдавших выпускные экзамены. У нас же все тогда было по процентам. Короче говоря, я проявил максимум усердия, разработал свою методику, и окончил 10-й класс круглым отличником. Все хорошо сдал: математику, физику, химию, астрономию, не говоря уже про литературу. За сочинение мне поставили «отлично» - ни одной ошибочки, недаром я сын словесника. Ведь я еще читать не умел, а уже знал, что такое деепричастие: «Деепричастие отвечает на вопрос - что делая?» Отец же был ведущим методистом по русскому языку в городе и к нему на консультацию приходили педагоги из других учебных заведений, из школ. Кроме того, из педучилища приходили отстающие студенты, с которыми он занимался, а я попутно все это дело слушал. Однажды, даже как-то не вытерпел, сунулся, ответил, и так получил за это от отца. Он понимал, что нужно беречь самооценку своих учеников, и какой-то мальчишка не должен их ущемлять. И потом на будущее он меня строго-настрого предупредил: «Никогда не лезь в разговор! Если хочешь, слушай, но не вступай ни в коем случае!»
А готовить уроки мне приходилось в нашем закутке. Представьте себе, трехоконная изба, в которой фанерной перегородкой почти до потолка нам была отделена комнатушка с одним окном. И все что в ней поместилось – тумбочка и четыре койки с матрасами набитыми соломой, которые нам выдали в педучилище. В углу стояла печурка, лежаночка такая, которую топили дровами. На ней кипятили воду, мама картошку могла сварить, чай грели. Но обычного же чая не было, так мы по совету одного знакомого врача в аптеке покупали черничные порошочки от кишечной боли, сушеный шиповник, заваривали их и пили. Еще каждый день хозяйка продавала нам пол-литровую кружку молока, но это же на четверых. А хлеба получали, считай ничего. Отец как работающий получал четыреста граммов, а мы втроем как иждивенцы всего по двести пятьдесят. Мама ведь не работала, потому что работать там было просто негде.
По профессии мама была учительницей начальной школы. Но после моего рождения она уже больше не работала, а полностью посвятила себя нашему с братом воспитанию. Очень много нами занималась, поэтому мы были, что называется, присмотренные дети, и одетые, и начитанные. Я, например, уже в пять лет начал читать. Как-то мама меня застала в момент, когда я снял с отцовской полки книгу и читал по слогам ее название на переплете - «Литературная энциклопедия». Она услышала, что ее пятилетний ребенок читает такие вещи: «Откуда ты все буквы знаешь?!»
Но учиться было тяжело, потому что в этой избушке не было света. В больших домах электричество было, а в таких старых как у нас, не было. Так мы делали гасики. В аптекарский пузырек в трубочку вставляли подобие трубки из жестянки, из ваты делали фитиль, и заправляли керосином. Вот при огоньке от этого гасика, который стоял рядом на табуретке я и учился. Причем, стола ведь не было, только тумбочка. И я, сидя на своей кровати, на коленях держал картонную папку и на ней и читал, и писал, и считал. А у отца был свой гасик, так он при его свете проверял целые пачки тетрадей. Одну за другой, словно только этим и занимался.
Но даже вот в таких непростых условиях, я успешно окончил 10-й класс. А все потому, что здесь я поступил весьма разумно и дальновидно. Ведь мы заранее знали, какие будут выпускные экзамены, поэтому я рассчитал так, что по тем предметам, по которым будут экзамены, можно иметь не только пятерки, но и четверки. А вот по тем предметам, по которым годовая оценка составлялась только по текущим оценкам, я заранее добился круглых пятерок. Немецкий язык, литературу довольно легко одолел, историю тоже прошел хорошо. А на экзаменах на каждый предмет давали три-четыре дня подготовки, и за это время я мог хоть на профессора подготовиться.
Вот только с военным делом возникли сложности. Когда была теория, например, собрать, разобрать затвор, или даже стрелять, то это все проходило нормально. Но там же по программе были ведь и лыжные занятия, а это по тайге нужно пройти десять километров туда, и десять обратно. Все местные ребята были здоровяки, все с малых лет ходили на лыжах, поэтому эти занятия им были только в радость. А я лыжами тоже с детства увлекался, и в принципе хорошо ходил, но ведь я после воспаления легких при росте 184 сантиметра весил всего 54 килограмма… Пошел вместе со всеми, но выдохся уже на третьем километре. К тому же лыжи были чужие, не пригнанные, в общем, вернулся как мокрая курица когда все уже разошлись.
На другой день с военруком скандал: «Андреев, почему вы…» А как я мог пройти по другому, если совсем выбился из сил, и не мог идти дальше?! Ну совсем же никаких сил не было… Причем этот мерзавец был почти мой земляк, из Великих Лук. Он говорил: пулямет, Ляонтьев, это как раз великолукский местный говорок. В общем, через день дает он мне предписание: «Я вас освобождаю от занятий в школе, но после учебы два раза в неделю будете ходить на «всеобуч»! Вроде как наказал, но мне там было даже лучше. Там же все необразованные были ребята. Как разобрать затвор винтовки, может еще и разберут, а собрать уже не могут. Там нужно нажимать, стебель-гребень-рукоятка, а они все говорили «стебель-гребель-рукоятка». Короче говоря, на их фоне я выглядел довольно прилично. К тому же политруком нашего взвода был начальник «райпромкомбината». Довольно малограмотный мужик, зато начальник, но когда он увидел, что я там что-то рисовал, то поручил мне выпускать боевой листок. В общем, я там был на хорошем счету и в конце получил справку, что «… прошел 100-часовую программу по специальности стрелка, программу усвоил на «отлично». Принес я эту справочку в школу и в графе «военное дело» мне сразу поставили пятерку.
А тут как раз двое местных парней из нашего класса уговорили меня пойти вместе с ними: «Пойдем в военкомат, там висит объявление, что идет набор в авиационно-техническое училище». Я с ними пошел, подал заявление, но медкомиссия меня развернула с треском… Когда взвесили, измерили: «Вы что, болели?» Хотя я даже и думать забыл про это воспаление легких. «Нет, - говорю, - так просто голодали». – «Не годен!» А через две недели опять вызвали в военкомат, но на комиссии меня уже узнали: «Чего вы опять пришли?» Так и так, говорю, тогда же я по училищу был, а сейчас меня по повестке вызвали. Но меня опять признали негодным и дали отсрочку на три месяца.
А чтобы не терять времени я решил пойти учиться. Но у меня же был отличный аттестат, и куда не подаю документы, меня сразу принимают. На всякий случай послал документы в Казань в авиационно-техническое училище, оттуда сразу ответ – «вы приняты с предоставлением общежития, приезжайте к 1 сентября». Но отец был мудрый человек и он меня сразу предупредил: «Куда ты поедешь? Скоро твоя отсрочка закончится, тебя призовут, а это же совсем разные вещи, уйти из дома или из общежития в Казани». Я его выслушал, согласился и подал заявление на физмат в пермский, а тогда Молотовский университет. Но сходил туда всего два-три раза, и чувствую, что нет, моей подготовки не хватает, чтобы там нормально учиться. И как раз в это время мне на глазу вдруг попалось объявление: «Ленинградский военно-механический институт только что эвакуированный в Пермь, осуществляет набор на два факультета: «артиллерийский» и «пулеметно-стрелковое оружие». В Перми ведь находятся огромные мотовилихинские артиллерийские заводы, и видно для них решили готовить военных инженеров.
Я подал заявление, меня приняли, и на первое время даже дали рабочую карточку, по которой я получал 600 граммов хлеба. Жил в это время у тетки, и она меня тоже подкармливала. То в исполкомовской столовой сама не съест и принесет мне какую-то булку, а бывало, что и мясное второе принесет в тарелочке. На кухне у нее была навалена гора картошки, так она мне чуть ли не приказала: «Чисть и жарь картошку на хлопковом масле!» Короче говоря, за те два месяца, что я у нее прожил, она меня фактически поставила на ноги. Я уже весил 66 килограммов, поэтому, когда пришел в военкомат, то медкомиссия меня признала годным.
Но пока все это тянулось, я учился на 1-м курсе артиллерийского факультета. Кстати, в этом институте военное дело преподавал бывший царский офицер. Он носил усики щеточкой, ходил в старинного покроя шинели вместо пальто, в галифе и высоких «буденовских» хромовых сапогах на высоком каблуке. И сам по себе очень смешной человечек был, так еще и смешно говорил: «Смирно! Вольно! Оправиться!» Оправиться – это же значит, просто поправить одежду, а ребята понимали эту команду несколько по-другому и поэтому посмеивались. А однажды с ним произошел просто анекдотический случай. Как-то на теоретических занятиях, которые он вел, вдруг входит студент из соседней группы. Причем, заика, но басистый такой. Входит и говорит: «П-п-п-п-пр…» Тут этот преподаватель к нему подбегает: «Встаньте по команде смирно и теперь говорите!» Тот опять заикается: «П-п-п-п-преподаватель п-п-п-просит Ц-ц-ц-цубербиллера!», у нас был такой задачник по геометрии. Преподаватель поворачивается к группе: «Кто здесь Цубербиллер?» Все, конечно, легли… Так вы знаете, кто это оказался? Отчим Константина Симонова. Уже потом я читал его воспоминания, и там он написал о нем очень много добрых слов. Оказывается, своего родного отца Симонов никогда не видел, и его вырастили мать и вот этот отчим, который очень много вложил в его воспитание.
В общем, месяц я там прозанимался, и потом меня призвали. Но в военкомате я просился в артиллерийское училище, а начальник 2-й части, который нами и ведал, кудрявый такой лейтенант Вроватых мне сказал: «Андреев, артиллерийского нет, но есть училище связи. Давай туда, а то тянуть больше нельзя». Я согласился, и мне выписали направление в Свердловское училище связи. Приезжаю, прихожу по адресу, а это монастырь недалеко от центра. И совсем не училище, а трехмесячные курсы, которые выпускают радиотелеграфистов 3-го класса со званием ефрейторов. Ну, курсы так курсы, ладно.
Вначале как у всех, поселили в отдельную казарму на карантин. Но эта казарма больше напоминала притон. Потому что все ребята оттуда бегали на рынок, сапоги с себя продали кто за водку, но по большей части все-таки за хлеб. Остались босыми, никуда послать их нельзя, так они сидели на верхних нарах и играли в карты.
Потом, наконец, распределили по ротам, и я попал в 5-ю во 2-й или 3-й взвод. Начали учиться, и тут уж за нас принялись всерьез. Из одиннадцати часов занятий в день, мы по девять часов сидели в зуммерном классе и учились принимать морзянку на слух. Вначале размеренно с небольшой скоростью, постепенно увеличивая ее. 3-й класс радиотелеграфистов - это 60 знаков в минуту, т.е. в секунду надо было принять успеть знак, либо букву, либо цифру. А оставшееся время отрабатывали передачи на ключе. У каждого был зуммер, сидели и долбили. Потом друг другу давали какие-то телеграммы. Один передает, другой принимает, и так целый день.
Отбой был в одиннадцать часов вечера, а подъем в шесть утра. Физзарядку проводили на улице, прямо на снегу, а мы в одних рубашках и бумажных бриджах и галифе. На ногах носили обмотки, но на физзарядку их просто не успевали одевать, поэтому выбегали прямо в ботинках на босу ногу.
Помню, с какой радостью наш взвод пошел в наряд. Распределили, кого, куда и я попал на кухню. В монастыре было несколько церквей, и в одной из них располагалась курсовая кухня. А там меня старшина направил в помощники к повару, мыть посуду. Большие такие кастрюли, бачки, половники, баки, вмонтированные в печку. В одном варили первое, в другом второе. На первое варили гороховое пюре, а после него на дне котлов оставался осадок гороха, довольно противный, но и за ним ко мне подходили, и я его накладывал. И главное сам понемножку все время ел. Второе – либо картошка, либо манная каша, там тоже оставался осадок, причем подгорелый. Но самое сладкое место это - хлеборезка. В общем, в первый же день я там сильно объелся. Потом сходил в хлеборезку, там была кислая квашеная капуста, так я еще этой капустки поел. Увидел, что в бачке хлопковое масло, а рядом стоит кружка, наполненная наполовину, так и ее выпил... Короче говоря, подвела меня жадность голодных людей. Ведь кормили нас очень плохо, доходило до того, что из-за хлеба дрались прямо за столами. Ведь хлеб как делили? Его же выдавали на целый стол, а это двадцать человек. Разрезали на порции, потом кто-то поворачивался спиной и говорил, кому отдать пайку. Но зачастую, тот, кто говорил, был из той же шайки, что делила хлеб, и у них уже все было заранее оговорено. Третьему, седьмому и десятому, например, будут самые большие порции. В общем, объегоривали так, поэтому и драки и ссоры случались из-за этого. И, конечно, объевшись всего, я отравился. Через некоторое время меня начало тошнить, только успел выбежать на крыльцо кухни, как меня начало рвать.
В санчасти поставили диагноз - дизентерия. Вызвали скорую помощь и отправили в городскую инфекционную больницу. Там в основном лечились мужики из трудармии, и я с ними пролежал двадцать дней. В принципе меня могли выписать и раньше, но мой лечащий врач, женщина, просто сжалилась надо мной. Она ведь видела насколько я тощий и истощенный.
Через двадцать дней вернулся на курсы, а мне говорят: «Андреев, тебя придется сейчас отстранить от занятий. Мы уже начинаем писать контрольные, а ты слишком много пропустил, поэтому еще раз пройдешь курс обучения с ротой из нового набора». Но я как только представил, что мне опять предстоит такая голодная жизнь, то стал просить, чтобы меня оставили. Ведь получилось что? Еще в самом начале на мандатной комиссии всем задавали один вроде бы простенький вопрос: «Знакомы ли вы с азбукой Морзе? Приходилось ли уже ее изучать или, может быть, флажковый семафор?» Но смотрю, некоторые радостно говорили: «Да, изучал!», а им сразу от ворот поворот. Поразмыслил, как так, тех, кто не знал, оставляют, а кто знал, отправляют в воинскую часть. Поэтому и сказал: «Не знаю», хотя флажковую азбуку мы изучали еще в школе в Торжке, и я ее довольно неплохо знал. И я опять, как прирожденный методист, уловил тогда главное правило: «Не раздумывайте, не считайте, сколько знаков, просто постарайтесь уловить мотив!» Вот, например, два тире и три точки – это семерка. Что семерка поет? Она словно просит: «Дай, дай закурить!» Значит, если услышишь: «Дай, дай закурить», так сходу и пиши семерку. В общем, я все-таки попросил меня оставить и комвзвода согласился: «Ладно, давай попробуй!» А инструкторами там служили девушки, которые еще до войны на гражданке работали телеграфистками. Все они были радиотелеграфистами 1-го класса, а значит, принимали в минуту больше 90 знаков. 75 знаков – это 2-й класс, а нам нужно было выучиться принимать 60 знаков. Короче говоря, я остался и стал себя тренировать.
Над каждой буквой корпел, если она не ясно поет, придумывал мелодию. Например, буква «А» – точка тире. Что она поет – «Куда?» Поэтому если слышу: «Куда?», значит, это буква «А». А если «Куда, Куда» – буква «Я». Вот так я на каждую букву старался придумать мотив, и заставлял себя воспринимать их именно, как мотив. И одна девушка-инструктор мне немного помогла. Два или три раза мы с ней по часу позанимались, учила меня воспринимать на слух. Короче говоря, сдавать первую контрольную я пошел вместе со всеми. Сделал пять или шесть ошибок и, конечно, получил двойку. Ведь там все предельно просто: одна ошибка – двойка, ни одной ошибки – пятерка. Других оценок просто не ставили, потому что телеграфист не должен делать ошибок, он должен принимать совершенно машинально. Но все равно все инструктора сильно удивились, потому что некоторые из курсантов в пятидесяти знаках делали по шестьдесят ошибок. А мои пять-шесть ошибок на этой стадии обучения считались вполне нормальным результатом. Поэтому меня оставили, и я занимался вместе со всеми.
Так мы проучились три месяца, но нас почему-то не трогали, продолжали заниматься дальше. Наконец, на пятом месяце прекратили с нами все занятия и нашу роту стали распределять по частям. По очереди вызывали в штаб и кого в Челябинск в танковую бригаду, кого в Свердловск, кого в Пермь. Наша компания постепенно редеет, а мы ничем не занимаемся. Только ходим в столовую, едим за отдельным столом, в общем, хорошо живется, но как-то тревожно. В конце концов, нас осталось всего шестеро, и до нас дошли слухи, что нас оставляют на курсах в качестве командиров отделений. Насколько я понял, там существовала такая традиция, что с каждого курса оставлять инструкторами по шесть лучших курсантов. С одной стороны приятно, а с другой трагедия. Потому что даже подумать было тошно, что придется остаться там на еще один курс.
И тут один из наших инструкторов, старший сержант Овчинникова, кудрявая такая девушка, говорит: «А я ухожу с курсов!» - «Как уходите?! Куда? Что?» - «Я записалась в добровольческий уральский танковый корпус. В штабе в такой-то комнате сидит майор, начальник радиосвязи вновь формируемого корпуса и желающие могут подать ему рапорт». И мы вшестером сразу пошли к этому майору и написали рапорта. Потом нас вызвали в штаб, выдали направление и отправили в Нижний Тагил. Приезжаем, являемся по адресу, куда надо, а это здание технического училища, в котором формируются две артиллерийские части. В главном корпусе - самоходный полк, а дивизион «катюш» в небольшом бараке. Всех шестерых нас направили в этот дивизион «катюш», и пятеро попали во взвод связи.
В том числе и мой приятель Кузняев Иван Иванович, который просто шикарно работал на рации. Правда, вид у него был далеко не военный: маленький, толстенький, но при этом весь дивизион его звал исключительно - Иван Иванович. Даже командир дивизиона так его называл. Не Кузняев, не ефрейтор, а исключительно - Иван Иванович. Хотя он был мой ровесник, 1924 года рождения. До войны он жил в Ленинграде с матерью, и видно она его очень лелеяла, баловала, потому что уж очень он любил покушать. Особенно сладкое. Бывало, сядем с ним и как начнем вспоминать домашние довоенные кушанья, только аппетит друг другу раздразним. Так вот на фронте он стал моим бессменным напарником. Нас так и звали - Дон Кихот и Санчо Панса, потому что один высокий и худой, а другой маленький и толстенький.
Но когда мы выходили на наблюдательный пункт, и нужно было идти пять километров до передовой, то он страшно уставал: «Давай, отдохнем!» Я сам из интеллигентской среды, довольно слабого телосложения, хрупкий, не очень сильный юноша, но когда мы, например, шли с разведчиками, то я себе никогда не допускал такого сказать: «Ребята, давайте, отдохнем!» Если кто-нибудь из разведчиков сам предложит, это да, тогда я с удовольствием отдыхал. Но первый никогда не предлагал, заставлял себя идти через не могу. Не из каких-то убеждений, нет, просто была во мне вот такая интеллигентская выносливость. А вот простецкий человек иногда не перенесет, завоет, застонет.
В Нижнем Тагиле мы провели где-то месяц. Получили радиостанции. Их было несколько видов: устаревшая 5-ОК, РБ - радиостанция ближнего действия, батальонного звена. Но больше РСБ - радиостанция среднего бомбардировщика, это стационарная рация, которые обычно были установлены в машинах. Меня, ефрейтора, назначили начальником рации, и у нас было два сундука. Один с приемопередатчиком весил десять килограммов, а деревянный сундучок с батареями и аккумулятором весил чуть тяжелее - двенадцать килограммов. Поэтому я носил батареи, а Ивану Ивановичу давал саму рацию. И только потом нам прислали модернизированную РБ, тоже в металлическом ящике. А заканчивали войну с РП-12, которую любили больше всего. Потому что этот приемопередатчик можно было нести на спине, он удобно закреплялся ремнями в вертикальном положении. А РБ болтался, как сундук. В общем, в Нижнем Тагиле мы пробыли совсем недолго. Получили радиостанции, немножко строевой позанимались, и потом получили «катюши», которые впервые в жизни и увидели.
Какие установки?
М-13. Причем не на трехосных машинах, а на двухосных «шевроле». Это тоже была хорошая машина: две ведущие оси, проходимость большая, но, конечно, послабее, чем «студебеккер». И только уже потом в Польше наши установки переставили на «студебеккеры», а «шевроле» списали. Устроили нам в Нижнем Тагиле и учения со стрельбами. Выезжали на артиллерийский полигон где-то в лесу и там, на охраняемой территории проходили учения. Один раз даже несколько танков ходили в атаку с пехотой, а перед этим устроили подобие артподготовки, и мы туда давали залп. Тогда мы впервые увидели знаменитый залп «катюши».
Наконец 3-го июня 1943 года погрузились в эшелон и двинулись на запад. Думали, едем сразу на фронт, но ошиблись. Обогнули Москву, Нарофоминск и приехали на станцию Кубинка, где формировались части 4-й Танковой Армии, и в которую включили и наш 30-й Уральский Добровольческий Танковый Корпус. Какое-то время там еще немножко пробыли, а потом на эшелоны и вперед…
С каким настроением ехали на фронт?
С нормальным. А главное были довольны, что освободились от этой неустроенной обстановки курсов. Ведь там и голодно было и холодно. Заступаешь дневальным в наряд по роте, а старшина тебе приказывает: «Найти дров и отопить расположение! Но помните – воровать дрова, я вас не по-сы-лал!» То есть идите и украдите, но если вас схватят, то старшина вас не посылал. А найдите, где хотите… Обычно воровали у офицерского общежития, потому что им все время привозили дрова. И все роты туда дневальных посылали. Кого-то ловили, а кто половчее, тот приносил несколько охапок дров, так и топили. А это же монастырь, помещения огромные. Обычно в монастырях кельи крохотные, а там большие, видимо какие-то складские помещения, метров по пятьдесят каждая. С одной стороны находились классы, в которых мы занимались. В них столы стояли, на них зуммеры, которые пищали при нажатии ключа. А с другой стороны узкий коридорчик, заставленный двухэтажными нарами, на которых спали все три взвода нашей роты.
Когда давали команду «отбой», то за короткое время надо было успеть снять ботинки, смотать обмотки, а портянки положить на ботинки сверху, чтобы утром сразу вскочить и надеть. А кто не успел, допустим, штаны снять, а уже сигнал подали, то залезали под одеяло, и под одеялом, когда никого уже не было, ни дневальных, ни дежурных по роте, стягивали с себя все. А некоторые даже гимнастерку не успевали снять и ложились прямо так. Но дежурные ходили и проверяли. Наши верхние нары еще не очень, а у нижних могли просто стянуть одеяло и смотрели: «А, в штанах! Подъем!» И уводили их мыть, например, коридоры. Кстати, мытье полов там было очень оригинальным. На пол выливали ведро воды, шваброй растирали, потом гнали эту воду в уголочек и собирали ее в ведро.
Прибыли на фронт чуть севернее Орла. Запомнил, что мы находились где-то между маленькими городками Болхов и Белев. Вначале нашу 4-ю Танковую Армию зачислили в состав Западного Фронта, но буквально через день или два нас включили в состав Брянского Фронта. Наконец своим ходом двинулись в сторону передовой. Но продвигались очень медленно, иногда целыми днями стояли на месте, потому что немецкая авиация по всей Курской дуге действовала очень активно. Особенно досаждали их пикирующие бомбардировщики «Юнкерс»-87, которые за форму неубирающихся шасси у нас прозвали «лапотники». Самолет с очень хищным силуэтом, в пикировании очень быстрый и изворотливый. Большие двухмоторные бомбардировщики не обладали такой маневренностью, а эти прилетали и начинали змейкой пикировать один за другим. Из пике выходит, становится опять в строй и так несколько раз, пока все бомбы не сбросят.
На отдых мы обычно располагались на целине, в лесах. Все поля были засеяны, уже колосилась почти спелая пшеница, а мы невзирая ни на что, рыли окопы и этой золотистой соломкой маскировались, чтобы нас не было видно. А машины и зарывали, и снопами укрывали, но все это в полях. Зато наши штабы и всякие подсобные подразделения почему-то всегда стремились располагаться в деревнях, вообще в населенных пунктах. А немецкая авиация в основном их и бомбила в первую очередь, а на нас иногда если и сбросят, то совсем немного. Я, например, переживал этот стресс, лежа в ровике глубиной по колено. Глубже и не рыли почти никогда, просто некогда было, потому что все время меняли позиции, да, и честно говоря, было просто лень. А так по колено вырыл, считай все, в нем уже можно уберечься. И во время налетов я обычно лежал в ровике на спине, смотрел на небо и грыз черные сухари из НЗ. На фронте ведь хлеба негде было достать, поэтому нам почти всегда выдавали черные сухари. Причем, если бы их сушили по правилам, то они бы крошились, а эти фронтовые были настолько твердые, словно подметка от сапог. Хорошо у нас к рации прилагались плоскогубцы, ими отломишь кусочек, и потом его во рту долго-долго сосешь. Зато это успокаивало. Лежишь себе, усиленно грызешь кусочек сухаря, и смотришь наверх, наблюдаешь как эти «лапотники» выстраиваются, пикируют и бомбят. Словно там на небе был такой экран, по которому показывали интересный, но и очень опасный, конечно, фильм...
Потом, наконец, мы приблизились к передовой линии, и наш Уральский Добровольческий корпус принял боевое крещение в очень тяжелом бою на реке Злынке. Временная линия фронта шла как раз именно по этой речке, а наш дивизион поддерживал огнем 29-ю Гвардейскую Мотострелковую Бригаду, которой приказали взять на том берегу большое село Злынка.
 Один артиллерийский дивизион мотострелковой бригады из своих 76-мм орудий целый день прямой наводкой обстреливал эту деревню. Вернее не всю деревню, а немецких наблюдателей и пулеметчиков, которые засели на церковной колокольне. Там же стояла каменная церковь с высокой колокольней, но к концу дня от нее остался словно обглоданный кукурузный початок… Мы тоже дали залп батареи по второму, невидимому для нас рубежу немецкой обороны, в общем, к вечеру совместными усилиями Злынку освободили, а немцы отступили на шесть километров. И дальше так и пошло: весь день они твердо стоят на месте, а ночью отходят на шесть километров на заранее подготовленный рубеж обороны. Вот так по шесть километров в день мы за ними и двигались. В этих жестоких боях просто геройски проявила себя наша мотострелковая бригада. Ребята показывали исключительный героизм, исключительную настойчивость, отдавали все, но сколько их там полегло… Просто колоссальное количество… Например, вся переправа через Злынку была усеяна трупами наших уральцев… А ведь это были отборные люди: коммунисты, комсомольцы с уральских заводов, самые преданные и очень рвавшиеся в бой... Ведь все вооружение для нашего Добровольческого Корпуса было изготовлено на уральских заводах сверх плана. И лучших людей подарили Родине и вооружение. Кстати, для этой мотострелковой бригады каждому бойцу подарили стальной нагрудный панцирь, который ремешками застегивался на спине. Он закрывал всю грудь и немножко прикрывал бока, т. е. прикрывал только спереди. Эти панцири вполне защищали при штыковом бое и от скользящих осколков, но если пуля шла перпендикулярно, то она его свободно пробивала. И вот лежали бойцы с пробитыми панцирями на груди, все в дырах... Причем, в бою этот панцирь только мешал, ведь эта лишняя тяжесть, на солдате же и так столько всего. Мы, например, в первых боях еще таскали с собой противогазы. Хорошо, вещмешок был тощий, только эти сухари там лежали. И вот ему идти в атаку, а у него за плечами вещмешок, противогаз, гранаты, патронташ. Причем эти патронташи - текстильные сумочки для винтовочных патронов, у нас ведь вначале у всех были винтовки, автоматы были только у командиров, были очень неудобными. Болтались на ремне как непонятно что, и вот при этом всем солдатам еще на грудь напяливали эти щитки весом в несколько килограммов. Поэтому их очень быстро перестали надевать, и больше я такого вооружения ни у кого не видел. И каски тоже были неудобными. Ведь было как: пилотку нахлобучивали чуть ли не на уши и уже на нее надевали каску. Потому что наша каска имела внутри такие бумажные язычки, которые схватывались, и завязывались пеньковым шнурочком, и на этом они держались. Правда, был еще ремешок вокруг подбородка, но ровно каска все равно не держалась и все время ездила на голове. Другое дело у немцев. У них внутри каски были приварены металлические кронштейны, там надевалось кольцо, обтянутое кожей, и когда они эту каску надевали, то она сидела на голове как влитая, а между черепом и каской оставался небольшой воздушный зазор. Но нам, к сожалению, трофейные каски нельзя было использовать, потому что по ее характерному силуэту даже издали было сразу видно, что фриц. Правда, иногда я видел, что некоторые наши регулировщики на дорогах стояли в черных немецких касках. Но вообще, у нас немецкое обмундирование и у командования и у солдат вызывало неприязнь, поэтому на себя его не напяливали. Тем более, в нашем отборном корпусе у всех было очень хорошее обмундирование, пошитое из английского сукна.
Один артиллерийский дивизион мотострелковой бригады из своих 76-мм орудий целый день прямой наводкой обстреливал эту деревню. Вернее не всю деревню, а немецких наблюдателей и пулеметчиков, которые засели на церковной колокольне. Там же стояла каменная церковь с высокой колокольней, но к концу дня от нее остался словно обглоданный кукурузный початок… Мы тоже дали залп батареи по второму, невидимому для нас рубежу немецкой обороны, в общем, к вечеру совместными усилиями Злынку освободили, а немцы отступили на шесть километров. И дальше так и пошло: весь день они твердо стоят на месте, а ночью отходят на шесть километров на заранее подготовленный рубеж обороны. Вот так по шесть километров в день мы за ними и двигались. В этих жестоких боях просто геройски проявила себя наша мотострелковая бригада. Ребята показывали исключительный героизм, исключительную настойчивость, отдавали все, но сколько их там полегло… Просто колоссальное количество… Например, вся переправа через Злынку была усеяна трупами наших уральцев… А ведь это были отборные люди: коммунисты, комсомольцы с уральских заводов, самые преданные и очень рвавшиеся в бой... Ведь все вооружение для нашего Добровольческого Корпуса было изготовлено на уральских заводах сверх плана. И лучших людей подарили Родине и вооружение. Кстати, для этой мотострелковой бригады каждому бойцу подарили стальной нагрудный панцирь, который ремешками застегивался на спине. Он закрывал всю грудь и немножко прикрывал бока, т. е. прикрывал только спереди. Эти панцири вполне защищали при штыковом бое и от скользящих осколков, но если пуля шла перпендикулярно, то она его свободно пробивала. И вот лежали бойцы с пробитыми панцирями на груди, все в дырах... Причем, в бою этот панцирь только мешал, ведь эта лишняя тяжесть, на солдате же и так столько всего. Мы, например, в первых боях еще таскали с собой противогазы. Хорошо, вещмешок был тощий, только эти сухари там лежали. И вот ему идти в атаку, а у него за плечами вещмешок, противогаз, гранаты, патронташ. Причем эти патронташи - текстильные сумочки для винтовочных патронов, у нас ведь вначале у всех были винтовки, автоматы были только у командиров, были очень неудобными. Болтались на ремне как непонятно что, и вот при этом всем солдатам еще на грудь напяливали эти щитки весом в несколько килограммов. Поэтому их очень быстро перестали надевать, и больше я такого вооружения ни у кого не видел. И каски тоже были неудобными. Ведь было как: пилотку нахлобучивали чуть ли не на уши и уже на нее надевали каску. Потому что наша каска имела внутри такие бумажные язычки, которые схватывались, и завязывались пеньковым шнурочком, и на этом они держались. Правда, был еще ремешок вокруг подбородка, но ровно каска все равно не держалась и все время ездила на голове. Другое дело у немцев. У них внутри каски были приварены металлические кронштейны, там надевалось кольцо, обтянутое кожей, и когда они эту каску надевали, то она сидела на голове как влитая, а между черепом и каской оставался небольшой воздушный зазор. Но нам, к сожалению, трофейные каски нельзя было использовать, потому что по ее характерному силуэту даже издали было сразу видно, что фриц. Правда, иногда я видел, что некоторые наши регулировщики на дорогах стояли в черных немецких касках. Но вообще, у нас немецкое обмундирование и у командования и у солдат вызывало неприязнь, поэтому на себя его не напяливали. Тем более, в нашем отборном корпусе у всех было очень хорошее обмундирование, пошитое из английского сукна.
В общем, так постепенно, по шесть километров в день продвигались вперед. Даже успели привыкнуть к этому ритму. Весь день бомбим, атакуем, кладем залпы и прочее, а как наступает темнота, немец отходит. А мы продолжаем идти за ним, и к утру и мы, и немцы уже на новых позициях. Но эти бои были с очень большими потерями, потому что мы не просто их обстреливали, а все время атаковали, атаковали, атаковали... Сколько дней мы так наступали, я уже и не помню. Неделю, может больше, нет, не вспомню. Но в один из дней на наш участок свезли артиллерийские части, и мы все вместе как дали массированную артподготовку, то после нее весь корпус вошел в прорыв и за один день мы продвинулись сразу на двадцать километров. Вот только с этого момента у нас пошла маневренная война, как и положено танковым частям. Почти сразу после этого осуществили еще один прорыв и захватили станцию Нарышкино, фактически перерезав железную дорогу Орел-Брянск. Тем самым немецкая группировка в Орле лишилась важнейшего пути снабжения, и это, конечно, способствовало тому, что наши войска, наступающие с востока, взяли Орел скорее и с меньшими потерями. А нас после этого повернули за запад, в сторону Брянска, освобождая по пути небольшие городки: Карачев, Белые Берега, станция Белобережская. До самого Брянска мы не дошли, повернули на юг, брали Трубчевск, а за тяжелые бои при освобождении станции Унеча наша 29-я Мотострелковая Бригада даже получила почетное наименование «Унечской».
Какой была лично ваша роль в этих боях?
Пока наступление развивалось медленно, вполне хватало и телефонной связи. Хотя мы тоже ходили с разведчиками на НП, но там обычно пользовались только телефонной связью. Кому охота мучиться с радиостанцией, когда тут по прямому проводу можно спокойно разговаривать?
А с ней разве мучения?
Определенные, конечно, ведь зачастую из-за помех было плохо слышно. К тому же нужно было кодировать разговоры. Но у нас только поначалу строго кодировали, а потом привыкли к условному кодированию. Хотя шпионаж был, с немецкой стороны шло постоянное слежение за нашей радиосвязью, особенно когда попадались власовские части. Кстати, местное население нам жаловалось, что у них зверствовали не столько немцы, сколько наши русские полицаи. И лишь когда телефонная связь обрывалась, тогда, конечно, наступал наш черед. Но такое случалось редко, повторюсь, обычно обходились телефонной связью, а нас держали на крайний случай. Например, однажды командование нашего дивизиона потеряло связь со штабом артиллерии корпуса и нас с напарником послали его найти, и оттуда помочь связаться.
Пошли, но ведь толком и не знали где искать, поэтому блудили по нашей стороне. Там же такая однотипная местность: ровное плато, изрезанное небольшими оврагами, по которым текли ручьи и речки, а вдоль них обычно шла проселочная дорога. Ходили по этим заросшим дубовым кустарником оврагам, искали. В одном месте вышли на зеленую полянку, а там сидит группа военных. Я, было, хотел пойти спросить у них, но присмотрелся, а там девять человек в генеральских погонах. Девять генералов, да еще всякие старшие офицеры. Ну, думаю, не иначе как тут штаб Фронта проводит выездное совещание. Говорю напарнику: «Нет, Иван Иванович, пойдем-ка лучше прочь отсюда, пока нас не заподозрили. А то посмотрят, что ходят тут какие-то двое с радиостанцией и скажут, что мы переодетые немецкие шпионы». Развернулись и ушли оттуда, но охрана на нас действительно покосилась. Туда-то мы прошли свободно, а обратно автоматчики нас очень внимательно, буквально обшарили глазами. Тем более, на нас было хорошее суконное обмундирование, яловые сапоги и это вполне могло вызвать определенное недоверие. Благополучно оттуда ушли, но штаб артиллерии корпуса так и не нашли. Но на наше счастье с ним и без нас уже установили связь.
А вот когда пошли в прорывы, то тут уже нас задействовали гораздо чаще. Ведь стала действовать разведка, появились бродячие наблюдательные пункты. Раньше они были только стационарные – окоп, в котором наши разведчики сидели целый день. А в прорывах то здесь, то там, то еще где-то, поэтому радиосвязь была нужна постоянно. Но если брать по большому счету, то на Курской дуге нас все-таки мало использовали. Зато сколько мы там километров исходили, сколько земли перекопали. Ведь когда попадали под бомбежку или артобстрел, то землю буквально грызли, чтобы хоть чуть-чуть зарыться. Но лично мое боевое крещение прошло и трагично и немножко комично одновременно.
Когда мы еще не вступили в бои, но уже слышали музыку «передовой», в один из дней слышу, как начальник штаба дивизиона говорит нашему начальнику связи: «Надо сейчас радистов закинуть на наблюдательный пункт!» Посадили нас двоих с напарником в кузов «доджа», и поехали в какую-то деревню. Едем, вдруг машина останавливается, и слышим голоса. Наш лейтенант отдергивает брезент: «Вылезайте товарищи, дальше проезда нет! Дорога простреливается с фланга, поэтому пробирайтесь пешком. А если начнется обстрел, то продвигайтесь перебежками. Найдете наблюдательный пункт корпуса, - или штаба артиллерии корпуса, уже не помню точно. - Доложитесь, и вам скажут, что дальше делать». А сам тут же разворачивает машину, и уехал.
Пошли мы по этой дороге, трусим легкой трусцой. Наши 10-и и 12-киллограммовые сундуки бьют нам по лопаткам и спинам. Причем даже не с автоматами, а с трехлинейками, слава богу, что хоть без штыков. А на головах каски, которые только мешают, подпрыгивают, съезжают то налево, то направо. А главное, дорога, действительно, обстреливается. Снаряды ложатся то слева, то справа, а мы же новички совсем на фронте, только и успевали немного втянуть голову в плечи. И вдруг вылетает на дорогу какой-то пехотный лейтенант с пистолетом в руке. Наводит его на нас, а глаза безумные, пьяные: «Куда машину бросили?! А ну назад к машине!»
Смотрю, а на нейтральной полосе ближе к немцам стоит крытая брезентом наша грузовая машина. Немцы по ней немцы ведут огонь с разных сторон, но в нее не попадают. Но чья это машина, как она там оказалась, не знаю. Беру под козырек: «Товарищ лейтенант, расчет радистов такой-то радиостанции выполняет задание». – «Молчать!» Наводит на меня пистолет: «А ну назад!» А глаза совершенно безумные от страха и пьянок... И нам ничего не оставалось делать, как повернуть обратно и бежать назад. Отошли немного, оглянулись, увидели, что он куда-то исчез в кусты, и пошли в обход, чтобы опять ему не попасться. А еще до встречи с ним случился такой момент.
 |
Командир отделения радио погибший под Каменец-Подольском Гвардии сержант Шаварин В.Н. с сестрой, предвоенный снимок |
Бежим, и вдруг свист нескольких снарядов, и близкий разрыв. Мы сразу рыбкой в кювет. Но у Кузняева приемопередатчик был на жестких ремнях, и он так не прыгал на спине. А у меня этот деревянный сундук с батареями и аккумуляторами, когда я летел, подпрыгнул, каска свалилась, и меня прямо по затылку очень сильно грохнул. Я почувствовал удар в затылок и страшную боль. Лежу в кювете, уткнувшись носом в землю, и думаю, вот так судьба, в первом же бою, когда еще и бой не начался, а меня уже прикончили… Лежу, не шевелюсь, боюсь тронуть затылок, не течет ли кровь… Тут мой Иван Иванович подползает на четвереньках: «Лев, ты что?» - «Посмотри, у меня на затылке все в порядке?» Он посмотрел, крови нет, все хорошо. Это было мое первое фронтовое «ранение»…
Потом все-таки добрались в деревню, нашли НП, а там начальник артиллерии корпуса, полковник. Доложился, и нам приказали окопаться с другой стороны избы, а если мы понадобимся, то нас позовут. Но только вырыли себе ровик и развернули рацию, как прибегает лейтенант, ординарец этого полковника: «Нужно срочно передать радиограмму!» Начинаю кодировать, но полковник меня сразу оборвал: «Убери, будешь это делать в другом месте! Давай мне микрофон!» Дал ему переговорную трубку и слышал его приказ: «Ориентиры такие-то. По готовности немедленно дать залп!» Буквально через несколько минут, батарея уже стояла на огневой, и мы увидели свой первый фронтовой залп. Где-то на горизонте, широкой такой полосой поднялись разрывы… Вот это был самый первый бой в котором мы приняли непосредственное участие. Мое боевое крещение и первое «ранение», после которого башка у меня потом еще долго болела. Ведь когда я прыгнул, то меня металлической обкладочкой этого сундука крепко бабахнуло…
Но до Брянска мы не дошли совсем чуть-чуть, нас почему-то отвели назад. Расположились в каком-то лесочке, но пробыли там всего день или два, и нас перевели в другой лес. Настоящий сосновый, что называется, мачтовый, совершенно шикарный и огромный по площади. И получили команду располагаться на зимние квартиры. Ох, какие мы там чудесные землянки строили. Среди нас ведь было много настоящих плотников, так они клиньями раскалывали бревно, потом топорами вытесывали плоскость, и получались такие пластины, которыми обделывали землянки изнутри. Правда из них все время текла смола, целые капли висели, и если касался их одеждой, то приклеивался. Потом приходилось бензином оттирать. В общем, в том лесу мы выстроили образцовый лагерь. Для каждого отделения, для каждого расчета построили отдельные полуземлянки размером примерно шесть на шесть метров. С бревенчатыми балками и стенами, в каждой было вырезано окошко.
Наши телефонисты тоже были мастеровые люди, так они сходили на ближайшую железнодорожную станцию Левобережную, которая была вся сожжена, притащили оттуда обгорелое железо и сделали из него три печки. Себе, т.е. в землянку телефонистов, в землянку радистов и в офицерскую землянку, где жили начальник связи и начальник разведки. Печурка стояла на четырех ножках и труба такая, которую врывали в землю, и она уже выходила наверх. Дневальные обычно ночью подтапливали ее, дремали около печки, а мы все спали на земляных нарах. Наложили на них еловых лап, а поверх шинели, плащ-палатки, так там и почивали. И в каждой батарее сделали «линейку». У нас, например, была «линейка» на два взвода и на управление дивизиона. На связь и на разведчиков. Вот тут я впервые начал раскрывать свои художественные способности, когда оформлял эту «линейку».
Что значит «линейка»?
Дорожка, тропинка. Ее засыпали желтым песком, но там же песчаная почва. Сделали на свою голову… Потом ведь командиры заставляли дневальных подметать ее, собирать веточки. А перед входом в землянку я даже сделал две клумбы. Там рос очень хороший, почти бархатный мох. Так мы его насобирали, и все землянки сверху обложили этим мохом - получились такие зеленые бархатные холмики. Вдоль этой дорожки между соснами соорудили бордюр из этого мха. А еще мне наши плотники вытесали сосновые двухсторонние доски, которые прибили гвоздями напротив янтарных сосен, и на них я писал лозунги. А краска знаете, какая была? Бензином разводили содержимое немецких ракет. Ракеты были зеленые и красные, так что и краски у меня были зеленые и красные. Какое-то вещество, которое при горении давало красный свет, а когда бензином развел, получилось темно-красная краска. И я писал ею лозунги: «Ни шагу назад!», «Вперед на запад!», и наш гвардейский лозунг - «Победа или смерть!» Писал их кисточкой на досках и ребята прибивали их на сосны. И еще что придумал. Вдоль линейки я устроил песчаные клумбочки: обложил их мхом, и на них разными лесными ягодами: красными, зелеными, волчьими, я выкладывал не только лозунги, но даже и гвардейский знак. Такой овальный, с красным знаменем, а под ним надпись - «Вперед на запад!», например. Но прошел небольшой дождичек, и мой лозунг немножко размыло. Но как! С лозунга «Вперед на запад!» смыло две буквы: П и А, и получилось – «Вперед назад!» Ну, всем же понятно, что так вышло случайно, но вот начальник связи, дурной, въедливый мужик, начал меня таскать: «Ты, почему это сделал?!» – «Я сейчас все восстановлю». – «Нет, почему именно эти буквы смыло, а не другие?! Потому что ты их нарочно не закрепил!» В общем, он меня уже чуть ли не под «штрафную» подводил… Сам он был из моряков, служил радистом на острове Русский, и вечно всех ругал: «Салага! Салажонок!» В итоге его все за глаза так и прозвали - Салага. Чуть что: «Шухер, салага идет!» Он у нас долго служил, но уже перед самым Берлином сильно разругался с командованием части, и его куда-то убрали. А на его место прислали почти старичка - лейтенант Фиалка. Пьяница! Он вечно был под градусом, поэтому и лицо у него было такое опухшее, а кожа коричневатая, в мелкую морщинку. Связью он почти не занимался, а за телефонную связь у нас отвечал командир отделения телефонистов. Сержант, не могу сейчас вспомнить его фамилию, из Днепропетровска. На гражданке он работал в телефонной сети, и великолепно знал все аппараты, вообще всю технику. Такой с юмором человек, вечно рассказывал какие-то простецкие анекдоты. Даже помню, что его семья была эвакуирована куда-то на Урал.
Ну, а за радиосвязь отвечал я, потому что командир радиоотделения не был радистом. Он осуществлял только общее руководство, а непосредственно техникой занимался я. Все мы были при деле, поэтому Фиалке нечем было заняться, и он только и делал, что выпивал. Как говорится, если можно не делать, он и не делал… (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержка из наградного листа, по которому лейтенант Фиалка Евгений Ильич 1903 г.р. был награжден медалью «За отвагу»: «… Беспредельно отдающийся выковыванию грамотных, преданных социалистической родине связистов. Неустанно работает над собой и над сколачиванием подразделения, способного в любых условиях обеспечить бесперебойную связь. По всем видам боевой подготовки рота имеет первенство, в чем прежде всего личная заслуга тов.Фиалка. Как командир роты тов.Фиалка в любых условиях дня и ночи организует бесперебойную связь своего направления. Связь боевых направлений организованная лейтенантом Фиалка работает безотказно» - прим.Н.Ч.) А фельдшером дивизиона у нас был лейтенант Сапрыкин, который до войны работал где-то в горах на Северном Кавказе. Такой же старый жулик, с такой же морщинистой кожей, и такой же пьянчуга.
Помню, уже как-то в Германии, когда после форсирования Одера образовалась небольшая передышка, и мы несколько дней стояли в каком-то населенном пункте. Половину домика заняли мы, связисты и радисты, а во второй половине расположилась санчасть. Этот самый Сапрыкин с двумя своими старшинами. Это вначале, у него были медсестры, но потом их убрали, и заменили этими медбратьями.
Почему?
Потому что среди мужского состава эти медсестры вели себя очень … в общем, соответствующим образом. И насмотревшись на их вольности, наше командование решило от них избавиться. Отправили их в соседнюю часть, но они и там себя также вели… В общем, зашел я к Сапрыкину в их половину, что-то мне нужно было, и застаю такую картину. Посереди комнаты стоит большой эмалированный тазик, а в нем спокойным пламенем горит какая-то голубоватая жидкость. А эти трое сидят рядом на стульях, и зачарованно смотрят на пламя. Сапрыкин увидел меня, знаком показал на стул, садись. Сел, а они все сидят и сидят. Наконец, огонь делается все меньше и меньше и один старшина говорит: «Может, пора?» Но Сапрыкин возразил: «Нет, еще немножко. Все, вот теперь давай!» Плащ-палаткой накрыли этот тазик, пламя погасили, и стали ждать пока жидкость остынет. Потом берут фильтр, воронку, начинают ее фильтровать, а потом пьют и меня угощают. Но я отказался, потому что и нормальную водку терпеть не мог, а уж после того как увидел, как это приготовляется... Но они попросили меня: «Только никому не говори!» Оказывается, это у них там горел немецкий синтетический бензин... Более легкая фракция сгорала, и оставалась более тяжелая, которая по составу близка к какому-то спирту. Но все равно, это пить... А находились и такие, кто этот синтетический бензин пили в чистом виде, и, конечно, травились. Даже смертельные случаи бывали. И тормозную жидкость сливали из машин и пили. Для кого-то проходило, а для кого-то и нет. И даже одеколон пили. Когда с Урала к праздникам наши земляки присылали посылки, то в каждой была четвертинка водки и флакон тройного одеколона. Конечно, водку берегли для особых случаев, но все равно быстро выпивали. Но и одеколон тоже выпивали, добавляли немного воды и выпивали.
«Белый платочек».
Да, тройной одеколон. А был у нас один ефрейтор-телефонист из Алапаевска. Причем почетный сталевар, которого еще до войны наградили орденом «Трудового Красного Знамени». Харлов что ли была его фамилия. Так вот он из горлышка этот тройной одеколон в чистом виде сразу в себя опрокидывал, и потом только глазами моргал... Помню, однажды он побежал на обрыв линии. Добежал до высотки, но только хотел соединить провода, как начался артиллерийский налет. Он там залег, но видно жевал, грыз этот песок, потому что вернулся оттуда с очень грязной физиономией. Конечно, от линии ничего не осталось, но он прибежал такой запыхавшийся, что ничего не мог объяснить: «Я вот вышел туда… мать твою так… а потом… мать твою так…» Ничего не мог объяснить кроме: «… мать твою так…» Полчаса ничего другого не мог сказать. Зато насчет выпить у него было просто луженое горло и желудок, ведь прямо чистый одеколон пил… (Вероятнее всего, здесь идет речь о телефонисте Харлове Аркадие Артемьевиче 1913 г.р., на которого на сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из трех наградных листов, по которым он был награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени и двумя орденами «Красной Звезды». Вот что в частности говорится в наградном листе на орден «Отечественной войны» 2-й степени: «Гвардии ефрейтор Харлов Аркадий Артемьевич служит в 248-м дивизионе реактивных миномётов с марта месяца 1943 года. Выполняя обязанности телефониста, проявил себя мужественным, высокодисциплиннированным воином. Отлично знает матчасть. Обеспечивал телефонную связь НП командира дивизиона с огневыми позициями батарей, а также штаба дивизиона со штабом артиллерии корпуса. Часто находясь под артогнем противника, всегда стремился к обеспечению бесперебойной связи. Особенно тов.Харлов отличился в бою в районе села Блунау. Выйдя на исправление оборванной линии, тов.Харлов наткнулся на засаду солдат противника и вступил с ними в бой. Огнем из личного оружия уничтожил четверых гитлеровцев, но и сам был ранен. Уже, будучи раненым, восстановил поврежденную линию, и только после этого отправился в санбат» - прим.Н.Ч.)
Под Брянском вы долго простояли?
Кстати, мне потом рассказывали, что после войны в этом нашем лагере брянские власти устроили музей Великой Отечественной войны. Водили людей к нашим землянкам и рассказывали, что в войну там находился лагерь брянских партизан. А какой там может быть партизанский лагерь, если это совсем близко от станции, и никакой маскировки. Баня, например, у нас была обычная, а не в землянке. Клуб, куда нас иногда водили на лекции, тоже наземный. Был еще офицерский клуб, тоже не в землянке. Офицеры там собирались и выпивали, в этом и заключался их клуб. Как-то наш командир взвода оттуда пришел: «Андреев, поди поищи мою шапку-ушанку! Я ее то ли там оставил, то ли потерял». Захожу в этот «клуб», козырнул: «Где-то тут старший лейтенант Дегтярев оставил свою шапку». И тут вдруг пьяный комбат 2-й батареи старший лейтенант Зеленков уставился на меня совершенно бухими глазами и вытаскивает пистолет: «А ты кто такой?!» Принял меня, бог знает за кого с пьяных глаз… Не знаю, чем бы это закончилось, но его другие офицеры за руки схватили, усадили: «Да что ты, успокойся!» Видимо, я ему спьяну привиделся каким-то фрицем…
Ну а мы там простояли с поздней осени 43-го по начало января 44-го. Наконец пришел приказ, и мы своим ходом пошли в Белые Берега, там погрузились в эшелоны и на Украину. Выгрузились на станции Дарница, и своим ходом по понтонному мосту переправились через Днепр. Прошли через Киев, и через Васильков добрались до Житомира. Его как раз во второй раз отбили у немцев, и хозяева дома, в котором мы остановились переночевать, с жаром нам рассказывали, что когда немцы отбили у наших город, то пели такую песенку: «Нету курки, нету яйки, до свидания хозяйки!» Видать юморные им в тот раз попались немцы.
Потом поехали через Шепетовку, и когда проезжали какой-то небольшой украинский городок, то нам сказали, что накануне там бандеровцами был ранен командующий 1-го Украинского Фронта генерал-армии Ватутин.
Приехали в городок Острог, что в Ровенской области и уже оттуда пошли в наступление. Насколько я знаю, от Острога наступали сразу три танковые армии. Слева от нас шла 1-я Танковая Армия Катукова, справа – 3-я Танковая Армия Рыбалко, а в центре наступали мы с нашим неудачником Бадановым.
Почему неудачником?
Он прославился еще во время Сталинградской битвы, когда со своим 24-м Танковым Корпусом прошел рейдом по глубоким тылам противника, и в станице Тацинской разгромил стратегический аэродром фашистов, где стояли сразу триста самолетов. За это корпусу присвоили звание 2-го Гвардейского, а сам Баданов получил орден Суворова II-й степени под номером 1. На Курской дуге мы воевали уже под его командованием, а я его помню еще по Кубинке, где формировалась наша армия. Усатый такой, невысокого роста, все время разъезжал на «виллисе». Но после этой операции в марте 44-го Жуков поснимал в нашей Армии все корпусное командование, вплоть до командиров полков. И Баданов исчез, потом у нас говорили, что его назначили командовать каким-то танковым училищем. (На самом деле генерал-лейтенанта Баданова В.М. назначили начальником управления военно-учебных заведений и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Советской Армии – прим.Н.Ч.) А уже после войны я с ним совершенно неожиданно встретился на станции Луговая, что по Савеловской дороге. Там находился офицерский поселок, а моя первая жена была дочерью генерал-майора инженерных войск Суслина, и у них там тоже была дача. И однажды, будучи там я пошел за водой и у колодца встретился с Бадановым. Он был в лыжных затрепанных синих линючих штанах, в калошах на босу ногу, и ругался с бабами. Насколько я понял, ему везли навоз или торф, а эти бабы перехватили и перекупили по пути. Подошел к нему, представился: «Товарищ генерал, я ваш бывший солдат!» Он сразу ожил, принял другой вид: «Откуда вы?» – «Из Уральского Добровольческого…» - «Да, это было боевое соединение № 1. Все просят меня написать о нем, да все никак не соберусь».
Но там ведь не Баданов был виноват, а скорее всего сам Жуков, который и спланировал эту операцию. Ведь наступление началось в марте, когда на полях лежал еще мокрый снег. Но снега был только тонкий слой, а под ним размокший жирный украинский чернозем. Только ступи, белое сразу превращается в черное… К тому же на участках наступления армий Катукова и Рыбалко оказались попутные дороги, которые хоть как-то можно было использовать для продвижения техники. А наша 4-я Танковая пошла по целине и это было ужасно… Там даже пешком идти было невозможно, у некоторых сапоги оставались в грязи. Так это когда пешочком, а когда колонна техники?! Ведь любая танковая армия, это огромный поток техники. Причем, даже не столько танков, сколько всяких артиллерийских установок: зенитная, ствольная артиллерия. А сколько там было машин, ведь вы только представьте, сколько боепитания и топлива сжирала эта армада. Шли огромные колонны машин с боеприпасами, машина за машиной, но в этой непролазной грязи они стали вязнуть…
Иногда танк подходил, помогал выдергивать, но через некоторое время машины опять вязли. Особенно в болотистых низинках. И всего этого Жуков не предвидел. Не предвидел! Пустил нас по целине и угробил целую армию. Потому что весь наш автотранспорт там застрял. Я, например, тащил на себе рацию, потому что наша машина так засела, что появилась у нас опять лишь через несколько месяцев, когда мы стояли в Каменец-Подольске. Но к тому времени бои уже закончились. В общем, все наше обеспечение завязло, только «катюши» прошли. Но они же стояли на «шевроле» у которых было по две ведущие оси. Правда, по одной они бы тоже не прошли, но кто-то, по-видимому, из командования дивизиона предложил остроумную штуку – связать восемь наших установок в своеобразный «поезд». Тросами, причем короткими, сцепили их все, и весь личный состав был нацелен на помощь первой машине. Буквально на руках ее выносили. Шли рядом с ней, тащили с собой доски, тросы, веревки, лопаты, и если только она начинала пробуксовывать, то ей сразу что-то подбрасывали под колеса, а несколько десятков человек сразу бросались ее толкать, тянуть канатами и по любому вытаскивали ее. А если начинала буксовать одна из последующих машин, то в этой сцепке ее по инерции продергивало, и ехали дальше. Вот только таким образом весь дивизион через эту грязь и прошел. Все восемь наших боевых установок, и каким-то чудом за ними прошла одна из двух наших «полуторок». Видно, на ней был очень опытный и хитрый шофер.
Короче говоря, дивизион вышел на железнодорожную линию Проскуров-Тернополь. Освободили там городок Волочиск, а непосредственно мы вышли на станцию Фредриковку. А там были сахарные заводы, так у нас все себе в машины навалили мешки с сахаром, прямо на боевые установки. И дальше мы перерезали эту дорогу, и тем самым отрезали немецкой группировке все коммуникации. Но и мы сами дальше уже не могли продвигаться, потому что и горючее и боеприпасы были на исходе. На «катюши», например, осталось только по шестнадцать снарядов на каждую машину, т.е. то, что везли на направляющих. И у танкистов то же самое. Оставалось только то, что везли сами экипажи, и больше ничего. И тут немцы остановились.
До этого мы ведь почти без боев шли. Они все отходили и отходили, предоставили нам возможность сражаться только с грязью. У фланговых армий Катукова и Рыбалко еще были какие-то бои, а мы только купались в грязи… Но как только почва стала подсыхать и дороги стали более-менее прочными, как немцы перестали отступать, и врезали нам хорошо. Встретили артиллерийским огнем и танки у них там время от времени мелькали. К тому же они стали закапывать танки и самоходки, и делать из них опорные огневые точки. А у нас каждый снаряд, каждый патрон был на счету. Помню, в одном месте нашу колонну стала обходить какая-то конная часть. Но смотрю, а лошади у них самые разномастные: белые, черные, гнедые, большие и маленькие, и совсем клячи. А, оказывается, это шла наша мотострелковая бригада, и бойцы реквизировали в окрестных деревнях весь конный состав. Но все лошади, конечно, были навьючены боеприпасами и оружием, потому что это все тащить на себе было ну никак невозможно.
 |
Гвардии сержант Андреев Л. В. |
В общем, как перешли дорогу, немцы нас остановили. Но однажды ночью получили приказ - «Оторвавшись от немцев, отойти на девять километров назад к железной дороге и совершить марш-бросок направо, в Проскуров!», так в то время назывался Хмельницкий. Но немцы видимо почувствовали, что мы отходим, и стали наугад вести по нам артиллерийский огонь. Добрались в Проскуров, а там нас немного пополнили людьми и танками, и устроили небольшое переформирование. Например, из двух потрепанных подразделений составляли одно, но полноценное. И уже после этого мы от Проскурова пошли в наступление.
Прорвали фронт, и пошли по тылам немцев в направлении на Каменец-Подольский. Захватили его, а по дороге освободили Скалат, Гусятин, Чемеровцы - такие уютные европейские, католические городки. Выстроенные из камня, но очень тесные. В некоторых городах мы попали на воскресенье, смотрим, а все население мимо нас идет в костел. Это уже апрель, тепло, так все женщины в белых платочках, а мужчины идут в черных котелках, в каких-то фраках, чуть ли не в смокингах. Посмотрели на это дело, причем службы не о победе, а обычные, и поняли, что у кого война, а у кого продолжается нормальная жизнь с сельскими праздниками и походами в церковь.
Особенно запомнился городок Скалат. Мы, разведчики и радисты вошли в город сразу за передовыми частями и на одной улочке увидели такую картину. Стоит и дымится наша «тридцатьчетверка», а метрах в ста от нее стоит, наверное «Тигр» и тоже горит. Улочки то в этом старинном городке узкие, и когда они выехали навстречу друг другу, то разминуться уже никак не могли и получилась такая своеобразная дуэль… Пошли дальше, но потом об этом эпизоде в нашей корпусной газетке «Добровольцы» было опубликовано стихотворение поэта Михаила Львова. Уже после войны он стал довольно известным поэтом, печатался в Москве, а в то время он как уфимец старался держать связь с нашим корпусом. Несколько раз во время боев приезжал к нам, и, конечно, писал разные статьи и стихи. И вот тогда в стихотворении «Полковнику Лозовскому», это начальник штаба нашего корпуса, были такие строчки:
«Полковник, помните ль Скалат?
Где «тигр» с обугленною кожей,
и танк уральский в пекле тоже,
лоб в лоб столкнулись и стоят…»,
и дальше еще какой-то куплет, что нас в бой водил такой же танковый характер. А уже после войны я это стихотворение встречал даже в «Огоньке». Но что самое удивительное, оказалось, что Лозовский жил на «Соколе» в соседнем со мной доме. Первая наша встреча произошла так. Я выходил из булочной на улице Левитана, смотрю, а впереди меня идет военный, полковник. Присмотрелся, а это Лозовский. Тогда я сзади к его уху наклонился: «Полковник, помните ль Скалат?!» Он так удивленно оглянулся на меня и продолжил: «Где «тигр» с обугленною кожей и танк уральский в пекле тоже?» Тут уже я закончил: «Да, лоб в лоб столкнулись и стоят». Получился такой своеобразный пароль – отзыв. Разговорились, он, конечно, начал расспрашивать: «Кто вы, что вы…» Сам он служил в Генштабе в каком-то отделе, который насколько я понял, занимался тем, что разыскивал ветеранов, которым не успели вручить их фронтовые награды. Мы потом с ним много раз встречались, а когда он умер, был на его похоронах. Там же, кстати, был и Михаил Львов, и его потрясло, как мы, ветераны корпуса, на этой встрече декламировали его стихотворение.
Каменец-Подольский взяли сходу, но остались там почти без боеприпасов. А улицы этого старинного городка оказались полностью забиты транспортом. И нашим, и брошенным немецким, поэтому около двух тысяч автомашин стояли в несколько рядов: и легковые, и грузовые, и бронетранспортеры, какие хочешь. А я туда пришел со своей рацией, но остался без аккумулятора, потому что основной вконец разрядился, а запасной остался в машине, которая заблудилась неизвестно где. Но еще на подходе к Каменец-Подольску случился такой казус.
Когда наша связная машина потерялась неизвестно где, нам выделили открытый ЗИС, мы на нем какое-то время ехали, но в Чемеровцах закончился бензин. Ребята стали махать, чтобы хоть кто-то остановился и попросить у них хоть пару литров бензина, и не знали, что буквально метрах в ста от нас встала штабная машина, у которой тоже закончился бензин. А потом вдруг сзади стали громыхать разрывы. Все ближе и ближе и при одном из разрывов осколком убило водителя нашей машины – Бархатова. Оказалось, что вслед за нами шла передовая колонна немцев, которая стремилась вырваться из окружения из-под Винницы, и впереди этой колонны шел «тигр», который и обстреливал нас. А наш старший лейтенант уже успел лечь поспать в одной хате, и когда раздалось несколько взрывов в деревне, один из телефонистов кинулся его будить: «Товарищ старший лейтенант, сзади стреляют!» – «Не впадайте в панику!», и повернулся на другой бок, дальше спать. – «Товарищ старший лейтенант, стрельба все ближе и ближе!» – «Отстаньте, Путков, что вы панику наводите?!» И только когда ему сказали, что убило Бархатова (по данным ОБД-Мемориал шофер 248-го ОГМД гвардии рядовой Бархатов Петр Игнатьевич 1911 г.р. погиб в бою в местечке Чемеровцы 25.03.1944 года – прим.Н.Ч.) Только тут он сразу вскочил: «Что, что?!» Собрались у машины и решили, что для начала нужно добыть немного бензина, а дальше хоть и без шофера, но как-нибудь и сами поедем. И пока ждали какой-нибудь машины, а там вокруг нас стояли такие длинные одноэтажные жилые бараки, смотрим, а между бараков появляется вначале пушка с набалдашником, а потом и гусеница и черный крест с белой обводкой на башне - «Тигр», с которого по нам десантники шарахали автоматной очередью. Старший лейтенант почему-то сорвал с головы шапку, выхватил пистолет и с криком «За мной!» побежал за угол барака в сторону леса. Все связисты бросились за ним и мы с Иваном Ивановичем сначала тоже кинулись вместе со всеми. Но потом я словно опомнился и говорю напарнику: «Иван Иванович, минутку!» Прикрываясь машиной, прыгнул в кузов, достал рацию, вторую упаковку питания, и побежали за всеми. А немцы пальнули и проехали, а последующие нас даже и не видели, поэтому и не стреляли. И получилось так, что немцы шли по этой дороге на Каменец-Подольский, а мы шли параллельно ей, в двух-трех километрах. В одной деревне остановились немножко отдохнуть, и к нам вышло какое-то воинское подразделение, в меховых папахах, некоторые с красными ленточками, представились партизанами. И когда они обратились к нам с предложением напасть на колонну немцев, которая остановилась на ночлег в соседней деревне: «Давайте скооперируемся и вместе нападем на них и возьмем богатые трофеи! У них там и то, и се, и ром есть», мы поняли, что это никакие не партизаны, а бандеровцы. Мы отказались, и даже не остались там ночевать, а вдруг бы они решили поживиться трофеями, не у немцев, а у нас? И сразу пошли дальше. Вот поэтому я пришел в Каменец-Подольский с неработающей радиостанцией. Старый аккумулятор разрядился, а нового не было.
Тогда я стал искать, чем бы его заменить, и в одной немецкой машине нашел аккумулятор. Он, правда, не подходил по размеру, но главное, что годился по напряжению. А пока я искал аккумулятор, то в одной машине, которую потом забрали под штаб дивизиона, нашел что-то вроде походной столярки с шикарным набором инструментов. У меня как любителя столярного искусства просто сердце кровью обливалось, когда я на них смотрел. Сундук открываешь, а там целый набор стамесок. Каких только не было: и фигурных, и таких, и сяких, и узких и широких. Чего там только не было, а какие рубанки… С ручками из красного дерева! В общем, я не удержался, пару инструментов все-таки себе вытащил и ими из подручных материалов и фанеры, сделал три ящичка. Потом выбрал шесть банок из этого немецкого аккумулятора, попарно их туда вставил, и у меня получился аккумулятор, и моя рация заработала. И оказалось, что в этом окруженном Каменец-Подольске моя рация оказалась единственной в рабочем состоянии. Дважды я связывал с вышестоящим штабом полковника из штаба нашего корпуса, и именно за это я потом получил свою первую награду. Причем, меня наш взводный представил к медали «За отвагу», но вручили орден «Красной Звезды». Для меня это было… Но мне потом начальник штаба рассказал, что наш «Салага» даже обиделся из-за этого: «Он же ничего не сделал, а ему орден... (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержка из наградного листа, по которому Лев Васильевич был награжден орденом «Красной Звезды»: «Являясь старшим радистом взвода связи, тов.Андреев очень добросовестно относится к своим обязанностям, в результате чего находящаяся в его введении радиоаппаратура, всегда действует безотказно. … Гвардии ефрейтор Андреев приложил все свои знания и силы для обеспечения радиосвязью боевых порядков дивизиона со штабом корпуса, в тот момент, когда других средств связи не было» - прим.Н.Ч.) Но так оценил мои действия капитан Зубрицкий – начальник штаба нашего дивизиона. Он, кстати, находился в штабной машине, и когда сзади началась стрельба, они быстро собрали все секретные документы и знамя. Выходило их четверо: шофер, делопроизводитель - сержант Килесо, кто-то еще и начальник штаба. Так потом Килесо рассказал, что знамя вынес он, и только уже на подходе к Каменец-Подольску, начальник штаба забрал у него знамя, сказал, что сам понесет, потому что не может доверить ему такую важную вещь. И после этого изображал из себя героя, который спас знамя дивизиона…
А кто вас окружил в Каменец-Подольске?
Так нас же обложила та самая колонна, отступавшая из Винницы. По шоссе от старого города на запад шла сплошная колонна немецкой техники: и вооружение, и артиллерия, и очень много машин со скарбом, а впереди шел тот самый «тигр». Но когда проходили мимо города, то он вышел из колонны в сторону и навел на город свою пушку. И пока вся колонна проходила за его спиной, то он лишь время от времени пускал снаряд. А в городе самыми высокими точками были каланча и церковная колокольня, и на одной из этих башен собрались наблюдатели от разных частей. Так этот «тигр» одним снарядом разнес вышку этой башни, но, слава богу, что в этот момент там никого не оказалось. Именно тогда все наблюдатели спустились оттуда вниз, чтобы немного отдохнуть и поесть. После этого все перебрались на соседнюю башню и продолжали наблюдать уже оттуда.
А «турецкий мост» прикрыли одной нашей «катюшей». Но немцы по ночам пытались прорваться не по нему, а прямо через речку Смотрич, что там протекает. Небольшая такая речушка, которую в некоторых местах можно было перейти вброд. Поэтому по ночам обязательно выставлялись посты, и довольно часто возникали перестрелки с немцами.
Но в Каменец-Подольском была и другая опасность. В этом старинном городке оказывается, с давних времен оставались катакомбы, и в них тоже оставались какие-то немцы, которые не успели уйти. По ночам они тоже выходили и пытались уйти из города, но часто нарывались на патрули и вспыхивали ожесточенные перестрелки. Вот так мы некоторое время простояли там в обороне, но вскоре подошли основные силы и нас деблокировали. После этого нас развернули на север, на Тернополь, и уже оттуда пошли участвовать в Львовско-Сандомирской операции. Но по дороге в Тернополь со мной произошел один трагикомический случай.
Когда покидали Каменец-Подольск, наш дивизион был неузнаваем - шло пятьдесят машин! Набрали их из числа брошенных на улицах немецких машин, и каждый, кто умел хоть немножко водить, сел за руль. Например, для нашего взвода мы выбрали грузовичок «форд», произведенный в Германии. В общем, двинулись такой большой колонной, но постепенно одна за другой машины стали отпадать. Потому что люди умели только водить, а ухаживать за техникой не умели. Пока едет, хорошо, но как только заглохла, ее сразу бросали. В конце концов, колонна пришла в норму, правда, сильно растянулась. И вот в одном месте, когда стемнело, мы решили, что надо остановиться на обочине и до рассвета нормально поспать. А это был конец апреля, уже достаточно тепло, предмайская погода, и люди стали располагаться кто где. Кто прямо под машиной, кто на обочине кювета, а я смотрю в темноте, и вижу, что кто-то уже прилег, и рядом приспособился. Плащ-палатку под себя, сверху шинель. Все как обычно, но ночью мне стало попахивать чем-то вонючим, такой гнилой сладковатый запах. А утром, когда стало светать, открываю глаза, и первое что увидел - меньше чем в метре от себя оскаленное лицо мертвеца и выпученные стеклянные глаза… Конечно, я сразу, как пружина, вскочил… Оказалось, что в темноте принял убитого немца за кого-то из своих, и лег с ним рядом. Хорошо хоть не притулился, а просто рядом приспособился. Вот так я тогда переночевал…
А у Тернополя мы получили короткую передышку. Стояли там в лесочке на бугорке у селе Дубовце, либо Дыбовце, у меня даже рисунок сохранился оттуда. Большое такое украинское село, в котором было два храма: костел и православная церковь. Помню, мельница стояла с плотиной, в запруде которой мы купались. И туда к нам с лекциями приезжал из политотдела армии Яков Лазаревич Лившиц, который после войны стал организатором нашего Совета ветеранов и его ответственным секретарем. Кстати, отец Александра Лившица, который при Ельцине был министром финансов.
Что брали из трофеев в Каменец-Подольске?
В основном, пиво. Там стоял пивоваренный завод, так все туда постоянно ездили, поэтому в каждом взводе, даже в каждом отделении была своя канистра пива. Были еще какие-то продовольственные склады, где мы набрали не столько продукты, сколько сахар. Ведь наши тылы в этой грязи отстали, поэтому мы остались без всякого обеспечения. Так дошло до того, что над нами кружили наши «дугласы», и сбрасывали нам мешки из рогожи, а в них такие черные армейские сухари и большие ломти хорошего сала, покрытого толстым слоем соли. Кружили над нами на небольшой высоте, и мы прямо видели, как в открытый боковой люк выталкивают по два мешка с сухарями. И вот они летят, бахаются об землю, мешок от натуги лопается по всем швам и сухари разлетаются во все стороны. А мы потом ходили, и эти сухарики собирали, но есть их было почти невозможно. Потому что они и сами по себе были очень жесткие, чтобы их разгрызть, нужно было обязательно отмочить в воде. Но как раз с водой там было очень напряженно. В деревнях все колодцы были вычерпаны подчистую. Иногда ходили туда по несколько человек с ведрами, котелками, на телефонном проводе опускали туда, а там песчаное дно, ничего нет… Но постепенно вода начинает собираться, и все ждут, пока хоть немного заблестит. Ждали-ждали, наконец, кто-то не выдерживал: «Пора!» Ну, вытащишь полкотелка такой жижи с песком, она отстоится, и немного чистой воды сверху сливаешь. Но разве этого хватит?! Поэтому чаще всего просто топили грязный снег. Но ведь это соленое сало вызывало сильную жажду и сколько нужно снега натопить? Да, и сахар, который мы набрали еще в Фредриковке, тоже вызывал жажду. Через какое-то время на него даже смотреть уже не могли, но ели, потому что ничего другого почти не было. Причем ели так. Садились вдвоем, и начинали столовыми ложками понемножку есть из полного котелка. Если было чем запивать, запивали, но чаще просто так. Помню один интеллигентный солдат из взвода боепитания, Жора Абрамович, как-то мечтательно сказал, о чем он мечтает сейчас больше всего: «Выпить стакан горячего чая с ма-а-а-ленькой ложечкой сахара…»
И пару раз немецкие транспортные самолеты по ошибке сбрасывали нам мешки с продовольствием. Видно, это наши трофейные машины вводили их в заблуждение. Они ходили выше, чем наши «дугласы», но сбрасывали мешки не просто так, а на небольших парашютиках. Такие вертикальные контейнеры, снизу пружинистая подушка, поэтому они сначала подпрыгивали, а потом ложились набок. В этих контейнерах был ром, здоровые плитки шоколада и завернутые в пачки галеты. Вот только после этих немецких «подарков» мы немножко ожили. Правда, кое-кто больше налегал на ром.
Во время этого наступления вши не донимали?
Вы просто читаете мои мысли. Вши все время появлялись, даже в брянском лесу, но там их легко выводили. Или в специальных бочках на костре кипятили белье или же просто снимешь белье, вывернешь и перед печкой подержишь, пока они засохнут и отвалятся. Но чтобы они появились нужно всего ничего. Помню, когда вышли на исходные перед наступлением на Львов, то мы ненадолго заняли окопы пехоты и все, сразу нахватались вшей. У пехотинцев же их было очень много. Но это бедствие обычно характерное для позиционных боев. Когда люди сидят на одном месте, когда идет позиционная война. А вот в подвижной войне все совсем по-другому. Например, летом при любой возможности стирались. Чуть только остановка, хоть на полдня, сразу сдираешь с себя гимнастерку, белье, и тут же в ручейке стираешь. Простирнешь, на травке разложишь. Если не успеет так высохнуть, значит, досыхало на тебе, но главное, это было уже чистое белье. А в Германии вообще легко решали эту проблему. Там, где останавливались, в брошенных домах и квартирах снимали свое грязное, вшивое белье, вешали им в гардероб, а оттуда брали чистое. Причем, старались найти шелковое белье, потому что в шелке вши не заводятся. Конечно, это некрасиво, но немцам пришлось делиться с нами, ничего не поделаешь. Пришлось потерпеть, но мы терпели и похуже.
Чем запомнилось наступление на Львов?
Тем, что на наблюдательном пункте со мной произошел один интересный эпизод. Вообще-то говоря, Львовско-Сандомирская операция протекала более-менее нормально. В том смысле, что и воевать уже научились, и к тому же нам назначили нового командующего Фронтом - маршала Конева. Я считаю, что по сравнению с Жуковым он более бережно относился к войскам. У него не было такого открытого листа на резервы, как у Жукова. Ведь, Жуков что бы ни просил, ему сразу выделяли. А когда Конев просил, ему лимит какой-то, и в том числе и поэтому он и берег живую силу. Был, например, такой момент. Где-то восточнее Львова наша 4-я Танковая Армия наткнулась на очень сильно укрепленный район. Немножко попробовали туда-сюда, не можем прорвать. А правее в обход Львова шла 3-я Танковая Армия Рыбалко. Так что сделал Конев? Он не стал ломиться напролом, как в 45-м у Берлина ломился на укрепленные Зееловские высоты Жуков. Он просто пустил нашу армию по пятам армии Рыбалко, и мы пошли по этому коридору. Но он был достаточно узким, поэтому немцы могли нас обстреливать с флангов.
И в одном месте немцы подожгли нашу «катюшу», которая шла последней. Но плохо было то, что дорога там была как аллея, с двух сторон росли высокие тополя, и с нее никуда нельзя было съехать. Можно было только попятиться, кое-как развернуться на месте, но нас же шла колонна, и там особо никуда не денешься. И вот в таком месте они хлопнули по последней «катюше», которая шла как раз перед машиной нашего взвода связи. На «катюше» загорелся сначала брезент, но потом стали взрываться ящики с патронами, расчету ведь полагается иметь несколько ящиков патронов и гранат. Увидев это, задние машины стали разворачиваться и уходить. А у нас этими патронами, которые рвались и летели в нашу сторону, пробило брезент, несколько пуль влетело даже в ящик с аккумулятором и радиостанцией, но главное ими изрешетило весь двигатель. Штуки четыре снарядов упали с направляющих, но не разорвались, потому что предохранительные колпачки не были сняты, а остальные просто выгорели. Потом, когда мы ехали обратно, эта сгоревшая «катюша» еще стояла на месте, и через сквозные дырки можно было смотреть в небо… Тут, конечно, все кинулись врассыпную. Мы с Кузняевым вначале тоже лихо нырнули в кювет. Под прицельным огнем вместе со всеми на четвереньках стали уходить, но тут я опомнился: «Иван Иванович, что же мы без рации?! Мы же без нее из себя ничего не представляем, давай, вернемся!» Под треск рвущихся патронов я выскочил к нашей машине, схватил одну упаковку, вторую, передал напарнику и уже с рацией побежали за своими.
А вместо этой машины нашему взводу потом выделили старенький ЗИС с деревянным кузовом топорной работы и мы остаток операции проездили на нем. А так вообще, на чем мы только не ездили. Если приходилось поддерживать танковую бригаду, то нас просто сажали за башню танка командира батальона. Но летом там было плохо, потому что броня танка очень нагревалась. Ее хоть и накрывали какими-то матами, но все равно жарило будь здоров. Зато в холодное время, там было очень даже хорошо, потому что маты были нагреты. Но это я отвлекся, а сам эпизод был такой.
Еще в самом начале наступления, когда линия фронта еще была стабильной, нас отправили на передовую, чтобы непосредственно оттуда мы корректировали огонь дивизиона. Как раз там, в окопах сразу набрались вшей, но дело не в этом. Расположились на наблюдательном пункте, разведчики установили стереотрубу, и помню, что впереди нас оказалась какая-то деревенька то ли с полупольским, то ли с полуукраинским названием. А нас было пятеро: три разведчика и нас, два радиста, мы так всегда обычно и ходили. И разведчики ушли вперед, чтобы непосредственно пообщаться с пехотными командирами, и узнать по каким целям нужно вести огонь. Но на прощание они мне сказали: «Лев, мы тебе оставляем стереотрубу, так что ты посматривай в нее!» И когда они ушли, я спокойненько себе посматривал в стереотрубу, тем более мне всегда это было очень интересно. Бывало, смотришь, немец бежит, и первый инстинктивный порыв, посмотреть мимо трубы, но там никаких немцев нет, ведь у стереотрубы 12-кратное увеличение, и он был где-то за полтора километра. В общем, досидели мы до того момента, когда с немецкой стороны дала залп батарея шестиствольных минометов. Но не по переднему краю, где мы находились, а немножко в глубину и чуть левее. Но вообще я вам скажу, что это очень пренеприятное ощущение, когда находишься под огнем шестиствольных минометов. Лично у меня, например, в момент пуска ракет, а его было слышно даже на нашей стороне, у меня было такое ощущение, что какой-то динозавр в овраге нажрался чего-то и рыгает… А потом над нашей головой воют эти мины, и если ты находишься в зоне поражения, то они начинают рваться и слева, и справа, а между разрывами ты еще слышишь хоровой вой подходящих новых мин, словно рой пчел налетел... И если ты в окопе, то вжимаешься ко дну, но если оказался на открытом месте, то тут уже чуть ли не носом землю роешь, лишь бы поглубже зарыться… Но как раз когда немцы дали залп, я примерно туда и смотрел, и увидел, что из-за этой деревни, примерно с окраины, поднялся дым как во время залпа. Я это дело усек и сразу дал радиограмму моему напарнику в штабе дивизиона.
Открытым текстом?
В таких случаях просто некогда было шифровать, поэтому почти открытым текстом сообщил: «Бьет батарея шестиствольных минометов! Она находится на южной окраине деревни, позади отдельных домиков. Посмотрите по карте!» Сообщение приняли, а дальше молчание. Ждем, ждем – ничего! Опять связываюсь: «Как там дело?» - «Ждите, мы сообщили!» Понятное дело, что начальник штаба позвонил в штаб артиллерии корпуса просить разрешение открыть огонь, а там как водится волокита. В общем, прошло много времени, и вдруг немцы дали залп. Навел туда стереотрубу, смотрю, и уже точно вижу, что оттуда стреляют. Даже видел следы ракет, как они вылетают, дым. Снова даю сообщение: «Немецкая батарея дает второй залп!», и уже не выдерживаю, даю кодированные матерные слова. Тот в ответ: «Что ты на меня орешь?!» Короче говоря, после этого через некоторое время, опять связываюсь: «Ну, как?» - «Сейчас будет дан один пристрелочный снаряд, а потом по результатам. Наблюдайте, один снаряд пошел!» А залп «катюши» ложится по эллипсу, причем этот эллипс в зависимости от дальности расширяется по ширине и сжимается в глубину. А если стрелять ближе, то это уже скорее круг, а если еще ближе, то это уже эллипс, вытянутый в глубину. В общем, чем на большее расстояние ведется стрельба, тем больше рассеивание. Причем, в глубину рассеивание может быть очень большим. Наконец я увидел разрыв этого пристрелочного снаряда. Он не попал в саму батарею, но упал достаточно близко и немцы сразу всполошились. Смотрю, там забегали фигурки, стали вытаскивать свои минометы, и вижу, что начали появляться тягачи-бронетранспортеры, к которым стали цеплять минометы. Понимаю, что уже каждая секунда на счету, поэтому прямо кричу по рации: «Снаряд лег хорошо! Но надо немедленно давать залп, а то батарея уйдет!» Слышу, там мое сообщение передали, наконец, мне говорят: «Наблюдайте, снаряды пошли!» И мы даже немного слышали раскат нашего батарейного залпа. Били четыре установки, а это значит – шестьдесят четыре 130-мм снаряда, каждый из которых полтора метра высотой. Я припал к стереотрубе и вижу, что немцы уже подцепили все минометы и начинают выстраиваться в колонну. Это их и сгубило. Если бы они удирали поодиночке, то наш залп только частично кого-то бы задел. А так они стали с немецким порядком выстраиваться в колонну, и тут их и накрыло... Вся батарея была уничтожена вместе с бронетранспортерами. Когда через день или два мы пошли в наступление и проходили через немецкие позиции, то видели результаты нашего залпа. Для нас это было очень приятное зрелище. Правда, все трупы они успели убрать, но искореженная, обожженная, разбитая техника вся осталась на месте.
Потом вернулись наши разведчики во главе с помкомвзвода разведки старшим сержантом Костей Варжеиновым. Это был грамотный человек, который на гражданке работал инженером на авиационном заводе. Вообще в наш Уральский Добровольческий Корпус старались брать только лучших из лучших. Я потом уже где-то читал, что к нам отбирали лишь одного из двенадцати желающих. Понятно, что предпочтение отдавалось членам партии и ВЛКСМ, но чтобы брали инженеров с заводов, это все-таки перебор. Но у нас в разведке оказались сразу два инженера: сам командир и Костя, который собственно и командовал взводом, потому что взводный, это был просто шапка, представительная верхушка. А обычно командовал Костя.
В общем, пришли они, и я Косте докладываю: «Засек батарейку, которая давала огонь. И пока они собирались удрать, в это время их и накрыли». А Костя был очень возбужден, потому что только с нейтральной полосы. Уже потом они рассказывали, как ходили на нейтральную полосу, но это все был пустой форс. Артиллеристам на нейтральной полосе делать нечего, и я им это доказал. Для нас главное - это цели, а чтобы их обнаружить, нужно не ползать где-то, а постоянно наблюдать с НП. А с ним был сержант Рыбалко - красавец мужчина, высокий, но страшно честолюбивый. И я знал о том, что он просто грезит об ордене «Славы». Но ведь этот орден очень капризный. Во-первых, вручали его только солдатам. А во-вторых, в его статуте было десять пунктов, которые были рассчитаны на разные рода войск. Например, нужно было вынести с поля боя раненого офицера и тем самым спасти ему жизнь. Или сбить из личного оружия самолет противника. А для нашего брата – «находясь на наблюдательном пункте, обнаружил батарею противника, и по этим данным батарея была уничтожена». И когда я о наградах даже и не мечтал, Рыбалко уже для себя решил, что самый простой для него способ заслужить орден «Славы», это сбить самолет противника из личного оружия. Поэтому когда налетала немецкая авиация, он выбирался на какое-то возвышенное место, то ли на бруствер вылезал, то ли на бугорочек, и шпарил из своего ППШ по самолетам. Но я его как-то высмеял: «Роман, если даже целая очередь из твоего автомата попадет в самолет, то все пули от него отлетят, ведь у него убойная сила всего на 250 метров». Он внял моим доводам, и вскоре у него кроме автомата появилась в запасе немецкая трофейная винтовка и к ней целый мешочек бронебойно-зажигательных патронов. У них головки были выкрашены в красный цвет с черной полоской. И при налетах он уже стрелял не очередями, а отдельными выстрелами. А выстрел довольно громкий, и когда при бомбежке все хотят спрятаться, ждут, дай бог не в меня, а он под боком, вдруг, хлоп, хлоп. Его, конечно, все матом кроют: «И так все нервы напряжены, так еще ты тут со своей дуростью!» Он подальше отойдет, опять палит, но так он самолета и не сбил. И когда после Львовской операции меня представили к ордену «Славы», то я заметил, что он в какой-то степени мне завидует. Но сказал ему так: «Не надо было вам ходить на нейтральную полосу. Остался бы там, накрыл бы батарею шестиствольных минометов, вот тебе и «слава». (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержка из наградного листа, по которому Лев Васильевич был награжден орденом «Славы» 3-й степени: «… Начиная с 14-го июля 1944 года, т.е. с момента прорыва обороны противника и по настоящий день, гвардии ефрейтор Андреев обеспечивал бесперебойной связью командование дивизиона с вышестоящим командованием, с НП и огневыми позициями. Особенно следует отметить его заслугу в боях в районе сел: Носовце (14.07), Словита (22.07), Печеня (23.07) и Подсолнув (25.07), когда он, находясь на НП вместе с разведчиками, своевременно передавал координаты скоплений пехоты и танков противника, которые наш дивизион накрывал своим сокрушающим огнем» - прим.Н.Ч.) Но Рыбалко, кстати, свой орден «Славы» потом все-таки получил. Правда, за что, не знаю. (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из наградных листов, по которым Рыбалко Роман Сергеевич 1918 г.р. был награжден орденами «Отечественной войны» 1-й степени, «Красной Звезды», «Славы» 3-й степени и медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги». Вот что в частности говорится в наградном листе, по которому он был награжден орденом «Славы»: «Командир отделения разведки гвардии сержант Рыбалко Р.С. к своим обязанностям всегда относится добросовестно. В боях показал себя отважным и смелым воином. Например, в бою 15.01.1945 он пробрался в село Холупки, и обнаружив там колонну противника, передал ее координаты. В результате залпов дивизиона было уничтожено до двухсот немцев и пятнадцать бронеединиц.
21.01.1945 в боях на реке Одер тов.Рыбалко переправился через реку и оттуда корректировал огонь дивизиона. В результате чего было уничтожено до 150 гитлеровцев и тем самым оказал существенную помощь передовым частям в форсировании реки» - прим.Н.Ч.) А вот у Варжеинова помимо орденов «Отечественной войны» и «Красной Звезды» было сразу два ордена «Славы». Помню, мы еще подшучивали над ним: «Эх, Костя, рано война закончилась. Ты так и не успел получить первую степень, а был бы полный кавалер!» (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержка из наградного листа, по которому Варжеинов Константин Николаевич 1919 г.р. был награжден орденом «Славы» 3-й степени: «1-го апреля 1944 года при обороне города Каменец-Подольский, тов.Варжеинов получил задание разведать передний край противника и связаться с нашими передовами частями в районе местечка Должок. Выполнив задание и возвращаясь обратно вместе с гв.сержантом Рыбалко они заметили подбитый танк без экипажа. Проявив инициативу, они забрались в танк и огнем из пулемета подавили пять огневых точек противника, и уничтожили более двадцати гитлеровцев.
В дальнейших боях в районе Доброполье, 15.04.44 г. в лесу западнее села Осовце, в условиях плохой видимости первым обнаружил скопление 18 танков противника и идущих за ним автоматчиков. Благодаря своевременному сообщению цель была накрыта огнем, тем самым была пресечена попытка гитлеровцев контратаковать» - прим.Н.Ч.) Но это мы немного отвлеклись.
Как я уже говорил, Львов мы обошли севернее, но знаю, что один танк, то ли из свердловской, то ли из челябинской танковой бригады, все-таки ворвался в город, и погонял по этим средневековым улицам, пострелял, в общем, навел там шороху и паники. Главное, что Львов при освобождении не очень пострадал. Ведь это замечательно красивый, очень интересный в плане архитектуры город. Но за эти бои наш Корпус получил почетное наименование «Львовский».
А после Львова пошли на запад, и вышли в предгорья Карпат к польскому городку Санок, что стоит на реке Сан. Немцы отступали, но постоянно контратаковали-контратаковали, все пытались вырваться из наших клещей. И где они только не пытались выйти, а мы уже тут как тут. Встречали их как положено, и опять бои, бои, бои. Поэтому мы там продвигались вперед, словно клевками такими. Заходим, захватываем, на марше обходим и опять их встречаем. И вот в районе этого городка Санок, перед нами оказалось село Чайли.
И там нас послали найти командный пункт командира 29-й Мотострелковой Бригады из нашего корпуса полковника Ефимова, который уже тогда был Героем Советского Союза. А войну он, единственным во всем корпусе, закончил дважды Героем. Пошли, а там ситуация такая. Пустая деревенька, все жители которой во время боев разбежались или ушли. За ее окраиной большое поле, в конце него речка, а за ней на высоком берегу село Чайли, в котором и засели немцы. А поперек этого поля проходила насыпь узкоколейной железной дороги. И как раз вдоль этой насыпи находились передовые позиции нашей мотострелковой бригады. Нашли КП, и Ефимов нам приказал: «Пока располагайтесь на окраине деревни, держите связь. А как понадобитесь, пришлю за вами ординарца».
Расположились там: вырыли окопчик, развернули рацию, установили связь. Из метровых дров даже настелили над окопчиком настил, земли набросали, оставили только отверстие, через которое туда залезать и чтобы вытащить антенну. Вдвоем сидим с Иваном Ивановичем, скучаем. Пока нечего делать, решили поесть. Достали американскую тушенку. Она была в таких красивых, золотистых банках, а внутри комок свиного тушеного фарша в зернистом сале. Фарш съедали всегда, он был очень вкусным, а вот сало с черными сухарями же есть не будешь. Его нужно было есть с чем-то более подходящим, так оно не шло. Например, если удавалось раздобыть картошки, то отваривали ее и ели с этим салом. А прямо над нашим окопом яблоня, кругом яблоневый сад, но яблоки еще зеленые, ими не попитаешься и я ему говорю: «Иван Иванович, видимо придется, есть так». Но он не согласился: «Сейчас найдем с чем», и побежал в этот домик, за которым мы устроились. Возвращается: «Лев, в этой хате есть мука, есть соль, есть колодец». Тут меня озарило: «Иван Иванович, есть идея! Я сейчас сделаю пирожки с мясом». Представляете?! И действительно, сделали из муки и воды тесто, и разожгли за хатой костерок, но такой, чтобы немцы нас не обнаружили. А у нас были немецкие алюминиевые котелки с крышками. Так мы одну крышку положили на угли, растопили в ней сало из американской тушенки. А из теста наваляли лепешечки, как мамаша дома делала, разложили в них фарш, обжарили в кипящем сале, и у нас получилось четыре или пять пирожков. Немножко дали им остыть, и сразу слопали.
Только поели, а тут по нашей окраине артналет, и мы, побросав все, едва успели прыгнуть в свой окопчик. Переждали налет, вылезли, смотрим, а нас от осколков спас настил, который мы сделали. Но осколками повредило антенну. А тогда ведь от антенны очень сильно зависело качество связи. Она была в виде провода, который мы набрасывали на дерево или дом, или просто ставили шест. Потому что простые телескопические антенны со звездочкой наверху, это связь всего на сто метров, а дальше уже мешали помехи. А когда большая направленная антенна, которую забрасывали на дерево в направление нашей основной радиостанции, то через нее можно было держать связь со штабом дивизиона. Это шесть-восемь километров, дальше мы и не отходили. Но на восемь километров связь была только в дневное время. А в ночное время всякая радиосвязь прекращалась, потому что в атмосфере есть такой магнитный слой, который отражает радиоволны. Днем он поднимается выше, а ночью опускается ниже, поэтому волны отражаются вниз и на большое расстояние не уходят. Поэтому когда ночью включал рацию, то в эфире был сплошной хор, как улей. В конце концов, услышишь своих, сразу передаешь: «Прерываю радиосвязь до пяти утра!» В окопчике поспишь, а в пять утра выходишь на связь. Конечно, это было нарушение, но другого выхода просто не было. Такие рации в то время были. Это не то, что сейчас телефон в кармане. Из Торжка позвонил сыну, а он мне отвечает хоть откуда. А тогда техника была такая, что вы хотите, ламповые рации.
А немецкие не пытались использовать?
Может, и попробовали бы, но они нам попадались только изувеченные. Единственное, брал их железный ящик с запорами и ручками, потому что в нем было удобно держать наш подсобный инструмент. А вот телефонные аппараты использовали, и очень много. Например, наше отделение телефонистов работало только на немецких аппаратах, а наши возили про запас в деревянных ящиках. Немецкие были из коричневой пластмассы, такие хорошие коробочки, а главное, гораздо более качественные, чем наши. У нас отделением телефонистов командовал сержант Хильшлейн, днепропетровец, пожилой уже семейный человек, который еще на гражданке работал телефонным мастером. Он просто досконально знал всю телефонную технику, мог и разобрать и собрать, поэтому у него вся техника всегда была в ажуре. (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из наградных листов, по которым Хильшлейн Федор Афанасьевич 1906 г.р. был награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, двумя орденами «Красной Звезды» и медалью «За боевые заслуги». Вот что в частности говорится в наградном листе, по которому он был награжден медалью «За боевые заслуги»: «Гвардии сержант Хильшлейн служит в 248-м ОГМД с марта 1943 года. За время службы в дивизионе проявил себя мужественным, храбрым и высокодисциплиннированным воином. Выполняя обязанности командира отделения телефонистов обеспечивает связь НП командира дивизиона с ОП батарей, а также между штабом дивизиона и штабом артиллерии корпуса. Даже находясь под сильным огнем противника всегда стремится обеспечить бесперебойную связь. Под его руководством телефонная линия всегда быстро исправляется при обрывах. Особенно тов.Хильшлейн отличился в бою при форсировании канала Тельтов. Под сильным огнем противника, раньше указанного срока, была проложена телефонная связь. Линия подвергалась частым обрывам, но благодаря успешному руководству сержанта Хильшлейна, порывы быстро устранялись, что давало возможность обрушить залп на контратакующего противника. Лично устранил 23 порыва за один день. Являясь парторгом подразделения, ведет большую агитационную работу, воспитывая в подчиненных чувство ненависти к врагу – прим.Н.Ч.) А нас обучали только, как передавать и как пользоваться. Но вот отремонтировать в случае чего, мы не могли. Умели только самые простейшие операции, лампочку там сменить, или поменять батареи, аккумуляторы.
А ленд-лизовская техника была?
Считайте, весь автотранспорт был американским. Великолепные грузовики: «студебеккеры», «доджи», «шевроле», «форды», а вот насчет радиостанций даже не знаю. Крупные может, где-то и были, но те переносные, на которых мы работали, были только наши. РБ – «радиостанция батальонная», которую носили на закорках. А были еще старые рации 5АК – «автомобильная коротковолновая» и РСБ – «радиостанция среднего бомбардировщика». У нас и в дивизионе и в штабе корпуса тоже были такие переносные рации. При штабе было управление дивизиона, два взвода. Взвод разведки и взвод связи, в котором было два отделения – радисты и телефонисты. И был взвод разведки – отделение разведчиков наблюдателей и отделение разведчиков-вычислителей. Это для трусливых разведчиков, которые боялись ходить на НП, а вроде должны были вычислять координаты целей по нашим данным. Но на самом деле все вычисления проводили комбаты, а так называемые разведчики-вычислители просто несли какую-то службу: караульную, или как квартирьеры. И это отделение возглавлял инженер с авиационного завода Фишкин. Уже немолодой человек, который все время нудил: «Ребята, зачем нам куда-то ходить?!» Ему Костя так прямо и сказал: «Сиди там, чем ныть все время!» Хотя в чем-то он был и прав, потому что зачем, спрашивается, нужно было идти на нейтральную зону, если с нее ничего не увидеть? И на Сандомирском плацдарме для разведчиков это плохо кончилось, один из них погиб.
А так обычно на задания ходили впятером: три разведчика и два радиста. На фронте меня сразу назначили старшим радистом, а уже потом повысили до командира радиоотделения. Это когда нашего прежнего командира убило, то вместо него назначили меня и присвоили звание сержанта. Но я также занимался своей рацией, также продолжал ходить на задания вместе с разведчиками, и только в последние месяцы войны меня забрал к себе наш командир дивизиона Коваленко. Потому что во время наступления в Германии была уже совсем другая война, чем раньше. Иногда наш уральский корпус проходил за день семьдесят километров, поэтому в условиях этой совершенно бешеной скачки, комдиву нужно было иметь надежную связь. В его «виллис» садились впятером: сам Коваленко, его ординарец, водитель, а мы с напарником сидели сзади свесив ноги, и мчались куда нужно. Но это я отвлекся.
В общем, обстреляли нас, но в дом ни разу не попали, только несколько воронок вокруг. Весь день мы там с Иваном Ивановичем прокемарили, а ночью бригада форсировала эту речку и взяла деревню. И нам поступила команда туда перейти. Перед самым рассветом перешли вброд на ту сторону и явились на новый КП полковника Ефимова. Там на крутом берегу в нашу сторону были каменные погреба, в которых местные жители хранили запасы. И как раз в одном из них был оборудован КП. Явились, доложились, и тут Ефимов подзывает какого-то майора. Высокий такой, мордатый, цветущего вида молодой мужик – командир батальона. И на нем совершенно новенькая звезда Героя СССР. Она так сияла, видно он совсем недавно ее получил. Говорит нам: «Вот ребята, майор вас ознакомит с обстановкой». Пошли мы с ним, с нами еще пару человек, вышли на правый фланг, а там какие-то окопы, видимо немецкие. И этот комбат нам говорит: «Мои ребята сейчас залегли и окопались в конце этого поля, а уже там дальше немцы. Вы пока располагайтесь в этом окопе, а скоро вернется моя разведка, и я вам сообщу более свежие данные». И в это время, видим, что в тумане появились какие-то фигурки, он обрадовался: «А вот и мои орлы возвращаются». Потом присмотрелся: «Что-то их больно много!» А этих «орлов» все больше и больше, и они все ближе и ближе… «А не немцы ли это?» И вдруг с той стороны как шарахнула автоматная стрельба. Это немцы пошли в контратаку. «Ну, вы сидите тут, а мне нужно к своим ребятам, организовывать оборону».
Бой шел очень упорный, на гребень сопки вышли два «тигра» и стали прямой наводкой бить по деревне. Думаю, что немцев было батальона два. В общем, сидим впятером в окопе, держим радиостанцию на «приеме», а бой все ближе и ближе, и постепенно мы оказались во фланге немцев, но за их спиной. Видимость была не очень хорошая, и один из немцев заметил наш окоп. Начал что-то кричать в нашу сторону, и видим, что в нашем направлении пошли несколько автоматчиков. Я со своим автоматом присоединился к трем разведчикам, и мы начали стрелять по этим бегущим. Рыбалко даже бросил в них пару гранат, он был высокий, мускулистый, далеко бросал. Но у нас преимущество, мы же в окопе, а они бегут к нам. И немцы то ли были убиты, то ли залегли. А перед этим, мы по связи дали ориентиры для залпа – где-то в середину поля. И потребовали огня. Но мы ведь уже ученые были, знали, что сейчас начнется «бухгалтерия», поэтому передали так: «31-й, - это был позывной командира бригады Ефимова, немедленно требует огня! Ориентир такой-то!» И как раз после этого нас заметили немцы, и началась перестрелка. Иван Иванович сидит на рации, а мы отстреливаемся. Тут Иван Иванович кричит: «Пошли!», т.е. залп дан, и мы должны наблюдать. Но наблюдать нам не пришлось, потому что мы оказались прямо в зоне залпа, его эллипса. Залп лег хорошо, причем, залп давал весь дивизион, а это же 128 снарядов. И получилось, что очень удачно накрыли немцев, правда, потом выяснилось, что немного зацепили и наших. Но мы же не могли на это повлиять, потому что сами сидели на дне окопа и только молились: «Пронеси, Господи! Пронеси, Господи!» А находиться в зоне залпа «катюш» удовольствие небольшое… Как разрывы закончились, мы выглядываем, а кругом пылища, дым еще ничего не осело… Бой в основном затих, но какая-то стрельба у деревни еще шла, и вся бригада сразу перешла в контрнаступление. Мы воодушевленные: «31-й опять просит залп!» и даем ориентир на гребень сопки. Но стреляла уже только одна батарея. Так вот, счастливый у нас был день. Дважды счастливый. Во время повторно залпа один из эрэсов попал прямо в «тигр». Мощный взрыв, дым до самых облаков… А второй «тигр» сразу ушел назад. Бригада взяла эту сопку, а мы получили приказ вернуться в расположение дивизиона. Пошли в погреб к Ефимову, доложились, так и так, должны вернуться в расположение дивизиона. А вокруг него какие-то его командиры, и они чуть ли не хором начали: «Товарищ полковник, эти эрэсовцы так точно положили залп. Тютелька в тютельку! Таким точным залпом они решили исход всего боя!» Он нам говорит: «Ну, ребята, объявляю вам благодарность! Молодцы, только так и надо!» И в этот момент, я влезаю через голову своего начальника старшего сержанта Варжеинова: «Товарищ полковник, только мы нарушили порядок. Чтобы залп дали быстрее, мы потребовали огонь от вашего имени, вы уж нас не выдавайте!» Вот такой был эпизод.
А через какое-то время в нашей корпусной газетке «Доброволец» появилась заметка, что разведчики и радисты 248-го дивизиона во время напряженного боя вызвали огонь на себя. Ну, если бы у нас хоть мысль была, чтобы вызвать огонь на себя, а так получается, что эти борзописцы-корреспонденты вечно все переиначивают… Я даже не знаю, вошел ли этот эпизод в наградные листы, но, по-моему, никто из нас за этот эпизод наград не получил.
А когда пошли обратно, случился уже немножко трагикомический эпизод. Только перешли речку, как на нас напала группа наших пехотинцев: «Это вы эрэсовцы!?» А мы гордые, в эйфории от таких слов Ефимова, что это мы решили исход боя, и я было тявкнул: «Да, это мы!» А они на нас: «Ах вы, сволочи, по своим бьете!» Наставили на нас автоматы, зверющие выражения лиц… Тут Костя стал вякать: «Да мы ствольная артиллерия!» - «Да, знаем мы вас, ствольная по своим не бьет!» Но я-то знаю, что их если и задело, то не сильно. И в это время от Ефимова вышли несколько офицеров, и они нас можно сказать отбили. Помню, на самого ерепенистого из них офицер даже прикрикнул: «Смирно!» Но тот смирно не встал: «Ну, конечно!» Вот так мы чуть не поплатились за этот бой своими жизнями…
А вообще поначалу наша разведка не ходила на НП. Но это и понятно, потому что там была совсем другая война. На Курской Дуге, например, НП передвигались за войсками очень медленно, пока по-настоящему не вошли в прорыв. А дальше уже стали обязательно пускать разведку, причем, разведку грамотную. Которая бы могла определить разрыв от ориентира, чтобы не ударить по своим. Ведь пехотные командиры давали данные, не учитывая того, что «катюша» бьет по площадям и именно поэтому про «катюшу» в войсках даже ходила поговорка: «Ах, ну «катюша» лупит по своим…» Штурмовики Ил-2 тоже ведь были вооружены эрэсами и когда били по переднему краю немцев, то иногда ошибались и били по своим. Я тоже как-то оказался под их огнем, причем, это случилось, когда мы находились на НП командующего нашего корпуса генерал-лейтенанта Белова. Я там был со своим командиром дивизиона. Это уже было в Германии, где он постоянно таскал нас с собой: «Моя рация!» и все. Разведка тогда по сути уже и не действовала. И вот Белов тогда звонил Лелюшенко: «Дмитрий Данилович, позвони Красовскому, - это командующий 2-й Воздушной Армии, - меня бомбят его ребята!» А то что штурмовики в тот раз ошиблись, я считаю вполне понятным, потому что во время стремительного наступления такое случаи возможны. И немцы тоже так ошибались. Я же вам уже рассказывал, что когда мы шли по тылам на Каменец-Подольск, то немцы нам сбрасывали мешки с продуктами, чему мы были несказанно рады.
Вот так кончилась наше участие во Львовской операции. А из-под Самка нас перебросили на сандомирский плацдарм. Он был уже занят, мы по понтонному мосту туда переехали, а там довольно большая территория. Там еще шли бои, было много войск, а мы встали лагерем то ли у маленького городка, то ли у большого села Багория. Выкопали себе хорошие землянки и прожили в них до января 45-го, пока не началось наступление. Но все это время немцы атаковали и несколько раз нас вызывали, чтобы мы в горячих участках давали огонь. Но что меня особенно удивило. Еще шли бои, а у поляков уже началась земельная реформа. Новое правительство во главе с Болеславом Берутом проводило земельную реформу. Тут идут бои, а воодушевленные поляки бегают со своими ковыльками-шагомерами… Но поэтому и к нам у них было хорошее отношение: «Русские дали землю!»
А мы стояли во втором эшелоне, и в принципе у нас случилась передышка, и как раз там наши боевые установки переставили с двухосных «шевроле» на трехосные «студебеккеры». В целом это были отличные машины, но у них была одна неприятность для водителей. Если переднее колесо поднимало с земли, допустим, гвоздик, то заднее колесо на нее напарывалось и прокалывалось. Часто бывали такие случаи. Но несмотря на передышку, несколько раз нас вызывали на НП, чтобы мы дали огонь.
Помню, однажды я оказался на корпусном НП. Мы там что-то давали огонь, и потом нас оставили на всякий случай, потому что там немцы даже немного потеснили наши части. Просто там стояла одна дивизия, которую массово пополнили жителями западной Украины, и чуть что, они сразу драпали. Они не хотели воевать, и не знали за что. И вот на этот НП примчался сам командующий нашим 2-м Украинским Фронтом маршал Конев. Такой высокий, властный, но по-крестьянски говорил «ня-ня»: «Ня надо, ня буду!» Уже после войны я с ним как-то встретился на приеме в чехословацком посольстве. В то время я был председателем общества советско-чехословацкой дружбы в «Моспроекте», поэтому чехи меня приглашали на приемы. И вот пока мы стояли в фойе и ожидали приглашения в зал, стоял я - бывший сержант, а передо мной стояли сразу четыре маршала: Конев, Малиновский, Москаленко и Еременко.
И вот значит Конев появился тогда на НП: «Немедленно вызвать сюда противотанковый артдивизион! Они должны остановить немецкую атаку! Либо пусть погибнут, либо все станут Героями Советского Союза!», отдал приказ и уехал. Вызвали артдивизион, и артиллеристы из своих 85-мм зенитных пушек расстреляли танки и остановили немецкую атаку. Правда, думаю, что и героев им не дали. Может, только некоторым. А у нас там случился эпизод, когда наша разведка опять ходила на нейтральную полосу.
Пошли они вчетвером: Костя, вроде бы с ним Рыбалко, кто-то еще и младший сержант Лемешенко. Веселый такой парень, которого только-только перевели к нам из батареи. И с ними получилось что. Шли они по нейтральной зоне, а там какие-то польские хутора. Подходили к одному из них, заходят за угол, а там сидят и закусывают человек пятнадцать немцев… Увидели наших: «Рус!», а ребята развернулись и побежали к канаве. Побежали по ней пригибаясь, а немцы стреляли им вдогонку и одна пуля попала Лемешенко прямо в затылок… Так он там и остался, уже потом привезли его труп оттуда. (По данным ОБД-Мемориал разведчик-наблюдатель 248-го Отдельного Гвардейского минометного дивизиона гвардии младший сержант Лемешенко Виктор Васильевич 1924 г.р. погиб в бою 1-го сентября 1944 года – прим.Н.Ч.) А наши ребята шли и наткнулись на замаскированную в березках самоходку. Бросились к экипажу: «Ребята, у нас там один остался. Помогите его вывезти, может, он еще живой!» Самоходчики вначале отказывались: «Мы тут в секрете стоим, нам нельзя раскрываться!», но потом все-таки согласились. Подъехали туда на самоходке, немцев нет, а Лемешенко так и лежит… Но все карманы вывернуты и даже снят гвардейский значок. А у Лемешенко с собой были все документы: и комсомольский билет, и орденская, и красноармейская книжка с указанием воинской части… Принесли его назад, похоронили с почестями, но представили это все, что он погиб в стычке с немецкой разведкой. (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из наградных листов, по которым младший сержант Лемешенко Виктор Васильевич был награжден орденом «Отечественной войны» 1-й степени, и медалью «За отвагу». Вот что в частности говорится в наградном листе, по которому он был награжден орденом «Отечественной войны»: «Разведчик-наблюдатель гвардии младший сержант Лемешенко В.В. в боях на 1-м Украинском Фронте проявил себя смелым, решительным и дисциплинированным воином. В боях на Львовском направлении всегда точно и своевременно выполнял задания. По разведанным им целям 23.07.44 г. в районе Куравице было дано пять залпов и нанесен противнику значительный урон в живой силе и технике. 4.08.44 г. в районе с.Чатли тов.Лемешенко сообщил ценные сведения о противнике, в результате чего были даны два залпа. 30.08.44 г. в районе местечка Кобыляны тов.Лемешенко обнаружил скопление танков и автоматчиков противника, вызвал залп, которым было уничтожено до роты противника и один средний танк. 01.09.44 г. при выполнении задания по разведке погиб смертью храбрых – прим.Н.Ч.) А Костиным реноме я дорожил, потому что он состоял в знаменной группе дивизиона. Знаменосцем был один офицер, а он и Рыбалко были ассистентами. Ну а я как узнал все обстоятельства гибели Лемешенко, прямо вскипел. Настолько, что даже хотел на партсобрании выступить по этому поводу, даже думал рапорт подать. Но подумал и решил ничего этого не делать, но сказал ему так: «Костя, тебя же никто туда не гнал, и в твои обязанности ходить по нейтральной полосе не входит. Это все твои бессмысленные фокусы, поэтому жизнь Лемешенко на твоей совести! Если уж ходить в такую разведку, то грамотно. А ты только как артиллерист грамотный, а как разведчик нет, и поступил неграмотно. Вы все сделали так неквалифицированно, по-детски, даже не догадались оставить документы… И это из-за тебя человек лишился жизни! Но я смолчу, потому что знаю, что ты переживаешь!» И несмотря а то, что главным для него был принцип: «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах!», больше они на нейтральную полосу не ходили. Правда, там уже началось наступление, и пошла маневренная война. Командир дивизиона сажал нас к себе на «виллис», и вперед. И куда бы мы не приезжали, он нас всегда так представлял: «Это мой радист Андреев – неокончивший студент!» Бахвалился, что радистом у него студент, а разведчики бывшие инженеры. Занятный все-таки был у нас комдив. Хулиган…
Почему хулиган?
Когда его к нам только прислали, то провели своеобразный ритуал. Построили весь дивизион, и старый комдив обратился: «Прощайте, товарищи!» Все хором: «Прощайте, товарищ гвардии майор!» Тут Коваленко поздоровался: «Здравствуйте, товарищи!» - «Здравия желаем, товарищ гвардии майор!»
После этого его повели в командирскую землянку, а там, конечно, стол накрыт, жареная картошечка. Почему-то офицерам давали жареную картошечку, а нам только отварную в мундире. И водочка. Больше его трезвым и не видели…
Вот так мы там на плацдарме и жили. Временами выезжали, давали залп, другой и возвращались обратно, но в целом жили спокойно. Хорошо обжились на новом месте, даже клуб построили, в котором для нас устраивали концерты фронтовые концертные бригады. Однажды концерт у нас давала бригада под управлением знаменитого московского конферансье Гаркави, а он сам его вел. Высокий, толстый, грузный, большой одним словом. У них там и певицы были, а один мастер художественного слова замечательно что-то читал. А потом Гаркави сам исполнил какую-то песенку, которая вызвала просто фурор. Ведь наша бригада формировалась в Нижнем Тагиле, а в этой песенке были такие слова: «Возле города Тагил я Марусю полюбил!», поэтому особенно наши уральцы-челдоны ее восприняли просто на ура. Например, у нас командиром одной установки был сержант Волков, так после этой песни он вместо «бис» кричал «Ишо! Ишо!» Там же на плацдарме я получил звание сержанта, пришли награды за Львовскую операцию и я получил орден «Славы».
А 12-го января началось генеральное наступление, перед которым дали просто колоссальную артподготовку. Вперед вышли разведчики и радисты, а нас взял к себе Коваленко. И вот мы поехали на «полуторке» с лейтенантом Горенских, нашим контрразведчиком. У него была машина с шофером и ординарец – сержант Самойленко. Пожилой уже человек, который имел фотоаппарат и только он один имел право фотографировать. А Иван Иванович в это время был откомандирован в штаб артиллерии корпуса, где не хватало радистов, поэтому со мной оказался другой радист, переученный из телефонистов Виктор Зверев. Мой ровесник 24-го г.р., также окончивший десятилетку, но очень занудливый и ленивый. Чуть что он начинал канючить: «Да зачем нам это надо?!» То, се, даже когда хлеб делили, он и то был недоволен. Но я его немного поднатаскал, как включать, выключать, как найти нужную волну. И вот мы ехали в кузове «полуторки»: Я, Зверев и Самойленко, а сам особист ехал в кабине с водителем. Но где-то в лесу машина наскочила задним колесом на пень, подпрыгнула, раздалось что-то вроде выстрела и смотрим, в потолке появилась дырка. Только я подумал, что это снайпер откуда-то с сосны по нам стреляет, как Витька поворачивает свою ладонь, а она прострелена, и прямо на глазах начинает распухать. А оказывается, он сидел, держал свой ППШ между ног и держал руку прямо на дуле. И по своей распущенности и рассеянности видно не поставил его на предохранитель. А у ППШ этот тяжелый стальной затвор под своей тяжестью отходил назад и такие случаи были нередки. Пока его перевязывали, пришел Горенских, ему все рассказали, и конечно, Виктора отправили в тыл. И так получилось, что я остался с рацией один. Выехали мы опять на КП к майору Коваленко.
Какая-то поляна и он мне говорит: «Давай связывайся скорее мы должны участвовать в артподготовке!» Весь наш дивизион стоял уже на огневых, все установки уже были наведены на разведанные цели, и оставалось лишь скомандовать «Огонь!» Установили связь, и услышали, что в отдалении на севере, в частях Жукова уже началась артподготовка. Наконец, началось и у нас…
Артподготовка уже началась, смотрю, бежит Коваленко и говорит мне: «Давай связывайся!» Вызываю сержанта Корчака, что на том конце связи, но совершенно не слышу его… Потому что вокруг стоит такой рев, гул, земля вся гудит… Я ору позывные, но от грохота ничего не слышу… А Коваленко стоит надо мной: «Ну что же?!» А я ничего не слышу. Рядом стояли какие-то ребята, так они на меня набросали каких-то телогреек, шинелей, но ведь земля гудит, и я все равно ничего не слышу. Я кричал: «Огонь! Огонь!», но не знал, слышал ли он меня. Оказалось, что слышал, но было поздно. Потому что начштаба, как только началась артподготовка, сразу приказал открыть огонь, и в принципе наша связь была уже не нужна. А в тот момент мы с Коваленко только познакомились, и он, конечно, был жутко недоволен: «Что за рацию мне дали?!» Я ему объясняю: «На моем месте никто бы не услышал! Главное, что мы выполнили боевое задание!» - «Да, а если бы нет?!» В общем, он был очень на меня недоволен.
Потом было успешное наступление. Вначале мы наступали на север в сторону Лодзя, взяли польские города Коньске, Петрыкув, потом повернули на запад. Форсировали речку Варта, по которой раньше проходила граница Польши с Германией, и очутились в Германии. Прошли по главной улице первого немецкого городка Шильдберг.
Какие испытывали при этом ощущения?
Совершенно пустой город, жителей вообще не было видно. Впереди шли танкисты с мотострелками, так они во время коротких остановок взламывали магазинчики. Помню, я тоже забежал в один мануфактурный магазин. Везде валялись рулоны тканей и голоса: «Да нет братцы, это по цвету не подходит!» Схватил кусок великолепной тонкой шерстяной ткани, и чтобы комдив не увидел, сунул его под сиденье. Потом мы рвали ее на портянки, а остаток я отправил посылкой домой. Ведь из Германии раз в месяц солдатам разрешалось посылать пять килограммов, а офицерам десять. И я в первой же посылке послал ее домой. Но мама сшила себе из него платье уже только после войны. А во время войны, они все, что я присылал, откладывали, но не использовали, потому что есть какая-то плохая примета: «А вот когда Левушка вернется!» У меня даже где-то есть открытка с видами этого Шильдберга, которую я там же подобрал.
А сильные бои начались уже на Одере, который мы форсировали в районе Штейнау. Расположились в каком-то селе и стреляли через реку, поддерживали огнем небольшой плацдарм. И в это время случился налет. У немцев был отличный истребитель «Мессершмитт-109», такой тоненький, как стрекоза, очень легкий, маневренный, но в последний период войны немцы использовали их как штурмовики. Они всегда летали парами, и молниеносно, даже голову не успеешь вжать в плечи, как они уже «вьить» и улетели. Они частенько обстреливали из пулеметов наши колонны, и сеяли бомбы, которые мы называли «картошкой». Такие черные, с куриное яйцо, в кассетах, которые раскрывались. И от этой «картошки» было очень много раненых. Тот самый Зверев как-то получил ранение в ягодицу. В тот раз, кстати, его в госпитале врачи объявили самострелом, потому что его ладонь была обожжена. Оттуда сообщили в дивизион, и сам Горенских выехал туда и подтвердил, что это просто несчастный случай. Но от всех этих разбирательств и ранения Зверев стал еще трусливее. Поэтому на марше, после остановки Зверев всегда спрыгивал с машины и отбегал подальше. Метров на сто-сто пятьдесят. Укрывался там в каком-то лесочке, и все смотрел за небом, нет ли немецких самолетов… Однажды, в какой-то разбитой деревне стал прятаться, залез в печь и вылез оттуда весь в саже. Но мне это надоело, и когда вернулся мой Иван Иванович, то я его сразу вернул телефонистам. А с Кузняевым мы сработались и сдружились еще на курсах. Шептались по вечерам. Он все вспоминал довоенную кормежку, как его мама кормила. А он же у мамы был один, она без мужа, поэтому она его и холила и лелеяла, и он все вспоминал это причмокивая… Поэтому от тогда в Чапли так оценил мои пирожки. Но это я опять отвлекся.
В общем, когда мы стояли в этом большом селе на Восточном берегу Одера, то во время одного из налетов немцы зажгли одну нашу установку. Кстати, там был еще один интересный момент. В доме, где мы расположились, я увидел венские стулья. Перевернул один, а там этикетка со штампом: «Ленинградская мебельная фабрика». Т.е. немцы, когда вывозили трофеи, не гнушались даже стульями…
А вы из трофеев что брали?
Я, например, очень интересовался толстой бумагой для рисования. Если попадалась, брал «восковку» - это такая чудесная голубая калька, от которой пахло воском. И если находил, то брал себе целые рулоны. А когда строили блиндажи, то я ее раздавал на окна вместо стекол.
Но в целом мы чувствовали, что впереди у нас еще много боев, поэтому о трофеях особенно и не думали. Но я присматривался, чтобы послать родителям что-то из одежды, либо ткань. Однажды послал домой целое пальто, оно как раз пять килограммов весило. Но отец и его не стал его носить, все ждали моего возвращения. Еще интересовался столярными инструментами, но вообще ничего не набирал, потому что куда это было везти. А некоторых командиры прямо отчитывали нас: «Куда вы столько набрали? Вам для посылки хватит и пяти килограммов!»
А дома-то были пустые. Обычно немцы набивались в большой подвал, и сидели в тесноте целые улицы. Заходим к ним, а они сидят при свечах и коптилках, и много-много пар глаз смотрят на тебя тревожно… А у нас разговор был короткий: «Зольдат?!» Они сразу чуть ли не хором: «Нихт зольдат! Нихт зольдат!» Но там же не пойдешь в этой толчее в потемках искать. Хотя может они кого-то и прятали. Но пленных ведь и не расстреливали, а формировали в команды и отправляли в тыл.
Какое было отношение к мирному населению?
По-разному. Обычно они очень боялись, потому что им внушили, что «русские дикари» идут мстить. В некоторых городах мы заставали мирных жителей, но иногда стояли в пустых домах по несколько дней. А там же столько барахла, так мы его сгребали и в окно выбрасывали… И когда возвращались хозяева, то дом они не заходили, а рылись в вещах во дворе и разбирали и уносили свои пожитки. А мы на них смотрели как люди, которым еще неизвестно как улыбнется судьба… Мы понимали, что война еще не закончена и можем погибнуть в любой момент. Но ведь и нас можно понять. Мы же стали нищими в один час, когда были вынуждены очень быстро собраться и уйти только с ручной кладью. Ведь я, почему так беспокоился послать что-то родителям, потому что у них почти не осталось вещей. Хотя государство старалось помогать. Таким как мы, беженцам, государство через профсоюзы выделяло какие-то вещи. Мне на Урале, например, выдали стеганые бурки. Они, конечно, промерзали в сильные морозы, но в них я проходил всю первую военную зиму.
Но бывали случаи, когда мы шли в глубоком прорыве, что и сами немцы не ожидали нас увидеть, вот тогда мы заставали жителей. Располагались в домах, обычно спали на полу, и общались с оставшимися хозяевами. В таких случаях я практиковался в своем немецком, и считалось, что в случае чего, я могу подменить переводчика. Помню, как-то раз, расположились в одном доме, и хозяйка, довольно молодая женщина лет тридцати, типичная немка – светлая, белоглазая, спрашивает начальника штаба: «А долго вы тут пробудете?» Он меня подзывает: «Андрей, переведи!» Она повторяет свой вопрос, и тогда он мне говорит: «Ну, скажи ей что-нибудь!» И тогда я ей сказал: «Цвай-драй вохэ!» И она «О-о-о-о!», и такое лицо сделала, так вытаращила свои белые глаза, что наши ребята прямо покатились со смеху. Капитан меня спрашивает: «Что ты ей сказал?» - «Две-три недели!», хотя мы через час уже поехали дальше.
А уже после броска с одерского плацдарма, ближе к Шпрее, бывали случаи, когда в глубоком прорыве брали города в глубоком тылу. Например, так мы взяли город Зорау. Это город авиационной промышленности, и мы там захватили колоссальное количество самолетов, которые стояли на земле, в ангарах. Сутки там простояли, а на другой день должны взять маленький городок Тойплиц. Такой же небольшой, но тоже с авиазаводами. И командир корпуса решил отправить туда 62-ю Пермскую Танковую Бригаду под командованием полковника Денисова. Отправил ее туда вперед, с тем, чтобы она его в ночь взяла, и уже весь корпус потом выдвинулся туда. Но бригада как ушла туда, и словно как в воду канула. Связи нет и непонятно что делать… Но утром все-таки решили ехать туда, ведь это был глубокий тыл и немецких частей там не ожидалось.
Причем поехали как. Впереди ехал танк, а вслед за ним в открытой легковой машине командир корпуса Белов вместе с ординарцами. А за ними остальные штабные машины, и другие командиры, и в том числе и «виллис» Коваленко, а мы с рацией вместе с ним.
И вот подъезжаем к этому Тойплицу, все тихо. Въезжаем в городок, а никого из наших не видно… Потихоньку продвигаемся вперед, вдруг из боковой улочки выходит немолодой немец в штатском, но в какой-то полувоенной фуражке, видно какой-то чиновник. Взглядом окинул нас, потом еще раз, видно не поверил своим глазам, и как закричит: «ООО!» Бросил какой-то сверточек, который нес с собой, и, шаркая калошами побежал за угол. Видно побежал спасаться от русских варваров…
Едем дальше, там совсем небольшая железнодорожная станция и у перрона стоят, словно игрушечные вагоны узкоколейной железной дороги. Паровозик стоит под парами, а по перрону ходит довольно много людей, причем среди них видны и военные.
Тут Белов приказал экипажу ведущего танка: «Дай снаряд по паровозу!» Выстрел, облака пара из паровоза и на перроне начинается паника. Белов дает новый приказ: «Все в цепь!» Коваленко вынул пистолет, я с автоматом, все остальные окружили этот состав и пошли. Тут уже контрразведчики начали вылавливать военных, оказывается, даже в такой критической ситуации у них были отпускники… Они так и говорили: «Урляубер» - т.е. отпускник, а большинство: «Гитлер капут!» Взяли всех под охрану, а тут уже за нами и новые части едут. Но я все думал. А если бы там стояли части?.. Считай все, весь штаб корпуса оказался бы ликвидирован либо пленен…
Короче говоря, тут подбегает блестящий переводчик, капитан, из разведотдела и начинает им говорить: «Гитлер – капут! Криг из цвенде! Война из цвенде! Цурюк нах хаузен!» После этих слов немцы высыпали из вагончиков, достали свои детские коляски, в которых везли свои вещи и целой колонной выстраиваются в обратную сторону. И все благодарят этого переводчика, генерала: «Данке шен!» и потопали назад на восток к своим пепелищам…
Но уже через некоторое время над Тойплицом показались немецкие пикирующие бомбардировщики Ю-87, которые мы называли либо «лапотники», либо «стервятники». Потому что внешне они напоминали ястребов – лапы вроде как мохнатые, а крылья хищно изломаны. Они всю войну нам очень досаждали. Как в свой круг встанут, только держись… А во время Курской битвы их целые тучи налетали… В общем, прилетели эти несколько «юнкерсов» и начали летать над городом на небольшой высоте. А нам был приказ – «Замаскироваться! Технику во дворы под навесы, и чтобы солдат на улицах не было видно. А если кто выходит, чтобы были одеты в немецкие маскхалаты!», которые мы очень любили. Пестрые такие, если знаете. В общем, долго они кружили, над аэродромом, но так и не сели, и улетели.
Кстати, еще когда мы только въехали в город, то первый танк сразу кинулся на аэродром, там пытался взлететь какой-то самолет, но танк его разбил, и еще несколько раздавил. И один из разбитых самолетов поставили поперек полосы, чтобы никто и не вздумал взлететь. А немногих летчиков, которые оказались перегонщиками, сразу арестовали. Потом «юнкерсы» еще раз прилетали, кружили-кружили, и опять не решились сесть. Наконец подошли другие наши бригады.
А перед этим, в Зорау случился один очень неприятный эпизод. Там у меня на глазах погиб арттехник Пшеничников… Тогда обо мне было немножко известно, что я могу немного объясняться по-немецки, поэтому этот лейтенант мне предложил: «Андреев, проедем со мной, мне нужно кое-что там поспрашивать!» Отпросился у командира взвода, но он меня предупредил: «Смотри, только ненадолго!» Поехали на трофейной машине, и насколько я понял, не за барахлом, он не «трофейщик» был, а просто его просто разбирало любопытство, хотел посмотреть городок.
Но если в центральной части города была типичная для Германии старая застройка, двух-трехэтажные дома, то приехали на окраину, а там чуть ли не типовые четырехэтажные дома. И когда он стал разворачивать машину, вдруг откуда-то с верхних окон, то ли с чердака, по нашей машине вдруг дали автоматную очередь… Пули прошили крышу и ему прямо в голову… Лейтенант упал головой на руль, но машина по инерции правыми колесами сползла в кювет и не опрокинулась только потому, что во что-то уперлась. Он повис на руле, а я рядом с ним сижу, не шевелюсь и начал осторожно осматриваться, потому что понимаю, что если вылезу, то и меня сразу… Сижу тихонько, потом слышу голоса. Причем, кто-то бежит, а ему кто-то отвечает от домов по-немецки. Я притаился, и полез за трофейным «вальтером», который у меня был во внутреннем кармане телогрейки. На всякий случай его вытащил, и сижу согнувшись, вроде тоже как убит… Тот подбегает, заглянул в машину, открывает дверь, берет за плечо Пшеничникова и тянет. И в этот момент я его пистолетом бац… Он падает, тоже ткнулся так, и я ему еще несколько раз добавил. Потом тихо открыл свою дверцу, тихонько сполз через нее в кювет и быстро-быстро по нему бросился оттуда. А тот другой, что был наверху, видимо спустился ему на помощь, потому что пока я прибежал к своим, рассказал, что случилось, туда моментально отправили машину с людьми, но нашли только Пшеничникова и убитого немца на нем… Прочесали этот дом, но кроме цивильных немцев так никого и не нашли. Лейтенанта похоронили в ограде кирхи в Тойплице, но после этого случая я зарекся ездить с этими «путешественниками»… (По данным ОБД-Мемориал уроженец ст.Богатое Куйбышевской области старший автотехник 248-го ОГМД гвардии техник-лейтенант Пшеничников Степан Васильевич 1922 г.р. погиб 17.02.1945 года – прим.Н.Ч.) Вот только если начштаба капитан Еськин брал меня иногда, то ему я не мог отказать. Например, в Берлине сразу после капитуляции он меня взял в качестве переводчика: «Я хочу поехать посмотреть Рейхстаг». Поехали на трофейном мерседесе, и по пути я несколько раз спрашивал у вылезших из своих нор немцев, как проехать к Рейхстагу. Приезжаем, а там настоящее столпотворение, масса наших военных всех рангов. Все, стены уже были исписаны и мелом и углем, а с нами были ординарец начштаба и шофер, и я их попросил: «Ребята, поднимите меня!» Они мне плечи подставили, и я встал и написал «Торжок отомщен!» Но тут Еськин закричал: «Все, поехали обратно!», а вскоре нас вывели из Берлина и бросили на Прагу.
Но запомнилось, что в Берлине в ночь то ли с 1-го на 2-е, то ли со 2-го на 3-е мая была тревога, когда с севера-запада на город вышла какая-то немецкая группировка. Она шла с целью деблокировать Берлин, и вышла как раз на штаб нашей 4-й Гвардейской Танковой Армии во главе с Лелюшенко. Нас подняли по тревоге, а 2-я батарея даже вышла на огневые позиции и стреляла.
Вам приходилось видеть Лелюшенко?
Неоднократно. С виду это был такой разбитной вояка эпохи Гражданской войны. Он даже носил старомодный маузер в деревянной кобуре и больше ничего. А иногда на переправах стоял без шапки, сверкая своей бритой головой, а в руках или плеть или палка. Помахивал ими и так приговаривал: «Не отставай! Не отставай!», а плетью даже похлопывал по броне танков: «Давай! Давай!» Так все прямо пролетали мимо… А водители уже видя что он стоит, заранее переключались на нижние передачи, чтобы ни в коем случае не заглохнуть и не создать пробку.
За Висло-Одерскую операцию вас как-нибудь отметили?
Наградили орденом «Красной Звезды». Вообще-то начальник связи представил меня к ордену «Отечественной войны» I-й степени, но Коваленко отрезал: «Хватит с него и «Красной Звезды»! Во-первых, он мне никак не мог забыть тот случай, когда я потерял связь и не смог передать команду – «Огонь!» К тому же в одной из наших с ним поездок, в нужный момент я потерял связь. Думали, что аккумулятор сел, а оказалось, что немного отошла гайка, и пропал контакт. Пока разобрались, исправили, пришел доложить: «Связь восстановлена!» А он опять обиделся: «Так чего ж сразу не восстановил? У тебя то одно, то другое», в общем, опять был недоволен. Вообще после такого неудачного знакомства с командиром дивизиона, я пытался, пользуясь своим правом командира отделения радистов, вместо себя подпустить к этой очень суетливой и напряженной работе второго сержанта, но сам Коваленко был категорически против: «Нет, нет! Где моя рация?», и постепенно отношения у нас с ним выравнивались.
А после этого мы участвовали в Верхнесилезской операции. Когда в феврале 45-го наши войска окружили Бреслау, то на выручку его окруженному гарнизону со стороны Чехословакии вышла большая немецкая группировка. И нашу 4-ю Танковую Армию выслали ей навстречу и во встречном бою мы за несколько дней ее разбили. Только пленных там взяли около тридцати тысяч, но бои там шли тяжелые и кровавые.
У нас первой шла 62-я, как мы ее называли «штрафная» танковая бригада, и она потеряла очень много танков. После этих боев ее командира полковника Денисова даже сняли с должности. Но ведь нужно понять, что это же предгорья Карпат, по которым можно было двигаться только по дорогам, а немцы на них сосредоточили противотанковую артиллерию, поэтому так много танков и погорело… В тех боях нас посадили на броню танка командира батальона и мы несколько раз по рации вызывали огонь. Вообще, в той операции наш дивизион поработал очень активно, поэтому потом многих наградили. Например, мой напарник, мой верный Санчо Панса - Иван Иванович, получил орден «Отечественной войны» II-й степени, а мне вручили орден «Отечественной войны» I-й степени. Видимо, Коваленко чувствовал свою вину за прежний случай, поэтому постарался ее компенсировать. (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержка из наградного листа, по которому Лев Васильевич был награжден орденом «Отечественной войны» I-й степени: «Выполняя обязанности командира отделения и начальника радиостанции «РБ», обеспечил бесперебойную связь между НП командира дивизиона с огневыми позициями батарей и командующим артиллерией корпуса. Обеспечивая бесперебойную связь, все время находился на НП и КНП, зачастую под пулеметным и минометным огнем противника.
В ночь с 19-го на 20-е марта 1945 года, находясь на НП и обнаружив группировку противника двигающуюся в сторону месторасположения дивизиона, гвардии сержант Андреев передал о ней сообщение в штаб. Благодаря своевременно переданным данным дивизион встретил немцев сокрушительным огнем, в результате чего было уничтожено пять автомашин, убито и ранено до двухсот солдат и офицеров, тем самым была сорвана попытка противника вырваться из окружения.
30.03.45. гвардии сержант Андреев по рации передал точные данные о скоплении противника в районе Нассидель. В результате произведенного залпа было сожжено два танка, разбито два миномета и убито и ранено до сорока вражеских солдат и офицеров» - прим.Н.Ч.)
А за что вас наградили орденом «Боевого Красного Знамени»?
За Берлинскую операцию. Но там не только я, а сразу пять человек из сержантского состава были награждены «Красным Знаменем». Ордена получили помощники командиров огневых взводов, старшие сержанты. Получил помкомвзвода разведки Костя, я и еще Коровченко. Немолодой уже человек, бывший райкомовский работник в Уральске он был парторгом 1-й батареи, членом партбюро дивизиона, и видимо его наградили за партработу.
Вначале шли по Германии прямым ходом на Эльбу, но потом нас развернули на север, и мы наступали на Берлин с юго-запада, со стороны Потсдама. Бои в Берлине шли очень тяжелые и ожесточенные. К тому же юго-западная окраина оказалась «зеленой зоной», с многочисленными парками и что самое неприятное, каналами, которые сильно осложняли наше продвижение вперед. Помню, в один большой канал перпендикулярно впадал еще один, недалеко располагалась лодочная станция, эллинги с шикарными полированными лодками, двухэтажный терем-ресторан. А посреди этого канала стоял остров, который приказали взять нашей 29-й мотострелковой бригаде. Но первые две попытки окончились неудачей…
Вначале отправили десант на амфибиях - плавающих «студебеккерах», но дело в том, что провести артподготовку по кромке берега не решились, потому что побоялись задеть своих. Поэтому стреляли только в глубину, по какому-то монастырю или замку, что там стоял. Но этого оказалось явно недостаточно… Вторая попытка была на плавающих джипах, но их тоже расстреляли… Потом ветром один из них прибило к нашему берегу, так весь взвод, как сидел с автоматами, так мертвыми и сидели… Видимо их просто в упор расстреляли…
А перед третьей попыткой, если не ошибаюсь, какой-то старшина придумал и посоветовал командованию использовать байдарки. На лодочных станциях собрали много всяких байдарок, провели полноценную артподготовку. Ствольную артиллерию замаскировали среди деревьев, а потом неожиданно выкатили орудия на берег и в упор расстреляли немцев. После этого по всему фронту на берег выскочили солдаты с байдарками, и где по двое, а где по одному быстро погребли на ту сторону. В этот раз все закончилось благополучно, остров взяли, но у нас произошло несчастье. Осколками немецкого снаряда разорвавшегося в ветках сосны над нами смертельно ранило водителя нашего «виллиса». Отличный парень, Мишка Швидкий его звали… Одну ногу ему перебило ниже колена, и она болталась только на каких-то жилах, а вторую выше колена. Я, ординарец Коваленко и Иван Иванович собрали перевязочные пакеты, разорвали рубашки, начали его бинтовать. Но у нас руки аж тряслись, потому что мы не привыкли к виду кровавого мяса… Сначала наложили жгуты, чтобы остановить кровь, а он бедный все время кричал: «Ногу больно!» А нога фактически только на какой-то жиле держалась и мне ординарец комдива все говорил: «Перережь!», но я не решился: «Если надо будет, хирурги отрежут!» Мягким телефонным проводом затянули, а потом все перебинтовали, сделали из палок шины. Соорудили носилки из плащ-палатки, принесли его к штабному ресторану, где стояла большая грузовая машина, куда загружали раненых. Погрузили в нее своего Мишу, но по дороге он умер от потери крови… (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из наградных листов, по которым водитель 248-го ОГМД Швидкий Михаил Иванович 1918 г.р. был награжден двумя орденами «Отечественной войны» II-й степени, орденами «Красной Звезды» и «Славы» 3-й степени и медалью «За боевые заслуги». Вот что в частности говорится в наградных листах, по которым он был награжден орденами «Отечественной войны»: «Гвардии младший сержант Швидкий М.И. за время службы с момента формирования части проявил себя смелым, отважным воином и опытным, искусным водителем. Его машина всегда находится в боевой готовности.
19.03.45 г. гв.мл. сержант Швидкий дважды выводил свою машину на огневую позицию, где быстро проводил грубую наводку. Его боевая установка в этот день дала два залпа, которыми было подожжено три автомашины с грузами и уничтожено до 40 немецких солдат и офицеров.
20.03.45 г. в районе Фольманнсдорф участвуя в отражении контратаки противника, выводил свою установку на огневую позицию. В результате залпа было уничтожено две автомашины и до 70 немецких солдат и офицеров.
27. и 29.03.45 г. в районе Бладенкруг выполняя задание по разведке, гв.мл.сержант Швидкий на своем «виллисе» доставил разведчиков с рацией на наиболее выгодную для наблюдения высоту, путь к которой находился под огнем противника.
… Будучи водителем «виллиса» во всех боях находился впереди колонн. Одним их первых в части форсировал реки Нейссе и Шпрее. 29.04.45 г. в боях за остров Ванзее в районе Берлина тов.Швидкий на своей машине оказался в боевых порядках немецкий войск. Не растерявшись, он на большой скорости въехал в группу гитлеровцев, сбив при этом несколько солдат. Когда осколками гранаты мл.сержант Швидкий был тяжело ранен и не мог далее вести машину, то открыл огонь по противнику из автомата. В этом коротком, но сильном бою тов.Швидкий уничтожил до 15 гитлеровцев - прим.Н.Ч.) А ведь всего за три дня то этого он мне оказывал первую помощь.
Землянки и блиндажи, в которых мы там расположились, видимо раньше принадлежали зенитным батареям немцев, охранявшим Берлин. Наш комдив выбрал себе землянку с тремя накатами, в которую вел глубокий ход и расположился в ней с разведчиками и ординарцем. А мы с Иваном Ивановичем облюбовали себе большую землянку, в которой ночевал целый орудийный расчет. Большая, плоская, прямоугольная, на метр утоплена в землю и метр над землей. Этот метр над землей был такими насыпями, и имелось небольшое окно, чтобы туда проходил какой-то свет. Внутри землянка была очень небрежно обшита бревнами, а вдоль стен стояли нары. Перекрытие же было сделано из толстых строевых сосен. Три бревна были положены через всю землянку, а поперек настил из горбыля и песчаная насыпь. Но как оказалась, перекрытие в двадцать сантиметров толщиной защищало только от осколков, утренней росы и дождя. В центре стоял грубо сколоченный длинный стол, его ножки-колышки были просто вбиты в землю. И вот на этом столе с торца мы развернули рацию, вытащили через окошко шнур, воткнули шест и привязали к нему антенну.
Я был дежурным, а Иван Иванович лег спать. Растянулся на нарах, а голову накутал телогрейкой, чтобы не слышать близких разрывов. Ведь все время шел рассеянный обстрел, и то ли мины, то ли легкие снаряды ложились, то тут, то там. А я склонился над рацией, и вдруг прямо над моей головой страшный грохот, взрыв и сверху на меня обрушивается поток сухого песка… Засыпает рацию, а я перепугавшись сделал машинальное движение вниз, рванулся и лицом ударился прямо в панель радиостанции. Разбил нос, исцарапал лоб, но сразу же поднялся, посмотрел наверх. И вижу расщепленный горбыль настила, а с двух сторон бревна небо, и оттуда мелкими струйками продолжает сыпаться песок… Первым делом поднял рацию, стряхнул песок, а руки мокрые от крови и грязные в песке. Побежал на крышу, проверить антенну, а от нее остались одни воспоминания. Нет ни шеста, ни провода, только его конец торчит в окне. Все медные жилки завиты, как кудрявая головка. И увидел, что прямо по центру бревна выщерблена обгорелая воронка. То есть прямо как раз по центру бревна попала либо мина, либо снаряд, осколки пошли в разные стороны, а прямо под бревном оказалась мертвая зона. И благодаря ей мы с Иваном Ивановичем уцелели, но ему повезло больше, потому что голова была обмотана телогрейкой. От грохота он, конечно, проснулся, выбежал, когда я уже стоял на крыше: «Лев, что с тобой?!» А когда я уже был на крыше, вышел один разведчик по фамилии Пепель, Антон Павлович. Увидел меня, сразу вернулся в блиндаж, откуда выходил комдив: «Андреев весь в крови стоит наверху землянки!» Сразу подошли ко мне, стали что-то говорить, а я вижу только движущиеся губы и жесты. В голове один шум, ничего не слышу... Начал, как потом они рассказали, крикливым голосом орать во все горло и жестикулировать. Иван Иванович пишет мне записку - «майор хочет тебя на «виллисе» отправить в медсанбат». Но я замотал головой: «Нет, нет, нет! Все и так пройдет. Я могу исполнять свои обязанности, не хочу с вами расставаться!» Тот самый Миша Швидкий, шофер, достал где-то воды, нашел перевязочные пакеты, меня уложил на нары, обмыл лицо, йодом прижгли ссадины и раны. На разбитый нос наложили мокрый компресс, и я забылся. Не потерял сознание, а просто забылся. И когда очнулся, мне написали, что отправят в санбат. Но я опять отказался: «Нет, нет, мне уже лучше!» Короче говоря, я остался, но три дня не мог работать на рации. Но как начальник рации все равно всем распоряжался: выставлял антенну, аккумуляторы, иногда что-то кодировал, а команды мне подавали в письменном виде. Правда, работать на рации я не мог, потому что не слышал ничего. Но постепенно слух вернулся, оказалось, что барабанные перепонки не пострадали, просто был довольно сильно оглушен. А через три дня после этого эпизода, мы не смогли спасти Мишку, который меня выручал. А был такой весельчак, остряк…
Помню, как-то раз ехали с ним ночью прямо по целине, потому что по проезжей дороге сплошной колонной шли большие грузовики. «Виллис» шел по колее то левыми колесами, а правыми висел в воздухе, то правые в колее, а левые наверху. И ни объехать, ни выехать куда-то в сторону, потому что из-за дождей была грязь. Фары у нас горели, но в них была вставка, которая называлась «наркомовская щель». Это такая круглая вставка, в ней щелочка из-под которой пробивался лучик света, но главное, что его не было видно издалека. Ехали, ехали, и вдруг дорога впереди оказалась занята. Мишка вылез, побежал туда, узнать в чем дело. И вдруг кричит оттуда: «Товарищ генерал, здесь повозка застряла!» Коваленко встает, берется за стекло, и рявкнул басом: «Разгрузить повозку, очистить дорогу!» А там застряли два солдата, они хлестали своих несчастных лошадей, но те никак не могли вытащить повозку. И немудрено, потому что она была нагружена ящиками с патронами. Но испугавшись генерала, они быстро разгрузили лошадей, и как пушинку оттащили тачанку на обочину. Коваленко сидит, и я вижу, что ему было приятно, что его назвали генералом. Тут Мишка говорит: «А что товарищ гвардии майор, ведь вы вполне могли бы быть генералом, а я капитаном». Тут уже мы все свалились в хохот. И вот за Берлин я получил «Боевое Красное Знамя». Там было много сложных боев на окраине Штандорф, за Тельтов-канал, Ванзее-канал, другие каналы, в самом городе. В этих боях я все время обеспечивал связь, и после контузии продолжал службу уже в полную силу.
А после Берлина мы участвовали в легендарном марше на Прагу. Эльбу переехали около Торгау. Там несколько раз съезжались с колоннами американцев, и что нас удивило, что большинство солдат у них были негры. Они нам скалили свои белые зубы и кричали: «Рашн! Рашн!», а мы им улыбались в ответ и помахивали руками. А когда нас развернули на юг, там случился еще один интересный эпизод.
В Германии и так все деревни богатые, а тут мы остановились в какой-то большой и очень богатой немецкой деревне. Что ни дом, то крепость. Двухэтажные домины, высокие, обычно каменные заборы, тяжелые деревянные ворота, во дворе каменные сараи и разные постройки, а позади дома сад. И начштаба мне вдруг говорит: «Так Андреев, сейчас пробежимся по домам. Черт их знает, мы тут стоим, а они нам в спину может чего-нибудь…» Но я думаю, что на самом деле его больше трофеи интересовали. Прошли один дом, другой, а там только испуганные хозяева: «Нихт зольдат! Нихт зольдат!» Заходим в следующий, а там в передней огромной комнате женщина и в правом углу мужчина. Оба сравнительно молодые, лет тридцати-тридцати пяти. Но только собрались разговаривать, как этот мужчина вынимает маленький дамский пистолет, и из этой хлопушки в упор начинает стрелять в Еськина. Один выстрел, второй, тут Еськин выхватывает пистолет, а женщина бросается к нему и с умоляющим видом пытается хватать его за руки, чтобы он его не убил. А тот продолжает из этого дурацкого пистолетика стрелять в беззащитного Еськина, но тут я сзади автомат поднял и уложил этого стрелка… А Еськин был настолько страшно взбешен, взволнован, перепуган, что схватил пистолет и тут же ухлопал эту бабу… Бросил мне: «Пойдем отсюда!», и дальше мы не пошли…
А один наш телефонист из батареи рассказал, что он точно также, правда, сам зашел в один из домов этой же деревни. Смотрит, в большой комнате вроде никого нет, как вдруг сзади ласково говорят: «Камрад!» Он оглядывается, а там немецкий солдат протягивает ему свой автомат… Так что это кому как везет…
Так мы шли и шли вперед на юг. Шли между Лейпцигом и Дрезденом, но куда, чего, непонятно. Нам объяснили, что мы в прорыве, но никаких немецких войск мы не встречали. Только в некоторых городках сдавались в плен небольшие подразделения. А в некоторых были устроены завалы. Забитые в землю сваи, с боков на них навалены целые поленницы бревен, которые в случае угрозы должны были быть выдвинуты и загородить дорогу. Но они даже этого не успевали сделать.
А я время от времени развертывал рацию. Связь не с кем было держать, лишь чтобы послушать последние известия. И вот уже где-то на подходе к Чехословакии в один раз я ее развернул, а там вместо Москвы очень мощно работает широковещательная радиостанция Праги: «Воины Красной Армии, спасите Прагу! Прага погибает! В Праге восстание! Спасите Прагу!», и так повторятся по кругу. И вот только тут мы сразу поняли, куда нас ведут.
Наконец подошли к Судетскому перевалу, но он оказался очень узким. По дороге через него могла пройти всего одна машина. Слева поднимается заросший хвойным лесом склон, а справа обрыв и внизу какая-то речушка. И у входа в эту лощину образовалась пробка. Масса техники: танки, машины, но проходит только по одной, в общем, дремучая такая ситуация. Неразбериха, всем же нужно как можно скорее. Поэтому я всегда говорю, что нашим основным врагом в этом марше на Прагу была теснота.
Вылез я из машины и ради любопытства пошел вперед. Там на моих глазах заглох двигатель у какого-то «студебеккера», так к нему сразу подскочил какой-то полковник: «Есть возможность завести?» Водитель в моторе копается, но видно ничего не получалось. Тогда этот полковник сам снимает грузовик с тормозов, руль вывертывает вправо и командует: «А ну все вместе толкнули!» И этот «студебеккер» полетел в пропасть… Потому что всего дороже было время.
А еще когда только подходили к Судетам, голос этой Пражской радиостанции вдруг пропал. Мы даже подумали, что немцы подавили восстание, а, оказывается, просто попали в мертвую зону для радиоволн. Но как только вышли наверх, связь опять появилась.
И что меня удивило, сразу за этим перевалом, прямо на склоне стояла деревня судетских немцев. Тоже такая богатая, кулацкая. Красавцы дома в два этажа из толстенных бревен, много дуба, но что поразительно, совсем нет участков земли. Только дом, двор, а сразу за ним заросший лесом склон. Чем они там жили я и не представляю, наверное, скот держали. Уже ночь наступила, и мы решили переночевать в одном из этих домов.
Расположились в горнице, сообщили хозяевам, что «Гитлер – капут!», но перед этим я развернул рацию, и послушал полуночный выпуск «Совинформбюро». Он начинался благодарностью Сталина за взятие города Дрезден и больше ничего не сообщалось. Это был поздний вечер 8-го мая, начиналось 9-е. Только расположились и начали входить во вкус, а засыпали и просыпались мы просто молниеносно, как вдруг раздалась стрельба. Причем какая-то необычная: одновременно и пушка стреляла, и автоматные очереди, и одиночные выстрелы из винтовок. И я решил, что раз кругом леса, значит, к нам спустились немцы…
С автоматом выскакиваю на крыльцо, а там стоит какой-то солдат, не из наших, и подняв автомат в небо выпускает весь диск… Кричу ему: «Где немцы?» Он оборачивается и, оскалив зубы, говорит: «Война закончилась!» А во дворе стоял танк, так он боевыми снарядами лупил через эту пропасть в сопку… Ну, тут, конечно, уже никто больше не лег. Погрузились в машины и начали спускаться. Проезжали чехословацкий городок Мост, а первым чехословацким городом, который уже не спал, был город Лоуни. Только стало светать, но на центральной площади собралось полно народу, а все окна вокруг открыты, и на подоконниках стоят радиоприемники настроенные на Прагу. А эта радиостанция уже не кричит «Помогите!», а передает музыку. То «Катюшу», то какую-то чешскую мелодию, и гимны. То чехословацкий, то «Интернационал», они еще не знали, что у нас уже новый гимн.
А как раз наступило время самого буйного цветения сирени, так все наши машины чехи ею просто забрасывали. Наш командир дивизиона пересел на трофейный открытый «мерседес», и ехал на нем во главе колонны дивизиона. А в «виллисе» я пересел на его место, а Иван Иванович, как и прежде сидел сзади. Помню, что при выезде из города стоял регулировщик, пожилой чех, с немецкой винтовкой, махал нам флажком и кричал: «Направо! Направо!»
И потом очень быстрый марш на Прагу. По хорошему шоссе на высокой скорости, поэтому деревни только и мелькали. Кругом красивая холмистая местность, и видно, что отовсюду к дороге спешат люди. Помню, в одном месте у какой-то рощи в кювете лежал чех-дружинник и машет нам, мол, остановитесь, там немцы. И действительно, оттуда в нашу сторону раздавались выстрелы. А у нас были крупнокалиберные пулеметы ДШК, быстро установили его на крышу одной грузовой, как дали две очереди по лесу, так оттуда сразу выбросили белый флаг… Пленных передали чехам, а мы только вперед. А в это время наша передовая челябинская бригада уже ворвалась в Прагу. При этом один ее «ИС» под номером «23» был в упор подбит замаскированным орудием, и его потом как памятник установили в Праге на постамент.
Наконец входим в Прагу. Мы не первые, впереди, да и позади тоже, сплошная колонна. А наш комдив еще на марше распорядился расчехлить боевые установки, специально чтобы все снаряды оказались на виду и чехи во все глаза с восторгом наблюдали: «Вот это техника у русских!» По мостовым наши танки гремели гусеницами, все содрогается – такая лавина идет… А по всем тротуарам стоят сплошные шпалеры из жителей Праги. И не то что, как у нас в Москве, когда всех выгоняли встречать космонавтов, а битком набитые тротуары. Бросали нам цветы, девушки лезли прямо на танки и целовали грязных танкистов. И очень многие махали красными флажками, но эти флажки были довольно оригинальные. Из выгоревшей ткани, а в центре невыгоревший кусочек. Это они просто отпороли с нацистских флажков белые кружочки с черной свастикой… А на улицах повсюду уже вывесили большие флаги – такие длинные полосы, которые как колонны опускались со вторых этажей. И вперемежку повсюду наши и чешские флаги с треугольником. А в витринах магазинов уже были выставлены фотографии Эдварда Бенеша, который еще находился в Лондоне. И Сталина. Причем, увеличенные фотографии Сталина почему-то были еще времен Гражданской войны. На них он держал эфес шашки. Три дня мы провели в Праге и все это время Прага бурлила. Тучи народа на улицах и сплошные крики: «Наздар! Наздар!»
В Праге еще запомнилось то, что я видел, как в город входил 1-й чехословацкий армейский корпус. Чехи к тому времени уже порядком подустали встречать освободителей, но вдруг увидели эти броневички. Увидели, что форма другая, а может, и по лицам узнавали, и сразу бурный взрыв.
В первый вечер наш дивизион загнали в трамвайное депо на западной окраине Кладенской улицы. Там стояли трамваи 13-го маршрута, их потеснили, загнали наши «Катюши» и мы стали расходиться по окружающим домам на ночлег. Тут началось братание с вооруженными чешскими дружинниками и ребята из нашего дивизиона меня чуть ли не под руки взяли: «Андреев, пойдем выпьем!» Зашли в контору этого депо, куда ребята уже притащили канистру трофейного спирта. Он был розового цвета, но все равно его пили. А на закуску у нас было много трофейных шпрот. Выложили эти баночки, но вот хлеба не было. И этот розовый спирт.
А среди этих чехов оказался один бывший военный. Штабс-капитан старой чешской армии, который пришел в парадной форме с красными петлицами, в пилоточке. Пожилой, седой уже. Он очень интересовался порядками в нашей армии, а у меня с собой оказались наставления по строевой и по караульной службе и я ему их подарил. Так он спирт не стал пить, но на шпроты поднавалился. Признался, что за все шесть лет оккупации не надевал свою форму и не ел шпрот. Съел одну банку, другую и когда наелся, обратился почему-то ко мне: «Сейчас схожу домой и принесу настоящей водки!» И когда он вышел один из дружинников сразу сказал: «Он не придет. Это буржуй!» И он, действительно, не вернулся.
А я там очень сильно наклюкался. Помню, взяли меня под руки сержант Хишлейн и кто-то еще. Автомат и рацию повесили мне на шею, и под руки повели по этой улочке. Там такие двухквартирные полутораэтажные домики и мы сунулись в одну квартиру: «Можно у вас переночевать?» А там пожилой мужчина, дама и 19-летняя девица нам говорят: «У нас однокомнатная квартира». – «Ничего, мы и на полу на кухне ляжем». Мы с Хишлейном улеглись, накрылись телогрейкой, но пока готовились ко сну, немного поговорили с хозяевами. Оказывается, фамилия у них была Свобода, но не родственники Людвига Свободы. А еще когда ехали по улицам, то мне очень понравился чехословацкий гимн. Он состоял из двух частей: чешской и словацкой и у него очень красивая мелодия. Я и сейчас могу вам его напеть. И будучи в таком «веселом» настроении я попросил хозяина исполнить его. Он своим дребезжащим голоском как смог спел, а потом я ему говорю: «А сейчас я вам исполню наш гимн!» - «Ваш «Интернационал» мы знаем». – «Нет, у нас теперь новый гимн!» Облокотившись на шкаф встал, насколько мне позволяло мое состояние, по стойке смирно и спел ему: «Союз нерушимый…» И после исполнения гимнов, он ушел, а мы легли спать.
А утром нас подняли в четыре утра, и перевезли на другую окраину Праги. День там пробыли, а потом нас перевели в лагерь, расположенный в деревне по направлению в сторону Карловых Вар. Там простояли довольно долго, наверное, с месяц, а уже оттуда нас перебазировали в Австрию. Я почему это рассказываю, потому что история с этими чехами получила свое продолжение.
Пятнадцать лет спустя я приехал в Чехословакию в туристическую поездку с делегацией общества советско-чехословацкой дружбы. И когда были в Праге, то в свободное время я решил отыскать этот дом. Адреса не знал, но ориентировался умозрительно. Нашел этот угловой двухэтажный коттедж. Подошла соседка, сказала, что хозяина нет дома, а его жена болеет. Вдруг на втором этаже открывается окно, выглядывает его жена, и соседка ей объясняет: «Этот русский был у вас 9-го Мая». На что она ответила: «Приходите завтра, Лада, - Владислав значит, - будет дома. А я больна». Как она сказала - неможница.
На другой день я туда пришел. Открыл дверь сам хозяин и сразу кричит в квартиру: «Это он! Это он!» Вхожу в комнату, а там уже собралась вся семья. Сам Владислав, его жена, дочка с мужем и их сын лет двенадцати, да еще племянница с мужем. Сели за стол и началась беседа. Я говорил по-русски, они по-чешски, но друг друга мы понимали. Ели сладкий пирог с черной смородиной и пили пиво. Но пива не хватило, так этого белобрысого мальчугана два раза гоняли с кувшином за добавкой. Потом хозяин мне начал показывать фотографии: «Этого лейтенанта знаешь?» – «Нет». Потом фотографии какого-то старшины, медсестры: «Знаешь ее?» – «Нет. В общем, показал мне штук восемь фотографий, но я никого не знал. Смотрю, он помрачнел, видимо, посчитал, что я ошибся, и пришел не в тот дом. Потому что никого из тех, кто у него ночевал, я не знал. Поначалу я это и не очень оценил, но почувствовал, что накал встречи немножко спал. Потом говорю: «Можно мне посмотреть нашу первую гостиницу, где мы останавливались - вашу кухню?» Вышли на кухню: «Да, точно, мы тут спали. А вот тут стоял шкаф. Я за него держался и пел: «Союз нерушимый…» Хозяин вроде как с сомнением спрашивает жену: «Власта, он говорит, что у нас здесь тогда стоял шкаф». И вместе они вспомнили, что этот шкаф у них сейчас стоит в комнате, а тогда в 45-м году он действительно стоял на кухне. Вот тут он вспомнил все: «Да, у нас много было солдат, но этот - самый первый!» Я взял его адрес, и какое-то время мы переписывались. А на другой день мы с его дочкой и зятем гуляли по Праге. Но экскурсию проводили не они мне, а я им, потому что много чего знал, а они, коренные пражане, многого, оказывается, не знали. Впрочем, то же самое очень часто случается и у нас в Москве.
Вот вы упомянули, что пили какой-то розовый спирт. А не боялись, ведь в конце войны было очень много случаев отравления метиловым спиртом? У вас в дивизионе, например, не было таких случаев?
Были и у нас, но не очень громкие. Если кто чего, в своей санчасти полежит, касторки попьет. И даже не знаю, чем травились. Ведь во время войны пили и тормозную жидкость, и какие-то спирты, и даже как я вам уже рассказывал, немецкий искусственный бензин. Но вообще, у нас это не было проблемой, потому что мы в своем роде были военной аристократией - добровольцы. Ведь отбирали в корпус только лучших из лучших: членов партии со стажем, людей с высшим и средним образованием, комсомольцев и комсомольских деятелей. Это в танковых бригадах из первого набора добровольцев почти никого не осталось, потому что танкисты горели страшно и после каждой большой операции состав у них менялся чуть ли не полностью... А у нас в дивизионе потери были относительно небольшими, поэтому дисциплина всегда была на уровне.
Насколько я понял, потери у вас были единичные.
Из ста семидесяти человек состава наш дивизион потерял убитыми 28 человек. Погибали по-разному, но по большей части при артобстреле или под бомбежками. А от какого-то пулеметного или минометного огня погибали только разведчики, потому что мы выходили на такие позиции, где нас могли заметить и подстрелить. Еще среди водителей грузовиков, которые обслуживали нас, тоже было много погибших, хотя они вроде как и в тылу. Но ведь дороги постоянно прочесывали немецкие самолеты.
А вот у вас самого какое было ощущение, что погибнете или останетесь живым? Были ли у вас какие-то суеверия, приметы, предчувствия?
У меня была какая-то надежда, которая со време6нем переросла в какую-то уверенность, что меня не убьют. А из дома мне написали так: «Тебе дают второй орден, но мы страшно беспокоимся, зачем ты лезешь в пекло?! Будь осторожнее! Не надо напрасно рисковать!» И я ответил родителям примерно так: «Напрасно не рискую, просто четко выполняю свои обязанности, всегда осторожен. У меня на плечах всегда голова, а ни что-нибудь», и тому подобное. Отец ответил мне: «Мой мальчик, ты прислал нам очень хорошее письмо…» И потом, я всегда верил, что меня ждут, и их ожидание, как сказано у Симонова, дает уверенность, что вернусь. А так каких-то там талисманов… Вот у немцев это было развито. В каждой машине висел какой-нибудь талисманчик, на каждом артиллерийском орудии было что-то нарисовано, у кого утконос, у кого кенгуру и тому подобное. А у нас лишь на танках писали: «Смерть фашизму!»
Есть такое расхожее выражение «Перед атакой атеистов нет!» Да вы и сами говорили, что под обстрелом обращались к богу.
Ну, мы не имели в виду бога как такового, это просто как присказка: «Пронеси господи!» И вообще, на фронте верующих людей я не помню, хотя у нас служили и пожилые люди.
Тогда хотелось бы узнать о вашем отношении к замполитам.
Почти до самого конца войны замполитом у нас был просто великолепный, замечательный человек - Смирнов Дмитрий Ефимович. Журналист по профессии, довольно культурный и опытный, уже немолодой человек. А у нас во 2-й батарее телефонистом служил Петя Григорьев. Мы все были добровольцы, а он так дважды доброволец. В начале войны он добровольно пошел на фронт, но во время битвы за Москву получил страшное ранение, и его списали начисто. Но он стал хлопотать, чтобы его снова призвали, его не брали, так, в конце концов, он написал письмо Сталину, что его не берут в армию. И из канцелярии Сталина пришел положительный ответ и его зачислили в наш дивизион. Хотя по большому счету он больной был, и заикался, но не унывал, всегда сочинял какие-то стишки, песенки - «Получил я с Урала посылку…» Учитывая его здоровье, полную нагрузку ему не давали, но в карауле по ночам он стоял. Помню, в Брянских лесах среди елочек ему привиделись тени, и он открыл стрельбу из автомата. По тревоге все вскочили, но никаких следов не нашли. Может быть, на ветку птичка села, и обвалился снег. Ну, так вот, я до сих пор помню, как с ним душевно разговаривал Дмитрий Ефимович, даже учил его, как писать стихи.
Так что замполит у нас был замечательный, но перед самым Берлином его перевели в политотдел корпуса председателем парткомиссии. А нам прислали другого замполита, тоже майор, но совсем пожилой, совсем затюканный, и мы даже не слышали его голоса. Помню с ним один эпизод. Начальник штаба приехал на передовую, мы там были с Коваленко, и сказал, что Андреева надо взять в штаб, т.к. пришла новая документация: новые позывные, новая волна и надо разработать радиосеть от нашего дивизиона. Пусть он составит хоть одну схемку, никто кроме него у нас с этим не справится, а штабисты ее скопируют и размножат. Поехали, едем через немецкий поселок, а этот начштаба очень любил трофеи, это как раз с ним мы тогда нарвались на дамский пистолетик, и вдруг он говорит мне: «Давай, зайдем в домик!» Ну что, я подчиненный, зашли. Так не поверите, он даже стены простукивал, тайники искал. Специально для этого носил с собой тупую шашку, чтобы ее эфесом простукивать стены. По крупному искал, не тряпки. В общем, зашли в один дом - ничего. Заходим во второй, дом тоже пустой, тоже уже разграблен, и мы решили спуститься в подвал. Потому что обычно в подвалы немцы стаскивали большие сундуки с барахлом. Но наши солдаты и там уже побывали, все уже открыли, одежда и тряпье разбросаны по всему подвалу. И вдруг замечаем, что за большим сундуком с открытой крышкой кто-то прячется. Уже наученные горьким опытом он с одной стороны с пистолетом, я с автоматом с другой, начинаем обходить сундук. И вдруг за крышкой поднимается наш новый замполит, вздыхает так: «А я тут вот сыну пальто ищу…» Но он недолго у нас пробыл, его демобилизовали по возрасту, и после него у нас появился новый замполит.
Тоже пожилой майор, но боевой такой ивановский мужик, сильно окал. Все на «О» говорил, только фамилию мою правильно выговаривал - Андреев, а не Ондреев. Так вот он постоянно ходил с проверками и вечно читал нам нотации. А мы тогда уже стояли на границе Австрии и Венгрии, и наш дивизион расположили в трехэтажной казарме австрийских пограничников. И как-то он пришел в казарму, а дневальный явно не досмотрел: кто-то прилег днем и смял койку, кто-то плохо застелил, мусор на полу, в общем, непорядок, и этот начал свою «песню»: «Товарищи, ну что же это такое?! На физзарядку не выходят, койки не заправлены, полы не мыты! Разве так полы моют?! Воды налили, метлой размели, я, что ли к вам буду ходить, полы мыть?! Окончательно оскотинились!» И за то, что он так часто употреблял это слово, его так и прозвали – Оскотинились! Представляете, глагольное имя дали. Даже офицеры его так называли. Например, на кухне начпрод лейтенант Жуков, дневальным так и говорил: «Ну-ка, давайте, уберитесь, а то Оскотинились скоро придет». Хотя с командиром дивизиона было еще сложнее. Он все время хорохорился: «Мне партия и правительство доверили! Я вам не член собачий, а командир дивизиона!» Поэтому его так и прозвали - Партия и правительство. Так за глаза и говорили: «Вот Партия и правительство был», не был… Так вот, этого замполита так и прозвали - Оскотинились. А через некоторое время к нам пришло пополнение из бывших раненых, и ко мне в отделение попал радистом один парень после госпиталя. И когда он увидел нашего замполита, вдруг спрашивает: «А что, Оскотинились теперь у вас?» Представляете, оказывается, в его прежней части его точно также прозвали… Прочно так пришлепнуло этим прозвищем, что от этого оскотинились он никуда не мог деться…
А уже перед самой моей демобилизацией произошел такой эпизод. В дорогу нам полагалось выдать выходное пособие - две тысячи рублей и паек. А его выдавали на станции, расположенной где-то в километре от нас, где находились столовая и склад. Со мной за компанию пошли наши ребята-радисты. Получили паек, пошли обратно, уже стемнело, и у нас по пути деревенька из трех-четырех домов. Беленькие такие домики под черепичными крышами, видимо, там жили какие-то станционные рабочие или служащие. А мы идем и в темноте поем песню:
«Приятель смелей разворачивай парус,
ё-хо-хо веселись, как черт!
Одного сразила буря,
других согнула старость,
ё-хо-хо веселись, как черт!»
И вдруг спереди из темноты Оскотинились: «Это что еще за ё-хо-хо?!» Подходит к нам, в темноте меня разглядывает: «Андреев, это что за ё-хо-хо?!» - «Товарищ гвардии майор, это песенка из советского кинофильма «Остров сокровищ». - «Вы мне шарики не вкручивайте, я знаю советские кинофильмы! Мирные граждане услышат!» Ляпнул тоже - «мирные граждане»… Да их бы всех разогнать! Ведь это они выкормили такую армию, которая у нас в Торжке громила наши дома. Весь центр города сгорел при бомбежках... А когда мы наступали по Орловщине, то там вообще все деревни оказались сожжены дотла… Люди жили в землянках, но я даже не представляю, как они в них зимой выживали. Но австрийцев мы, конечно, не трогали.
Правда, был у нас один разведчик по фамилии Тузов. Бывший старшина батареи, которого разжаловали в рядовые за спекуляцию казенным бельем. Помимо всего прочего у нас были и простыни, которыми нам просто негде было пользоваться, так он их загонял полякам. И его за это разжаловали и направили к нам в разведку. Он, кстати, проявил себя довольно смелым, хладнокровным человеком, хорошо исполнял обязанности разведчика. (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из наградных листов, по которым разведчик-наблюдатель 248-го ОГМД старшина Тузов Владимир Иванович 1917 г.р. был награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, двумя орденами «Красной Звезды» и орденом «Славы» 3-й степени. Вот краткие выдержки из них: «На протяжении своей службы в дивизионе старшина Тузов неоднократно показывал образцы мужества и отваги. 15.01.45 г. в районе Халупки тов.Тузов пробрался в село и оттуда точно указал цели для батарей. В результате произведенных залпов было уничтожено до 200 гитлеровцев и 15 бронеединиц. 27.01.45 г. тов.Тузов отважно действовал в разведке в боях на р.Одер. По указанным им данным были даны залпы, которыми было уничтожено до 150 гитлеровцев и тем самым оказана существенная поддержка передовым частям, которые форсировали реку. 18.03.45 г. на плацдарме за рекой Нейсс тов.Тузов корректировал огонь дивизиона, в результате чего было уничтожено до 100 немцев. 19.03.45 г. старшина Тузов обнаружив в лесном массиве скопление пехоты противника, передал координаты для залпа, в результате которого было уничтожено до 50 гитлеровцев. 28.03.45 г. в боях в районе Крастплатц тов.Тузов обнаружил и сообщил о скоплении гитлеровцев, которые намеревались контратаковать. В результате произведенного залпа было уничтожено до 70 немцев и одна бронеединица. 21.04.45г. в боях за г.Лукенвальде тов.Тузов, находясь в боевых порядках пехоты, обнаружил несколько огневых точек и танков противника. По указанным им данным были произведены залпы, в результате которых было уничтожено два танка противника и четыре огневые точки. 23.04.45 г. в боях в районе г.Штоккен тов.Тузов передал координаты дзота, который мешал продвижению наших частей. В результате произведенного залпа были уничтожены дзот и до 30 вражеских солдат и офицеров. 29.04.45г. в боях на южной окраине Берлина тов.Тузов, находясь в разведке, обнаружив за домом трех фаустников, которые мешали продвижению нашей пехоты расстрелял их из автомата – прим.Н.Ч.) Никогда не трусил, но и про трофеи не забывал. То пальто найдет хорошее, в общем, хозяйственник до мозга костей. Но мы-то думали, что наше подразделение едва ли не почетное, а оказалось, что это чуть ли не штрафная рота для проворовавшихся старшин. Это ведь был не единственный случай, когда разжалованных направляли в разведку. В общем, заходим как-то в один богатый сельский дом, а там почти шикарная обстановка: сервант со стеклянными дверцами, фарфор и хрусталь за стеклом, горка зеркальная, большая, судя по всему хрустальная люстра, полированные стулья. Причем такая обстановка не считалась для их крестьянских домов чем-то из ряда вон. Я там совсем бедных домов и не видел. Насколько я понял, там или – или, или ты совсем никто и ничто, или ты хозяин. В общем, он как это дело увидел, то первым делом стал прикладом автомата бить люстру. Потом отодвинул сервант от стены, плечом подпер, и все это на пол повалилось, посуда и шкаф разбились… Я ему говорю: «Володя, чем они-то виноваты?!» - «Все они виноваты!» - «Такой ты стал дремучий вояка. Это же мирные немцы. Мало ли, что они у нас натворили. У меня, например, весь дом пропал, но я же ничего не ломаю. Это же люди создавали, лучше погрузи на грузовик и отправь в качестве трофеев. А топтать и бить зачем?!»
Но ведь тема мести только под конец войны постепенно сменила акценты. Ведь если вначале и по ходу войны знаменитым лозунгом стали строчки из одного из стихотворений Константина Симонова – «Сколько раз увидишь фашиста, столько раз его и убей!» И лишь под конец войны в «Правде» появилась статья, Сталина что ли, что есть Германия и германский народ, а есть фашизм, и нельзя эти понятия смешивать и так далее. И у нас по всем частям зачитывались приказы, чтобы ни в коем случае не проявлять варварство, мало ли что они у нас творили, это фашисты. А мы же не фашисты!
Но ведь сейчас «современные исследователи» только и трубят на всех углах, что воины Красной Армии в Германии чуть ли не поголовно грабили, убивали и насиловали. Вот у вас в дивизионе, например, было ли что-то подобное?
Помню, однажды осудили одного за изнасилование и мародерство. Причем трибунал вынес ему довольно нелепый приговор. Отправил его в штрафную роту, но с условием, чтобы в первый же месяц на передовой он убил не меньше тридцати солдат, и тогда он будет досрочно освобожден. Вот видите, немку изнасиловал, а чтобы искупить свою вину, должен убить тридцать немцев. И хотя это даже звучало смешно, но этот приказ зачитывали по всем частям и подразделениям. Но этот солдат был не из нашего дивизиона. А у нас я помню лишь один подобный случай.
В нашем дивизионе был взвод ПВО - две скорострельные зенитные пушки и два зенитных пулемета. Так его командир, лейтенант Пустовский, если не ошибаюсь, на Западной Украине что учудил. Уже после Каменец-Подольска из-за страшной распутицы его взвод решили оставить в каком-то городке, Острог что ли. Так этот лейтенант объявил себя комендантом этого городка, и стал требовать каких-то там податей с населения. Видно посчитал, что там поголовно все бандеровцы. И если жители не выполняли его приказ, то он из своих зенитных пулеметов расстреливал, прямо скашивал их вишневые сады. Напьется и начинает… Но как только это стало известно командованию, его сразу сняли с должности и трибунал отправил его в штрафной батальон. Там он «смыл вину кровью» - получил ранение в ногу, судя по всему серьезное, потому что после лечения его списали на нестроевою службу. А я так подробно знаю эту историю, потому что после излечения он заезжал к нам в дивизион попрощаться.
А вам допустим, не приходилось видеть случаи жестокого обращения с пленными?
Вообще, я заметил, что к пленным и к имуществу хуже всего относились те, кто находился во втором эшелоне и непосредственно не воевал. То повара, то штабные писаря, вот они могли над пленными издеваться. Как-то за Одером я даже вступился за немцев. Там взяли в плен несколько стариков из фольксштурма, и эта публика начала над ними издеваться. Началось все вроде как беззлобно: «Спойте нам немецкую песню!» Те, трое или четверо, стали приплясывать и старческими голосами петь песенку на немецком языке. Но потом над ними начали издеваться, кого-то ударили. Тут уж я не выдержал, подошел к ним: «Ты лучше пойди, повоюй с ними на передовой, а чего ты здесь воюешь с безоружными стариками?!» Тот схватился за кобуру: «Ты фашистам сочувствуешь!», на что я выставил ему навстречу автомат… А часовые, которые их охраняли, стоят и ноль внимания. Вроде, как и нормально, что над ними издеваются… Кстати, я вам забыл рассказать, как мне пришлось участвовать в пленении ста с лишним пленных.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
 |
Андреев Л. В. |
Еще где-то в Польше мы во время марша остановились на ночлег на площадке у какого-то хуторка. Как обычно на случай круговой обороны поставили свои «катюши» веером, расставили посты, и когда уже движение по дороге почти совсем прекратилось, из ближайшего леса к нам вдруг пришел парламентер. Причем он оказался русским. Был где-то старостой, а потом его забрили в армию. В общем, он пришел и рассказал, что в лесу группа из двухсот немцев хочет сдаться в плен. Но только они боятся, что их расстреляют и хотят гарантий. Наш особист Горенских для начала дал ему по уху, и мне это было очень неприятно. Спрашивает парламентера: «Может, вас расстрелять?!» Тот отвечает: «А может, не стоит?» Потом взял из батареи двух автоматчиков, а в качестве переводчика подвернулся я. Вообще-то у нас по хозяйственной части служил один немец из Поволжья, который великолепно говорил по-немецки и поэтому если что, в качестве переводчика привлекали именно его. У него была трофейная, очень злая овчарка, которая слушалась только его, а больше никого не признавала. Правда, потом оказалось, что он был немецкий агент, шпион, и его арестовали чекисты из штаба армии. Так это или нет, не знаю, но потом ходили такие разговоры, что он передавал немцам какие-то сведения.
Еще у нас был такой Ходес – еврей с Украины, командир орудия, который умел хорошо объясниться на немецком. Вот это были два наших основных переводчика, а я считался то ли на третьем, то ли на четвертом месте по знанию немецкого, но тут, как говорится, попался. Горенских увидел меня: «Андреев, пойдем!» Мой командир взвода пытался протестовать: «Он же радист!» - «У вас радистов много, а мне сейчас нужен переводчик». Короче говоря, пошли мы с этим полицаем в лес. Приводит на поляну, а там черным черно от людей… Тот по-немецки крикнул: «Привел русских командиров!», автоматчики сразу разошлись. Я стою рядом с Горенских и на ломаном немецком языке пытаюсь объяснить: «… что война идет к концу, вы окружены, и дальше воевать бессмысленно, скоро падет Берлин, Германия капитулирует. А в плену вам гарантируется жизнь. Вы будете отправлены в тыл, в лагеря военнопленных, а после войны, когда будет подписан мирный договор, вас вернут домой». Они мою речь выслушали и начали бузить между собой. Потом Горенских это надоело: «Все, надо прекращать этот базар! Скажи им так: кто хочет в плен - пусть встает направо. Кто не хочет – уходит налево». Подействовало. Больше ста человек все-таки решили сдаться в плен. Со всех собрали оружие, и навешали на нескольких человек, которые потащили его на себе. Выстроились в колонну по двое и двинулись. Но в полной темноте мне казалось, что по снегу движется такая черная змея. И только вышли из леса, как на наше несчастье как раз в это время по дороге на большой скорости проезжала малокалиберная зенитная скорострельная пушка. В войсках ее прозвали «дай-дай-дай-дай», потому что она давала по четыре короткие очереди. Но за все время на фронте я ни разу не видел, чтобы из нее сбили хоть один немецкий самолет. В общем, когда они в темноте увидели, что из леса выходит колонна немцев, то с перепугу развернули пушку и прямо на ходу дали свою короткую очередь и укатили дальше. Эти немцы сразу заорали, что вроде измена, обман, предательство, кто-то даже попытался забрать оружие. А кто-то из тех, что шел впереди колонны позади Горенского, дал ему по уху, тот рассвирепел, вытащил пистолет, наши автоматчики с двух сторон навели на них автоматы. Я же начал орать: «Ошибка, ошибка - дефель! Тише!» Когда волнение немножко улеглось, пошли дальше. Потом с сопровождающими отправили их в тыл, и так наш дивизион записал на свой счет 113 пленных.
Часто потом вспоминали войну?
Когда мы на гражданке собирались и за столом вспоминали фронт, то почему-то приходило на память только смешное. Никогда не вспоминали, например, как перевязывали развороченную плоть товарища… То ли не хотелось вспоминать, то ли было уже какое-то другое, веселое настроение, что выжили, и живем много лет после такой страшной войны. Вроде участвовали в великом деле, и целы остались - повезло… А наши жены нас корили, вот мы слушаем ваши воспоминания, и такое ощущение, что вы как будто и на фронте не были, а только пьянствовали и дурили…
| Интервью: | А. Драбкин |
| Лит.обработка: | Н. Чобану |