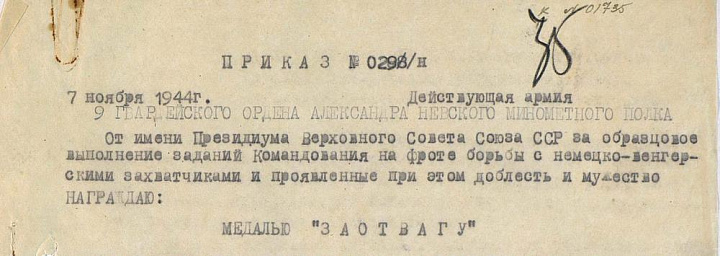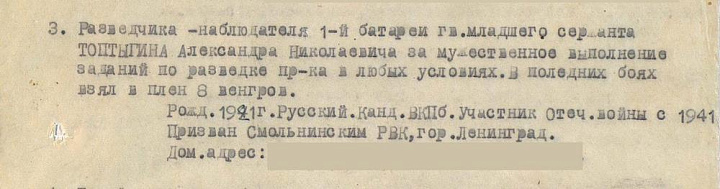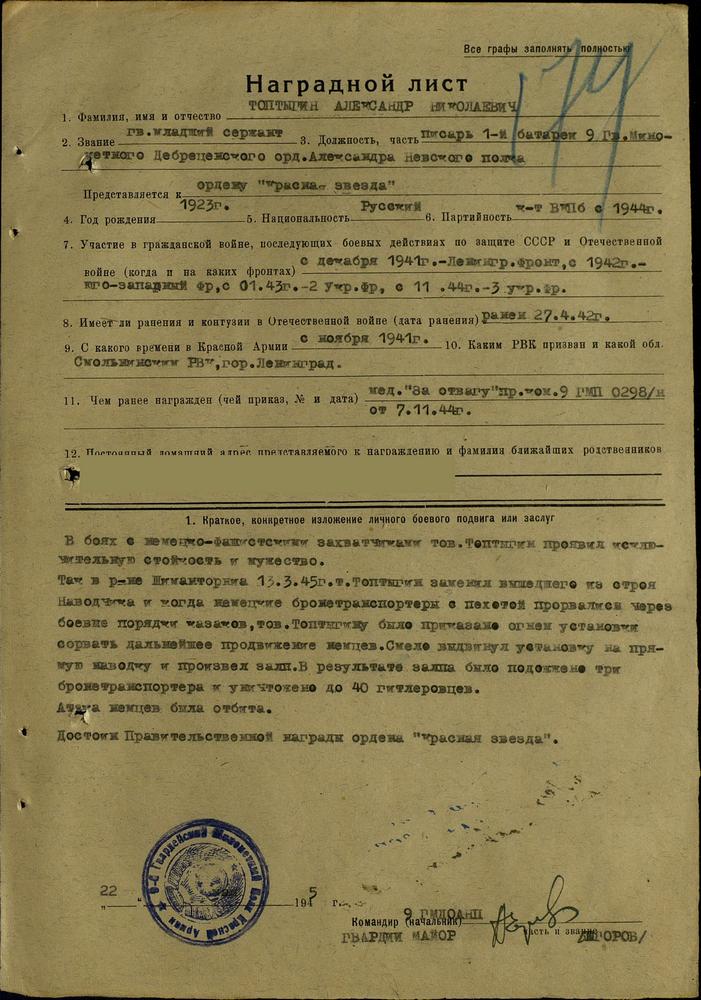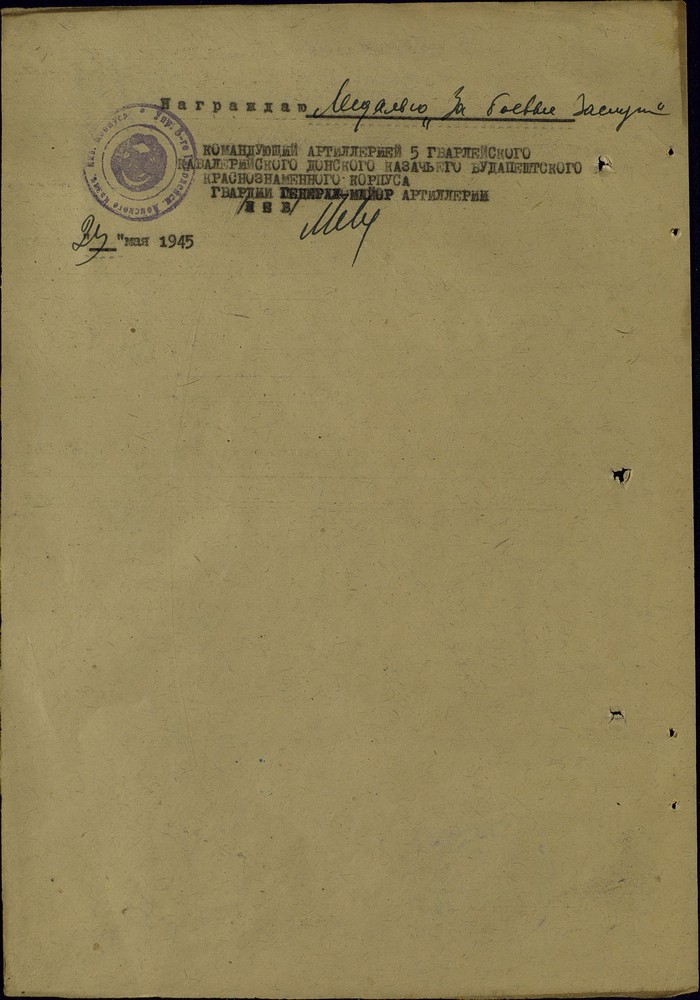Я, Топтыгин Александр Николаевич, родился 21 сентября 1923 года в Костромской области Чухломского района, деревня Куликово. Мой отец в десятилетнем возрасте был отдан «в мальчики» к купцу Чернову в Санкт-Петербург. Его и других «мальчиков» готовили в продавцы мясных отделов – рубить мясо и торговать им. Во время Первой мировой войны отец служил в царской армии, а после революции воевал на стороне красных. В 1920 году его направили учиться в Кремлёвскую школу, и он один год отучился в кремлёвской школе, видел и Ленина, и всё правительство. Но он рассказывал, что учиться ему было очень сложно потому, что в детстве он только полторы зимы ходил в школу. «А здесь, – говорит, – начались дроби: простые, десятичные, а я ничего не понимаю». Тогда было заведено: где призывался, там можно было и демобилизоваться. И когда он поехал в отпуск, его родители уговорили, он пошел в Военкомат и демобилизовался. Ему это потом припомнили.
В 1931 году деда нашего хотели раскулачить потому, что были у него две коровы и лошадь. Собирались раскулачить там ещё две семьи, а всего-то в деревне было 29 дворов. Соседа собирались раскулачить потому, что у сына был баян, и в доме стояла железная кровать с блестящими шариками (рассказывает, улыбаясь) И третью семью из четырнадцати человек – за то, что у них было две коровы и две лошади. Представляете себе: мать, отец, сын невестка и десять человек детей – и вот тоже хотели раскулачить! Руководил комитетом бедноты Алексей Васильевич Малыгин, Георгиевский кавалер, награждённый Георгиевским крестом. У него тоже было семь человек детей, корова и лошадь одна, а детей – много. И вот решили раскулачить эти три семьи, всё у всех уже описали, но на счастье вечером шел секретарь Райкома, и он запоздал. А так как наш дом был самый крайний, он остался у дедушки с бабушкой ночевать. И спрашивает у деда: «В чём дело, почему плачет Елизавета Нестеровна?» Дед говорит: «Так нас раскулачивают!» Он спрашивает: «Как раскулачивают, вы что, держали работников каких-то?» Дед отвечает: «Нет, мы не держали работников. Нас только из-за того, что держали две коровы, и сын нам помогает из города, и невестка с детьми приезжает на лето». Ну и тогда он говорит: «Геннадий Александрович, сходи к этому самому Малыгину, пусть завтра утром он соберёт сход. Я на этом сходе всё разъясню». Я так думаю, что в это время вышла статья Сталина «Головокружение от успехов». Дед сходил к Малыгину, собрался сход и этот секретарь объяснил, кого надо раскулачивать. В общем, от деда и от этих двух семей отстали, и у нас в деревне никого не раскулачили, а так бы было бы...
Папе об этом напомнили в 1937 году. В том году он потерял паспорт и военный билет. Это сейчас пришел в паспортный стол, написал заявление, заплатил – и всё. А в то время надо было ехать на Дворцовую площадь – тогда площадь Урицкого, в главный штаб. Вот он пришел в главный штаб, а там сидит мужчина в кителе, как у Иосифа Виссарионовича, и говорит: «Ты, во-первых, сбежал из Кремлёвской школы в 1921 году, потом твою семью хотели раскулачить в 1931 году. Кому, мерзавец, продал паспорт и военный билет?!» Отец говорит: «Да не продавал я никому, вытащили у меня из кармана!» Ну, в общем, этот товарищ ему сказал: «Моли Бога, что я сегодня добрый и мне жаль твоих четверых детей, а то копать бы тебе золото на Колыме!» В общем, отец заплатил по сто рублей за паспорт и за билет, а в то время это были огромные деньги – у отца зарплата составляла триста рублей.
В 1926 году маму, меня и сестру, 1926 года рождения, отец перевёз в Ленинград. Жили мы на Невском проспекте, дом 132, квартира 26. Каждое лето нас вывозили в деревню, где жили мои бабушка и дедушка.
В 1931 году я должен был пойти в школу, но заболел коклюшем и пришел в первый класс не первого сентября, а где-то в октябре. По направлению РайОНО (районный отдел народного образования) пошел в школу для трудновоспитуемых, находившуюся в Александро-Невской Лавре. В эту школу я попал потому, что в других уже не было мест. К этому времени я умел бегло читать, может быть, не понимая прочитанного, но даже газеты читал бегло. Писать умел только печатными буквами, но в школе научили и читать, и писать. Полкласса у нас были ребята из детского дома, но нормальные были мальчишки. Девочек в классе не было. Запомнились уроки труда, на которых мы из спичечных коробков клеили трактора: из больших коробков делали задние колёса, а из маленьких – передние. В этой школе я учился только в первом классе. В то время были карточки, и мне за хорошую учёбу даже дали ордер на пальто. На этот ордер пальто себе купила мама, а мне просто сшила.
Жили мы небогато, мама работала на фабрике «Красная Работница» гладильщицей – там шили рубашки, а она эти рубашки гладила. Отец продолжал работать по специальности – мясником в мясном отделе магазина. К 1931 году нас было уже четверо: в 1928 году родилась сестра и в 1931 – брат, с нами ещё проживала бабушка. Жили мы в 29-метровой комнате трёхкомнатной коммунальной квартиры. Отопление было печное, в каждой комнате стояла своя печь и на кухне – большая дровяная плита. Горячего водоснабжения не было, из удобств – только уборная. Наша комната была самой большой. В средней комнате – 22 метра – жила семья из пяти человек, и в маленькой девятиметровой комнате жила семья из четырёх человек: муж с женой и двое детей. Все жили мирно и дружно, и даже после войны, когда разъехались, продолжали ходить друг к другу в гости.
Во второй класс меня перевели в обычную школу №111, на Невском, 176, в которой я и проучился до десятого класса. У нас в классе было 43 человека и в нашем классе не было такого, чтобы кого-нибудь репрессировали. Правда, в шестой класс к нам пришел Женя Федотов. Его отца репрессировали, он работал в советском посольстве в Англии и в Японии. Этот Женя в совершенстве знал английский язык, а в школе у нас как раз преподавался английский язык. До окончания школы Женя учился с нами, дружил с ребятами, я у него и дома был. Он жил на Конной, где и я сейчас живу. У него был дома патефон и очень много пластинок, мы к Жене ходили их слушать. Он жил с мамой и тёткой, а отца его расстреляли, но потом, после войны, реабилитировали. Этот Женя воевал, награждён орденом «Красная Звезда», орденом «Отечественная Война», медалью «За Отвагу», потом две медали «За Боевые Заслуги». Когда он демобилизовался, то хотел поступить в «Военмех» – а он окончил школу с серебряной медалью – но ему ректор «Военмеха» сказал: «Я не имею права Вас не принять, так как Вы медалист, но только я хочу Вас предупредить: я не знаю, куда Вы после окончания нашего учебного заведения пойдёте работать», и посоветовал ему идти в Холодильный институт. Женя поступил в Холодильный институт, окончил его и стал работать в том же институте преподавателем, потом стал там завкафедрой, два года был освобождённым секретарём партийной организации своего института. У него было трое сыновей. Вот такая судьба у Жени Федотова.
Меня в школе не приняли в комсомол потому, что по некоторым предметам у меня были тройки: например – по русскому языку, в письменных работах допускал много ошибок.
Когда мы учились в последнем классе, к нам стали приходить представители военных училищ, агитировали поступать в их училище. Вот здесь, на Садовой – где сейчас Суворовское училище – тогда располагалось пехотное училище, оттуда к нам тоже приходили офицеры, призывали поступать в пехотное училище. У меня был закадычный друг – Юра Свинтульский, его отец носил в петлицах два ромба, на рукаве знак – щит и меч. Они вчетвером – родители и двое детей – жили в двух комнатах пятикомнатной коммунальной квартиры. Помню, в комнате родителей на стене висел ковер, на котором были прикреплены: винтовка, шашка и «маузер» в деревянной кобуре. На кобуре была серебряная пластина с надписью: «Свинтульскому от Фрунзе, за храбрость» – это именное оружие отец получил за бои с басмачами в Средней Азии. Ещё у отца Юры под подушкой лежал пистолет «ТТ», мы его часто разбирали, а тут решили разобрать «маузер»: разобрать-то мы разобрали, а собрать не можем. В общем, у нас не хватало сил завести одну пружину, а тут как раз пришел отец и говорит: «Наконец-то я вас поймал! Ну что, хотите быть военными – ко мне в училище: стрелять вы научитесь в муху на лету, будете знать один иностранный язык в совершенстве!» А он, оказывается, руководил училищем МВД, в общем – выпускали работников «Смерш». Юра сразу сказал: «Папа, я не пойду». А я говорю: «Я спрошу отца с матерью». Когда я маме рассказал об этом предложении, она сказала, что «куда угодно, только не туда, а то мы тебя никогда и не увидим!» Ну и я тоже отказался и подал документы в танковое училище.
21-го июня у меня был выпускной вечер, а 22-го мы с отцом пошли в баню, находившуюся на Первой Советской улице. Мы помылись, выходим из бани, видим – стоит огромная толпа. Вот тут, где Суворовский проспект выходит на Невский, были установлены уличные репродукторы, и выступает Молотов. Здесь мы с отцом узнали, что началась война. Отец у меня был 1897 года рождения, на девятый день войны его вызвали в Военкомат и сразу – на сборный пункт. Я тоже хотел с ним – добровольцем пойти, но он сказал: «Нет, ты у меня старший, будешь помогать матери. Война завтра не закончится». Отец был мудрый человек, несмотря на то, что у него не было большого образования. В армии отец служил командиром отделения разведчиков, их часть направили под Кингисепп, где он был ранен в руку и ногу, лечился во Втором Медицинском Институте. Помню, после войны он рассказывал, как тогда же под Кингисеппом их послали разгружать эшелон с боеприпасами, а в ящиках вместо патронов оказались гвозди, представляете? Значит, было и какое-то вредительство. Отца демобилизовали в 1944 году – от близкого разрыва у него лопнул зрительный нерв, и он одним глазом не видел. В 1942 году в Вологде мы с ним лежали в одном госпитале и не знали друг о друге: он лежал на первом этаже, а я – на втором. Потом он оказался в госпитале в Свердловске, а я – в Молотове, в Перми. Я сам писать не мог, первые письма мне писала девочка – такая, лет одиннадцати, приходила со школы. Я ей диктовал, она писала. Ну, я там матери писал, что «ты не волнуйся, что пишу не я, а вот девочка-школьница потому, что у меня нет сил» – я весил 38 килограммов. Мама написала письмо отцу в Пермь, и он первым прислал мне письмо.
Людей с нашего двора, в том числе и меня, послали на рытьё окопов и противотанковых рвов под Лугу. Там отобрали триста мужчин непризывного возраста и таких, как я, пацанов, посадили на машины-пятитонки и отправили на танкоопасное направление. Там дорога проходила между двумя болотами, надо было выкопать противотанковый ров глубиной три метра и длиной триста метров поперёк этого перешейка. Руководил нами капитан, с одной «шпалой». Он ездил на «эмке», привозил нам хлеб, консервы, молоко и питьевую воду. Только мы вырыли этот ров и начали дёрном обкладывать бруствер, как появились немецкие танки. Так я впервые увидел немецкого офицера: он сидел, высунувшись по пояс из люка первого танка, на нём был чёрный кожаный шлем и чёрная форма с засученными рукавами. За первым танком маячили ещё два. От нас он остановился приблизительно в полукилометре, но по нам они не стреляли. У нас ничего не было, кроме лопат и мотыг, капитана в тот раз не было, и мы убежали. Вскоре таких, как я ребят, подавших заявления в разные училища, вызвал Военком: «Танковое училище – часть уехала на фронт, часть – эвакуировалась» Нам посоветовали поступить в другие, мне предложили Военно-медицинское или Ветеринарное училище – я отказался: «Никуда не пойду, кроме технического: или авиатехническое, или танковое – больше никуда не пойду!» Тогда военком мне выписал направление на Тележную улицу, где и сейчас находится авторемонтный завод. С этим направлением я туда пришел, и меня оформили учеником слесаря по ремонту автомобилей.
Мы занимались тем, что легковые машины «М-1» – «эмки» – переделывали в броневики. Это сейчас у легковушек нет рамы, а тогда у машин была мощная рама, на которой всё крепилось. Мы снимали кузов, на раму крепилась броня, устанавливался пулемёт – получался двухместный броневик. Двигатель у «эмки», кажется, 75 лошадиных сил, экипаж состоял из водителя и стрелка. Потом мы ещё ремонтировали повреждённые командирские «М-1», приходившие с фронта. Иногда привозили «Зис-101» – у них шестицилиндровые двигатели, на этих машинах ездили большие начальники. Но в основном мы специализировались на «М-1». На нашем заводе организовали партизанский отряд для заброски в тыл противника, командиром отряда назначили директора завода. Вечером после работы мы ходили в Лавру – учились ползать по-пластунски, бросать учебные гранаты, у каждого была финка, которые мы тренировались метать. Из фанеры были вырезаны силуэты, и мы должны были уметь так метнуть финку, чтобы она вонзилась в грудь или спину. Но из нас никого не успели отправить в отряд. На этом заводе я проработал до второго ноября 1941 года.
С завода нас тоже посылали на рытьё окопов. Я копал противотанковый ров под Колпино – там вдоль речки готовилась линия обороны. С нами работало много ребят из ремесленных училищ, они все были одеты в чёрную ремесленную форму. Немецкие лётчики думали, что это роют моряки, и поэтому обстреливали нас. Мы стали просить этих ребят, чтобы они сняли свою чёрную форму. Там я услышал, что замкнулось кольцо блокады. Ещё узнал, что упала бомба на Невском, 119. Я сказал своему старшему, что съезжу в город, посмотрю – тогда ещё до Колпино ходили поезда. От Московского вокзала до моего дома недалеко. Я зашел домой, потом сходил посмотреть на дом №119. Ещё бомба упала на углу Перекупного переулка и Староневского, но она попала не в сам дом, а в ступеньки магазина, видно, бомба была небольшая, и одна бомба упала на Невском, 176, в садик. В доме 176 до войны была школа, а теперь располагался госпиталь. Перед зданием за оградой был небольшой садик, куда и упала бомба. Тогда же, в сентябре, бомба попала в здание госпиталя на Суворовском проспекте, погибло очень много раненых и медперсонала. Мой двоюродный брат работал в этом госпитале электриком, так его взрывной волной выбросило из окна второго этажа, но он остался жив.
Листовки немцы тоже бросали, но я их не читал. Потом, в 1942 году, когда воевал на Волховском фронте, видел листовку, на которой был изображен красноармеец, бьющий по лицу политрука, у которого из глаз летели искры. Под рисунком была подпись: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича». На обороте был пропуск в плен и написано что-то вроде: «надевайте эту листовку на штык и идите к нам!» Я не помню, чтобы в городе у людей были пораженческие настроения, но люди, конечно, были разные. Например, у нас в деревне был один парень, мы с мамой приехали в деревню на лето, а он учился в Ленинграде на парикмахера и приехал в отпуск. А я тогда как-то оброс, мы с товарищем пришли к нему и говорим: «Костя, подстриги нас». Он нам дал ножницы и говорит: «Вот, выстригайте себе волосы, потом я вас машинкой подстригу». Ну, мы выстригали-выстригали, а потом он говорит: «Пошли все вон!» – ну, мы взмолились! Тогда он нас заставил драться до первой крови. Мы были мальчишки, нам по восемь лет было, а он был садист самый настоящий. Потом он нас всё-таки подстриг потому, что мы пригрозили, пожаловаться родителям. А во время войны вместо того, чтобы идти в армию, он ушел в банду. Его расстреляли здесь, в Питере.
Осенью уже ввели карточки, подступал голод. На хлебные карточки я покупал не хлеб, а бисквит – он лёгкий и получалось больше. Вместо сахара мы выкупали шоколад, а шоколад был не плитками, а кусковой, и мама мне говорила: «Когда кончится война, мы будем есть только бисквит и шоколад.» Перед войной мама работала в ателье, теперь они шили солдатские рукавицы, фуфайки и ватные брюки.
Во время налётов мы дежурили на крышах. Помню ночной налёт, когда бомбой в зоопарке убило слона и тогда же сгорели «американские горы» – этот аттракцион находился в саду «Госнардома», рядом с зоопарком. Напротив нашего дома по адресу Невский, 95 находился банк, и я помню, как в его огромных окнах отражалось зарево этого пожара.
Второго ноября меня вызвали в Военкомат, я прошел медкомиссию и восьмого ноября был в Училище Связи. На базе Училища Связи была организована Ленинградская военная школа по подготовке радиоспециалистов. В ней было три батальона, в каждом батальоне – по тысяче человек. Школа находилась на Суворовском проспекте и Парадной улице.
Мы жили в казармах, очень было голодно, очень. Ну, представляете себе – ложка манной каши. Когда мы поступили в школу, там ещё работали вольнонаёмные официантки. Так вот, курсанты голодные, официантки несут поднос, а на подносе в каждой тарелочке – ложка манной каши. Курсант сзади подбегает, хвать тарелку, лизнул и всё – тарелка пустая – вот так вот крали! Варочные котлы были в подвале, электричества уже не было, и подъёмник не работал. Стали носить обед по лестнице. Вот несут первое, а что там – вода да две крупины. Несут по лестнице два курсанта эту огромную кастрюлю, а там за каждой дверью стоит курсант с железной банкой и когда мимо проносят эту кастрюлю – он черпает. Стали посылать офицера, сперва одного, а потом – двух: один впереди идёт, а второй – сзади. Мы все были молодые пацаны 1923 года рождения, нам не хватало. Вот сейчас продают хлеб в нарезке – тогда были сухари, как один кусочек этой нарезки. Представляете себе, один такой сухарь на целый день – и всё! Было, конечно, страшно. Умирать курсанты не умирали, но в госпиталь их отправляли. Мы ходили в наряды, охраняли территорию, охраняли склады. В нашем батальоне были польские винтовки с ножевыми штыками, но патронов нам не полагалось – винтовки были учебные с просверленными сбоку стволами. Только часовым, охранявшим склад с боеприпасами, выдавали нашу боевую трёхлинейку. Как-то я стоял на этом посту, и шел проверяющий – замкомандира батальона по политчасти. Он идёт, я кричу: «Стой, кто идёт!?» – а сам – в ровик. Он продолжает идти, я ему – ещё раз, затвором клацнул и говорю: «Кругом, ложись!» Я нажал на кнопку, прибежал разводящий со сменой, я командую: «Разводящий ко мне, остальные – на месте!» Разводящий подошел: «В чём дело!?». Я говорю: «Вот пойди, проверь – вон лежит человек, я его положил, не даю ему пошевелиться». За это дело я получил перед строем благодарность (смеётся), и меня отпустили на день навестить в госпитале папу – он лежал на Народной улице там, где сейчас госпиталь ветеранов войны.
Был такой случай: двух курсантов назначили в патруль на территории училища, а на территории училища находился магазин для гражданских лиц, там жили жены офицеров и они отоваривались в этом магазине. На его дверях висел обычный замок. Они ходили-ходили и воткнули туда польский штык. Раз – и выдрали этот замок, наелись там шоколада, набрали себе в карманы, а потом думают: «мы-то поели, а другие?» Выкатили на улицу бочку повидла и оставили, а сами вроде бы продолжают ходить. Утром, когда все вышли на физзарядку, смотрят – стоит открытая бочка с повидлом, ну и все набросились на это – вот и всё. Начали искать, кто же сделал это, ну и у них на штыке оказалась зазубрина от замка. Посадили на гауптвахту, и потом отправили в штрафную роту.
Сперва мы интенсивно учились, а потом не стало сил. Вот позавтракаем – и все идут в казарму. Но я был более или менее ничего – вместо того, чтобы идти в казарму, я шел на улицу Салтыкова-Щедрина, на которой был разбитый двухэтажный дом, и собирал там разные деревяшки – от рам и тому подобное, снимал с себя ремень, связывал дрова и тащил эту вязанку во взводное помещение. Там у нас в центре стояла «буржуйка», от которой шел рукав в большую круглую голландскую печь. Все сидят вокруг, уши у шапок опущены, занятий нет – не могут, нет сил. Меня сажали на почётное место к этой печурке, я укладывал дрова, поджигал – и всё. Меня никто и не спрашивал, где я ходил.
Я и в самоволку часто бегал. Вот играют сигнал: «Воздушная тревога!» – я по Парадной улице, через Восьмую Советскую, по Греческому проспекту и – на Вторую Советскую. Дом 19 был проходной, и я прибегал домой на Невский, 132 посмотреть, живы ли моя мама, сёстры и брат. Потом начинает метроном стукать (отбой тревоги) – я бежал обратно, но, конечно, всегда опаздывал. Старшина меня иногда спрашивал, а я говорил: «Да я в щели заснул». В общем, не попадался, а то бы тоже отправили в штрафную – за самоволку.
Один раз было: я в наряд не попал, а старшина мне говорит: «Отнеси-ка сахар в наряд – тем, кто дежурит на кухне». Я, значит, отдал ребятам сахар, они мне говорят: «Да ладно, не надо, вон мы целое блюдо нашли в духовке». Ну а я начал смотреть, чего бы там можно было поесть. Они мне дали хлеба потому, что нашли и сахар, и хлеб, я поел хлеба с сахарным песком, и говорю: «Нельзя ли тут чем-нибудь поживиться?» Они говорят: «Вон там селёдочные головы лежат и коровье вымя». Я набрал пол эмалированного ведра селёдочных голов, взял нож и отрезал кусок вымени, положив его в это же ведро. Думаю: а как же вынести? Взял ведро под шинель, сунул руку в карман шинели, взялся за дужку ведра и пошел. А там – когда выходишь из помещения, где стоят котлы – шел такой тёмный коридор, из которого был выход на улицу и на лестницу. Я побежал по коридору, а навстречу – дежурный офицер, политработник: «Ты куда?» Я не растерялся и говорю: «Наверх, титан топить», – и он не остановил меня. Я прибежал на второй этаж в своё взводное помещение, а нас там оставалось три или четыре человека, которые не в наряде были. Я прибежал и говорю: «Ребята, сейчас будем!..» (смеётся) Отрезали по куску вымени – в кружки, в печку, запах такой!.. Наелись селёдочных голов. Услышали об этом в наряде, пришел командир отделения: «И нам надо в наряд». Взял селёдочных голов, отрезал вымя, отрезал другой кусок – даёт мне, и говорит: «Это для твоей матери, она завтра придёт, сестрёнок и братишки». И положил к себе в тумбочку, а тумбочка у него была на замке. Мы так наелись, что уснули, так из соседнего взвода у нас украли оставшиеся селёдочные головы вместе с эмалированным ведром. Ко мне приходила мама и приносила папиросы, я не курил, а раздавал их ребятам. И в тот раз отдал маме этот кусок вымени.
На улице Воинова мы охраняли офицерский дом – офицеры были все на фронте, а жены – эвакуированы. Мы этот дом охраняли, чтобы туда не лазали. И мы там нашли пакет с рисом, взяли на кухне кастрюлю, налили воды, стали варить. Получилась огромная кастрюля рисовой каши. Мы наелись до отвала и ещё осталось. Ребята говорят: «У тебя тут тётка с тремя детьми, живёт, на Таврической 27, отнеси ей туда, пусть они поедят хоть немножко». Я отнёс им эту кастрюлю. Ну не жадные были, представляете себе? Сейчас не могли бы так, а тогда было такое взаимоотношение.
Самое тяжелое время было конец декабря – начало января. В начале января из нас отобрали сто человек, которые были более или менее, и отправили в Левашово. Мы там продолжали заниматься и уже дежурили – по четыре часа – на радиостанции. Нас учили работать на радиостанции «6-ПК», была такая деревянная, потом «РБ» – она из двух частей: приёмник-передатчик и упаковка – питание. Тут мы работали на ключе азбукой Морзе, принимали радиограммы с Карельского фронта (вероятно, имеется в виду участок Ленинградского фронта, проходивший по Карельскому перешейку) и отправляли их сюда, в Ленинград.
Жили мы в летних домиках. Как-то я был дневальным, и от соседнего забора оторвал три доски, а там была чья-то генеральская дача, а мы об этом и не знали. Меня увидели, старшина доложил нашему начальнику. Капитан вызвал меня к себе, а я маленького роста, такой – хилый. Бить он меня не стал, единственно только сказал: «Десять суток строгого ареста. Приедем в Ленинград – отсидишь». Ну, я говорю: «Слушаюсь, разрешите идти?»
Здесь, в день Красной Армии и Военно-Морского флота, 23 февраля 1942 года, я первый раз, ну и в последний, попробовал кошатины. Прихожу с дежурства – во взводном помещении сидят два дневальных. Они мне говорят: «Сегодня же у нас праздник, хочешь выпить и закусить?» – я говорю, что не пью. «Да ну, чего ты, выпить – валерьянка!» Налили мне из какого-то пузырька чуть-чуть валерьянки, разбавили водой, я эту валерьянку выпил, и они мне говорят: «Вон там в котелке суп, в печке стоит». Я вытащил котелок, там действительно суп с пшеном. Ну, я стал есть – там косточки, мясо такое белое. Я съел этот суп, они вдруг говорят: «А это кот Васька». Меня начало тошнить, но как-то не вытошнило. Оказывается, они поймали кота – там был кот Васька – зарезали его, но половину кота от них отобрал командир взвода, облил керосином и сжег, а полкота они успели спрятать. Вот так вот было, тяжело.
Там же, в Левашово, нас повели в баню, и когда мы пришли в баню и разделись, то кожа у всех была, знаете, как у кур – вся в пупырышках. После того, как помылись, старшина раздавал мазь, чтобы у нас не было вшей – смазать подмышками, лобок помазать. А там же мылись какие-то офицеры, они нас спросили: «Ребята, вы откуда такие?» – мы рассказали, откуда мы. А у одного из наших ребят после того, как носили брёвна, в паху образовалась грыжа. Они увидели и спрашивают: «А почему не в госпитале?» Он говорит: «А никто не хочет отправлять меня в госпиталь!» Они спрашивают: «А обед у вас когда?» Мы говорим: тогда-то у нас обед, в такое-то время. Ну, и всё. А это, оказывается, были «особисты», скорей всего фронта. На следующий день сели мы обедать, нам принесли первое, в это время подъехала «эмка», из неё выскочили три офицера. Они влетели, сразу: «Где старшина? Где повар?» В это время из машины выходит – в гражданском пальто, пыжиковой шапке в белых бурках, как оказалось – член Военного Совета, фамилию его я не помню, да он и не представился. Кто-то скомандовал: «Встать!» – а он говорит: «Сидите-сидите! В столовой команды не подают». Он снял своё пальто, повесил на гвоздик пыжиковую шапку и говорит: «Кушайте». Посмотрел, что мы кушаем, а там – вода и несколько крупин плавает кое-где. На второе была гороховая как бы каша. Повар в неё от страха бухнул много масла. Дежурные приносят бачок – на двенадцать человек, он подходит, берёт ложку, мешает и говорит: «Вот это – первое. Ну, продолжайте кушать». Старший по столу всё разложил, мы поели, вышли, нас построили и повели во взводное помещение. Эти офицеры, что с ним приехали, быстро прошли к старшине, и нашли сразу пятачок, приклеенный у него под чашкой весов, на которых развешивали хлеб – каждую пайку он на пять грамм обвешивал. Когда мы пришли во взводное помещение, никаких занятий уже нет. Вдруг за дверьми слышим голос этого члена Военного Совета: «Товарищи офицеры, я вас прошу остаться тут!» – а сам зашел к нам и закрыл за собой дверь, мы, естественно, встали. Он говорит: «А где ваш старшина-то спит?» Ну мы, конечно, показали: старшина спал на втором ярусе, первое место. Он подходит и полез под матрац, мы говорим: «Не трогайте, не трогайте, а то он нас накажет!» А он говорит: «Меня не накажет». У старшины под подушкой оказались две буханки хлеба и полевая сумка. Он её открыл, а сумка набита деньгами! Он стал нас расспрашивать: подходил к каждому и расспрашивал. Один рассказал, что капитан выбил ему зуб рукояткой пистолета, другой пожаловался, что у него грыжа. Я рассказал, что получил десять суток ареста за то, что оторвал от генеральского забора несколько досок. Он всех опросил и ушел.
Вечером нас стали вызывать к начальнику, там сидел наш командир и эти офицеры. Нас просили повторить, что мы говорили. Выяснилось, что кроме того, что каждого из курсантов обвешивали на пять грамм хлеба, нас заставляли пилить дрова, говоря, что они идут к нам в училище, а оказалось, что их возили на рынок. Потом нас отправили в Ленинград, и вскоре сообщили, что капитана и старшину по фамилии, кажется, Кириченко, разжаловали в рядовые и отправили в штрафной батальон.
Нам обещали, что в Ленинграде отпустят в увольнение, но в увольнение нас никто не отпустил. Мы, человек, наверно, пятнадцать, взяли – и ушли в самоволку. Вечером вернулись, и сразу меня вызывают к командиру роты. Я думаю: ну всё, пошел под суд! Захожу к нему: «По вашему приказанию курсант Топтыгин прибыл!» Он спрашивает: «На сколько записываешься на заём?» – а в то время проходила подписка на государственный займ. Я отвечаю: «На сто рублей». Он спрашивает: «А деньги когда?» Я говорю: «Сейчас», – достаю из кармана деньги. Он спрашивает: «А в фонд обороны есть что-нибудь сдать?» Я говорю: «Есть». У меня был под гимнастёркой шерстяной свитер. Я снял гимнастёрку, снял этот свитер, и бросил в угол. Гимнастёрки у нас были синие, милицейские – наверно, за неимением других. Брюки выдали зелёные, а гимнастёрки – синие, диагоналевые. Одел снова гимнастёрку, спрашиваю: «Разрешите быть свободным?» – «Да, свободен». В общем, нам за самоволку ничего не было.
На следующий день это было, кажется, уже четвёртого апреля за нами приехали «покупатели». Никакого звания нам не присвоили, все остались рядовыми, да и войну я окончил в звании младшего сержанта, правда – на должности старшины батареи. Просто рядовой радист – я передавал восемьдесят знаков цифрового, семьдесят пять – буквенного и семьдесят знаков смешанного текста в минуту. Мне удалось отпроситься сбегать к матери, сказать, что меня отправляют на фронт. Мама, и одна девушка, которая мне очень нравилась, пришли меня проводить. Нас, пятнадцать человек, посадили в «полуторку», и повезли по льду Ладожского озера, это было пятого апреля 1942 года. В Кабоне нас высадили, и дальше мы шли пешком. Двигались вдоль настила, по которому ехали машины и повозки. Мы шли по снежной тропе, идущей вдоль настила. Впереди нас верхом ехал старший лейтенант. Вдруг раздался взрыв – вероятно, лошадь наступила на фугас. Мы бросились вперёд, но ничего не нашли – ни от лошади, ни от старшего лейтенанта.
Я попал в 33-ю Гвардейскую Стрелковую Бригаду, которая стояла в обороне у деревни Малиновка. Никакой деревни там уже не было – стояли одни трубы, всё было сожжено. Я после войны пытался найти это место на карте, но сейчас этой деревни не существует. Помню, упоминалось Погостье, потом было такое название: Заячья Поляна, в общем – в тех местах.
Трое нас, радистов, пришло в эту бригаду. Нам говорят: «вот идите сюда, там старшина вас устроит». Мы пришли, видим – огромный шалаш. Старшина выходит, и говорит: «Так как вы радисты – стройте себе отдельный шалаш!» А как? Кругом всё вырублено, мои товарищи еле двигаются, топор зазубренный. В общем, кое-как построили что-то, развели маленький костёрчик, я говорю им: «Снимайте, ребята, сапоги, будем сушить портянки». А меня старшина назначил в наряд – охранять их шалаш. Ну я отстоял свои два часа, потом высушили мы свои портянки, а у моих товарищей распухли ноги и им сапоги не одеть, а сапоги у нас были очень хорошие, яловые.
На следующий день утром пришел лейтенант-радист, и принёс радиостанцию «РБ», две упаковки, и говорит: «Ну, давайте я вас проверю». Я говорю: «А чего их проверять? Смотрите, товарищ лейтенант, они сапоги не могут одеть, у них ноги опухли». Он посмотрел, позвал этого старшину и говорит: «Немедленно отправить в госпиталь!» А мне говорит: «Ну а с тобой мы сейчас займёмся. Разворачивай радиостанцию, настраивай, будешь передавать радиограмму и принимать». Я развернул радиостанцию, он дал текст радиограммы и дал позывные. Я связался с радистом, позывные которого он мне дал, передаю, что «прими радиограмму». Я передал радиограмму, а он мне в ответ передаёт: «Не понял, повтори». Лейтенант говорит: «Там такой радист,.. так что ты помедленней». Я помедленней, он принял и мне передаёт, что «прими радиограмму». Я от него радиограмму принял, отдал этому лейтенанту, он посмотрел и говорит: «Всё, я беру тебя в роту разведки». Привёл он меня туда, а командир роты, старший лейтенант мне говорит: «Ты со своей бандурой ближе, чем на пятьдесят метров, ко мне не подходи!» Я потом спросил там, что почему – мне говорят, что «до тебя был радист, немцы запеленговали, и накрыли. Радиста убило, радиостанцию разнесло в пух и прах, а его контузило, поэтому он теперь не подпускает вашего брата к себе».
Одеты мы были в ватные брюки, фуфайка и шинель. Маскхалатов даже у нас в разведроте не было.
Старшина не давал мне сразу есть обед, а делил его на три части – боялся, что после голода у меня будет заворот кишок. Они все были старше меня. «Старики» нас, молодых, оберегали, не давали высовываться, что не лезь, как бы, вперёд батьки. А я что был – мальчишка. Правда, я всего-то там пробыл 22 дня.
Местность в тех местах заболоченная, поэтому окопов у нас не было, а были завалы. У немцев завал, и у нас завал из деревьев, расстояние может 40-50 метров, можно было переговариваться. Немцы кричали нам: «Рус, не стреляй, мы обедать будем!» Тогда как раз пришло пополнение. Не знаю, какая у них была национальность, они по-русски почти не говорили, у них командиры были русские, а политработники – той же национальности. Одеты они были в тонкие шинели зелёного цвета – английские, наверно. У нас у всех были вещмешки, а у них – ранцы. Их там все называли «елдаши», а что это такое – я не знаю. Когда одного из них ранит, например, в руку, то он идёт в тыл, и с ним идут ещё двое. Наша рота разведки не на передовой была, а немножко в глубине, мы говорим: «Ранен-то он, пусть идёт в санбат». Они говорят, вроде того, что «мы его сопровождаем». Потом, когда одного из них ранит, они собирались в кучу и начинался вой, а немцы на звук – туда ещё мину. Поэтому потери среди них были большие.
27 апреля мы пошли на задание к немцам в тыл. Выдали «НЗ» – пшенный концентрат и банку нашей консервированной курятины. Это было рано-рано утром, ещё до рассвета. Шли цепочкой, один за одним, и наткнулись на немецкий, ну, типа блиндажа. Услышали сразу: «Хенде хох!». Кто-то побежал, ну и все побежали. Немцы открыли огонь из миномёта. Разорвалась мина, один осколок мне попал в бровь, а другой – в ногу. У меня была радиостанция, приёмник и передатчик, а у другого солдата – упаковка питания. Они все ушли, а я раненый остался на нейтральной зоне. Сознание я не терял, на всякий случай приготовился – у меня был автомат «ППШ» с тремя дисками, три гранаты на поясе, ещё три – в вещмешке, думал: «в случае чего подорву и себя, и радиостанцию». Но не пришлось – немцы наверно слышали, как наши убегали, потому, что ночью болото подмораживало и было слышно, как идут. А нас шло 33 человека: тридцать разведчиков и трое радистов: этот лейтенант и нас двое. А был приказ Иосифа Виссарионовича: за утерю техники отвечает командир, а со мной – приёмник и передатчик. В общем, меня искали, и ближе к вечеру – около пяти часов – два разведчика меня нашли, перевязали, взвалили на плащ-палатку и притащили в роту. Старшина погрузил меня в тележку и на лошади повёз в санбат. Привезли в госпиталь, обработали раны, вытащили торчавший из брови осколок, потом из этого медсанбата отправили в Жихарево.
В ногу ранение было не очень тяжелое: вырвало кусок икры, но самое неприятное – что у меня начался плеврит, поднялась температура. Помню, в Жихарево меня поили с ложечки, потом опять погрузили в пульмановский вагон и довезли до Вологды. В вагоне санитар всё время давал мне дышать кислородную подушку. Привезли в Вологду, это был уже довольно глубокий тыл. Там при станции находился барак, такой грязный, в нём были двухэтажные нары, но меня положили на кровать. Я лежу, история болезни – у меня на груди, а мне так стало обидно: ну чего – мальчишка, и я расплакался. Думаю: «Господи, такой глубокий тыл и тут – такая грязь!» Мимо меня проходила врач, увидела, что я плачу и говорит: «А ты что, сынок?» Я говорю: «Как что – тут такой глубокий тыл, а здесь такая грязь у вас!» Она посмотрела документы и говорит: «Он же гвардеец, положите его в палату!» Меня сразу подхватили – и в палату. В палате лежали моряки, всего стояло кроватей десять, на подоконниках – цветы, и меня в таком виде, в моей синей милицейской гимнастёрке, такого грязного, положили на эти белоснежные простыни. Я говорю: «Ну вы бы хоть раздели меня!» Они говорят: «Да ты тут недолго полежишь, полчасика – и всё». Верно, через полчаса меня опять – на носилки, и на машине скорой помощи отвезли в школу, где располагался госпиталь. Там посадили на топчан, приходит врач и говорит: «Вставай на весы». А какое «вставать на весы?» Я сижу, молчу. Она тогда поняла, в каком я состоянии, и кричит: «Баба Маша, иди сюда!». Пришла баба Маша, врач ей говорит: «Поставь табуретку на весы, взвесим, сколько он весит». Я вместе с шинелью весил 38 килограмм, а рост у меня – 165 см. Она говорит: «Баба Маша, давай его в ванну, вымой, переодень и – на второй этаж». Баба Маша меня вымыла, надела рубаху, кальсоны, положили на носилки и – на второй этаж. Там большая зала, человек на сто. По центру лежала группа моряков, когда меня проносили, один говорит: «Ну, ещё одного «жмурика» несут» – «жмуриком» называли того, кто должен был умереть. Положили на кровать, а на её спинке уже висела пижама, рядом стоит костыль. Я заснул. Утром проснулся, хочу писать, а утку попросить постеснялся, взял костыль и пошел. Одной рукой – по стеночке, в другой – костыль. Дошел, пописал, а там перед туалетом умывальник, видно, ходячие раненые мылись, набрызгали, и там пол был мокрый. В общем, меня силы покинули, я поскользнулся и упал, а встать не могу – нету сил. Заглянул кто-то из раненых, увидел, крикнул сестёр, прибежали две девочки, подняли меня, привели на своё место, раздели. Быстро пришел врач и сказал: «Всё убрать, никаких пижам, костылей, если надо – привяжите его, чтобы больше не ходил!» И сразу начал мне выкачивать гной из плевральной полости. А иголка-то здоровенная, ткнул между рёбер – жидкость что-то не идёт. Он выдернул, дырочку заклеили, говорит: «Второй раз». Я говорю: «Больше не дам!» Он говорит: «Ну какой же ты гвардеец, боишься, подумаешь – какая-то иголка!» Короче, проткнул в другом месте и пошел гной. Он выкачивал его большим шприцем и навыкачивал целое госпитальное судно, и я потерял сознание. Мне дырочку заклеили, сделали укол, под нос – нашатырь. Я пришел в себя, врач говорит: «Всё, больше не ходи, а то привяжу!»
Я лежал в палате на втором этаже, а в это же время на первом этаже лежал мой отец, но узнали мы об этом гораздо позже. В Вологде я лежал десять дней, а потом – опять в санитарный поезд, довезли до Кургана, а в Кургане не было мест – повезли обратно в Свердловск. В Свердловске ходили санитарные трамваи. Чтобы было удобнее заносить раненых, вход в трамвай был не сбоку, а в торце. Одни носилки ставились внизу, с потолка свешивались специальные ремни, на которые подвешивались ещё носилки, и получался второй ярус. В Свердловске я лежал целое лето. Госпиталь находился в центре города и располагался в недостроенном здании «Дома Промышленности», стоявшем напротив гостиницы. В палате, куда меня поместили, лежало шесть или семь человек. Но сперва меня положили в коридор, там я лежал два дня, и никто ко мне не подходил, а там лежали такие – без рук, без ног – прямо скажем, смертники. На третий день мимо шла свита в белых халатах, я собрался с силами и говорю: «Что же вы меня сюда положили? Я всё равно не умру!» Впереди шел пожилой врач, начальник отделения, он развернулся и – ко мне, говорит: «Не умрёшь?» Я говорю: «Всё равно не умру». Он взял с моей груди историю болезни, посмотрел и говорит: «Положите его вот в эту палату, я сам его поведу». Меня положили, через какое-то время он пришел и говорит: «Ну, тогда будем лечиться». Он начал меня лечить; мало того, что я был дистрофиком, у меня ещё и правое легкое почти не работало. Он сам мне четыре раза делал выкачивание. Есть такой аппарат Патэна или Петена – втыкают между рёбер иголку, в специальном сосуде создают разряженный воздух и жидкость из плевральной полости сама туда вытекает. И – уколы в руки, уколы в ноги. У меня был плохой гемоглобин. Мне давали сырой бычий костный мозг, а я его не мог есть. Мне врач говорит: «Ты почему не ешь? Мне сёстры жалуются». Я говорю «Ну меня тошнит, помажьте его чем-нибудь, хотя бы томатной пастой». После этого я стал есть. Перед обедом давали 25 грамм кагора. Ещё я получал белый хлеб, который давали не всем. Лежавшие со мной взрослые мужики, говорят: «Ну что там 25 грамм? Ты возьми бутылочку и сливай в неё вино. Когда соберёшь маленькую, раскроши в тарелку белый хлеб, выльешь этот кагор – и съешь». Ну я так и сделал (смеётся). Ещё мне ставили банки: на спину, на правую половину – потому, что правое лёгкое – а на второй день втирали такое зелёное «мыло».
Наш заведующий отделением раньше работал главным врачом туберкулёзного санатория, а теперь преподавал в Военно-медицинском училище, где готовили фельдшеров. Курсанты этого училища приходили к нам в госпиталь на практику. Среди них я встретил двух своих школьных товарищей. Врач и меня приглашал, говорил: «Вот выздоровеешь и пойдёшь ко мне учиться на фельдшера». Я говорю: «Нет, не пойду». В это время я списался с отцом, лежавшим в госпитале в городе Молотове. А доктор мне сказал, что когда я выздоровею, мне нельзя будет ни курить, ни купаться, поэтому я и не курил, но положенный мне табак получал. Табак был очень хороший, душистый. Отец мой курил с детства. Я брал конверт, надписывал, насыпал туда табак, вкладывал маленькую записочку отцу и запечатывал. Клал конверт между двумя матрацами, там он несколько дней полежит, табак слежится, и я его отсылаю. И все мои конверты доходили. Военная цензура пропускала, не трогали. Наше отделение было на пятом этаже, я спускался на лифте вниз и вдруг встретил моряка, который лежал со мной в Вологде и сказал, когда меня вносили в палату: «Вот ещё одного «жмурика» несут». Он меня узнал и говорит: «Живой, курилка?» Я отвечаю: «Живой». Он говорит: «Ну, молодец, выкарабкался».
В августе нас, человек двадцать выздоравливающих, на автобусе привезли в совхоз. Меня посадили на конные грабли. Я управлял лошадьми, а второй солдат сидел и нажимал на педаль, когда нужно было поднять грабли. Работали целый день под палящим солнцем. Голова у меня была обрита и я получил самый настоящий ожог лица и головы, не пострадало только место, прикрытое пилоткой. К вечеру поднялась температура и на этом же автобусе меня отправили обратно в госпиталь. Мой доктор ругал себя, говорил: «Старый я дурак, зачем я отправил тебя туда, теперь надо снова лечить тебе этот ожог». Потом была комиссия, на которой мой доктор спросил, куда эвакуирована моя мама. Я сказал, что в Костромскую область – туда, где я родился и где живёт мой дед. Он тогда спрашивает: «А у деда корова есть?» Я сказал, что есть, но он всё же сам написал деду письмо и дед подтвердил, что корова есть. И тогда меня отправили на 45 дней в отпуск. На вокзал меня сопровождала медсестра. Провожая нас, доктор ей сказал: «Предупредите проводника, чтобы его высадили на станции Антропово, а то этот дурачок может уехать в Ленинград». Но я всё же хотел повидать родных. К тому времени я уже познал, что значит фунт лиха, и желания ехать в Ленинград у меня не было.
После того, как меня высадили, в первый день я прошел семь километров, а надо было идти тридцать. Шел в кирзовых сапогах, шинели, пилотке и с вещмешком. В поле женщины вручную жали рожь или ячмень, увидав меня, бросили работу и побежали навстречу, думая, что я – кто-то из местных. Ну, я сказал им, что мне ещё надо идти почти тридцать километров и мне нужно где-то переночевать. Они сказали, чтобы я остановился в их деревне у бригадира. Когда я пришел в указанный дом, то у этого бригадира в маленьком доме было шестеро детей, один одного меньше. Хозяйка налила мне молока, а я дал им хлеба, самодельных папирос – у нас в госпитале раненые сделали машинку, при помощи которой набивали табаком папиросы. Ещё дал хозяйке несколько кусков колотого сахара. Сахарные щипцы у неё были, я попросил поколоть сахар, и дать по кусочку детям. И тут выяснилось, что до этого дети ни разу не пробовали сахар, представляете себе? Рано утром меня разбудили потому, что ехал возчик с молоком за семь километров, в следующую деревню. Этот возчик довёз меня до места, называвшегося Буршнево, там стояла чайная, но она была закрыта. Я там посидел и пошел по дороге. Вдруг слышу: сзади кто-то едет, оказывается – ехал ветеринарный врач в райцентр. Догнав меня, он остановился и спрашивает: «Сынок, ты куда идёшь?» Я отвечаю, что иду в деревню Куликово. Врач говорит: «Садись, я тебя подвезу, но не до самой деревни, а там останется четыре километра» – деревня была немного в стороне от дороги. Он спросил: «Ты меня не угостишь табачком?» Я дал ему три папиросины. Оставшаяся дорога проходила частью по лесу, а частью – по заливным лугам. В поле никого не было потому, что было время доить коров, и я видел стадо коров, которых доили. Мне нужно было пройти всю деревню потому, что дом моего деда стоял на другом конце. По деревне было страшно идти – из каждого окна выглядывали женщины, бабки и смотрели: «Чей же это? К кому же этот солдат повернёт?» И так было страшно идти под этими взглядами, я их и сейчас чувствую. Наш дом был самым крайним с другого конца деревни. Выскочили мои сестрёнки, бабушка, дед, а потом прибежала мама.
Так как я не мог сидеть без дела, то начал работать, и через девять дней на ноге открылась рана. Меня отправили в районную больницу, в которой я пролежал два месяца. Короче, я пробыл дома только девять дней, а весь остальной отпуск пролежал в больнице.
Потом была комиссия, и меня направили в Гороховецкие лагеря, там стоял Восьмой Учебный Танковый Полк. Из райцентра до Галича нас довезли на санях потому, что уже выпал снег. Потом добрались до Ярославля. В учебный полк я попал не сразу – сперва была как бы сортировка: это огромная землянка, в которой жило, наверно, человек сто, в основном – моряков. Меня определили топить печку, представлявшую собой бочку с трубой. За дровами я не ходил потому, что ещё была открытая рана на ноге – свищ. Эти моряки приносили дрова и даже подкармливали меня. Их иногда брали возить продукты, и они то селёдку принесут, то ещё что-нибудь. Я пробыл там несколько дней, а потом – раз меня – и в Гороховец! Там был уже сформирован второй отдельный разведывательный танковый батальон, вошедший в Пятый танковый корпус под командованием генерала Родина.
Так в январе 1943 года я стал стрелком-радистом, но не в танке, а у нас были канадские бронетранспортёры с экипажем из шести человек. Впереди справа – механик-водитель, вооруженный карабином. Слева – командир машины, у командира – наган и противотанковое ружьё. В центре бронетранспортёра располагался мотор и было два отсека: в левом отсеке – два автоматчика, в правом – стрелок-радист. У меня был английский пулемёт системы «брэн», очень хороший пулемёт. Единственный недостаток – у него было воздушное охлаждение и он быстро нагревался, поэтому придавались два запасных ствола. Для замены требовалась буквально секунда: там на стволе была такая ручка, берёшь за неё, поворачиваешь – и ствол вытаскивается. Ствол ставишь в гнездо, берёшь запасной, вставляешь, ручку поворачиваешь – и он на месте. Ручка была деревянная и не нагревалась, поэтому руки не обжигались, так что было сделано хорошо. Для прицельного огня полагалось ставить рожковый магазин на 28 патронов, а для неприцельного огня был диск на 105 патронов. Оба магазина крепились сверху, но когда ставился рожок, то можно было целиться через немножко выдвинутый в левую сторону прицел и была возможность стрелять одиночными, а дисковый – только очередью и прицела было уже не видно. Пулемёт и противотанковое ружьё были и легче, чем наши, и всё хорошо было обработано: чистенько, гладкое было – не то, что у наших. Я сам заряжал рожки и диски: сперва ставил бронебойный патрон, за ним – трассирующий, обычный и зажигательный – вот так чередовал. Если командир сидел за бронёй – у него для противотанкового ружья имелось специальное отверстие – то мне, чтобы стрелять, надо было высунуться и стрелять, положив пулемёт на борт, или – у нас по центру стоял мотор, над которым такая крышка и длинный ящик, в котором были патроны и гранаты – можно было поставить пулемёт на этот ящик и стрелять.
Пулемётчику полагался второй номер, но я был один. Много места занимала громоздкая радиостанция – тоже английская или американская. Когда мы прибыли на фронт, то не пользовались ими – командиры не очень им верили, пользовались флажками, как раньше, и командиры нам сказали: «Выбросите их к чертям». Бронетранспортёр был гусеничный, весил четыре с половиной тонны и предназначался для разведки, у него была очень хорошая скорость – 60 миль в час, бензиновый двигатель «Форд В8». Мы эти бронетранспортёры называли – «гроб для шестерых», его высота была примерно 170 см. Сверху он был открыт и достаточно было бросить через борт гранату… Причём бортовая броня была всего шесть миллиметров, а лобовая – двенадцать, так что самый маленький снаряд пробивал его навылет. Никаких дверей или люков не было – просто встаёшь на гусеницу и перелезаешь через борт. Командиром машины у меня был старший сержант Ласевич – рязанский мужик, а механик-водитель – Пустовойтенко, украинец. Это были очень хорошие мужики. Они были большие и получали двойную пайку: если мне повар наливал полкотелка первого, то им – по целому и если мне давали хлеба шестьсот грамм, то им – по целой буханке, они большущие были.
Наши бронетранспортёры были покрашены зелёной краской, в белый цвет мы их не перекрашивали, и никаких опознавательных знаков не наносили. В батальоне было три роты по десять штук вот этих транспортёров, рота броневиков «БА-64» Горьковского автозавода – это двухместные броневики, там сидит водитель и в башне – стрелок с пулемётом. Нам было придано подразделение счетверенных пулемётов «ДШК», установленных на «полуторках». Там ребята были отчаянные, особенно когда налетала немецкая авиация, они здорово отстреливались, не подпускали их.
Из национальностей в батальоне были и грузины, и крымские татары – например, в роте броневиков заместителем командира роты был грузин. Конечно, боеспособность частей очень зависела от количества в них солдат русской национальности. Но с точки зрения межнациональных отношений всё было нормально. Например, когда я уже служил в полку «катюш», у меня был один товарищ из крымских татар, и уже после войны он мне писал: «Саша, ты, может, больше мне не будешь писать писем, я ведь из крымских татар, и мои родители высланы в Среднюю Азию». А я ему написал: «Дурак, я ведь тебе всё равно письма писать буду потому, что мы на фронте могли друг за друга отдать жизни».
Наш танковый батальон вошел в Пятый танковый корпус, которым командовал генерал Родин. Батальон выгрузился в Воронежском Калаче. Остановились в деревне Слатово. Наш экипаж разместился в одном доме. Хозяйка, лет сорока, приготовила нам борщ. Из пяти человек экипажа я был самый молодой. Хозяйка говорила очень быстро да ещё по-украински, и я ничего не понимал. Хозяйка и спрашивает: «А что у вас этот мальчик, немой? Отчего он всё время молчит?» Ребята спрашивают: «Сашка, ты чего всё время молчишь?» – пришлось признаться, что я ничего не понимаю. Потом из тех мест мы стали двигаться дальше, к Сталинграду.
Мы не пускали армию Манштейна к Сталинграду. Смотрели фильм «Горячий Снег»? – вот в нём рассказывается про эти бои. Поначалу мы отступали к Сталинграду, до которого оставалось буквально километров сорок, но тут мы упёрлись, а потом погнали эту армию Манштейна, но генерала Родина от нас забрали. Помню, мы двигались по одному полю, где стояла развороченная немецкая техника, припорошенная снегом. Я сидел один в своём отсеке, а транспортёр идёт и покачивается. Я выглянул посмотреть, почему он качается, и увидел, что мы едем по трупам. Там столько было немцев накрошено на этом поле! Наш батальон занимался разведкой: мы ездили, смотрели, где немцы, где сосредотачиваются …
Один раз мы как-то обошли их оборону, и всем батальоном ворвались на немецкий аэродром. Лётчики разбежались, мы гусеницами корёжили стоявшие на поле самолёты. Я не знаю, какие были марки, не разбираюсь. Помню, что самолёты были одномоторные, а сколько их было – тоже сказать не могу, да и мы сразу же отошли потому, что у них связь работала хорошо и подмогу они себе вызвали.
У одной деревни немцы подожгли несколько наших танков, а мы стояли чуть-чуть позади. Командовавший атакой на деревню генерал был из танкистов. Когда загорелось несколько танков, сказал: «Бронетранспортёры – вперёд!» Возглавил нашу атаку заместитель командира батальона, капитан. Он был уже пожилой, служил в Чапаевской дивизии и был ещё на Гражданской войне награждён орденом «Красного Знамени» – вот он первый влетел в эту деревню, но пуля попала ему в висок – стреляли с чердака, из крупнокалиберного пулемёта. Вторая машина наткнулась на противотанковое орудие. Немцы успели выстрелить, снаряд прошил машину насквозь и все шесть человек погибли. Мы шли третьими или четвёртыми. Машина ревёт, грязь из-под гусениц летит! А у меня в борту осталось пять отверстий, на которых раньше крепилась антенна. Я как ни гляну в эту дырочку – всё дома-то, все одинаковые, думаю: «Господи, неужели вся деревня такая!» Потом всё-таки решился высунуться, смотрю: гусеницы вертятся, грязь летит, а мы стоим на месте. У механика-водителя триплекс забрызган грязью, он ничего не видит, а мы спустились туда вниз и упёрлись в телеграфный столб, не почувствовали даже удара. Когда я увидел это дело, высунулся и по голове его стукнул, говорю, что давай назад. Это-то, наверно, нас и спасло потому, что шедшая впереди машина погибла.
Манштейна мы гнали почти до Днепропетровска, но началась распутица. Остановились мы на станции Синельниково, у нас оставалось мало боеприпасов и не было горючего – тылы растянулись, началась распутица, машины идти не могут. А немцы сосредоточились и нам пришлось отступать, тогда они взяли – второй раз – Харьков. В то время нашим Юго-западным фронтом командовал маршал Тимошенко, он растерялся, потерял управление войсками, и мы сами отходили, кто как может. Здесь мы столкнулись с дивизиями СС «Викинг», «Мёртвая голова». Помню, у какого-то села мы занимали оборону, а они идут: танки их идут и они между танками, вдребезг пьяные. Полы тёмных шинелей заткнуты за ремень, запасные рожки засунуты за голенища сапог, автомат – в живот и поливают просто так. Мы сколько могли отстреливались, а потом – на машины и уходили. Так как не было горючего, танкисты загоняли свои машины в лес и закапывали, а мы сливали бензин из других машин и как-то отходили, но потом горючее окончательно вышло, и пришлось подогнать машины к берегу речки и сбросить с кручи.
Выводил нас, оставшихся пятнадцать человек, младший политрук Мишустин, замечательный был человек. Он приказал нам выбросить всё из вещмешков, оставить только патроны и гранаты, но я всё не выбросил – оставил пару нижнего белья и полотенце: мама мне дала своё свадебное полотенце и я его привёз домой с фронта, оно у меня и сейчас лежит. А остальное всё выбросил, даже зимнюю шапку, оставил себе только танковый шлем. Ещё я тащил свой пулемёт, но патронов к нему не было. На ногах у меня были валяные сапоги, и эти валяные сапоги развалились, я верёвкой их подвязал, но всё равно идти было невозможно. Немцы на парашютах сбрасывали железные бочки со спиртом – я сам это видел. Солдаты их простреливали – оттуда струя спирта льётся, и они набирают целые котелки. Младший политрук сказал: «Я разрешаю вам набрать во фляги, но если кто-нибудь из вас выпьет хоть глоток – я расстреляю!» – потому, что вокруг этих бочек было столько пьяных людей. Мы зашли отдохнуть в одну хату, а там было столько народу набившись – и все спят, пьяные. У младшего политрука было две буханки хлеба, он разделил эти буханки на шестнадцать порций и дал нам по куску. Я ему говорю, что вот у меня сапоги развалились, а там стояли кожаные сапоги. Он говорит: «Вот, оставь свои тут, а одевай вот эти сапоги. Они всё равно здесь останутся – они все пьяные и отсюда никуда не уйдут, они все будут в плену». Ну и я свои валяные сапоги оставил, а эти надел и мы пошли. Ещё там мы нашли лошадь и боеприпасы. Я – человек не богатырского сложения, а пулемёт весил семь килограмм, всё это навьючили на лошадь и продолжили путь.
В одном месте нашли «полуторку», попробовали её завести – она завелась. Но там не было приводного ремня, чтобы гнать воду, да и водителя среди нас не оказалось. Был один тракторист, так этот Мишустин заставил его сесть за руль. А с водой поступили просто: на каждое крыло лёг солдат с ведром снега, и клали снег в горловину радиатора – пар шел, как у трактора! В одном месте мы встретили нашего помпотеха, старшего лейтенанта, но он был такой пьяный!.. В общем, мы его вытащили из дома, подвели к колодцу, на его голову – два ведра холодной воды, и младший политрук Мишустин сказал: «Садись за руль, а если не сядешь – расстреляю!» Помпотех протрезвел, сел за руль и дальше сам вёл эту «полуторку».
Добежали мы до города Изюма, и там нас остановил заградотряд – они вылавливали отступающих, формировали команды и отправляли на передовую, в пехоту. Нас они тоже хотели разоружить и отправить в пехоту, и, наверно, была бы война между нами и заградотрядом, но спасло нас то, что мимо ехал наш командир корпуса – в это время командовал корпусом бывший начальник штаба корпуса. У него впереди шел броневик «БА-64», он – на «эмке», а сзади – бронетранспортёр и ещё один броневик. Мы закричали, остановили, младший политрук подбежал к генералу, доложил, что мы второй разведывательный танковый батальон и нас задержал заградотряд. Он говорит: «Позовите мне старшего заградотряда». Младший политрук позвал старшего, тот подошел к генералу, который сказал: «Отпусти». Мы завели машину, командующий пустил нас впереди себя, и остановились мы у Балаклеи. Так что политработники были разные: одно дело был Мишустин, а другое дело – был заместитель командира роты по политчасти, старший лейтенант, по национальности еврей, но он был трус, так что он убежал от нас, когда сдали второй раз Харьков и мы больше его не видели. Куда он делся, неизвестно: среди раненых и убитых он не числился и среди вышедших его не было. Вскоре ввели единоначалие и уже замкомандиров рот и батарей по политчасти не было. Оставались только заместители командира полка по политчасти – один на весь полк, ещё был парторг полка и всё – других политработников не было.
К этому времени подошли сибирские части, которые остановили немцев. Когда мы все соединились, то выяснилось, что от батальона нас осталось 64 человека, два броневика, на которых вышел командир батальона, ещё какое-то начальство и, по-моему, два или три бронетранспортёра.
Пока мы наступали, местное население встречало нас приветливо, правда говорили, что «вот утром немцы угоняли скот, а вечером пришли москали». А вот когда мы начали отступать и второй раз сдали Харьков, то относились к нам нехорошо и называли нас «кацапы, москали» – вот так.
В селе стояли два батальона – остатки нашего и ещё какого-то. Была весна и протекавшая речка разлилась, а там щуки икру метать пришли. Мы начали этих щук стрелять из винтовок. Командир корпуса прислал комендантский взвод, думая, что мы разодрались между собой. Когда разобрались, то запретили нам стрелять щук, тратить патроны. Меня иногда посылали из батальона с донесениями в штаб корпуса, находившийся от нас километрах в трёх. А так как у меня были валяные сапоги, то я забирался на лошадь, мне давали пакет и я ехал. Донесения были в разные отделы: боевой подготовки, снабжения, хозяйственный отдел. Часовые мне разрешали на моей лошади подъезжать поближе, чтобы я мог слезть с лошади в своих валяных сапогах. Отдавал пакет, выходил, забирался на лошадь, ехал дальше. Потом, если нашему командиру нужно было привезти какой-то пакет, мне его выдавали, и я вёз его в батальон.
Пока мы стояли в ожидании отправки на переформирование, командира корпуса зачем-то вызывали в Москву, и когда он возвращался, «Дуглас» на котором он летел, был обстрелян «Мессершмитом» и генерал был убит – никого не задело, а генерал был убит.
Потом нас отправили на формировку в Рязань – там стоял Двадцатый Учебный Танковый Полк. Сам танковый полк стоял в Рязани, а наш батальон от Рязани, наверно, километров пять. Там был большой овраг, в котором мы построили себе землянки, потом получили новую технику. Когда шла Курская Битва, то мы слышали гул канонады, а ведь Рязань от Курска очень далеко. В общем, мы целое лето стояли под Рязанью. Занимались, но все учение было «пешим по-танковому» потому, что горючего не было, экономили. «Пешим по-танковому» – это значит: у командира – противотанковое ружьё, у меня – пулемёт, скатка, вещмешок, как положено, и марш-броски по шестьдесят километров. Ночью нас поднимали и – тридцать километров в одну сторону. Двигались мы очень быстрым маршем. Проходили, например, тридцать километров. На привале старшины раздавали селёдку, и запрещали нам пить воду потому, что если я попью, то я и не подымусь. Селёдка была очень хорошая и старшины следили, чтобы мы её съедали потому, что она мешала потоотделению и препятствовала обезвоживанию организма. Когда разворачивались обратно, приблизительно километров за семь нас встречал оркестр, который своей игрой добавлял нам силы. Короче, если нас поднимали по тревоге ночью, то возвращались мы примерно к ужину. Заставляли бегать в противогазах по семь километров. Пришел новый командир батальона, капитан из пехоты. Он был ранен, у него осколок сидел в яичке, представляете себе? Сам он долго ходить не мог, восемь человек его носили на носилках. Он очень любил строевую подготовку. Оборудовали плац, на котором он нас тренировал в строевой подготовке. Капитан ходил с палочкой, на которой была специальная засечка, чтоб нога поднималась на такой уровень. Он говорил: «Хотите сегодня попасть в кино? Я договорюсь с кинотеатром в Рязани, но вы должны пройти по городу так, чтобы стёкла гремели от ваших шагов и от ваших песен! А если будет плохо, то я прямо от кинотеатра разверну, и пойдёте обратно в батальон». А до батальона было пять километров.
Наш экипаж, шесть человек, был очень дружным. Мы друг за друга стояли горой, помогали и когда нужно – поддерживали потому, что всё друг о друге знали. Помните, я рассказывал, что мне нравилась девушка из нашего двора? Она приходила с моей мамой проводить меня после окончания школы радиоспециалистов, потом писала мне на фронт и в госпиталь. А здесь я получил от неё письмо, что она вышла замуж. Все ребята мне сочувствовали и мы всем экипажем писали ей ответ, но не ругательный – письмо было нормальное, пожелали ей счастья и написали, что я тоже женился, только не на девушке, а на пулемёте системы «брен».
Потом, ближе к осени, нас погрузили в эшелон и отправили в Наро-Фоминск. Правда, всех офицеров оставили, а на фронт отправили только нас с командирами машин. Там формировалась какая-то армия. Теперь наш батальон был не №2, а №20, в нём кроме броневиков и бронетранспортёров были танки: английские «Валентин» и «МК-4». Я так и оставался пулемётчиком в экипаже бронетранспортёра, но иногда нас сажали десантом на танки. На этот раз бронетранспортёры были без радиостанций – вероятно, наши представители сказали канадцам, что не надо этих радиостанций. Автоматчики на бронетранспортёрах были вооружены английскими автоматами, у которых калибр пули был, наверно, миллиметров 13. Мы поставили четырехмиллиметровый лист фанеры, отмерили сто метров, и попробовали стрельнуть: эти пули не пробивали четырехмиллиметровую фанеру – они ударялись и тут же падали. Мы отказались от этих автоматов: к нам пришел замполит, мы показали, и нам их заменили.
Хочу сказать про танки «МК 4» Они были уже не новые и пришли к нам из Сахары. Сами они огромного размера, большущая гусеница, такая типа подковы, благодаря этим гусеницам танк в снегу не проваливался. Когда, например, снаряд попадал в наш «Т-34», то осколки были «сухие», а тут, когда попадал снаряд, допустим, в башню – то как бы выплавлял – сталь была такая, как бы, вязкая. В этих танках стояли два дизеля, у них ещё были установлены сирены и когда танки шли в атаку, то включали сирены, и вой стоял страшный, волосы на голове поднимались. Они были вооружены пушкой, не меньше 75-мм., двумя пулемётами и ещё на башне стоял крупнокалиберный пулемёт. Экипаж был больше, чем на наших танках. Нас часто снимали с бронетранспортёров и сажали на них. Пулемётчика – за крупнокалиберный пулемёт, и двух автоматчиков – чтобы к танку никто не мог подойти. И были лёгкие танки «Валентин», там экипаж был три человека: механик-водитель, командир и стрелок-радист. Это тоже был гроб для троих – броня у них была очень слабенькая. Тут тоже никаких опознавательных знаков или номеров на танки не наносили. Ещё в батальоне были мотоциклы с ротными миномётами и мотоциклы с пулемётами. Я не помню номер армии – 64-я, по-моему.
Мы разгрузились в Киеве, но ещё не была взята Белая Церковь – там шли бои. Через паромную переправу наш эшелон прошел, а вот в Дарнице, как нам рассказывали, был жуткий налёт, и говорили, что налёт вызвал начальник станции, предатель. Мы проезжали и видели дымившиеся развалины, вагоны, трупы лошадей кругом валялись и так далее. Но мы проехали через Днепр и на той стороне выгрузились.
Под Белой Церковью произошел такой случай. К нашему бронетранспортёру была прицеплена противотанковая пушка, расчёт сидел у нас сверху. Мы очень быстро ехали, а впереди шли три солдата. Идут прямо по центру дороги, уши у шапок опущены, и они не слышат, как сзади несётся наш бронетранспортёр. Механик-водитель, чтобы их не задавить, решил проскочить между ними и лесопосадкой, и одной гусеницей задел за дерево. Ленивец, при помощи которого натягивалась гусеница, крепился на трёх болтах, диаметром шестьдесят или восемьдесят миллиметров – эти болты срезало как ножом, гусеница отлетела в сторону, пушка развернулась, но, к счастью, не накрыла нас. Командир машины ударился, и у него была трещина на руке. Я ударился носом о перегородку, не защитил и танковый шлем. Орудийная прислуга просто вылетела в снег, но ничего – отделались испугом. Пока шел ремонт, командира и меня отправили в госпиталь. Командиру машины просто приложили палочки и прибинтовали, а меня осмотрели, что нос не сломан, остановили кровь и – обратно. За это время приехала ремонтная летучка, быстро болты заменили, гусеницу натянули и мы поехали дальше.
Потом началась Корсунь-Шевченковская операция. Во время этой операции в семи километрах от села Моринцы, у деревни Почап были захвачены немецкие склады, и мы туда ездили за продуктами. А так как на обычной машине не проехать, ездили на бронетранспортёрах, брали немецкий сыр, масло, колбасы… В одной из таких поездок был я, капитан, ведавший продовольствием батальона, и механик-водитель. Откуда-то прилетела шальная мина, и нам разворотило задний мост. Это было между Почапом и селом Моринцы. Вот вспомнил: Киевская область, Ольшанский район, село Моринцы. Капитан ушел в Моринцы, нашел там лошадь, пришел с лошадью, погрузил в перемётные мешки, крупу, отрезал сыр, набрал консервов, сливочного масла в двухсотграммовых пачках, и уехал, а нас оставил. Ночь мы провели у своей подбитой машины, дежурили по очереди. Утром механик-водитель пошел в это село Моринцы, нашел там колёсный трактор «ЧТЗ», завёл его, приехал, зацепил меня тросом и притащил в это село, Моринцы. Капитан рассказал в батальоне, что машину разбило, к нам приехал батальонный инженер, посмотрел, и говорит: «Охраняйте машину». Снял с машины воздухоочиститель и уехал. Потом ещё приезжал, снял ещё какую-то деталь. Всё это время мы жили в хате, у хозяина. Сын его где-то воевал, неизвестно где, никто не знал. Невестка – лет тридцати, внучка этого деда – девочка лет семи – они к нам нормально относились, подкармливали – своего-то у нас ничего не было. Мы пытались тоже чем-нибудь помочь. Хозяйка иногда просила нас порезать соломы для коровы – у них была такая соломорезка – я крутил, а механик-водитель подставлял солому. Потом я пошел догонять наш батальон, он уже ушел километров за двадцать, но я батальон всё же догнал. Пришел к командиру нашей машины, старшему сержанту Ласевичу, спрашиваю: «Что же нам делать? Мы там сидим, а вы вон куда уже ушли!» Он мне говорит: «Иди к командиру батальона». Я к нему обратился, а комбат мне говорит: «Хочешь десантом на танк? Сейчас», а потом посмотрел на меня и говорит: «Марш к машине, и чтоб духу твоего здесь не было больше!» Я: «Слушаюсь!» – развернулся и пошел. Когда вернулся к машине, то в доме, в котором мы жили, поселился командир Девятого Гвардейского миномётного полка «катюш» гвардии подполковник Чумаков. Этот полк входил в состав Пятого Донского Казачьего корпуса. Он справился, кто мы такие, и приказал своему повару кормить нас. Повар был страшно недоволен, что его заставляют кормить посторонних солдат. Мы обратились к подполковнику, что «может, Вы возьмёте нас? А то к нам приезжают, и только снимают запасные части» Он спрашивает: «У вас красноармейские книжки есть? Ну-ка дайте их мне сюда» – он их взял и сказал: «Можете пока быть свободны». Вечером нас вызвал капитан, начальник Особого отдела, он с нами побеседовал: сначала с одним, потом с другим, что-то записал. Через три дня нас приглашает командир полка и говорит: «Нам разрешили зачислить вас в наш полк. Механика-водителя – в транспортную роту, а тебя – в первую батарею разведчиком-наблюдателем. Всё имеющиеся в бронетранспортёре оружие сложите в мою машину». У командира полка была благоустроенная «полуторка», бывшая радиостанция, в ней стояла кровать, была печка. Он мне сказал: «Вот здесь печка, можешь её топить, а спать будешь на моей кровати». Первые дня три, пока меня окончательно не определили, я находился в этой машине. И всё оружие: противотанковое ружьё и пулемёт были со мной в машине. А когда меня определили разведчиком в первую батарею, я свой пулемёт взял с собой. В этом полку «катюш» было не три дивизиона, как обычно, а только три батареи и четвёртая – зенитная батарея.
В это время завершилось окружение Корсунь-Шевченковской группировки немцев. Им с самолётов сбрасывали на парашютах продовольствие и боеприпасы, часть этих грузов попадало в наше расположение. Немцы пытались вырваться из окружения, но у них ничего не получилось. Была попытка прорыва и на нашем участке. Одна наша установка поехала стрелять за деревню Почап. Только они выехали из Моринцев, а на встречу «Виллис» с каким-то пехотным генералом. Он останавливает машину и спрашивает: «Вы куда?» Командир батареи капитан Романчуков Иван Семёнович говорит, что вот в такую-то деревню. Генерал говорит: «Там немцы, и вон, видите – идут немцы!» Наша установка дала залп прямой наводкой по этой немецкой колонне, которая смяла нашу пехоту. После залпа немцы дрогнули, пехота опять эту дырочку закрыла, и вскоре началась сдача немцев, они стали разбегаться. Там были небольшие участки леса. В одном леске мы с двумя разведчиками нашей батареи прихватили пятнадцать человек: тринадцать немцев и две девушки-украинки, переводчицы, мы их разоружили и привели в полк. У одной девушки были золотые часы на браслете в виде змейки, она спрятала их, застегнув выше локтя – я снял с неё эти часики. Когда её допрашивал начальник Особого отдела, она рассказала, что я снял с неё часы. Он меня вызвал, и мне пришлось эти часы отдать. Я положил их на стол – и всё, а кто из них взял – не знаю.
В тех же местах довелось увидеть попытку расправы с «власовцем». По дороге солдат конвоировал пленного, навстречу двигалась повозка, в которой ехал офицер, и он узнал этого «власовца». Схватил сапёрную лопатку, выскочил, подбежал к нему и говорит: «Ну, с-сука, ты помнишь, как ты меня предал под Смоленском?!» –и как рубанёт его сапёрной лопаткой по голове! Удар пришелся как бы вскользь, и у того кожа с затылка задралась на шею, он схватился руками за голову и побежал. Конвоир не дал офицеру ещё раз ударить, тут же подбежал возница, управлявший повозкой, схватил офицера в охапку, бросил в повозку, и они быстро уехали.
Потом мы освобождали Тульчин, Гайсин… По-моему, в Звенигородке на станции немцы бросили эшелон с этиловым спиртом, и там отравилось больше шестидесяти казаков: попробовали этот спирт – и умерли. Про это нам рассказывали политработники, и говорили, что «ради Бога, не надо!» Помню, ехали на машинах, а машины открытые, и идёт снег с дождём. Все мокрые, и когда приехали, меня первым поставили часовым около машин. Дул сильный ветер, шинель и вся одежда на мне превратилась в ледяную корку. У нас был очень хороший старшина Кравченко из Харькова, через час он пришел со сменой, он мне приказал: «Бегом». А как «бегом», я весь как в панцире, а старшина кричит: «Бегом!» Ну, всё-таки побежал. Он загнал меня в хату, где он остановился, приказал мне раздеться догола, кричит: «Снимай всё с себя!» Растёр меня самогонкой и дал выпить из кружки, накрыл шубой, и говорит: «А теперь спи» – я сразу «провалился». Он меня, конечно, спас от воспаления лёгких. Они были пожилые люди, и нас, молодёжь, берегли. Вот сейчас не знаю, есть такие старшины или нет, а вот в то время был такой старшина Кравченко.
Я всё время находился с командиром батареи на наблюдательном пункте в передовых эскадронах, наблюдали за передним краем немцев. У нас были бинокли, стереотруба – такая на деревянной треноге с козырьками, чтобы противник не видел блеска стёкол. Связь в основном была телефонная, хотя в батареи было и три радиста, но чаще всего мы пользовались проводной связью. Или же комбат мне приказывал бежать к батарее, а это приблизительно километров пять или семь, и показывал пункт, куда мне надо привести батарею. Я бежал, когда прибегал в батарею, кричал: «Батарея, моторы!» – садился на первую машину и показывал дорогу, а там уже нас встречал комбат. Установки заряжал и обслуживал расчёт, но нас, разведчиков, иногда привлекали подносить к установке ящики с боеприпасами. Наши установки были сперва на машинах «ЗИС-6», у них ведущие три моста, и на танках «БТ-6» – вместо башни на поворотном диске стояла наша установка – 26 снарядов. Снаряды были «М-8», как на самолётах, такие небольшие, не как на «М-13»: если там снаряд весил сорок с чем-то килограмм, то у нас – килограмм восемь. Потом «ЗИС-6» нам заменили на «шевролеты», вот там было 32 снаряда, а потом пришли «студебеккеры» – на них было уже 48 снарядов. «Студебеккер» – довольно мощная машина, впереди у каждой была своя лебёдка, и если он застрянет, то можно было зацепить за дерево или столб, включалась лебёдка, и машина сама себя вытаскивала. А когда этих машин у нас ещё не было, так даже командир полка помогал вытаскивать застрявшие машины – на «виллисе» тоже два ведущих моста, так он зацеплял и помогал. Наш командир, подполковник Чумаков, сам водил машину, шофёр у него был, но чаще всего он сам сидел за рулём, а шофёр – рядом. Но по Украине мы шли ещё на «ЗИС-6» и танках. Экипаж каждой установки шесть человек, часть размещалась в танке, а часть – снаружи, на броне.
Конечно, за нами охотились, особенно самолёты. Потери были – при одном таком налёте в нашей батарее ранило тринадцать человек и одного убило. Полку была придана зенитная батарея, состоявшая из трёх «полуторок» с установленными на них счетверенными пулемётами «ДШК». Они нам очень помогали, отвлекая на себя какую-то часть вражеских самолётов. И пусть наша батарея не сбила ни одного самолёта, но отвлекать – они отвлекали здорово.
Один раз полк двигался по дороге, а в полку порядка полутораста машин, налетели немецкие самолёты и начали штурмовать нашу колонну. Все повыскакивали из машин и побежали от дороги. А у нас был такой водитель – Ваня Калинин, раньше он был механиком-водителем установки на базе танка. В тот день он выпил лишнего и вместо него машину вёл командир батареи. Когда все побежали, и Ваня увидел, что немцы беспрепятственно бомбят нашу колонну, он подбежал к своей машине, завёл её, вырулил из колонны, и погнал! За ним бросилось восемь самолётов, а он погнал вдоль колонны, и потом раз – задний ход. В конце-концов его подожгли, загорелись колёса. он остановился, вытащил свой вещмешок, в котором у него лежала колбаса, вывинтил из своего карабина шомпол, нанизал на него колбасу, и стал поджаривать над горящим колесом. Командир полка за этот поступок наградил его медалью «За Отвагу».
В основном мы поддерживали кавалерию, которая только передвигалась на лошадях, а действовала как пехота. Мне известно только о трёх кавалерийских атаках: одна была в Сальских степях, ещё одна – в Румынии и третья – которую я сам видел в Венгрии, когда мы выходили из окружения, но в этой сабельной атаке участвовал один полк – 47-кавалерийский полк. Вначале у казаков лошади были, как собаки: эти монголки – они и кусались: хозяина не трогали, а если подойдёт чужой – могли и укусить. Они были небольшого роста, но очень выносливы и очень привязаны к своему хозяину. К концу войны казаки заменили их на румынских, венгерских нормальных лошадей.
Цели нам давали разные: например, давали точку в глубине немецкой обороны, все пять установок батареи наводили в одну точку. Глубина рассеивания наших снарядов четыреста метров, а ширина по фронту – полтора километра. Вот батарея – пять установок – накрывала такой участок. Но иногда мы стреляли полком, то есть пятнадцать установок, и все наводились в одну точку. Вы представляете, вот на этом участке разорвётся такое количество снарядов? Там всё превращалось в месиво. Один раз мы использовали термитные снаряды, но мы не знали, какие это были снаряды. Где-то в Румынии в одном селе немцы сильно сопротивлялись и был дан залп. Когда мы проходили через это село, оно всё было обуглено. Жителей мы не видели, может быть, они где-то успели спрятаться, в подвалах или где. И вот даже яблоки на яблонях спеклись, раздувшиеся лошади, быки, все были обуглены – такая корка... Но это один раз нам завезли. В основном мы сами не ездили за боеприпасами, нас снабжали специальные подразделения, которые развозили снаряды по заявкам. Они привезли, мы зарядили и дали залп – вот и всё.
Один раз к нам обратился командир дивизии, дать залп прямой наводкой по танкам – вышли немецкие танки, и его казачки дрогнули. Мы дали залп одной установкой по полю, по которому двигались танки. Один снаряд из 48 попал в танк, и этот танк сгорел. Командир дивизии приказал, всех, кто участвовал в этой стрельбе, наградить орденом «Красной Звезды».
В Венгрии тоже приходилось стрелять прямой наводкой. Наводить было очень просто. Там установка 30-0. Командир батареи на первой машине сам наводил, а на других машинах – командиры орудий, просто, как из ружья – вдоль направляющей.
Когда переправлялись через реку Прут, я встретил своего командира машины из танкового батальона, старшего сержанта Ласевича. Рассказал ему, что я теперь служу в таком-то полку «катюш» и спрашиваю, что может быть мне вернуться обратно? А он сказал, что «нет, ты знаешь, сколько нашего брата уже сгорело, поэтому служи тут».
Мы стояли на территории Румынии, такое село – Митока, там было много русских, Суворовских поселений – там селились суворовские солдаты. Они были гражданами Румынии, но разговаривали на русском языке. Рядом стоял православный монастырь, он был окружен крепостной стеной с бойницами. Стена была такой ширины, что по ней спокойно могла проехать тройка, вдоль стены был выкопан ров, заполненный водой. Наша часть расположилась недалеко от монастыря. Мы вырыли землянки, и нам была нужна солома. А где взять? У местных жителей нам запрещали что-либо брать, и мы пошли в монастырь. Нашу миссию из четырёх человек возглавил старшина Соколов Андрей Мартынович, родом из города Сальска Ростовской области. Подошли к стенам монастыря, а войти нельзя – мост поднят. Но всё же как-то докричались. Из калитки вышел монах привратник, спрашивает: «Что вам надо?» Старшина говорит: «Нам бы поговорить с настоятелем монастыря». Привратник ушел, но вскоре вернулся и опустил мост, мы прошли через калитку, и там нас встретил настоятель. Им был русский человек – ещё до революции он окончил Московскую Духовную Академию, и был прислан в этот монастырь. Монастырь был смешанный: половина монастыря была мужской и половина – женской. Он показал нам храм, потом водил по кельям, где сидели старцы – они писали как бы историю. Бумага у старцев была наподобие пергамента и перья у них были гусиные. Кельи находились как бы в земле, и только небольшие окошечки. Из обстановки – лишь небольшой стол с перьями и узкая кровать, всё очень скромно. Мы попросили настоятеля выделить нам соломы. Он приказал, и монахи нагрузили воз соломы, который привезли к нам. В Митокских лесах обитало очень много рябчиков и разной боровой птицы, но охотиться нам было запрещено. Здесь мы отдыхали, несли караульную службу, немного занимались – например, наше отделение разведки, состоявшее из пяти человек, занималось хождением по азимуту и тому подобным. Командиром нашего отделения был старший сержант Романцов Пётр, он был года на два постарше меня и был уже награждён орденом «Славы» третьей степени. Ещё помню, как мы решили приготовить, на полк, колбасы: купили у местных жителей поросёнка и телёнка, у бочки из-под бензина вырубили зубилом днище, выпарили её, чтобы не пахло бензином и как следует вымыли. В полку было много людей из Донских степей, вот они и занимались. Зарезали поросёнка, зарезали бычка, у местных жителей попросили приспособления для набивки колбас, такие типа огромных шприцев, и наготовили на весь полк колбасы.
Боеприпасы у нас лежали в ровиках. Прошел сильнейший ливень и их залило водой. Мы вытаскивали ящики с уложенными в них – в два ряда по четыре в каждом – снарядами, вынимали их, отворачивали стабилизатор, а там, в стакане было пять «порошин» трубчатых, такой цилиндрической формы, а в середине каждой отверстие – миллиметров восемь. Мы раскладывали эти снаряды на солнышке и сушили. Головную часть трогать нам не разрешали. Там была такая крышечка типа пропеллера с левой резьбой, специальным усиком она входила в направляющую. Когда снаряд сходил с направляющей, встречным потоком воздуха этот пропеллер отворачивался и падал. Бывало, что эти штучки падали на наших солдат, но они были настолько маленькие, что серьёзного ранения получить было нельзя. Под этим предохранителем была такая плёнка, под которой находился взрыватель, и это было уже очень опасно. Один раз командир огневого взвода со своим заместителем стояли метрах в двадцати впереди батареи, командуя огнём при помощи артиллерийской буссоли. Расчеты укрылись, а в кабинах оставались механик-водитель и командир машины, который крутил ручку – подавалось электричество, и снаряды улетали. Они вылетали не сразу все 48, а по три штуки. Вот он шестнадцать раз повернёт рукоятку – и 48 снарядов улетит. И вот один снаряд разорвался прямо над батареей – то ли птичка попала или какая-то паутина, или что, но снаряд разорвался. Командиру взвода осколком разорвало икру, и его заместитель, старшина Гизатуллин, тоже кажется был ранен.
Там же, в Митокских лесах, произошел такой случай. Посыльный вызвал меня к начальнику штаба полка гвардии капитану Подоляку. Он мне говорит: «Ты будешь моим ординарцем, вот тебе ключи от машины, а я поехал в дом отдыха. Твоя задача – чтобы у меня были чистые носки и портянки, чтоб были начищены сапоги, был подшит подворотничок. А в моё отсутствие в машине будет находиться парторг полка капитан Костенко, будешь помогать ему». Сел в «виллис» и уехал, а я стоял с ключами в руках возле этой машины. Пошел в батарею к своему командиру, говорю: «Иван Семёнович, ты меня что, выгоняешь из батареи и отдаёшь ординарцем к капитану Подоляку? Я не хочу быть ординарцем, есть же солдаты постарше меня!» Капитан отобрал у меня ключи и ушел. Потом меня вызывает к себе командир полка и говорит: «Так чего, не хочешь быть ординарцем?» Я отвечаю: «Не хочу, и даже если бы Вы предложили, я бы и к Вам не пошел. Я молодой, а тут должен быть человек постарше». Но мне этот отказ обошелся боком: капитан Подоляк запомнил, и когда меня представляли к награде, он на моём наградном листе писал: «Недостоин» – в общем, он мне мстил, но он мстил не только мне. Откуда я вот это узнал – в общем, после войны, когда мы двигались в Россию, приехал полковник проверять документы. Когда он нашел среди документов эти наградные листы, то вызвал меня – он не только меня вызывал, но и других. Он говорит мне: «Ты чем награждён?» Я отвечаю: «Медалями «За Отвагу» и «За Боевые Заслуги»». Он спрашивает: «А ещё тебя представляли к наградам?» Я отвечаю: «Да, было такое». Он: «Ну и что?» Я отвечаю: «Так ничего». Он спрашивает: «Так почему ж ты не спрашивал никого?» Я говорю: «Кого я должен спрашивать?» Полковник говорит: «Ну, своего командира». Я говорю: «Господи, он же меня представлял, чего же я буду спрашивать?» А наградные листы были уже подписаны командиром полка, заместителем командира по политчасти, а он на тех, на кого имел зуб, писал: «Недостоин. Начальник штаба Подоляк». Справедливость так и не восстановили потому, что командир корпуса был дядей Подоляка. Ему дали десять суток домашнего ареста, а арест заключался в том, что ему за десять дней не выплатили зарплату. Может быть, эти наградные листы лежат где-нибудь в Подольске, но кто будет этим заниматься! А потом, может быть, и действительно мы были не достойны. Этот самый Подоляк даже приезжал ко мне домой после войны со своей женой. И я не мог ему отказать, хотя я знал, что это – нехороший человек. Он приехал в Ленинград, каким-то образом узнал мой телефон, и позвонил. Мне было жаль его жену, и я говорю, что «ладно, приходите ко мне». Они у меня с супругой ночевали три ночи. Ну не мог я ему отказать, несмотря, что он поступил со мной очень подло – он лишил меня трёх орденов: ордена «Отечественной Войны и двух «Красной Звезды». Я даже помню, что к одному из орденов «Красной Звезды» я был представлен за тот случай, когда наша установка дала залп по наступавшим немецким танкам, и один танк был сожжен. Всех ребят наградили, а меня – нет.
За день до начала Ясско-Кишенёвской операции перед нами выступал заместитель командующего корпуса по политчасти полковник Привалов Н.И, который объявил нам, что завтра в бой, что сегодня нам необходимо вымыться, одеть чистое бельё, всё лишнее из вещмешков выкинуть, и главное, что он нам сказал: «Пленных не брать». Кто-то из солдат крикнул: «А что с ними делать, если они будут сдаваться?!» На это полковник ответил: «Что, мне вам объяснять, что с ними делать?!»
Когда, кажется, девятнадцатого августа началась Ясско-Кишенёвская операция, особого сопротивления не было потому, что сперва был авиационный налёт, который длился, наверно, часа два, артиллерийский налёт, в котором наш полк не участвовал. Пошли танки и мы – прямо за танками, а за нами пошла кавалерия. Видели, как прошли танки и раздавили отступающую немецкую колонну – это было кровавое месиво, кругом бегали осёдланные лошади, немецкие или румынские – не знаю, мы их ловили, и от сёдел отрезали на подмётки закрылки около сёдел, кожа была хорошая. Румыны поняли, что дело плохо, всё проиграно, и начали сдаваться. Представляете себе, выходит румынская дивизия, складывают в кучу оружие, и во главе с командирами идут к нам навстречу. Тут мы уже их не давили потому, что всех не передавишь. А потом они обнаглели до того, что стали ехать на машинах, мы останавливаем их, спрашиваем: «Куда?» Они отвечают: «Акасэ», то есть – «домой». Они же бедные очень, у них в домах полы, как и у нас в некоторых местах на Украине – не деревянные, а земляные. Там же в Румынии было очень много цыган, и они очень-очень бедные были. И вот едет он на машине, полной всякого барахла – там и одеяла и там вот всё. Везут домой, ну ничего же нет. Мы, правда, машины у них отбирали, что-то там ему оставляли, что он мог себе в мешок положить, там сколько-то одеял, и говорили, что «давай акасэ, чеши пожалуйста». Вот так вот, ну всех же не перестреляешь, да и не каждый же мог брать такой грех на душу.
Мы двигались, не задерживаясь, и в первый или второй день наступления вошли в город Роман, из всех окон были вывешены белые флаги. Мы двигались прямо за танками, все установки в боевой готовности, заряжены. В тылу наших наступающих частей оставались немцы, поэтому там, где мы останавливались, выставлялось охранение и высылались патрули. Немного попозже был такой случай: мы гнали стадо коров, чтобы было чем кормить людей. Коровы шли чуть-чуть сзади, потом их надо было сдать тыловым частям, а они их отправляли в Россию. И вот мы с товарищем патрулировали, ходили по дороге. Слышим – наверху, на склоне горы, что-то потрескивает. Я говорю, что что-то там не ладно, а мой товарищ отвечает: «Да нет, это там Мишка-бык ходит». А оказалось – это немцы, они нас не тронули,а когда мы прошли, перебежали через дорогу и напоролись на наших часовых, стоявших около машин. Началась стрельба. Нам была придана зенитная батарея, вооруженная спаренными пулемётами «ДШК», и они начали стрелять по дороге, где мы ходили патрулём. Ну, мы залегли в кювет. В этой перестрелке погиб старшина полковой разведки – он спал – и, когда началась стрельба, выскочил в нижнем белье с наганом, он бежал за одним немцем и почти догнал, тот развернулся и выстрелил в него в упор! Но поймали этого немца, поймали, но старшину-то он убил. Нет, мы его не казнили, с ним беседовал начальник Особого отдела и, в конце концов отправили его в тыл. Утром нашли ещё троих: мы шли на завтрак и недалеко от кухни увидели торчащую из-под ёлки ногу. Это были три офицера, они, наверно, так устали, что уснули, мы их подняли и разоружили. От одного из этих офицеров у меня был кинжал в ножнах с красивой ручкой, но сейчас его у меня нет – его украли. Он лежал у меня на даче, на чердаке, и кто-то его украл.
Немцы постоянно просачивались небольшими группами через наши передовые части. Там же, когда выехали из города, Роман заметили четырёх всадников, мы их обстреляли. Я стрелял прямо с кабины, из своего ручного пулемёта, снятого с канадского бронетранспортёра, и убил под одним из них лошадь. Лошадь упала и придавила всадника, остальные остановились и спешились. Мы на своей «полуторке» подъехали, разоружили их, но на их несчастье появился генерал-майор Лев Моисей Яковлевич, командующий артиллерией корпуса. Он, видно, знал немецкий язык, начал с ними разговаривать. Один ему что-то ответил, он ударил его по уху. Тот упал, но быстро вскочил потому, что перед ним же генерал – у него, у генерала же, красные лампасы на брюках. И генерал сказал: «Расстрелять!» Наш водитель Жарков Хамза, татарин – я-то был молодой, а он совсем мальчишка – отвёл их в сторонку и расстрелял из автомата, вот. Так вот мы по Румынии и двигались.
В Румынии особого сопротивления не было – они очень быстро отступали: и немцы, и румыны, а потом же румыны перешли на нашу сторону. Мы с румынами почти не соприкасались, только был один случай, когда румыны немножко продвинулись, а мы по этой территории дали залп. Когда наши снаряды стали рваться, они в страхе бросились вперёд. Видя это, немцы тоже побежали, а румыны – за ними. Но нашего командира полка, гвардии подполковника Чумакова, особисты ещё долго терзали за этот залп, но обошлось. Выяснилось, что плохо сработала корпусная разведка: они дали точку, а эту точку уже заняли «наши» румыны, и мы в это время дали залп. Пятнадцать установок вели огонь по этому месту, представляете себе? Румыны понесли потери, ну, естественно, и немцы.
Когда мы двигались по Румынии, кругом было очень много фруктов. Я, например, никогда не видел, как растут грецкие орехи. Наши машины стояли в саду, я сорвал одну такую штуку, спрашиваю у ребят: «Что это такое?» Они говорят: «Это грецкий орех». Орехи были ещё незрелые, в зелени, и когда я её снял, мои руки почернели. Я всё-таки расколол орех, но ядро ещё не сформировалось, а была только жидкость. Надо сказать, что наш командир полка до войны был профессором ботаники. Виноград уже поспел и когда полк проходил мимо больших виноградников, командир останавливал колонну, и говорил: «Кто хочет винограда – даю вам пять минут, не ломать, не мять – аккуратно снимать». Мы это знали, и с каждой машины соскакивало по два человека – один с ведром, другой с ножницами, срезали гроздья винограда, укладывали и бежали обратно. Ровно через пять минут подавалась команда: «Моторы!» и колонна двигалась вперёд. В Румынии и в Венгрии вдоль дорог были посадки фруктовых деревьев, яблонь, груш. Очень много росло тутовых деревьев, на них ягоды – как малина, приторно сладкие. Мы под деревом расстилали палатку и трясли дерево, ягоды осыпались, и мы их собирали, но их много не съешь.
Местное население относилось к нам неплохо. Я, наверно, простудился и у меня начался фурункулёз: один фурункул появился с левой стороны рта, а другой вскочил справа, чуть пониже. Я не мог открыть рот, и пожилая румынка, в доме которой мы остановились, помогла мне народным средством. Румынию мы довольно быстро прошли, и очутились на территории Венгрии. Здесь люди жили совсем по-другому. Если в Румынии была мамалыга, то в Венгрии был уже и хлеб, и люди жили более богато.
В Венгрии мы впервые столкнулись с «власовцами». Против Пятого Казачьего корпуса немцы выставили одетых в казачью форму «власовцев». Только у них форма была не совсем такая, как наша. У нас была обычная красноармейская форма, только выдавались красные ленты, которые мы сами нашивали на брюки. И потом у нас были обычные гимнастёрки, а у них – настоящие казакины и красные лампасы на тёмно синих брюках, вся одежда фабричного изготовления. Нам же только тем, кто участвовал в параде Пятого Гвардейского Донского Казачьего Краснознамённого Будапештского Корпуса в Ростове на Дону – вот их одели в настоящую казачью форму, которую и оставили в подарок. От нашей батареи участвовало три человека: мой помощник командира взвода Петя Романцов, потом командир орудия – фамилию забыл, звали Максим, и ещё один товарищ – вот им выдали настоящую казачью форму.
В Венгрии началось наступление. Артиллерия проложила нам путь, наш корпус и танковая бригада с десантом вошли в прорыв. А немцы захлопнули проход, и мы очутились в котле. Это произошло ещё до подхода к Дунаю, там, кажется, протекала река Тиса. Надо сказать, что мы-то и не знали, что находимся в окружении – начальство большое знало, что нам закрыли проход, а мы не знали. У меня в это время очень разболелся зуб. Мне говорят, что вон там есть зубной врач. Я пришел, он спрашивает: «Какой зуб?» Я ему показал, он говорит: «Ну, ладно, садись на табуретку». Там же был ещё какой-то капитан, он ему говорит: «Слушай, подержи ему голову». Тот сзади подошел и держал мне голову. Врач сказал мне: «Ну, держись, казак, атаманом будешь!» Зацепил мне зуб и без всяких уколов выдернул. Вырвал зуб, подаёт мне кружку с вином и говорит: «Прополощи, а остальное выпей». Я пополоскал рот этим вином, а остальное выпил. Он говорит: «Ну а теперь можешь идти».
Наш командир отделения разведки Пётр Романцов меня и Ваню Зырянова послал в село за вином. Ваня Зырянов был родом с Алтайского края, рассказывал, что до войны разводил маралов. Он был замечательный человек, очень добрый и справедливый. Кто-то нашему командиру подсказал, он говорит: «Возьмите две канистры, пойдёте вот по этой дороге и там в венгерском доме есть хорошее вино». И мы пошли, не зная, что там уже немцы. На нас были немецкие маскхалаты, немецкие сапоги, и у нас были немецкие автоматы. Может быть, немцы или «власовцы» там были, они приняли нас за своих. В общем, мы нашли этот дом, набрали вина, потом яблок набрали – там было очень много яблок приготовленных к отправке. Такие длинные ящики, в каждом ящике по два ряда, и каждое яблоко завёрнуто в бумажку и всё пересыпано стружкой. Мы вернулись, а наши уже заняли круговую оборону, мы подходим к расположению полка, а нам кричат: «Стой, кто идёт?!» Петя Романцов страшно переживал, что послал нас на верную смерть, но мы вернулись.
Вот здесь нам пришлось стрелять прямой наводкой. Мы занимали оборону в одной венгерской деревне. Командиром нашей батареи был Романчуков Иван Семёнович, молодой – тоже 1923 года рождения, только я – 21-го сентября, а он родился первого января. Он мне говорит: «Сашка, помоги смотать связь, а я буду вон на том бугре». Пожилой связист начал сматывать связь, а я с пустой катушкой шел сзади него. Связист идёт и всё оборачивается назад. Я думаю, чего он всё смотрит, глянул назад – а там немецкая цепь! Наверно, метров триста от нас. Я как заорал на него: «Вперёд, и быстрее!» Он начал быстро мотать связь, шедшую по кукурузе, и мы быстро оказались на бугре в расположении нашей батареи. Командир дивизии говорит: «Я буду вон на том бугре, а вы задержите немцев». Командир нашей батареи поставил одну установку на прямую наводку, немцы только стали выходить из той деревни, мы дали залп. Один залп дали – установка отходит, заряжается, на её место встаёт вторая. Мы в бинокли видим: немцы вытаскивают своих раненых и убитых.
В тех боях полк потерял одну боевую машину – она била прямой наводкой по наступавшим немцам и была повреждена, а у каждой машины за кабиной был прикреплён ящик с толом и бикфордовым шнуром. Лейтенант приказал машину взорвать, что и было исполнено. Но когда он с расчётом догнал полк, то у него были неприятности – подозревали, что машину просто бросили.
Когда наш корпус попал в окружение, немцы страшно нас бомбили: они видят же сверху «катюши», а они их страшно боялись – налетало по 27 «юнкерсов». Прямо кружили над нами и сбрасывали не только бомбы – рельсы бросали, а рельса, которая падает, выдаёт такой звук, что волосы шевелятся на голове. Или ещё они сбрасывали такие «бочки», которые, не долетая до земли метров пятьдесят, открывались, а оттуда – маленькие мины, которые обсыпали всё вокруг, взрываясь уже на земле. Крестов на шеях у нас не было, но когда так бомбили или здорово обстреливали, все говорили: «Господи, Господи!»
Здесь немцы выставили против нас «власовцев», одетых в казачью форму – такие папахи были красивые и всё, а нам выдавали только красные ленты, которые мы сами нашивали на брюки. Был такой случай, когда они вырезали батарею в противотанковом полку. Ночью стоял часовой, слышит – кто то идёт, он крикнул: «Стой, кто идёт?!» Ему ответили по-русски: «Свои». В общем, они подошли и его без шума зарезали, вырезали всю батарею и испортили пять противотанковых пушек, поснимали замки. После этого появился и пароль, и отзыв, и предупреждали, чтобы мы смотрели в оба, а то можно поплатиться жизнью.
Тогда же поймали на дороге одного «власовца» – такой парень высокий, красивый, привели его к командиру полка, Он кое-что у него спросил, тот что-то ответил. Он что-то ещё его поспрашивал, и говорит моему командиру батареи: «Романчуков, отведи в сторонку и расстреляй этого гада». А там стоял старшина медицинской службы, он выхватил наган и этому «власовцу» – в затылок, прямо тут, на дороге. У командира полка была такая суковатая палка – он как врежет этому старшине по спине, и говорит: «Я кому сказал расстрелять? Романчукову, и отвести в сторонку! Ты что, Романчуков?! Хочешь убивать – иди на передовую, там убивай!»
Корпус готовился к прорыву из окружения. Как я уже говорил, нас в это время нещадно бомбили. Во время первого налёта я прыгнул в ровик, на меня навалилось чуть ли не всё отделение. Рядом оказался командир отделения радистов сержант Попов, его трясло как в лихорадке. Я успел спросить, что с ним, он ответил мне, что его уже один раз откапывали после бомбёжки, вот его теперь так и трясёт. После этой волны мы на своей машине направились к мосту через овраг. У моста образовался затор из машин. Тут начался следующий налёт немецкой авиации. Наша «полуторка» рванулась вдоль оврага, я стоял на левом крыле машины, а Ваня Зырянов – на правом. Над нами раскрылась немецкая «бочка», из которой посыпались мины. Машина резко затормозила, я оттолкнулся от крыла и упал в овраг. Все думали, что меня убило, но меня даже не царапнуло. Я встал, отряхнулся от грязи и пошел к машине. Одна из маленьких бомбочек попала в борт и расщепила доски, вторая по касательной пропорола брезентовую крышу кабины и взорвалась перед машиной. Мы сели в машину, к этому времени пробка рассосалась, и мы по мостику переехали через этот овраг. Но вражеская авиация не оставляла нас в покое и вскоре последовал новый налёт. Мы с полком только отъехали – налетели самолёты. Загорелась одна боевая машина, установка с неё соскочила и стреляет, снаряды горят и улетают «в белый свет». Наша «полуторка» тоже загорелась и в ней сгорели все наши вещи, а у некоторых ребят – и награды. В это время ранило Ваню Зырянова, – один осколок пробил ему ладонь левой руки, второй попал в спину, вошел, скользнул по лопатке и вышел. Я разрезал ему ножом одежду, разорвал пакет, положил ему туда и поверх гимнастёрки замотал. Мы с Ваней отбежали в кукурузу, он упал и говорит: «Сашка, беги, я больше не могу бежать». Через два метра кукуруза кончалась, дальше был сад. Я выскочил, вижу – гурт картошки, в которую я сходу начал зарываться, картошка рассыпается и у меня ничего не получается. Под одной из яблонь была ямка, наверно, для полива, в неё только моя голова вошла. Я прикрыл голову автоматом, и думаю: «Господи, только бы не в голову!» Налёт кончился, я сел под этой яблоней и засмеялся, думаю, а если в другое место? Вот Господа вспомнил, представляете себе? Потом нашел Ваню Зырянова, поднял его, и мы вернулись к нашим машинам. Ещё до этого налёта у нас были ранены двое: заряжающий Ваня Зуев – ему оторвало пятку, и был ранен в живот наш любимый старшина Кравченко – они лежали на машине «ЗИС-5», гружёной боеприпасами. Вот они там во время этого налёта, конечно, натерпелись страху такого, что не дай Бог! Мы думали, что они погибли. Потом, когда вышли из окружения, их отвезли в госпиталь, старшина был без сознания, и его положили к мертвецам. Кто-то из наших ребят увидел, что он ещё живой, а лежит среди мертвецов, его – на операционный стол. Когда после войны на сорокалетие победы в Корсунь-Шевченковском проводилась встреча, он приехал из Харькова.
Недалеко от наших машин стояла машина, на которую грузили раненых, Ивана погрузили в эту машину. Невдалеке я увидел лежащего вниз лицом капитана, у него была разбита левая лопатка. Я успел его перевязать, подвёл к этой машине, ему помогли забраться, и он мне выбросил свой пистолет «ТТ» со словами, что он мне пригодится, с этим пистолетом я не расставался до конца войны и сдал его при демобилизации.
После бомбёжки все собрались, только не было Вани Новикова – нашего комсорга, служившего писарем нашей батареи. Долго искали мы его и не нашли. Он или далеко отбежал и его могли схватить «власовцы», или было такое попадание, что от него ничего не осталось. (По данным ОБД «Мемориал» Новиков Иван Васильевич 1922 г.р., уроженец Орловской обл., гв.младший сержант 9 гв. мин. полка, писарь-кантернармус, погиб 26.10.1944 г., похоронен – Венгрия.) Меня увидел командир нашего полка, называвший меня «разболтанный» потому, что я никогда не застёгивал верхние две пуговки на гимнастёрке. Он спрашивает: «Ну как, разболтанный?» Я отвечаю: «Все живы, только Ваня Зырянов ранен», он говорит: «Ничего, садитесь на любую боевую машину, и сейчас начнём двигаться». В это время мимо нас проехал командир корпуса генерал-лейтенант Горшков. Недалеко стояло штук девять самолётов «У-2», туда грузили штабные документы и знамёна, мы думали, что и генералы улетят, но нет – все остались. Первым проехал «додж» с автоматчиками, потом «виллис» командира и снова машина с автоматчиками. Командир корпуса стоял в машине и кричал: «Не дрейфь, ребята, я с вами!» Мы облепили боевую машину Вани Калинина и пошли на прорыв. Первым шел 47-й кавалерийский полк в конном строю. Я видел, как они скакали по полю, а за ними тянулся широкий кровавый след. Только подъехав ближе, понял, что атака шла по арбузной бахче и лошади подавили арбузы, отчего и тянулся за ними красный след, принятый мною за кровь. За эту атаку командиру полка присвоили звание Героя Советского Союза. Навстречу нам тоже ударила какая-то кавалерийская часть, мы проделали отверстие, и весь корпус вышел через это отверстие. После прорыва мы немножко отдохнули.
Я уже говорил, что у нас пропал без вести комсорг батареи Новиков Ваня. Когда мы вышли из окружения, приехал заместитель командира корпуса по комсомолу, капитан. Собрали молодёжь батареи, ну и надо выбрать комсорга. А я помогал Ване выпускать «боевой листок», у меня почерк был нормальный, я мог и нарисовать что-то, ну и кто-то из ребят говорит: «Вон Сашка Топтыгин помогал ему – пусть и будет комсоргом». Я говорю: «Ребята, вы что? Я же не комсомолец!» Капитан спрашивает: «Как не комсомолец?» Я отвечаю: «Да очень просто: меня в школе не приняли – у меня была тройка по русскому языку, а тех, у кого были тройки, в комсомол не принимали». Он говорит: «Ну вот, сейчас мы тебя и примем!» Тут же меня приняли в комсомол, выписали комсомольский билет и избрали комсоргом батареи – вот так вот, в одно мгновение! (рассказывает, улыбаясь)
Немного времени прошло после выхода из окружения, но за это время мы успели получить новую технику. Части корпуса, да и наш полк, снова наступали и не выходили из боёв, но это всё – левый берег Дуная. Нашлась и та боевая машина, которую после залпа по немецкому бронетранспортёру, ребята взорвали. Лейтенанта, командира огневого взвода, москвича, фамилию я не помню, перестали теребить особисты, но его внутреннее состояние было надломлено, да ещё он получил письмо от своей девушки, которая просила, чтобы он ей больше не писал, так как она вышла замуж. Это его окончательно сломало, он стал искать смерти, и он её нашел. Он сел в машину полковых разведчиков, причём сел в кабину, рядом с шофёром, а разведчики сидели в кузове, покрытом брезентом. Они проскочили наш передний край, и попали прямо в деревню, занятую немцами. И тут лейтенанта убили, правда, разведчики его, мёртвого, вынесли и мы его похоронили. Немцы сильно сопротивлялись, но мы продолжали двигаться вперёд, и вышли к Дунаю немного южнее Будапешта.
Между Будапештом и городом Дунафельдом была налажена понтонная переправа. Наш полк переправился на правый берег Дуная одним из первых, вместе с танками. Мы довольно быстро подошли к озеру Балатон, освободив перед этим шахтёрский город Татабанья. Этот городок запомнился мне тем, что в подвале одного богатого дома я нашел новенькое кожаное пальто. Но кто-то доложил об этом заместителю командира полка, майору Реве Григорию Ивановичу. Он прислал за этим пальто своего ординарца, с которым я дружил, тот передал мне приказ майора и посоветовал не ссориться с майором, и я, конечно, пальто отдал. Потом мы переместились в шахтёрский посёлок. Там стояли деревянные двухэтажные дома, в домах было по четыре квартиры, каждая из которых имела отдельный выход на улицу и располагалась на первом и втором этажах. На первом этаже находились кухня и столовая, на втором было три комнаты. Под каждой квартирой имелся свой подвал, где хранилось варенье, консервированные продукты, вина, ну и так далее. А над квартирой у каждого был свой чердак. Всё это я так подробно запомнил потому, что начальник Первого отдела поручил мне с двумя солдатами проверить один порядок домов на предмет хранения оружия, но строго предупредил, чтобы мы ничего не рыли. Венгры сами открывали свои чемоданы и сундуки, и показывали всё сами, чтобы мы ничего не могли брать. Мы ни до чего не дотрагивались, они всё сами показывали, когда мы просили, сами отодвигали мебель. Второй порядок домов проверял старшина Гизатуллин, в одном из домов он прихватил золотые часики. Хозяйка нажаловалась, и он чуть не попал под трибунал. Не знаю, как на других фронтах, но у нас было очень строго. Был такой случай: в одном из полков изнасиловали девушку, было арестовано пятнадцать человек и всех отправили в штрафную роту. Но показательных расстрелов за всю войну я не видел.
В доме, где мы жили, хозяин был шахтёр, с ним жили его жена, дочь и племянница из Будапешта. Я был молодой, мне шёл 21-й год и, наверно, этим двум девушкам я понравился, и чтобы нам как-то разговаривать, они достали энциклопедию, где текст был на венгерском и параллельно – на русском языке, также нашли венгро-русский разговорник, с помощью этих книг мы и вели разговоры. Они выясняли у меня, какое у нас в стране образование, сколько я окончил классов в школе и даже мои познания в физике, математике и литературе. Одна из девочек была очень красивая, и я влюбился в неё. По утрам она подогревала кувшин с водой, заставляла снимать рубашку и поливала тёплой водой на руки и даже мыла мне спину. Звали её Елена, а там её называли Элонкой, она была дочерью коммуниста, арестованного диктатором Салаши. Меня они называли Шандор. Говорили: «Война капут, Шандор вист Татабанья, забрал Элонка цурюк ин Ленинград». Но этому не суждено было сбыться, так как советским людям тогда было запрещено жениться на иностранках. Она действительно мне очень нравилась, ну что же – я был мальчишка, я даже никогда не целовался с девчонками, у меня и с этой девочкой не было ничего.
Ещё до этих событий был бой за город Дебрицен, за который наш полк получил название Дебриценского, и стал называться «Девятый Гвардейский Миномётный Дебриценский ордена «Александра Невского» полк». На подступах к городу мне с комбатом пришлось выбирать огневую позицию. Позицию-то мы выбрали, но как провести на неё пять боевых машин – вот это была задача! Дорогу немцы простреливали. Комбат Иван Семёнович остался на огневой, а я должен был туда вывести батарею, и мне это удалось. Батарея успешно отстрелялась и мы вывели машины в укрытие. Там были сплошные сады, стояли ящики с готовыми к отправке яблоками. В садовых домиках было много сахарного песка, мы набрали всего этого себе.
Там же мы подверглись страшной бомбёжке – налетело 27 «юнкерсов». У нас был убит шофёр Леонтьев, и одиннадцать человек было ранено. Перед этой самой бомбёжкой хозяйка приготовила нам гуся, она принесла его на большущей тарелке, и мы только протянули к нему руки, как началась бомбёжка. Все выскочили из дома и побежали в щель, а я, убегая последним, отломил у гуся ногу, и тоже – в щель. Мы, разведчики, сидим в щели, идёт бомбёжка, а я ем гусиную ногу. Помощник командира взвода говорит: «Ну ты и ушлый, тащил бы всего гуся – и мы бы поели, а то ты один обжираешься, а у нас слюни текут!» (рассказывает, улыбаясь) Мой командир батареи выскочил из дома, и, не видя другого укрытия, спрятался в колодец. Он упёрся ногами и руками в стенки колодца, и пока шла бомбёжка, так держался. Когда самолёты улетели, он не смог выбраться самостоятельно и стал кричать. В общем, вытащили мы оттуда нашего капитана Романчукова, ну, конечно, и посмеялись.
Ещё перед Дунаем меня легко ранило. Наши штурмовики ошиблись и дали один залп по бугру, на котором стояли мы, а надо было – по соседнему, где были немцы. Осколок, видно, был на излёте и попал мне в левую ногу, пробил сапог, ватные штаны, портянку, кальсоны, и остановился. Но удар был такой, что я очень высоко подпрыгнул. Полковой фельдшер обработал рану, перевязал и я пошел дальше.
Вскоре мы подошли к озеру Балатон, там были огромные виноградники, город Секешфехервар. Наша санинструктор Дмоховская Елена Станиславовна попросила меня найти ей куклу, но чтобы кукла пищала – знаете, были такие куклы, пищавшие: «Ма-ма». Я столько обошел в этом городе подвалов, я столько там видел красивой посуды, какой больше никогда не видел: хрустальные фужеры, рюмки, вазы… Раньше я ничего подобного не видел, потому что рос в небогатой семье и у нас ничего похожего не было. В конце концов я нашел говорящую куклу, а себе нашел коробочку, в которой было трое или четверо немецких карманных штампованных часов, которые я раздал ребятам. Елена Станиславовна ещё с довоенного времени была женой заместителя командира полка по политчасти. Это единственная женщина, служившая в нашем полку, а в разведывательных танковых батальонах, в которых я раньше воевал, женщин вообще не было.
На этом участке фронта Гитлер очень сопротивлялся. Мы сперва захватили этот город, Секешфехервар, а потом его пришлось оставить. Когда мы оставляли город, венгры по нам стреляли с чердаков. Мы всё время находились сразу за танками: вот танки – и мы за танками. С направляющих были сняты брезентовые чехлы, и батарея находилась в постоянной боевой готовности. В это время мы столько выкопали аппарелей, представляете – это надо было машину загнать в аппарель, чтобы её было не видно. Но хорошо, что хоть почва была не такая твёрдая, всё больше песчаная. А так – шесть человек экипаж и нас, разведчиков, по двое на машину. Восемь человек должны закопать «студебекер», представляете себе?
Мы стояли между Будапештом и Дунафельдом, Будапешт был ещё не взят. Немцы нас так прижали к Дунаю, что в некоторых местах до реки оставалось 6 – 7 километров. Рядом с нами стоял зенитный дивизион, прибывший с Карельского фронта, его орудия были поставлены на прямую наводку против немецких танков. Дивизионом командовала женщина-майор, единственная женщина в дивизионе. Солдаты её не боялись, но уважали потому, что она поражала их своими знаниями в артиллерии. В общем, мы тут носились между Будапештом и Дунафельдом по берегу Дуная, туда, в сторону Чехословакии, ещё там есть город Эстергов. Одной ночью мы вышли на огневую позицию, и так близко к немецкой передовой – обычно мы так близко никогда не подходили. Пока мы устанавливали машины, немцы услышали звук работающих моторов и начали нас обстреливать из пулемётов и ротных миномётов, одна из мин попала в боевую машину, и разорвалась прямо на направляющей. Был убит наводчик, причём единственный маленький осколочек попал в край медали «За Отвагу», медаль как-то, видно, повернулась и осколочек вошел прямо в сердце. Был ранен в руку механик-водитель: он – в белом полушубке, кровь прямо хлещет – попало, видно, в артерию, мы перетянули ему руку жгутом, и кровь перестала так хлестать. Мы с моим непосредственным командиром, помкомвзвода Петей Романцовым, немножко отползли. Комбат говорит: «Давайте вытаскивайте убитого и обоих раненых!» Ещё был ранен Вася Докучаев, ему осколками обсыпало живот. Снег был глубокий, рыхлый, но мы их вытащили. Машину тоже надо было как-то вытащить потому, что рядом немцы. Уговорили танкистов. Танк подошел передом к машине, мы зацепили её тросом, и танк задним ходом вытащил машину на дорогу, там её прицепили к нашим машинам и утащили. Потом с этой повреждённой машины сняли направляющие, поставили железный кузов, сделав из неё грузовую машину. Мне командир батареи поручил довезти до парома раненого Васю Докучаева. До парома было недалеко – полоска-то оставалась шесть километров. Я довёз его до парома, отдал девочкам-санитаркам и говорю: «Девочки, я подожду, вы мне скажете, как он, довезли его до того берега?» А там ширина Дуная – километр с лишним. Когда паром вернулся, я спрашиваю девочек: «Ну, как он?» Они говорят: «Не дожил Вася. Не довезли мы его до берега, он умер». (По данным ОБД «Мемориал» Докучаев Василий Леонтьевич 1922 г.р., уроженец Сталинградской обл., гв.ефрейтор, наводчик орудия, доставлен трупом в госпиталь 22.01.1945 г. Похоронен г. Мацкеве, Венгрия)
Там же, под Секешфехерваром, мы дали залп, а казаки почему-то не поднялись, мы дали второй залп и тогда новый командир полка, фамилию его я не запомнил, приказал оставить только наводчиков и механиков-водителей, а нас повёл в атаку. Нам чудом повезло, никто из нас не был ранен и немцев мы выбили из траншеи, которую тут же заняли казаки. Когда об этом узнал наш бывший командир полка полковник Чумаков – а он был уже заместителем командующего артиллерией армии – то лично приехал и устроил разнос новому командиру полка.
А почему сняли нашего командира полка Чумакова. Когда мы были в Трансильвании, то нашли зарытую в стоге соломы легковую машину. Я не знаю, какой она была марки, но машина очень красивая, у неё было пять фар: три внизу, в районе бампера, и две наверху – над радиатором, сиденья были обиты красной кожей. Большая, красивая машина, и в ней было набито столько шоколада: и под сиденьями, и, в общем, везде. Мы проверили, не заминирована ли она, попытались завести, но из этого ничего не получилось. Прикатили её к дому командира полка и говорим часовому: «Вызови кого-нибудь». Вышел пожилой ординарец командира полка, мы ему говорим: «Давай, зови батьку, мы ему притащили подарок». Он вышел, посмотрел, Петька Романцов говорит: «Батя, прими от нас подарок, вот – легковую машину тебе, как бы на день рожденья. Только она чего-то не заводится». Он позвал своего шофёра, тот посмотрел, и оказалось, что машина не заводилась потому, что просто не было бензина. Залили бензин, и машина завелась. Наш командир полка на этой машине поехал в штаб корпуса на совещание, которое проводил начальник артиллерии корпуса генерал-майор Лев. Когда совещание кончилось, все пошли, а этот Лев нашему подполковнику говорит: «Подполковник Чумаков, останься». Подполковник остался, он подходит к окну и спрашивает: «Это твоя машина?» Тот отвечает: «Да, моя». Он говорит: «Знаешь что, ты отдай мне эту машину». А он говорит: «Товарищ генерал, не могу отдать – это подарок мне от моих солдат. Ну что я скажу своим солдатам, если вам отдам?» Тот говорит: «Ну, скажи, что ты мне подарил машину». Наш командир говорит: «Ну, если бы мои солдаты сказали, что это для генерала Льва, я бы вам её и пригнал, а так как они подарили мне на день рождения – машина-то моя». В общем, он был принципиальный мужик. После этого его генерал-майор Лев снял с командования и отправил в резерв армии. А там он получил назначение и стал заместителем командующего артиллерией армии, ему присвоили звание полковника, и генерал-майор Лев стал ему подчиняться. Вот и такие были штучки у нас. Когда вышел приказ о снятии подполковника Чумакова с должности командира нашего полка, то он приказал начальнику штаба построить в две шеренги – таким кругом – и прошел по всему полку, пожав руку каждому солдату, а тех, которых хорошо знал, ещё и расцеловал. Взял с собой своего шофёра, ординарца, сел в машину и уехал.
Я рассказывал вам про начальника штаба полка, капитана Подоляка, который хотел, чтобы я у него служил ординарцем. Он всё же нашел себе в ординарцы молодого парня, но, наверно, меня не простил и, возможно, хотел поиздеваться. Он ездил на немецком бронетранспортёре и как-то, увидав меня на улице, остановился и говорит: «Садись, поедешь со мной». Поехали. Он меня высадил на развилке дорог, и говорит: «Вот, если наши поедут – будешь направлять вот по этой дороге». И вот я с середины дня стою, а погода такая вредная, дождик идёт. Я – в шинели, под ней у меня надета фуфайка и сверху – плащ-накидка. Но я весь вымок, не помогла и плащ-палатка. И никакие наши машины не пошли. Наконец он вернулся и взял меня, а я продрог, голодный… И если бы не этот ординарец, я бы его, наверно, застрелил, но ординарец меня уговорил. Говорит, что «судить ведь нас будут, меня ведь тоже вместе с тобой!» В общем, не стал я с ним расправляться. Когда приехали, где стоял наш полк, я вылез из бронетранспортёра и вошел в первый попавшийся дом. По двору бегают гуси, куры, поросята. Вхожу в дом, в нём никого нет, всё в доме разворочено, на полу валяются вещи, раскидана одежда, за мной входят хозяин-венгр и женщина. Я стою посередине комнаты и говорю: «Рускатуно треба кушать». А женщина говорит: «Рус казак всё забрал. Шицка еднэ». Я снял автомат, положил на стул, а они стоят в дверном проёме, я расстегнул ремень на шинели, шинель распахнул, а у меня на брюках – красные лампасы. Хозяев, как ветром сдуло. Я разделся догола, сбросил своё промокшее нижнее бельё, нашел рубашку, кальсоны, нашел тонкий шерстяной свитер, сверху надел мокрую гимнастёрку, натянул брюки и шинель. Оделся и пошел в соседний дом, а там – старуха. Я говорю: «Матка, рускатуно треба кушать», – она: «Айн момент». Принесла два стакана, краюху хлеба и кринку молока. Ложечкой размешала молоко и налила в оба стакана. Один стакан взяла себе, а другой пододвинула мне. Взяв свой стакан, сделала несколько глотков – это чтобы показать, что оно не отравленное. Я поел и рассказал ей, что в соседнем доме мне не дали поесть. Она сказала, что он жадный, кулак – вот так, даже в Венгрии были разные люди. Эти мужчина и женщина, наверно, были обижены, что казаки из передовых частей их грабанули, поэтому они мне и отказали. Не знаю, что казаки у них искали, может золото – посмотрели, что дом богатый: гуси, поросята бегают, посчитали, что это богатый человек, и у него что-то есть.
У нас был командир взвода, младший лейтенант Иван Ухаботов. Он к нам пришел после окончания пехотного училища, кажется, где-то в Грузии. Это был очень непорядочный человек. Он пришел к нам в конце войны после пехотного училища потому, что майор Рева, заместитель командира полка по строевой, был его дядя, и каким-то образом притащил его. Он отбирал у солдат вещи, авторучки, вплоть до носовых платков и солдаты жаловались. В Трансильвании, в горах, мы ворвались в один замок, в замке никого не нашли – все сбежали, но в одной из комнат на третьем этаже был накрыт стол. На столе стояла ещё тёплая картошка, и на стуле висел венгерский китель и шашка в ножнах. В окно комнаты была видна глубокая пропасть. Наш шофёр Жарков Хамза надел на себя этот красивый китель, на шёлковой подкладке, и нацепил шашку. Этот Ухаботов прилетел, и говорит: «Жарков, отдай мне этот китель». Хамза говорит: «Не-е-ет, товарищ младший лейтенант, не могу – я приеду в свою деревню, я же буду первым парнем в этом костюме!» Тогда этот Ухаботов говорит: «Я приказываю отдать!» Ну, вместо этого он получил от Жаркова по уху. Тут и вся наша братва, кто был тут, приложились к нему, а потом открыли окно и говорят: «Выбрасывай его, скажем, что немцы выбросили! Потому, что этой собаке не надо и жить!» Он взмолился, ползал на коленочках и просил, что «братцы не убивайте!» Его предупредили, что если он пожалуется – убьём. Не пожаловался. Потом, после войны, он приехал в Ленинград, поступил в институт Советской Торговли, жил в общежитии на углу Восьмой Советской и Кирилловской улицы. Он приехал к нашему комбату и, уходя, украл у него фотоаппарат. Потом в институте украл у профессора пальто и велюровую шляпу, его поймали, сколько ему дали – я не знаю потому, что больше его не видел. Вот, был такой человек.
В Венгрии произошел единственный случай, когда из полка сбежал человек. Ему было около тридцати лет, родных у него не было, в детстве воспитывался в детском доме. По национальности он был, кажется, мордвин – в общем, его родной язык был очень схож с венгерским. Мы знали, что он влюбился в мадьярку, очень красивую женщину. Мы его искали, в том числе и у неё, несколько раз ночью входили в её дом. Видно было, что на кровати спали два человека, а его нет. Куда она его прятала? Так мы его и не нашли. Видно, это была любовь, но она действительно была очень красивая женщина. У моего двоюродного брата, 1911 года рождения, отец – старший брат моей матери – воевал во время империалистической войны на австрийском фронте и попал в плен. Австрийцы разбирали пленных по домам, как батраков. После революции он прислал одно письмо, чтобы ему сшили и выслали сапоги. Его отец – мой дед – сшил ему сапоги и послал. Вероятно, он их получил потому, что больше не писал. Потом кто-то сообщил, что хозяин, у которого он работал, умер, а он приглянулся хозяйке и остался там. Он так и не вернулся, а ведь здесь у него оставалась жена с сыном. Ну, и этот видно так: решил сбежать – и всё.
Тринадцатого февраля был взят Будапешт, но наш корпус в боях за город участие не принимал. После окончания боёв мы туда ездили. В подвалах дворца Хорти был немецкий госпиталь. Там в одной комнате лежал немецкий лётчик, видно – генерал, у него была шинель мышиного цвета, красная подкладка и голубой кант. Генерал был раненый, но живой. Я у него из-под подушки вынул маленький пистолетик, не знаю, как он назывался – такой маленький, что помещался у меня в нагрудный карман, взял также коробку с патронами. Взял эту шинель и перчатки. Потом мы набрали шампанского – там были такие огромные погреба, что в них можно было на машине заезжать, как в метро. Бутылки с шампанским лежали, как дрова, правда, каждая бутылка – в бумаге и обёрнута соломкой. Потом на каком-то складе набрали вельвет, и всё это привезли. Генеральскую шинель у меня отобрал майор Рева, перчатки – начальник штаба Подоляк. А пистолетик я сдал при демобилизации. В распоряжении майора Ревы была «полуторка»- фургон, доверху забитая трофейными шмотками, но впрок они ему не пошли: в один из налётов немецкие самолёты подожгли эту машину, и всё сгорело. А у солдата какие трофеи? Вот я привёз домой только немецкий кинжал и в маленькой посылочке послал два шелковых платья для сестёр – вот и все трофеи.
Мы двинулись в сторону Австрии. Помню, шли по ущелью, там протекала река, по берегу которой шла дорога. Конники двигались параллельно дороге по хвойному лесу. Командир батареи послал меня к командиру кавалерийского эскадрона. Трое суток я был у командира этого эскадрона, а он всё время лазал по переднему краю: он лазает, его ординарец и я с ним. В конце третьих суток, он мне говорит: «Слушай, шел бы ты отсюда к своему комбату. Ты мне надоел, убьют тебя тут, а я отвечай!» Отошли от переднего края, где лежали его казачки, поели и он говорит ординарцу: «Выведи его на дорогу и пусть он шагает к своему командиру батареи, если нужна будет помощь – мы сообщим». И я пошел обратно. Немцы всё время обстреливали эту дорогу и некоторые снаряды и мины попадали в реку. И мы видим: когда разорвётся снаряд или мина в воде – плывут оглушенные рыбы. И такие здоровые рыбины, я даже не знаю, как она называлась. Мы стали их вылавливать, а вода в реке холоднющая! Мы забирались в неё и вылавливали этих оглушенных рыбин, потом ребята их жарили, варили, в общем, готовили себе такие деликатесы. Кто-то из корпусного начальства увидел, как мы ловим эту рыбу, и нам строго настрого запретили этим заниматься. У немцев же тоже разведка работала, и они могли увидеть, куда отходят эти солдаты, которые ловят рыбу.
Недалеко уже от границ Австрии наша батарея, пять установок, стреляла целый день. Боеприпасы нам подвозил автомобильный батальон. Мы израсходовали одиннадцать тысяч, с лишним, снарядов. Стреляли целый день по одному и тому же месту. И остались на ночь на огневой позиции. Немцы, видно, разведали, что мы не ушли с этой огневой позиции, подтащили шестиствольные миномёты, но первый залп был перелётом. И если бы не расторопность комбата мы бы все погибли. Он только крикнул: «Батарея, моторы! И все за мной!» Я успел прицепиться за последнюю машину. Все машины выскочили, и потеряли только проводную связь – две катушки. Когда на следующий день мы вернулись посмотреть, что же там такое было, то поняли: если бы мы там задержались, то от нашей батареи ничего бы не осталось – там всё было перепахано снарядами.
Когда пересекали границу Австрии, шел такой противный дождь со снегом. Мы сидели в доме, у которого почему-то не было крыши, и снег с дождём свободно проникал внутрь. Правда у нас были плащ-палатки, и мы прямо на полу разожгли костёр, у которого пытались согреться. В Австрии мы много не стреляли – немцы быстро откатывались. Давали буквально единичные залпы, поддерживая нашу пехоту. Корпус остановился в шестидесяти километрах от Вены, здесь нас застало окончание войны. Девятого мая мы стояли на площадке в горах, с которой можно было стрелять, и с которой открывался вид на стоявшую под горой деревню. В этот день рано утром двое молодых новобранцев пошли в неё в самоволку. В одном из домов их угостили вином, дали закусить сырым яйцом. Один из них умер прямо на крыльце дома, другой сумел доползти до части и рассказать, где они были, и что с ними произошло – и тоже умер. Старшины сразу скомандовали: «Батареи, к бою! Наводить прямой наводкой!» Командир полка и все офицеры вышли и говорят: «Ребята, остановитесь, не надо! Нас же всех разжалуют!» – и мы не стали стрелять. Командир полка сразу послал комендантский взвод, но в доме никого не оказалось – хозяева этого дома ушли. А если бы мы дали залп прямой наводкой, то могли бы погибнуть ни в чём не повинные люди.
Девятого мая было что-то типа митинга: выступил командир полка, выступили офицеры и солдаты выступали – в частности выступил наш старшина, Соколов Андрей Мартынович. Говорил, что рад за Победу – а он был добровольцем в Пятом Казачьем корпусе и шел от Сальских степей до Австрийских Альп. В нашем полку таких было немного ещё и потому, что гвардейские миномётные части формировались в основном под Москвой, и в них народ был из центральной России – то есть москвичи, из Московской, Рязанской областей. В начале войны это было секретное оружие, и туда отбирали очень проверенных людей, а уж потом попасть было проще. Вот Соколов Андрей Мартынович к нам пришел из кавалерийских частей. Его откомандировали к нам потому, что до войны он был связан с автомобилями. Но солдат, побывавших в плену или призванных с освобождённых территорий, в полку не было. К концу войны среди казаков было уже много и костромских и ярославских – отовсюду шло пополнение потому, что потери-то были. По сути дела это же была пехота
К этому времени у каждого казака было по три лошади – на одной он сидел, и ещё две были пристёгнуты. За то нас на третий день после окончания войны вывели из Австрии, своим ходом, назад – в Россию, иначе бы мы их съели потому, что надо было кормить и лошадей, и нас надо кормить. В Румынии наш полк погрузили в эшелон, на котором мы доехали до города Каменска Ростовской области. Разместились в здании школы, в котором раньше находились итальянские казармы, здание было обнесено колючей проволокой, в которой были проделаны ворота. Потом нас перевели в станицу Морозовскую. Тогда же в Ростове состоялся парад нашего корпуса, приехал Семён Михайлович Будённый. Из нашей батареи участвовало трое: мой непосредственный командир – старший сержант Романцов Петя, командир первого орудия – Поставицкий Максим и ещё один, не помню его фамилию. А от нашего Девятого гвардейского миномётного ордена «Александра Невского» Дебриценского полка там было человек шесть или восемь. Им выдали казачью форму – вплоть до хромовых сапог, в этой форме они и демобилизовались. А вот на Параде Победы от полка был командир огневого взвода старший лейтенант Шаповал.
Началась демобилизация. В кавалерийский полк приехал командир корпуса, приказал выстроить солдат, которые сегодня демобилизуются. Командир корпуса проверил, во что они одеты и что у них в вещмешках. Дал приказ командиру полка: через сорок минут переодеть всех во всё новое и чтобы у каждого в мешке было не меньше десяти метров портяночного материала.
Летом проводились соревнования по различным видам спорта. Я участвовал от нашего полка в беге на один километр и занял второе или третье место. За это призовое место командир корпуса наградил меня отрезом шерстяной ткани на костюм – три метра тонкой шерстяной ткани голубоватого цвета, потом из этого материала мама сшила сёстрам юбки и ещё что-то.
Вскоре после окончания войны командиром полка был назначен майор Рева, ставший к тому времени подполковником. Он хотел меня отправить в военное училище, но вместо училища медкомиссия сказала: «Немедленно демобилизовать».
Дали мне третью группу инвалидности и демобилизовали 29-го октября 1945 года, когда демобилизовывали «стариков», а мои товарищи служили ещё пять лет. Домой приехал в ноябре и сразу – на завод. Поставили в паспорте штамп и всё – хочу я, не хочу. Я говорю: «Так я не буду!» – а мне говорят: «Надо!» Я говорю: «Как надо? Я пойду учиться». Мне говорят: «А не пойдёшь – поедешь пилить лес на дрова, на сто первый километр или копать торф! У тебя третья группа инвалидности, но она рабочая» – вот так вот было, представляете себе? Тогда началась газификация города и меня направили на завод «Ленгазаппарат» №1, это на Восьмой Советской улице, так я и отработал на заводе до самой пенсии. Ещё и потому, что врачи написали мне справку, с которой куда бы я ни пришел устраиваться учиться – нигде меня не брали потому, что в ней было написано: «Может выполнять работу в тёплом помещении, без тяжелых физических затрат». Инвалидность с меня в пятидесятом году сняли совсем и восстановили только в семидесятых годах, но я упросил, чтобы мне дали не вторую, а третью группу, с которой я мог бы продолжать работать потому, что у меня были две маленькие дочки, а жить на пенсию – знаете как. В 1987 году мне дали вторую группу, после чего я и ушел на пенсию.
Во время войны я был награждён медалями «За Отвагу» и «За Боевые Заслуги». Первую медаль мне вручили ещё в начале 1944 года за то, что взял в плен тринадцать немцев и двух переводчиц. «За Боевые Заслуги» получил уже в Австрии. После войны дали медали «За Взятие Будапешта», «За Оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г» На сорокалетие Победы получил орден «Великой Отечественной Войны II ст.». У меня где-то хранится справка, которую я прислал маме, чтобы она пользовалась какой-то льготой за то, что я нахожусь в действующей армии и там даже написано, что я награждён медалью «За Отвагу». Письма родителям я писал довольно часто, они, правда, не сохранились. Нас предупреждали, что не надо писать ничего такого – всё равно цензура всё вымарает. И мать рассказывала, что они действительно вычёркивали что-то, что считали лишним. Но надо сказать, что почта работала исправно.
Когда моя внучка училась в школе, им на уроке литературы дали задание написать реферат по книге Резуна «Ледокол». Она приходит ко мне и спрашивает: как быть? Я ей: «У тебя книга «Ледокол», а вот тебе книга «Генералиссимус», которую написал Герой Советского Союза Карпов. Вот ты ту читай – и эту читай, и пиши реферат» – она так и сделала. И когда учительница вызвала её на уроке, она выступала со своим рефератом всего три минуты. Больше ей учительница не дала, остановила, сказала: «Таня, хватит». А на перемене подошла и спрашивает: «По каким материалам ты готовила реферат?» Она ей сказала, что вот – по Резуну и по Карпову. Учительница спрашивает: «А кто тебя надоумил так написать этот реферат?» Таня говорит: «А у меня дедушка, инвалид войны – это он». На это учительница сказала: «Спасибо твоему дедушке, он у тебя мудрый человек».
Я часто бываю в школах, рассказываю о войне, ребятам тоже интересно. Один мальчик меня спрашивает: «Александр Николаевич, скажите о роли Сталина во время войны». Я говорю: «Так он же был Главнокомандующим, ребята. Иосиф Виссарионович был Главнокомандующим, ведь ни одна операция не разрабатывалась без его участия, все же операции докладывались ему, и он подписывал». Другой старшеклассник говорит: «Александр Николаевич, вот у меня мама – медсестра, у неё зарплата одиннадцать тысяч, папы у меня нет, и в случае чего, кого мне защищать – этих олигархов?» Вы представляете себе? Я ему говорю: «Не олигархов – ты будешь защищать свою Родину, свою маму, ну и ещё, кто там близкие есть». Мы защищали Родину. Вот нам некоторые говорят, что «вот вас политработники заставляли писать и на танках, и на снарядах там: «За Родину, За Сталина»» – ничего никто не заставлял. Я помню, мы стояли в Румынии, у нас снаряды для «катюш» лежали в аппарели, а был сильный дождь и снаряды залило. Мы их разбирали, и сушили, а потом белой, красной краской писали на них: «За Родину», «За Сталина» – никто к нам не приходил, никто нас не заставлял!
Тринадцать созывов, более тридцати лет, я был депутатом Смольненского Районного Совета Народных Депутатов. Свою депутатскую работу мы выполняли вечерами: днём мы работали, а депутатские обязанности выполняли в свободное от основной работы время. Только первый созыв я был рядовым депутатом, а в следующем меня избрали членом Исполнительного Комитета. Возглавлял административную комиссию, потом возглавлял комиссию по ценообразованию. На общественных началах (безвозмездно) работал заместителем председателя Исполкома, и когда Председатель Исполкома не мог вести приём, он приглашал меня, и я за него вёл приём граждан. Пять созывов я был председателем постоянной комиссии по учёту и распределению жилой площади в Смольненском районе. Единственно, мне не удалось окончить своё образование. Всю жизнь проработал на станке: сперва на заводе, а после его ликвидации нас, три десятка человек, оставили работать в экспериментальных мастерских Научно-Исследовательского института Химического Машиностроения. Там я даже был членом технического совета института. За труд меня наградили медалью «За Трудовое Отличие», орденом «Трудового Красного Знамени» и орденом «Октябрьской Революции» – этим орденом награждали за труд и за войну, человек должен был быть обязательно участником войны – такой у него был статус. Их не могло быть много, у меня номер всего семь тысяч какой-то. Орден «Трудового Красного Знамени» мне дали за участие в работе по изготовлению первого образца прибора ночного видения. А орден «Октябрьской Революции» я получил за изготовление аппаратов жизнеобеспечения космонавтов.
Ну ничего, в общем, жизнь уже прожил, жалеть не о чем. Мы с бабушкой своей вырастили двух дочерей, у нас трое внуков.
Санкт-Петербург 2011 год.
| Интервью: | А. Чупров |
| Лит.обработка: | С. Олейник |