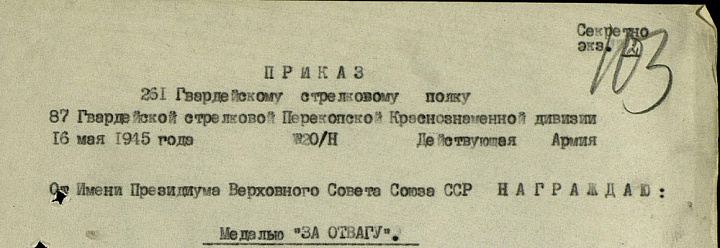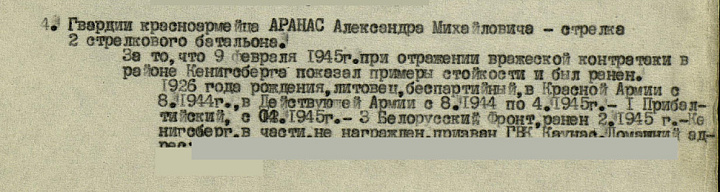А.А. - Родился 23/12/1926 года в немецком восточнопрусском городе Кенигсберге. Мой отец был родом из Кременчуга и поселился в Германии уже после 1-й Мировой Войны. Мама, уроженка прусского города Раушен, умерла, когда мне было три года, отец женился во второй раз, и от нового брака имел двух дочерей. В 1933 году, с приходом Гитлера к власти, наша семья сбежала из Кенигсберга в Литву, в Каунас, где жили сестры матери. Отец мой был художником-фотографом по специальности, имел свое фотоателье, и жили мы довольно зажиточно. Я пошел учиться в реальную гимназию, а потом продолжил обучение в еврейской гимназии Швабе. В 1940 году в Литву пришла Красная Армия, по центральной каунасской улице Лайсвис-аллее прошла кавалерия на дохлых клячах, и для нас приход Советов являлся спасением или в какой-то степени отсрочкой от гибели под гитлеровским игом, большинство евреев это понимали и приветствовали новую власть. После закрытия в Каунасе еврейских национальных школ и гимназий я пошел учиться в русскую школу, открытую в здании бывшей немецкой гимназии. Новая власть лишила отца частного дела, но он на нее не озлобился, понимая, что при немцах пришлось бы во много крат хуже и страшнее. Отец был человек умным, практичным, никогда не терявшим самообладания в любой жизненной ситуации.
В первый день войны отец отправил на восток жену с двумя маленькими дочками, а двадцать четвертого июня, еще до прихода немцев в город, в Каунасе начался кровавый еврейский погром. Мы с отцом успели убежать из города на попутной машине, добрались до Шауляя, но дальше проехать литовцы никому не давали. Из Шауляя выбраться мы уже не смогли и вскоре оказались вместе с другими евреями города в гетто. Пережили несколько первых акций по ликвидации части гетто, но расстреливали поначалу только представителей местной интеллигенции и молодых мужчин, способных организовать сопротивление, уже позже стали «разгружать гетто» от нетрудоспособных женщин и от детей. Мой отец имел немецкое гражданство, сохранил свой старый германский паспорт, но для немцев не было разницы, кто перед ними,... если еврей - смерть... По всей Литве, в малых городах и местечках, уже было уничтожено еврейское население, и только три «временно оставленных в живых» гетто: в Каунасе, Вильнюсе и Шауляе были превращены в концлагеря, и евреев здесь убивали постепенно, в очередных акциях в 1942-1943 годах. Ранней весной 1942 года из Шауляйского гетто был отправлен первый железнодорожный транспорт с узниками в Германию (после войны я узнал, что эти эшелоны шли в лагеря уничтожения Дахау и Штуттгоф), и мы с отцом попали в этот транспорт. В вагоны набили по сто человек, и многие понимали, что нас везут не в трудовой лагерь, как объявили немцы, а на верную смерть. Отец, которому тогда было почти шестьдесят лет, по своему характеру не мог смириться с подобной участью, он сплотил вокруг себя несколько человек и они решили бежать с эшелона любой ценой.
Мы уже проехали Тауроге, как отец с товарищами стали ножами выпиливать доски со дна вагона. В Мемельском крае поезд встал на несколько часов на полустанке, окруженном лесами с двух сторон, в это время уже все было готово к побегу. Через дыру в полу вагона евреи по одному тихо спускались на полотно дороги и отползали к лесу. Вдоль вагонов шагали по два охранника с каждой стороны. Я был двенадцатым, покинувшим вагон, но выпрыгнул ли кто-то еще вслед за мной - я не видел, сразу пополз вслед за отцом с насыпи в лес, и здесь, вскочив на ноги, мы быстро побежали вглубь леса. Беглецы разошлись кто куда, а отец сказал мне, что мы пойдем только на восток.
Полгода мы пробирались лесами по немецким тылам, но нам повезло, мы все же добрались до линии фронта.
Г.К. - Двум безоружным гражданским людям, пожилому человеку и его пятнадцатилетнему сыну, удалось пройти по глубоким тылам, по территории, захваченной противником, свыше тысячи километров, остаться в живых и перейти линию фронта. Я, когда узнал про Вашу историю, то подумал, что подобный случай уникальный, но, оказывается в исторической и мемуарной литературе упоминаются многие десятки подобных случаев, позвонил еще бывшему «смершевцу» и бывшему диверсанту, и они подтверждают, что такое было, что в сорок втором году линию фронта переходили группами и в одиночку партизаны и гражданские, выбирающиеся на восток из брестских и минских лесов, и в качестве дополнительного примера мне привели выход на соединение с Красной Армией партизанской бригады Никитина и отряда политрука Киселева. Но как Вам с отцом, не имевшим с собой оружия и запаса продовольствия, удалось пройти такой долгий , тяжелый и полный опасностей на каждом шагу путь?
А.А. - Шли только лесами, питались ягодами, иногда по ночам отец заходил в села.
У него сохранилось несколько маминых золотых колец, которые он менял на продукты.
Я в это время ждал его на опушке леса. Ориентировались по звездам, по солнцу, шли предельно осторожно, прислушиваясь к каждому шороху.
Уже летом мы были в Смоленской области. Из оружия у нас были только ножи, а потом мы наткнулись на труп в лесу, у которого на поясе в кобуре был бельгийский пистолет и в карманах запасная обойма. Отец взял пистолет себе. Мы не сталкивались с партизанами за все время нашего пути, и когда видели крестьян, работающих в поле, то сознательно обходили их стороной. Все реки пересекали вплавь, боялись подойти к мостам или к лодочным или паромным переправам. Мы с отцом на оккупированной территории были людьми вне закона, и понимали, что каждый неосторожный шаг, любая оплошность, любой лишний контакт с местными неминуемо приведет к нашей гибели... Один раз нас задержал полицай, отец даже не успел вытащить пистолет, настолько внезапно все произошло. Полицай сразу понял, что перед ним беглые евреи, и он... опустил винтовку и сказал, что нам надо уходить по другой лесной дороге, если мы не хотим попасть к немцам, сказал, что в районе идет облава на партизан... К конце нашего пути мы настолько изголодались, что были похожи на скелеты, одежда превратилась в лохмотья, мы были завшивлены до крайнего предела. Если бы не отец, я бы сам пропал в немецком тылу. Отец, человек опытный в жизни, несмотря на возраст, вывел меня на восток.
На мгновение представьте городского, измученного голодом в гетто человека, обреченного на смерть, во враждебном окружении, в глухом лесу, пытающегося дойти до цели и вынужденного бояться даже собственной тени... На одни сутки поставьте себя на его место. Смогли бы хоть день так прожить? А полгода? Началась осень, по ночам мы стали замерзать, и тут отец начал физически сдавать, я тогда не знал, что он смертельно болен. Где-то в Вяземском районе, есть Крутовский сельсовет, так в этой точке мы готовились к последнему рывку к передовой линии. Фронт перешли через лес, и даже без большого труда, сами того не ведая, проскочили боевое охранение и первую линию обороны. Мы сами не поняли, как оказались в тылу какой-то стрелковой дивизии. Нас сразу арестовали, повезли в Особый Отдел, но там, увидев, что на немецких шпионов или диверсантов мы никак не «тянем», что перед ними больной пожилой гражданский человек, еле стоящий на ногах, а рядом с ним изможденный сын-подросток, не стали нас долго допрашивать, и под конвоем нас отвезли куда-то километров за сто, в фильтрационный проверочный лагерь для гражданского контингента. И здесь отец совершил ошибку. Он все время нес наши документы с собой в маленьком кожаном мешочке (чтобы бумаги не промокли в воде), и на проверке показал следователю свой старый немецкий паспорт. Меня же допросили всего пару раз, что с меня взять, доходяга, кожа да кости в лохмотьях, а вот отца стали таскать, как это так, «гражданин Германии»!?. И получил отец статус спецпереселенца третьей категории (такой давали советским немцам во время высылки в 1941 года с Поволжья в Сибирь и Казахстан), и его отправили в Алтайский край. Хорошо, что не в лагерь посадили, а мне сказали, что-то похожее на: «пацан, ты свободен», но я поехал вслед за отцом в город Камень-на-Оби. Отец встал на учет в милиции, я был с ним, но папе с каждым днем становилось все хуже и хуже, и через два месяца он скончался. Врач сказал мне, что папа умер от рака с метастазами. Значит, еще в немецком тылу отец был смертельно болен...
Я остался сиротой, кушать нечего, хоть иди и воруй... Меня на Алтае оформили как беженца из Литвы и отправили в Барнаул, работать в литейном цехе танкомоторного завода № 77. Смены по 12 часов, а кормили на заводе пайкой хлеба и всего раз в день пустой похлебкой. Через месяц-другой я сбежал обратно в Камень-на-Оби, но меня поймала там милиция, и. как «дезертира с трудового фронта» посадили в местную тюрьму.
Г.К. - И как из этой жизненной передряги выбрались?
А.А. - Просидел в тюрьме четыре месяца, и отношение ко мне со стороны других заключенных было исключительно хорошим. Я выдавал себя за литовца, зеки меня подкармливали, мою рваную фуфайку поменяли на старую и добротную шинель, спать там нам приходилось в камере на каменном полу, нар не было. В тюрьме, в военное время кормили три раза в день, о чем еще можно было тогда мечтать, и я там себя чувствовал физически крепче, чем на воле. Состав камеры все время менялся, кто-то получал срока и отправлялся в лагерь или в штрафную роту на фронт, кого-то выпускали, а я сидел без вызова на допрос, без какого-либо следствия. Как-то в камеру «заехали табором» по 162-й статье УК цыгане-конокрады, и один из них мне сказал: «Что ты тут торчишь? Иди, просись в ремеслуху. Ты несовершеннолетний, тебе по твоей статье ни один прокурор срок не даст!». Так я и сделал, меня выпустили из тюрьмы, определили в ремесленное училище, где я учился на токаря и еще занимался насечкой напильников. Несколько раз ходил в военкомат, просился на фронт добровольцем, и только 9/10/1943 мое заявление приняли и меня призвали в армию.
Г.К. - Но Вам тогда даже семнадцать лет не исполнилось.
А.А. - «Схимичил» с датой рождения, а место рождения указал - «город Каунас Литовская ССР». Меня сразу отправили в 16-ую Литовскую дивизию в Балахну. Добирался туда я сам, мне выдали проездные документы на дорогу, но уже в Горьком меня задержал патруль и доставил в комендатуру: «Куда едешь?» - «В Балахну. В литовскую дивизию», а мне, даже не моргнув, заявляют: «Нет там уже такой дивизии!». Трое суток продержали под арестом в Горьковском Кремле, и уже оттуда отправили в другой запасной полк, в Гороховец. Уже в декабре я оказался на фронте, где «маршевиков» распределяли по частям примерно таким образом: «Сибиряки, выйти из строя. В лыжбат!»... По прибытии на фронт меня с группой бойцов направили на пополнение 87-й гвардейской стрелковой дивизии. До лета 1944 года я воевал в пехоте, в 262-м гвардейском стрелковом полку, а после госпиталя стал понтонером 51-го отдельного инженерно-саперного батальона 13-го СК, пока осенью не попал в танкисты.
Г.К. - Свой первый бой в пехоте помните?
А.А. - Не самое приятное воспоминание. Немцы пошли в атаку, очень серьезно нажали на нас, я смотрю, а соседи слева и справа уже драпанули назад, в траншее остались считанные люди. Когда немцы подошли метров на сорок-пятьдесят, тут и мы рванули назад, к опушке леса, где батальон снова окопался.
Одним словом, отдали позиции, это называлось - «неорганизованный отход»... Страха в первом бою почти не ощущал, в руках автомат, рядом товарищи по взводу, чувствовал себя уверенно, а вот когда «народ потянулся в тыл» стало немного не по себе...
Потом была немецкая танковая атака, но тут уже обошлось без паники, между нами залегли расчеты ПТР, сзади по танкам стала лупить, «как бешеная», наша артиллерия, и страх перед танками прошел с первым залпом артиллеристов, я чувствовал, что мы не одни, нас выручат и поддержат.
Вообще, на Украние мы воевали не так часто, больше совершали изнурительные пешие марши, чем стреляли, а вот в Белоруссии нам пришлось вдоволь навоеваться.
Г.К. - Вам лично тяжело было убивать в первый раз?
А.А. - Нисколько. Хотел отомстить и жалости ни к кому из немцев не испытывал. После всего, что мне пришлось испытать за первые два года войны, у меня по отношения к немцами никаких сантиментов не осталось. Бежим в атаку, захватываем с боем позиции, какой-нибудь немец встает и поднимает руки вверх, но ты же не будешь возле него задерживаться, бой идет, тебе атаковать и дальше продвигаться надо, так даешь короткую очередь, немца «на небо»..., а сам вперед. Сами поймите, мне же еще даже восемнадцати лет не исполнилось, а молодые цену жизни, своей или чужой, не понимают...
.В Белоруссии мне довелось из РПД в упор косить немцев, идущих на прорыв. В тот день удалось человек двадцать положить, так я чуть ли не сиял от гордости... Месть, это штука страшная, от этого чувства просто звереешь... Никакого сострадания, ни к себе, ни к немцам, лютым врагам... Сначала за родных мстил, а потом за погибших фронтовых товарищей. И когда война закончилась, у меня промелькнула мысль, а как же я дальше жить буду. Для чего? Ради чего?... Юности у меня, как таковой, не было, ее всю война «забрала», взрослел я уже в тюрьме и на фронте... Многое, что происходило, понял и осознал уже через много лет, а тогда жил только одним днем и жаждой мести...
На Украине зимой окопные брустверы из немецких замерзших трупов делали, и никто из бойцов или офицеров не возмущался - «фронтовая проза жизни»...
Уже когда стал танкистом, то в Пруссии произошел один эпизод. Мы на танке совершенно внезапно на скорости врезались в колонну немецкой пехоты, в самую гущу людей, давили их безбожно, да я еще через открытый люк башни с десяток «лимонок» по сторонам раскидал. Незабываемое ощущение... Отомстил...
Г.К. - Как в танкисты попали?
А.А. - В начале сентября 1944 года, уже в Литве. Считай, что с «дороги подобрали». Мы наводили переправу через реку для танковой бригады. Рядом с нами остановились танкисты, у них в экипаже заряжающего не было, начали почему-то именно мне предлагать, мол, сапер, пошли к нам в экипаж, паек отличный, вшей не кормим, «броня крепка и танки наши быстры». Я и вызвался, по молодости сам не осознавая, что делаю.
Я даже сейчас не помню, как меня в танковый полк оформляли, был ли вообще приказ о переводе из 51-го ОИСБ, или меня в штабе батальона в «пропавшие без вести» записали? Все произошло так молниеносно...
Г.К. - В пехоте было легче, чем в танкистах?
А.А.- В пехоте было намного страшнее, но никто из стрелков не хотел попадать в танкисты, в пехоте хоть возможно не убьют, а только ранят, а здесь точно сгоришь, как на «костре инквизиции». Мы уже насмотрелись, как наших танкистов жгут в каждой атаке. Я позже и сам понял, что танк это - закрытый железный гроб, но условия фронтовой жизни и быта танкистов были несравнимы со стрелками. Совершенно иной уровень. Кормили как «белых людей», у танкистов почти всегда была американская тушенка, перед боем выдавали калорийный НЗ на 3 суток, который сразу же съедался нами на месте. Всегда была водка, табак, трофеи... Я попал в отдельный фронтовой танково-самоходный полк, который состоял из двух рот Т-34, роты танков «Шерман» и роты (две батареи) СУ-76. В полку было свыше 700 человек личного состава. За первый месяц службы в танкистах пришлось стать универсалом, я мог «работать» и наводчиком, и водить танк. Тех, кто попадал служить на «шермана», а тем более на «сушки» - хоронили заранее, танкисты просто не успевали выскакивать из этих машин, они горели моментально...
С осени сорок четвертого и до конца войны полк три раза поменял свою матчасть.
А «старым и опытным танкистом» считался любой, продержавшийся в полку полгода.
 |
Экипаж танка, 1944 г. |
Г.К. - В какое подразделение полка Вас зачислили?
А.А. - Попал в так называемый взвод управления полка, состоявший из трех танков. Меня зачислили в экипаж, формально считавшийся экипажем командира полка подполковника Лукши, но сам в бой Лукша никогда не ходил, а этот взвод управления или использовали как обычный танковый взвод или пускали в дело в критический или переломный момент боя. Первый мой экипаж: Пипчук, Герасин, Коваленко, Аронас. Взводом управления командовал лейтенант тоже носивший фамилии Коваленко.
Потом меня назначили командиром танка, механиком-водителем у меня был Хомутильников, а башнером Завражный, кстати, наполовину поляк по национальности, родом из Львова.
Г.К. - Сколько машин пришлось поменять до конца войны?
А.А. - Три раза мой танк подбивали или сжигали. А один раз мы подорвались на противотанковой мине, слетел один каток, порвалась гусеница, выбирались из танка тогда, кажется, через донный люк.
Г.К. - При каких обстоятельствах Ваш танк подбивали?
А.А. - Детально мне сейчас сложно точно вспомнить, возле каких населенных пунктов это произошло. Первый раз это случилось так: идем в атаку, снаряд в борт, трое успели выскочить, и сразу танк вспыхнул как факел, один из экипажа сгорел. В апреле 1945 года тоже в атаке, в каком-то поселке нам в борт то ли из «фаустпатрона» попали, то ли снарядом, мы не успели понять, опять только трое выскочили живыми. В январе, когда началось общее наступление в Пруссии, наш танк подбили на второй день.
Г.К. - Каким был Ваш первый бой в составе танкового экипажа?
А.А. - Это произошло еще в Литве, встречный танковый бой. Наш взвод сжег три танка Т-4, и один танк я подбил. Танк сначала задымил, а потом взорвался.
Г.К. - Ваш личный «танковый» боевой счет?
А.А. - Если считать общий счет, когда я воевал в трех разных экипажах, то набирается лично моих и в составе экипажа десять достоверно засчитанных сожженных и подбитых танков и самоходок, и три, как тогда говорили, поврежденных «бронеединицы», но не подтвержденных, так как поле боя осталось за немцами, и они эти танки смогли вытащить на ремонт. Из всего этого «зверинца» считаю самым значимым уничтожение двух «фердинандов». Первую самоходку, уже воюя на Т-43/85, я подбил в районе городка Аффекен выстрелом в борт, а вторую уже на подходе к Пиллау. Первым снарядом попали в дульную маску, вторым перебили гусеницу, и самоходка была нейтрализована. Эти «фердинанды» всегда являлись для нас настоящим кошмаром, мы избегали встреч с ними и с «тиграми», но от судьбы не уйдешь.
Г.К. - И что происходило, если нарывались на «тигры»?
А.А. - Когда как... Страшная вещь... Один раз мы просто бросили танк. Это случилось под Пиллау, уже в самом конце войны, в апреле сорок пятого года ...
Проявление минутной душевной слабости, почему-то именно в этот момент мы жить сильно захотели, ведь понимали, что война закончится в ближайшие дни.
Мы выползаем на ровное, как стол, поле и видим, прямо перед собой метрах в семистах ползут восемь немецких танков, среди них пара-тройка «тигров». Мы запаниковали, вот она, наша смерть... Сожгут моментально, без вариантов...
Механик-водитель заорал «Смываемся!» и «заклинил скорость на постоянный газ», мы «пулей» выскочили из Т-34, и наш танк медленно пошел вперед, а мы залегли. Немцы выстрелили по танку два снаряда, которые чиркнули рикошетом по башне, а потом видят, что наш танк огнем не отвечает, и повернули влево на пехоту. Мы смотрим, наш танк не горит, а медленно ползет дальше. Там впереди был широкий противотанковый ров, мы надеялись, что наш танк туда «навернется», но танк каким-то невероятным образом попал на перемычку рва и продолжил движение вперед. Начали бросать жребий, кому бежать за танком и останавливать его. Залезли обратно в танк, машина целая, сразу между собой договорились, чтобы никто не проболтался. Если бы в батальоне узнали о случившемся, нам бы трибунала и штрафбата не миновать.
А в другой ситуации, мы, один экипаж, остались против четырех немецких танков, так без каких-либо колебаний пошли в лоб на них и сожгли два немецких танка...
Г.К. - Как готовились к атаке?
А.А. - Пополняли боекомплект, смотрели, чтобы было достаточно подкалиберных снарядов... Вставляли ломик под люк, делали «зазор», чтобы не заклинило, на случай если нам придется из подбитого танка выскакивать. А такого понятия как психологическая подготовка тогда и в помине не существовало... Перед боем всегда мандраж, мысли терзают - «сожгут сегодня или нет?», нарвемся на самоходку или пронесет... Обычно перед атакой выпивали грамм по двести... Напряжение сильнейшее, ведь ты умирать идешь, а не «к теще на блины»...
Г.К. - В вашем экипаже какое личное оружие было у танкистов?
А.А. - Экипаж имел пистолеты и два автомата ППШ и две «сумки» с гранатами Ф-1.
У меня был трофейный «вальтер» и наш «наган», и в кармане всегда держал пригоршню патронов к револьверу. В феврале 1945 года меня этот «наган» здорово выручил.
Пехота нам сказала, что на «нейтралке», в разбитой немецкой машине, лежат ящики с шоколадом, и я пошел «за трофеями». Пока в темноте ящик доставал, появились три немца. Я первый успел выстрелить, их положил, но один в меня попал, пулевое ранение в ногу. Лежу раненый на «нейтралке», замерзаю, немного прополз в свою сторону, а дальше сил нет ползти, много крови потерял. Так я стал в воздух стрелять из «нагана», чтобы дать о себе знать, на выстрелы приползли ребята и вытащили меня. Но это ранение оказалось легким, кость не задета. Сделали перевязку, я даже части не покидал. Оклемался за несколько дней. Но через неделю-другую меня ранило осколком в бок. Месяц пролежал в госпитале в Двинске, а потом вернулся в свой полк...
Г.К. - «Трофейная лихорадка» имела место в Вашем полку?
А.А. - Не помню... Я собирал в пустых немецких домах книги по истории и искусству и все книги тащил себе в танк. Ребята знали, что я владею немецким языком, и поэтому спокойно относились к такому «хобби».
Из трофеев имел еще хорошие часы и пистолет. В районе захваченного Пиллау было огромное «кладбище» брошенных легковых машин, и с какого-то «представительского» автомобиля я срезал кожу с сидений и дверц, хотел пошить себе сапоги, но так и не вышло, эту кожу кому-то из товарищей отдал...
Трофеи нас всегда интересовали только в одном плане - «выпить и пожрать»...
 |
Экипаж танка, конец войны |
Г.К. - Ваша необычная биография никогда не вызывала подозрений у «особистов» или политработников?
А.А. - Еще в пехоте я сначала стал выдавать себя за сироту и за литовца по национальности, никому никогда не говорил, что был в гетто, как оттуда бежал и полгода выходил из немецкого тыла. Многие товарищи считали меня литовцем. Но в красноармейской книжке была записана моя настоящая национальность...
И когда в стрелковой роте рядом кто-нибудь из хохлов начинал «выступление» на тему «Ташкент и жиды», я отмалчивался, хотя мне это было непросто... Я думал, что внешне похож на славянина, но это было мое личное заблуждение. Возьмите любого еврея, который убежден, что внешне ничем не отличается от славянина, и пусть он даже будет белокурый и голубоглазый, но поставь его в одном строю в шеренгу с русскими ребятами, все равно, опытный глаз сразу определит семитские черты.
Я помню, как в стрелковом полку по траншее идет замполит полка, по фамилии Даниленко или Данилевич, уже прошел мимо меня, и вдруг оборачивается и спрашивает: «Еврей?» - «Никак нет, товарищ майор, я литовец» - «Это ты в своей роте рассказывай. Вижу, что еврей». Этот замполит сам оказался евреем по национальности, и потом пару разу приходил в роту, как бы по своим делам, и все допытывался у меня, еврей я или нет... А насчет проверки... Когда я попал в танковый полк, то меня через несколько месяцев позвал к себе на беседу полковой «особист», который на мое счастье сам оказался евреем и просто порядочным человеком. Он сказал: «Я же знаю, что ты жид, но ты сам смотри что тут на наш запрос с Алтая с военкомата пришло, ... там у тебя в личной карточке записано - и родился ты, не поймешь точно где, и отец у тебя спецпереселенец, и сам ты не литовец. Давай, рассказывай, все начистоту, а то все у тебя мутно». Я ему все и рассказал, он даже бровью не повел, только в конце мне сказал, чтобы я для всех оставался литовцем-сиротой из Каунаса... Но опять же, у нас в полку командиром самоходчиков был старший лейтенант Городищер, так он уже при первой встрече сразу определил, что я, как и он, еврей...
В Пруссии и в Прибалтике в полку меня все использовали еще и как переводчика, так как знание немецкого языка я скрыть не додумался. И когда я переводил в штабе на допросах пленных, то немцы всегда отмечали: «Шпрехен гут дойч»... Но сам факт, что я - уроженец Германии, сын спецпереселенца и был на оккупированной территории, являлся «черным пятном в биографии», я всячески избегал ситуаций, где могли вплотную заинтересоваться моей анкетой. На фронте пару раз предлагали вступить в партию, я отказывался... Замполитом полка у нас был подполковник Гаврин, как и все политработники, любитель заниматься «болтологией». Все время нам талдычили одно и тоже, дело доходило до абсурда, могли собрать вечером уцелевших после дневного боя танкистов и читать нам вслух главу из «Истории ВКПб»..
Г.К. - Но, скажем, при заполнении наградного листа в штабе тоже проверяются все анкетные данные?
А.А. - На уровне медалей никто ничего не проверял. В пехоте я получил медаль «За боевые заслуги» и, будучи танкистом, был награжден двумя медалями «За Отвагу», и не думаю, чтобы кто-то «проверял анкету», это же не на орден Красного Знамени представляли...
Г.К. - Какие отношения были у танкистов со своими командирами?
А.А. - Подполковник Лукша был белорус средних лет и нормальный мужик, хоть в бой лично в конце войны уже не ходил. Когда я попал в «командирский экипаж», то мне как-то Лукша приказывает: «Иди, собери мне грибов!», видно, грибов жареных ему захотелось. Но я ему не холуй, и не личный ординарец, но лезть на рожон перед командиром полка тоже нельзя, а «прогибаться» перед ним не хочется. Я взял карандаш и на листе бумаге нарисовал грибы. Лукша появился через час: «Собрал?» - «Так точно!», и протягиваю ему рисунок. Он только рассмеялся. Потом Лукшу перевели на командование другим полком, самоходным, и вместо него прибыл подполковник Пахоменко (или Пархоменко, фамилию точно уже не помню). Разговаривал с нами только матом (как впрочем и мы, простые танкисты, каждое второе слово у нас было матерным), но с этим Пахоменко я лично почти не контактировал, хотя уже был командиром танка.
В экипажах отношения между танкистами и командиром танка были самые что ни на есть товарищеские и братские, тем более я не был офицером, танкового училища не заканчивал, так вообще не подчеркивал разницу между своей должностью и другими членами экипажа.
Г.К. - Где приняли последний бой?
А.А. - В Пиллау. К городу вела полоса шириной примерно в полтора километра, забитая нашими и немецкими трупами. В самом городе нас ждали «фаустники», один «фауст» мы получили в лоб, но все остались живы, и танк не вышел из строя. В Пиллау мы стояли до конца лета 1945 года, потом нас отправили в Литву и наш полк, уже как механизированная часть, был включен в состав Вильнюсского гарнизона и 16-й Литовской стрелковой дивизии.
Г.К. - Каким были отношения с местным немецким населением в Восточной Пруссии?
А.А. - Что ответить... Всякое бывало..., до местного населения нам, танкистам, особого дела не было, но пехота иногда «старалась вовсю», один раз довелось видеть убитую изнасилованную немку, и между ног ей еще пехота бутылку вбила... В Пиллау часть местного населения согнали в фильтрационный лагерь, и охранял этот лагерь конвой из батальона НКВД, и почти все солдаты, что примечательно, были из узбеков-нацменов. Мы с танками стояли в пятидесяти метрах от лагеря, и запомнился один момент, как старшина-узбек из энкэвэдэшников каждый день таскал к себе из бараков очередную молодую немку... Разные были моменты... Нет большого желания об этом рассказывать...
Г.К. - Кто-нибудь из Вашей родни уцелел во время оккупации?
А.А. - Все погибли в Каунасском гетто, до единого человека.
Мачеха, как я уже сказал, успела в первый день войны эвакуироваться на восток с моими двумя младшими сестренками, но в 1942 году ее арестовали в Сибири, и она умерла в тюремном заключения. Подробностей или точную причину ее ареста я так и не узнал. А сестренок, Раю и Мару, власти отдали в детдом.
Их я нашел уже после войны и забрал к себе...
Г.К. - Как складывалась Ваша жизнь после войны?
А.А. - Служил в Вильнюсе и в предпоследний год службы уже находился на должности, позволявшей мне свободный беспрепятственный выход в город, и тайком от своего армейского начальства поступил в Вильнюсский художественный институт, на архитектурный факультет. Пришел поступать туда в штатском, брать документы в институт не хотели, так как не литовец, но как участник войны я имел льготу и поступал вне конкурса. А через полгода все открылось, и надо отдать должное моим командирам, они не подняли скандал, а посоветовали мне написать рапорт на имя Баграмяна, командующего Прибалтийским военным округом, с просьбой разрешить учебу в институте во время действительной армейской службы. И вскоре из штаба округа пришел ответ: «Демобилизовать досрочно для продолжения учебы».
После окончания института я работал в Вильнюсе архитектором, а в 1972 году эмигрировал из СССР в Израиль.
| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |