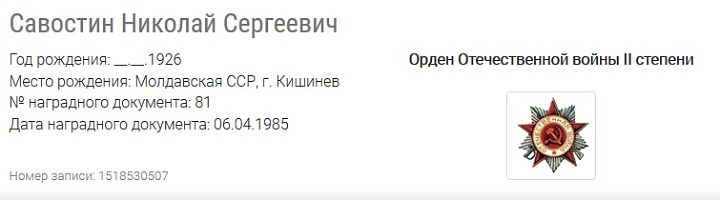Поэт, прозаик, член Союза писателей СССР.
Родился 27-го декабря 1926 года в село Тетеревино Белгородской области.
В марте 1944 года был призван в армию из иркутского художественного училища. Участник Великой Отечественной войны.
После демобилизации (1950) работал в читинской газете «Забайкальский рабочий», окончил Высшие литературные курсы в Москве (1961). С 1961 года жил в Кишиневе.
Автор множества книг. Печатался в журналах «Знамя», «Юность», «Огонёк», «Новый мир», «Кодры», «Дружба народов» и др., переводил стихи и прозу молдавских писателей. Его книги издавались в переводе на молдавский язык.
Состоял членом Союза писателей СССР, с 1999 года - президент Молдавского общественного центра «Наследие А.С.Пушкина», один из соучредителей и сопредседателей Союза писателей «Нистру» (2003). Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР, отмечен многими наградами, в т. ч. медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны», а также советским орденом «Знак Почёта», молдавским «Орденом Республики». В 2009 годустал лауреатом Международной премии имени Юрия Долгорукого.
Скончался 15-го июля 2015 года.
Николай Савостин оставил в память о себе сорок книг и «древо» потомков
Несколько дней назад на 89-м году жизни в своей кишинёвской квартире тихо скончался человек, состоявший в дружеских отношениях со всем литературным бомондом СССР, старейший русский писатель Молдовы Николай Сергеевич Савостин.
Уроженец деревеньки Тетеревино на Белгородщине, студент художественного училища, он «прошил» собой просторы России от Курской дуги до самого Дальневосточья, истоптав свою часть кровавых дорог Великой Отечественной.
Был взят в «плен» на широкой мраморной лестнице московского Литературного института черноглазой молдаванкой Анютой Лупан, впоследствии видной писательницей. Женившись на ней, он укоренил себя на её земле и стал родным человеком для знаменитого брата Анны – Андрея Лупана.
Закадычными его приятелями были хрестоматийные литераторы страны Советов: Виктор Астафьев, Константин Симонов, Валентин Катаев, Василий Белов, Валентин Распутин, Расул Гамзатов, Ярослав Смеляков, Василий Быков, Сергей Наровчатов, Виль Липатов, Ираклий Андроников, Михаил Дудин, Анатолий Приставкин. Многие не раз и не два гостили у него в Кишинёве и надарили ему целую библиотеку своих книг с дарственными надписями вроде астафьевской: «Варнаку Кольке от каторжанина Витьки».
На даче у Всеволода Иванова он «сдвигал бокалы» и толковал о жизни с Борисом Пастернаком. Несколько раз общался с Александром Твардовским. Автор «Тёркина» сказал как-то юному коллеге: «Слушай, Савостин, а ты знаешь, что водка сокращает жизнь вдвое? Тебе сейчас 22? Если б ты пил, тебе было бы 44». У Николая Сергеевича накопилась объёмистая папка писем от супруги Твардовского и его дочерей. Он знал наизусть стихи легендарного поэта и поражал слушателей великолепным декламированием их. Читал на память поэзию и других великих, особенно пушкинскую, равно как и все свои вирши, и легко цитировал до самых преклонных лет.
Его литературной матерью стала Маргарита Алигер, которая выписала путёвку в жизнь молодому поэту в виде похвальной статьи в «Литгазете» о поэтическом дебюте Савостина. На волне успеха он встретился с Михаилом Светловым, который поздравил его и предложил отметить радостное событие, что и было сделано.
Своим спасителем его считал председатель СП СССР Георгий Марков. Дело было так. Во время освободительной войны в Манчжурии Коля Савостин стоял однажды в боевом дозоре, а в тех местах орудовала банда камикадзе японского поручика Сибуто. Смертники нападали ночью и вырезали целые подразделения. В ту ночь разразилась яростная субтропическая гроза, молнии слепили глаза, дождь лил как из ведра, но Николай стоял на посту и не смыкал глаз. Он вовремя заметил внезапно появившуюся банду и очередью из пулемёта предупредил товарищей. Атака камикадзе была отбита, однополчане (а среди них и Марков) все как один остались живы, Савостина представили к боевой награде, а банда вскоре была ликвидирована.
Разверзшиеся небесные хляби ещё не раз оказывались для него испытанием. Так, однажды его пригласили на литургию под открытым небом в Ярославле. Разразился ливень, и все приглашённые – дипломаты, руководство, творцы – ушли в укрытие. Остались на богослужении только священники и Савостин. И все три часа молебна он простоял по щиколотку в дождевой воде, без всякого зонта. Зато, вспоминал поэт, как пел хор! Митрополит Ювеналий (моложе его вдвое) обнял Николая Сергеевича и сказал: «Сын мой, вы проявили мужество», и подарил ему фарфоровый колокол. А на последовавшем приёме к Савостину подошел белорусский президент Александр Лукашенко и душевно с ним пообщался.
Мегатонны накопленных впечатлений, переживаний и знаний не давили на Николая Сергеевича, ибо он вовремя и талантливо сбросил их в сорок с лишним книг: стихов, повестей, рассказов и публицистики.
Его поэзия не может не пленять простотой, особой звукоцветописью и несокрушимым, сибирским нравственным здоровьем:
Понять бы, какова земля внутри?
Вот вылез василёк – в нём синева.
Выносит роза чистоту зари
и зелень изумрудную – трава.
По мненью редьки,
горькая на вкус земля.
Но не согласен с ней арбуз...
Растенья спорят, истину ища.
А правы все. Но только сообща.
Он любил Молдову всем сердцем – больше некоторых молдаван. И не уставал восхищаться её народом и ландшафтами. Горевал, что местные художники не торопятся переносить дивные красоты на холсты.
Познавший ужасы войны, он жаждал всех мирить. Когда в Приднестровье затевалась война, Андрей Лупан пошёл к президенту Мирче Снегуру, чтобы отговорить от этого безумства, но тот его не принял. Савостин в прессе защитил позицию академика, за что получил в свой адрес лавину обвинений.
Он говорил: «Я посоветовал бы правителям помнить восточную мудрость: дурак тот, кто выбрасывает одеяло в огонь из-за одной блохи. Советская власть была тем самым одеялом с блохами. Не надо было рушить наработанные базовые ценности. Ведь именно та система смогла ограничить абсолютную власть денег, которые были выдуманы для облегчения жизни людей, а на деле поработили их».
В 90-е у него денег в кармане не было, по его признанию, «даже на пучок редиски». Пенсию не давали, на сберкнижке сгорели десятки тысяч рублей. Но он не опустил руки, а начал действовать – найдя спонсора, стал выпускать газету на русском «Литератор». Шесть лет издавал её, причем с гонорарами авторам. Газета сплотила единомышленников всех национальностей. Затем вместе с Константином Мунтяну организовал СП «Нистру» и стал соучредителем и сопредседателем этого писательского союза. Был президентом общественного центра «Наследие Пушкина». Награждён орденом Республики. В 2009 году стал лауреатом международной премии имени великого князя Юрия Долгорукого за книгу «Честь поэта» – Савостина выбрали из ста соискателей со всего постсоветского пространства.
...На Армянское кладбище проводить Николая Сергеевича в последний путь пришли родственники, коллеги по перу, общественные деятели. Говорили о его рыцарском служении слову, о высоких личностных и писательских его качествах. Искренних тёплых слов в память усопшего было сказано много, потому что сам он никогда на них не скупился. Одна из сиделок, которые ухаживали за ним в последние годы, призналась, что муж за всю жизнь не сказал ей столько ласковых слов, сколько за короткое время сказал Николай Сергеевич.
Всепокрывающая доброта – это было фундаментальное качество патриарха русской литературы в Молдове. Он дал жизнь сыну Сергею и дочери Дарье. И древо пошло ветвиться – на свете уже живёт с десяток внуков и правнуков.
Золотой вам дорожки в запределье, Николай Сергеевич, и радостных встреч с давно ушедшими друзьями!
Олег ДАШЕВСКИЙ
http://www.vedomosti.md/news/nikolaj-savostin-ostavil-v-pamyat-o-sebe-sorok-knig-i-drevo
С Николаем Сергеевичем я познакомился в 2013 году. Попросил его встретиться и побеседовать о пережитом в войну. В принципе он согласился, но постоянно сказывался занятым: писал, встречался с людьми, помогал издавать литературный журнал, и всякий раз переносил встречу: «Нет-нет, сейчас никак не могу, давайте на следующей неделе… Через месяц… Потом как-нибудь…» Правда, сразу выслал мне свои рассказы: «Я не поленился,собрал кое-что из написанного о войне. Посылаю. Посмотрите. Подготовьтесь к нашей беседе. Это было со мной… По-моему нужно шире поглядеть на войну,так сказать, освоить ее философию, отметить и идейное содержание былого…» А потом Николай Сергеевич заболел, настаивать на встрече я, конечно, не мог, и она уже больше никогда не состоится… Но в своих рассказах и статьях он дал ответы на многие вопросы нашего проекта. В память об этом большом и настоящем человеке, я решил собрать воедино всё то, что он написал о войне.
Н.Чобану
СКВОЗЬ СЛЕЗУ СТРАДАНИЯ…
…Выезжает на главную площадь столицы боевой маршал на белом коне перед застывшими чёткими рядами войск. Всё благоговейно замерло. И сердце бьётся в приливе высоких, гордых чувств: мы победили, враг повержен, правда восторжествовала!
Знамёна, знамёна. Слепящий блеск золота, серебра и бронзы боевых наград.
И чувствуешь шелест времени, дуновение ветра истории…
И так из года в год со Дня победы, с парада на Красной площади в сорок пятом. Приёмы в Георгиевском зале. Мундиры всё красивей, всё старше лица, всё тяжелее панцири орденов полководцев. И как-то стыдливо уходит за кулисы, словно бы не по чину находиться ему здесь, Всенародное великое незабываемое Горе военного лихолетья – в лохмотьях, во вшах, в запёкшейся крови на бинтах, с бледным, залитым слезами лицом, искажённым гримасой боли, непереносимого страдания. Ведь это праздник – самый уважаемый в народе, - к месту ли здесь даже упоминание о беде, о боли, о муках? И как некстати здесь оказался бы солдат в пропотевшей, выгоревшей гимнастёрке, в обмотках, сделанных из старой шинели, в стоптанных ботинках, измученный трудами и недосыпанием, покрытый пылью долгих дорог!
Как сказано ещё в те годы Александром Твардовским в «Книге про бойца», «Города сдают солдаты, генералы их берут».
…И опять детишки играют в войну, и опять волнующая красота парада, и опять юность воспаленно мечтает о подвигах…
Странное свойство имеет память, сильно искажающая былое. Под влиянием бегущего времени меняются самые убедительные факты. Вот исторический факт. В 1868 году в «Военном сборнике» появилась разгромная рецензия на роман Льва Толстого «Война и мир», подписанная очень авторитетным человеком, участником Отечественной войны А.С.Норовым. Это был действительно замечательный деятель России - министр просвещения, сенатор, член Государственного Совета, в молодости приятельски общался с Александром Пушкиным, автор нескольких книг, несомненно, ничем не запятнанная личность. В особенности возмутила участника Бородинского сражения Норова фраза в романе, когда Кутузов, принимая в Царевом Займище армию, «более был занят чтением романа госпожи Жанлис «Рыцари Лебедя». Это показалось оскорбительным русскому патриоту. Читать французский роман, когда страна живёт ненавистью к врагам-французам!!! А между тем, немного спустя, разбирая библиотеку Норова после его кончины, нашли в его библиотеке подобный же роман с собственноручной надписью: «Читал в Москве раненый, и попавши в плен к французам в сентябре 1812 года». Сановник забыл то, что подобное читал сам же, и тогда же, будучи подпоручиком артиллерии…
У каждого из нас за эти уже многие десятилетия мира под воздействием газет, литературы, радио, кино, театра, под гипнотической красотой парадов каким-то образом внедрилось облегчённое представление о той войне, вытравилась боль и ощущение великого горя. И уже как-то механически воспринимаешь многомиллионную цифру наших потерь, которая год от года уточняется и всё увеличивается, увеличивается. Теперь она равна численности населении приблизительно трёх европейских государств - Австрии, Венгрии, Болгарии вместе взятых! Можно бы прибавить и, к примеру, ещё и Албанию… Как раз 27 миллионов. Ну, миллионом больше, миллионом меньше. Посмотрите в географический справочник, - вы увидите, что число жителей этих стран составит приблизительно эту цифру. Вообразите полностью, до самого основания очищенную от людей такую громадную территорию. Пустыня. Громадная дыра на теле Европы. Ведь на нас шла вся Европа – и Германия, и Италия, и Венгрия, и Румыния, и Болгария, и Финляндия. Были на нашей земле и войска Франции, Испании, даже крохотных государств, которые не объявляли нам войну. Им тоже хотелось урвать кусочек. Одесса, Севастополь – их атаковали румыны. По Украине шли итальянцы, испанцы. А как свирепствовали венгерские фашисты. Такую цену за победу заплатила наша страна. А ведь как содрогнётся ваше сердце, когда ваш ребёнок порежет пальчик или разобьёт нос… Цифра – абстракция. И это еще далеко не всё. Опубликованные цифры не дают полного представления о наших потерях. Надо учесть сотни тысяч калек, а может – миллионы, умерших в первые послевоенные годы. Люди постарше помнят их, безногих, безруких, слепых, на костылях, на самодельных тележках с колёсиками от крупных подшипников, они попадались на каждом шагу… А сколько раненых так и не вышло из госпиталей...
Как учесть горе, слёзы безысходности матерей, жён, детей, не дождавшихся своих родных фронтовиков?! Какими весами это можно взвесить? Какие материальные ценности могут их уравновесить? Нельзя не дополнить наши потери и теми миллионами детей, которые не родились в годы войны. Я помню, как закрывались начальные школы в небольших деревнях, на полустанках, как оставались пустыми начальные классы даже в городских школах, когда пришла поры учиться тем, кто должен был явиться на свет в сорок втором, сорок третьем, сорок четвертом, сорок пятом…
Как скоро всё забывается – и холод, и голод, и горе. А отключи в городе хоть на сутки свет, оголи магазинные полки, заставь людей хотя бы ночь провести в сыром погребе… Какой вой начнётся. А мы всё это переносили многими годами и на фронте, и в прифронтовой полосе, и в далёком тылу. И не сетовали на судьбу, понимая всё-всё. Будни войны для подавляющего числа наших людей – это не романтически-патетические словеса и «игра на публику», а бесконечное рытьё земли – танкистами и артиллеристами, чтобы укрыть танк или орудие, пехотинцами, – чтобы укрыться самому. Это сидение в окопе под дождём или снегопадом, это более комфортабельная жизнь в блиндаже или сооружённой наскоро землянке. Бомбёжки, ранения, смерти, немыслимые лишения, скудный хлеб, и труд, труд, труд... Бессонный изнуряющий марш-бросок по грязи и снегу. Казалось, этому не будет конца. Это уже потом, когда всё это подернулось дымкой забвения, стали находиться, заслоняя подлинную картину войны, экзотические эпизоды, вроде явления Штирлица, появились герои-одиночки, громящие целые дивизии. Что сказать? Победила будничная, невыносимая работа миллионов рядовых, самых обыкновенных людей.
К войне до самого конца нельзя было привыкнуть. Это противно духу человека. Помнится, оказавшись первый раз под обстрелом, я готов был выскочить из окопа и закричать: «Что вы делаете? Ведь здесь люди!» А я не был экзальтированным неврастеником. Просто логика войны для моей неискушённой мальчишеской души (17 лет!) казалась возмутительно извращённой, нечеловеческой. Сквозь толщу лет вижу себя на фотографии – с сиротливой медалью «За отвагу» на гимнастёрке. И невероятно – с книгой в руках! Душа-то жаждала своего – познания, любви, участия старших… Вопреки бесчеловечной логике войны, которая преподносила такие уроки сатанизма, задевала такие тёмные тайники человеческой натуры, что впору было поверить: человек – зверь, душа жила верой в лучшее. Тогда, в юности, я был сильней, чем теперь, в преклонные годы – теперь, наверно, надорвался бы. Видимо сама природа, ненавязчивое воспитание заложила в наши души неистребимое жизнелюбие.
Давайте смоем патоку с воистину исполинского подвига народа. Страшны были не только бомбёжки, обстрелы, атаки (немногие из участников войны ходили в штыки), а даже просто служба в запасном полку, где целые батальоны страдали от дистрофии, чесотки, хронической простуды, где гоняли на занятиях так, что фронт казался спасением, желанным, хоть и опасным, «отдыхом». А, извините, неистребимые вши, которых не брали никакие «вошебойки», а стояние на посту в мороз и метель, одетым в продуваемое старьё…
Забыть всё это – кощунство. Праздные словеса – святотатство. Оскорбление памяти.
…Выедет славный генерал (теперь уже в открытой автомашине) перед войсками, наступит благоговейная тишина, к сердцу подкатит волна восторга и гордости. У кого как - у меня ещё и перехватит горло и выступит слеза. Сквозь слезу видно чётче и глубже. И пусть я никакой не герой войны, горжусь, что ровно шесть лет (из них – больше года войны) был гвардии рядовым. Так выпало на долю нашего поколения. Это даёт мне право сказать и своё словечко о былом…
***
Как властно нас берет в известный срок
Былое ясной и подробной явью,
И воскрешает каждый стебелек
Растаявшего в прошлом разнотравья.
Сегодняшняя память свой урок
Ведет слабей, теряя равноправье:
Вчера читал, а вспомнить пары строк
Не в силах утром, разве что заглавье.
Зачем, зачем назад обращена
Немолодая память? Что там мило?
Недоеданье, бедствия, война?..
Ах, там поныне что-то не остыло,
В сегодня пробиваясь с новой силой,
Манит и опьяняет без вина...
НА ДНЕ МОЕЙ ЖИЗНИ…
…Я думу свою без помехи подслушаю,
Черту подведу стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет, ничего, что по случаю
Я здесь побывал и отметился галочкой.
А. Твардовский
Оглянусь, и вижу себя маленьким-маленьким, совсем малюсеньким, когда даже взобраться на табуретку было непросто. Весна, солнце шпарит, а земля ещё сырая от недавно сошедшего снега и ступать по ней босой ногой одно удовольствие, хотя мать не велит ходить разутым. Куда там! Вернувшийся с пашни отец распряг лошадь, подхватил меня под мышки и, подмигнув, мол, ты уже большой, посадил на её потную спину. Мирная лошадка затрюхала рысцой в сторону сада, я - в восторге, хотя и до смерти напуган, и вдруг лечу на землю, сбитый веткой...
Мне казалось, – лечу вечность, вижу над собой остановившуюся в испуге лошадь, бледное вечернее небо с жёлтым месяцем и одинокой робкой звёздочкой над ним...Как вспомню, кажется, что тот полёт не прекратился до сих пор... Сквозь время...
Голый по пояс отец, забавляясь, несёт меня за спиной, держа за ручонки, в шутку обещая бросить в пруд. Я притворно воплю и извиваюсь. И вдруг замечаю, что вся спина его усеяна бугорками. «Что это?» - удивляюсь я, подбородком касаясь одного из них. Отец опускает меня на землю, удивлённо ощупывает спину: «А-а, так это, сынок, шрапнель». - «А что такое шрапнель?» - «Дай Бог, чтобы ты не знал этого. На войне в Австрии над нами разорвался снаряд. И шарахнуло этой шрапнелью. Всю спину изрешетило, спасибо на излёте были картечины. Полежал в лазарете, вырезать не стали, зажило, вот и ношу с четырнадцатого года». Потом узнал, что отец на той Первой Мировой войне был ещё и отравлен газами, по этой причине – громадный, могучий - мог внезапно потерять сознание, если рядом кто-нибудь курил.
Потом, много лет спустя, по какой-то ассоциации вспомнил отца, когда во время перестрелки вдруг ощутил влагу в сапоге, в испуге подумал: «Что это? Откуда там вода, когда кругом сухо?» И тогда понял, - мгновение назад, когда я перебегал по открытому полю до намеченного бугорка, чтобы укрыться за ним, что-то задело ногу повыше коленки. Словно палкой ударило, - это пуля саданула, и в сапоге не вода, а моя кровь... Это было уже в сорок пятом, и мне было восемнадцать... Подумалось: это и есть судьба всех нас, всего нашего рода, видно и отцов отец воевал где-нибудь под Севастополем, а его отец – ещё в двенадцатом в первую Отечественную, а там дальше в глубь веков можно дойти до предка, рубившегося с Мамаем...
Недаром мать приходила в ужас, когда на колокольне нашей церкви били набат по случаю пожара или сильной метели – чтобы заблудившиеся путники по звуку определяли, как выбраться к деревне: «Война!» Мать, как и все окружающие, помнила с раннего детства набат по случаю войны и призыва в армию. Их много на её веку было войн. Помнила она и гражданскую, когда выстрелом из орудия с немецкого бронепоезда (через село прошли и петлюровцы, и махновцы, и немецкие интервенты, и красные) снесло половину нашего дома. Дома, который годы спустя был вообще уничтожен вместе с нашим селом Тетеревино, расположенным в десятке километров от знаменитой Прохоровки, во время самого крупного в истории танкового сражения. А мой внук Коля, мой тёзка, в свои восемнадцать получил ранение под Самашками, в Чечне, в 94-м... Приезжал ко мне, ничего, здоров, хотя уже не выступает, как было прежде, на соревнованиях по боксу. А ведь слыл многообещающим боксёром.
Это одно из главных открытий жизни, судьбы, почерпнутое не из книг, а, что называется, из личного опыта. Чтобы выжить, нам века напролёт приходится сражаться...
А наш век, девятый десяток которого я доживаю на свете, особенно кровав. Две мировые войны, кошмарная гражданская, Халхин-гол, финская кампания, множество «незнаменитых» конфликтов.
И голод в начале 30-х, когда наше село чуть не целиком вымерло. И тетрадка, где я вывел первые буквы в первом классе, и первое написанное стихотворение, которое читали потом во всех классах нашей школы как образец для подражания. И моя первая книжка, вышедшая в 55-м. И 56-й, когда вступил в партию, полный высоких и прекрасных чувств. На волне освобождения от иссушающих догм и обновления революционного порыва. И рождение в семье первенца. Всё-всё, что видел, чем жил, к чему стремился, проходит как бы за дымкой войны, под прессом тех немыслимых тягот, выпавших на долю почти каждого жителя ХХ-го века. «Но землю, с которой вместе мёрз, вовек разлюбить нельзя», - это сказал ныне преданный насильственно забвению великий Маяковский. Я могу подтвердить это чувство, его разделяют и ныне миллионы моих соплеменников...
Я мог бы перечислить самые волнующие моменты истории, разделённые и мной. Помню апрельский денек, когда в нашу аудиторию Высших литературных курсов буквально ворвался наш староста поэт Сергей Викулов и закричал: «Чего вы тут сидите? Человек в космосе!» И мы все сорвались со своих мест, не дослушав лекцию о прорыве в широкую известность литературы Латинской Америки, бросились по Тверскому бульвару, потом по улице Горького к Красной площади, где уже собрались несметные толпы народа с самодельными плакатами, где из уст в уста переходило имя: Гагарин. Спустя несколько дней там же, на Красной площади, увидели и этого невысокого паренька по имени Юрий, который сделался известным каждому землянину...
Стоит ли перечислять всё, что вижу я в своём полёте через время? Довелось гостить в Звёздном городке, где был оглушён близостью к легендарным первопроходцам космоса. В молодые годы толковал с учёными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, потрясённый перспективами науки. Будучи в тревожном 68-м призванным во флот, спускался на подводной лодке в глубины Тихого океана и испытал небывалую отрешённость, услышал абсолютную, ничем не замутнённую тишину. Пришлось пожить в Тынде самого начала строительства БАМа на улице Диогена в арктическом домике в виде бочки. Летал над этой магистралью, когда работы были в самом развороте, и сердце ликовало от виденной картины могучего созидания. Во время путешествия в Узбекистан довелось посмотреть на звёзды через мощный телескоп обсерватории на Тянь-Шане... Бродил по Бонну, Кёльну, Триру, Варшаве, Бухаресту, Софии, Нью-Йорку, Вашингтону, городам Китая, Монголии. Бывал в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и… Боже, надо ли перечислять?… Это всё наяву, всего увиденного и испытанного не перечислишь.
Путешествую в своём полете и во временах далеких. Листаю века и тысячелетия, восторгаюсь уму и талантам древних, их достижениям, любуюсь творениями великих мастеров, ужасаюсь низости и жестокости завоевателей. Вновь и вновь убеждаюсь, что хорошим людям во все времена живётся тяжело, сложно, что добро и зло часто меняются местами. Открываю для себя, что человек, который трудится самоотверженно и стойко переносит всё, выпавшее на долю, не потеряв интереса к жизни и любви к людям, становится Богом.
Но самое впечатлившее, самое дорогое, незабываемое и причиняющее боль воспоминание – шесть лет солдатчины, юность, оружие.
... Летит надо мной в бледном вечереющем небе лодочка месяца и трепещущая звёздочка над ней...
ДЕТСТВО:
ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ
Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит,
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит...
А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»
За долгую жизнь много повидал разных бедствий, как и подавляющее большинство моих ровесников. Краем хватил жуткую войну, терял друзей и близких, попадал в стихийные бедствия, много раз был на краю гибели - всё это пустяк в сравнении с тем потрясением, которое пережил совсем малышом. Самый страшный ужас я пережил почти в младенчестве, едва научившись ходить. Многое запамятовал - ушло и стёрлось, а это помню отчётливо, и каждый раз, наткнувшись на едкое острие того события, язвящее душу, стараюсь каким-нибудь способом поскорей увернуться…
Я был совсем маленьким, окружённый нежностью и лаской - поздний ребенок, к тому же, наконец, желанный сын! - когда увидел ужасную драку: муж бил жену. Ввалился поздно ночью пьяный до безумия, в мрачной злобе сел к столу. Все в избе трепетали от страха. Я тоже проснулся на печи и, свесившись оттуда, видел, как он протянул ноги и властным взглядом потребовал от сжавшейся в комок жены снять с него сапоги. Едва она нагнулась к его ногам, он изо всех сил пнул её в лицо, она упала навзничь, хлынула кровь. Он заставил всё же разуть его и тут же сапогом стал колотить её по голове, стоящую ещё на четвереньках, - маленькую, беззащитную, плачущую испуганно-сдержанно, чтобы не вызвать ещё больший гнев мужа. Надо ли говорить, что это была моя мама? А я был настолько ничтожно мал, что был бессилен вмешаться. Сердце не выдержало, сознание покинуло меня. И, видимо, надолго.
Слышал потом, что отец вымаливал прощение, но что с того - я сильно захворал, внезапно беспричинно вздрагивал, пугался внезапного стука, боялся темноты, сделался безучастным ко всему, стал на глазах таять и уже не мог ходить.
Решили показать доктору. Несли меня, закутав в одеяло, к нему на станцию Сажное, за несколько километров от нашего села. Он осмотрел меня, велел показать язык, поставил градусник, помял мой животик. Из разговора взрослых я уловил, что дело моё паршивое. Таблетки и капли, прописанные мне, не помогали. И оставалась одна надежда на бабку, знахарку.
К ней была большая очередь, она принимала тайно, скрытно, чтобы не вызвать преследования властей. Как теперь понимаю, в те времена её деятельность подпадала под какую-то статью. И вот в потёмках меня принесли к ней в полную ароматами трав хату, плохо освещённую керосиновой лампой-«семилинейкой». Бабка, ворожея, знахарка, словом, народный лекарь, оказалась худой невесёлой бабой с поджатыми губами, повязанная белым в чёрный горошек платочком. Я заметил, как она кинула оценивающий взгляд на узелочек с яичками, принесённый матерью в уплату за услугу, и принялась нашёптывать над моей головой, сплёвывала в сторону, сама крестилась и осеняла меня крестом. Затем взяла большую миску с водой, заставила мать держать её над моей макушкой, а сама достала из печи кружку с растопленным воском и, читая молитву, стала медленно лить воск в миску. Не знаю от чего - от летних ароматов трав среди зимы, от её ли таинственного шепота, - я как бы проснулся, и впервые за последнее время во мне появилось любопытство: что же там получится с воском? Слышал, что само собой выльется то, что испугало меня, и это каким-то таинственным образом избавит от недуга, словно изображение причины болезни отменит её или возьмёт с собой эту хворь.
До сих пор стоит перед моими глазами восковая композиция, по-своему изящная, лаконичная, выразительная. В миске плавал жёлтенький островок, на котором возвышались три оплывшие фигурки: в одной можно было угадать мужчину, занёсшего руку с сапогом, перед ним - согбенная женщина, позади неё крохотное существо, закрывающее ладонями глаза...
Как будто природа, минуя большой отрезок времени, необходимый для того, чтобы родился художник, а потом в трудах и сомнениях постиг свойства человеческой натуры и её трагические причуды и лишь затем создал нечто, способное воздействовать на душу зрителя, - сама изваяла эту горестную скульптуру, которая в моём сознании стоит, ничуть не уступая, рядом с творениями великих мастеров, - они, конечно же, способны врачевать нас, как вылечил меня тот воск из-под руки безграмотной бабы...
РАССКАЗАТЬ? НЕ ПОМНЮ… и ЛАПТИ
Мальчиком-первоклассником мне довелось пережить ошеломительный позор, который до сих пор преследует меня. Дело было так. Мой отец, уже года полтора, как уехавший работать на новостройки Забайкалья, решил забрать к себе и семью. Приехал за нами, подгадав к зимним каникулам, чтобы мы с сестрой Олей не отстали в учёбе. Всей семьёй мы отправились в путь из Центральной России аж за Байкал. Пожалуй, больше десяти дней ехали. Сперва сутки до Москвы, там была пересадка.
Дело было в декабре 1934 года, когда мне вот-вот должно было исполниться восемь лет. Почему запомнил точно время? Да на каждом вокзале станций, которые мы проезжали, возвышались громадные портреты приятного вида мужика в чёрной раме и траурных лентах – это был только что убитый Киров.
В Москве на Ярославском вокзале мы ночевали на своих сумках и узлах, а утром отец, очень озабоченный и расстроенный всем происходящим (в его отсутствии чёрт знает что творилось на стройке!) взял меня с собой и повёл по грохочущим улицам столицы, забитыми повозками, пешеходами, трамваями. Надо сказать, что я был обут в лапти. Тогда для Москвы это было не диво, - встречалось немало «лапотников». Так что мой вид никого не удивлял. Отец привёл меня в громадный магазин. Я, ошарашенный его многолюдством, невиданными размерами, не очень соображал, что надо делать, когда отец велел мне разуться. И вот на моих ногах оказались новенькие чёрные ботинки. Теперь никто не поверит, что они мне не понравились. По сравнению с лаптями они мне показались хуже, в них моим ногам было как-то неловко, неудобно, как теперь сказали бы, не комфортно. Когда мы уходили из магазина, я оглянулся на оставленные мои обношенные лаптишки и невольные слёзы полились из моих глаз. Мне вспомнился соседский дед, который любил и опекал меня, который сплёл мне эти лапти… Отец удивился: «Ты что?» Я не знал что ответить. Просто почувствовал, что часть моей малюсенькой жизни осталась за рубежом этого чужого громадного магазина. Там осталась моя деревня Тетеревино, замечательные мои друзья и родственники, маленький прудик, на льду которого я недавно катался в своих любимых лаптях. Много позже в одном стихотворении я вспомнил о том мгновении:
Кругом толкались, пили и галдели,
а у меня не шло из головы.
Как по-щенячьи жалобно глядели
мне вслед те лапти посреди Москвы…
На вокзале сели в поезд, который тащился через всю Россию, поднимался на Урал, громыхал по равнинам Западной Сибири, словно перелетал по мостам через широченные реки. Долго кружили за окном заснеженные Барабинские степи, потом шла бесконечным частоколом тайга, скалистые и лесистые горы, сопки, наконец, путь побежал вдоль Ангары, вдоль берега Байкала, расстилавшегося белой равниной слева. С замиранием сердца следил я, как голова нашего поезда втягивалась в чёрное отверстие очередного тоннеля, как в вагоне становилось темно. Проводники зажигали свечи в своих фонарях, а спустя минуту-другую поезд вновь вырывался на волю, где сияло солнце и белели снега.
Была ещё пересадка в Чите - деревянном, холодном, занесённом снегамидалёком городе. Затем на небольшой станции Оловянная мы пересели в сани, и на лошадях ехали до села, где работал отец, - ещё два дня. Все мы были закутаны в шубы; от беспрерывного движения по голой белоснежной пустыне кружилась голова. Наконец мы оказались в селе у маленькой речки, которая была в это время года подо льдом. Удивили бревенчатые избы под крышами из дранки. Над каждой трубой поднимался белёсый дым, и по запаху было понятно, где пекут блины, жарят картошку, где варят щи...
После каникул я вместе со всеми пришёл в школу. Оказалось, пишу я не хуже местных ребятишек, так же, как и они, умею складывать и вычитать. Надо сказать, что пришёл я в школу, имея в сумке неслыханную по тем временам роскошь — набор цветных карандашей, выкрашенных глянцевой краской в соответствующий стержню цвет, а вдоль каждого из, них бежали слова написанные золотом: «Сакко и Ванцетти». Молодая приветливая учительница в один из дней после первого знакомства предложила рассказать мне; всему классу о том, что я видел в дороге. Я снисходительно окинул глазами притихших, стриженных под машинку мальчиков, одетых как попало, обутых в самодельные ичиги (сапоги на мягкой подошве), девочек в неприхотливых платьицах, набрал в лёгкие воздуха и...
О, как должна была политься моя речь! Ведь приехал я из Европейской части нашей страны, видел крупнейшие города, пусть хоть из окна вагона. Я побывал в Москве, отец водил меня на Красную площадь. Видел необъятные просторы нашей земли, великие реки — Волгу, Енисей, Ангару; любовался Байкалом.
Я раскрыл рот, но слова не сходили с моего языка. Промямлив что-то, я смолк. Чтобы помочь мне, учительница стала задавать наводящие вопросы:
- Ну, расскажи, какие дома в городах? Видел ты двухэтажные, пятиэтажные дома?
- Видел, и ещё выше, чем пять этажей.
- Какие они? А то наши мальчики и девочки не видели такого. Представления не имеют о городе, железной дороге, о трамвае, паровозе, самолёте.
Я стоял, сгорая от стыда, но ничего не приходило на ум. А в самом деле, какие дома в городе, чем они отличаются от деревенских? Как за спасительную соломинку, я ухватился за одну мысль:
- Двухэтажные дома называются двухэтажными потому, что они имеют два этажа.
- Молодец, - усмехнулась учительница. - Так, хорошо. Ну, а как люди поднимаются на второй этаж?
Я совсем потерялся, стараясь вызвать в памяти хоть что-нибудь из того, что попадалось на глаза в пути.
- Ну, ребята, он стесняется, ещё не привык к нам. Он лучше нарисует нам что-нибудь из того, что видел. Хорошо, Коля? У тебя такие замечательные цветные карандаши и новенькая тетрадь для рисования. И вы, ребята, - она обратилась к остальным ученикам, - тоже рисуйте, что хотите...
Не знаю, как я шёл домой, как несла ещё меня земля, как я не провалился от горя и обиды. Мне ничего другого не хотелось, как умереть. Вот приду домой, лягу, и всё, больше не встану. В течение урока я не мог ничего выдавить из себя, начертил какой-то кривой квадрат, вместивший всё, что пронеслось перед моими глазами за дорогу. Ну ни малейшей детали, никакой зацепки не оставалось в памяти, сплошной туман, вызывающий головокружение. Слёзы вскипали в глазах от острого стыда - ведь я так подчеркивал своё превосходство! Учительница хотела погладить меня, но я зло отдёрнул голову...
Вот прошло пять десятилетий с тех пор, целая жизнь пролетела - со своими радостями, с болями и горем, со счастьем, с великими событиями, участником и свидетелем которых я был, - а то моё крохотное горе, тот первый мой позор до сих пор язвит и жалит сердце…
СКАЗКИ И ЖИЗНЬ
В далёком-предалёком забайкальском селе я, девятилетний мальчик, оказался один среди чужих людей. Причём - очень нелюдимых и озлобленных. Время было такое. Мы были приезжие из центра России, чужаки среди забайкальских казаков, в прошлом живших на отшибе от центра довольно привольно и теперь полагавших, что тяжёлые времена, репрессии, колхозы и прочие невзгоды тех далёких годов пришли из европейской части, от нас, «кацапов» или «хохлов» -всё равно. Да, я оказался совершенно один в чужой избе, где наша семья снимала комнатку. Отец мой, прораб, сооружавший строения первой во всём районе МТС, вдруг запил, увлёкся молоденькой учительницей. Начались нелады в семье. Вмешалось начальство, учительницу срочно перевели в какое-то отдалённое село, отец неделями пропадал из дома, словом, мать не выдержала и, оставив меня на время с отцом, уехала в районной центр, чтобы там обосноваться и потом забрать меня. А отец совсем сошёл с ума - оставив хозяевам избы денег, чтобы те кормили меня и следили за моей учёбой в школе, исчез, как провалился... Из разговоров хозяев между собой я узнал, что отец пропадает у своей «зазнобы», что она беременна и у меня скоро будет братик или сестрёнка...
Отлично помню этих людей, взрослых, по какой-то причине не любивших меня. Им доставляло удовольствие изводить меня разговорами о том, какие плохие мои родители, как дорого обходится еда, которой они меня кормят. Кроме всего прочего, их видимо, выводило из себя то, что я учился очень хорошо, не напрягаясь, а испытывая удовольствие, много читал, их же трое детей ходили в школу из-под палки. Я буквально голодал, хозяева ели отдельно, мне же приносили в мой закуток почему-то в эмалированной кружечке пшённую кашу. Я же был (и до сих пор остался) болезненно застенчивым, не смел ничего просить...
Соседские бабы горевали над моей судьбой, и однажды одна из них зазвала меня к себе, когда я шёл из школы. Прослезившись, она погладила меня по голове и предложила: «Поезжай, парень, к матери. Завтра утречком едет мой муж в Оловянную, захватит тебя, место в кузове найдётся».
До районного центра посёлка Оловянная было полторы сотни километров. На полуторке, которая в дороге возле села Чиндант поломалась, мы добирались трое суток. Надо ли говорить, как измотался я. Голодный, промёрзший, одетый в пальтишко, когда все мои спутники были в шубах. Иной раз в кузове какой-нибудь спутник прикрывал мне ноги полой дохи. Ночевали на полу на соломе в какой-то избе. Когда все садились есть, я выходил на улицу, чтобы не выдать голода и не выглядеть попрошайкой...
Но всё это было лишь вступлением в настоящую беду. Когда приехали в Оловянную, я с трудом нашёл дом по адресу, оставленном мне матерью, - там жили какие-то едва знакомые люди. Вошёл, предвкушая материнскую радость, тепло, избавление от всех моих страданий. Хозяева обедали, глава семьи, с «калининской» бородкой смуглый мужик в чёрной косоворотке с белыми пуговицами, недовольно поднял на меня глаза: «Чего тебе?» Я сказал, что приехал к матери. - «Так она уехала за сыном, наверно, за тобой, милок. Вон её дверь, её замочек, а ключ забрала с собой». Помолчав, он снова принялся хлебать щи, вся остальная семья - дети моего возраста и поменьше, их мать, тонкогубая и чем-то недовольная, по всей видимости, после только что произошедшей ссоры, время от времени бросали на меня любопытные взгляды. Наконец хозяин, облизав ложку, откинулся на спинку стула: «Ну и чего стоишь у двери? Иди себе». Из-за спазма в горле я едва вымолвил: «Куда же мне идти?» - «А я знаю куда? Дуй на станцию, на вокзале тепло. А мать приедет, скажем, где тебя искать...»
Что там дальше он говорил, я не слышал, вышел и, сдерживая себя, чтобы не хлопнуть дверью, что показало бы, что я обижен, закрыл её вежливо, тихо-тихо...
День я провёл на ногах. Стараясь убить время, обошёл поселок, и, наконец оказался у дверей районной библиотеки - сами ноги привели меня сюда. Именно в этом месте мне было не так одиноко и тоскливо. И это было к счастью. Напротив библиотеки было самое оживлённое здание той поры - «РАЙЗО» - земельного отдела райисполкома, куда съезжалось чуть не ежедневно в эти предвесенние дни деятели колхозов. И надо же, один из мужиков, вылезая из подъехавших саней и выпроставшись из огромной дохи, вдруг окликнул меня. Я оглянулся вокруг, не веря, что обращаются ко мне. Да, окликнули именно меня. Ко мне подошёл длинный, усатый, как Максим Горький, мужчина, и я в нём узнал председателя колхоза, с которым дружил мой отец, и который одно время почти каждый вечер бывал у нас. Даже фамилию его помню - Пляскин. Он с удивлением стал расспрашивать, как я оказался здесь один. Мой рассказ его расстроил и растрогал. Он вынул из-за пазухи бумажник, дал мне пятёрку, указал на бревенчатый опрятный дом, от которого несло невыразимо вкусным дымком: «Вот столовая, иди хорошо поешь, возьми себе щи, второе какое-нибудь, попей чайку вволю. Тут тебе хватит. А мне надо на заседание. Приходи часа через два, как-нибудь устроим тебя».
Тут надобно сказать, что обходя посёлок, я долго стоял у витрины книжного магазина, прочитал заголовки всех выставленных книг, и одна привлекла меня особенно - большого формата, с картинкой во всю обложку, озаглавленная «Сорок небылиц»...
Полный свежего и горячего чувства благополучия, светлых надежд, я был крайне скуп в столовой и тотчас ринулся в книжный магазин. Оставшиеся деньги, которых хватило бы хоть как-то кормиться до приезда матери, я без раздумий безрассудно отдал за «Сорок небылиц» и тут же у прилавка впился в них. Это были узбекские народные сказки. Я оказался в волшебном мире невероятных приключений героических молодцов, сражающихся с отвратительными злодеями, в сияющем и благоухающем ореоле верной любви красавиц, чудес, творимых магами и чародеями... Это была первая в моей жизни самостоятельная покупка и первая неприятность из-за литературы: оторвавшись от книги, я с удивлением увидел, что на улице уже темно. Естественно, Пляскин уже уехал, не дождавшись меня. Но я, ободрённый и насыщенный колдовской лирикой, мечтами, жаждой жить и увидеть со временем весь цветной, ароматный, звучащий музыкой чудесный и безбрежный мир, пришёл на вокзал, где облюбовал скамейку в углу, поближе к печке, и, не замечая ни холода, ни замусоренной бесприютности окружающего пространства, провёл ночь почти счастливый.
Мать нашла меня спустя два дня - с красными от слёз глазами, высохшая и измочаленная от страдания, она смеялась и всхлипывала одновременно...
ПЯТАК
Это было давно, в то время, от которого остался восхитительный запах глиняной свистульки, способность по душам поговорить с зайчишкой, загнанным метелью в наши сени, непередаваемый вкус чёрного засохшего хлеба, принесённого матерью с работы в поле – подарок от лисички.
И ещё остался от того времени на моей ладони маленький шрам. Более значительные шрамы – от пули, от скальпеля хирурга – уже почти заросли. А этот…
Я ходил за матерью, выпрашивая пятак. Ну, на худой конец, хоть три копейки. Только пятак конечно лучше. Я ещё не знал, как мать добывает деньги. Просто, думал, ей жалко монету. Так заведено.
Пятак! Чёрт возьми, большего не было у меня богатства. За всю жизнь.
На него можно было купить конфет. Я не знал, сколько, но отлично понимал, что его обменивают на сладость, на свистульку, на цветной карандаш. Никакого тут чуда – иди в магазин. Так заведено.
И вот, наконец праздник наступил: мать съездила в город, что-то там продала, вернулась весёлая и дала мне пятак.
Как сейчас помню его – с рубчатой кромкой, с чётко прорисованными буквами, гербом, цифрой пять. Если на него положить бумагу и потереть сверху не зачинённой стороной карандаша, получится точный его оттиск. А ещё очень интересно катить его по столу, сильно прижимая к дереву – остается рубчатый след. Он лежал на моей ладони, большой, тяжёлый.
Сам по себе пятак это ещё неполное счастье, это, выражаясь по-теперешнему, только мёртвая материя.
И вот я бегу к железной дороге.
Как я благодарен этому чуду моего детства – поезду, что проносился с грохотом, с клубами дыма, с искрами мимо нашей деревушки! Дух у меня занимался всякий раз, когда доносился паровозный гудок, стук колёс, когда под ногами содрогалась земная твердь.
Не знаю, как для других, для меня же аромат железной дороги – угля, мазута, разогретых солнцем шпал – до сих пор самый дорогой.
Я положил пятак на рельс и замер от восторга. Во рту пересохло, по телу прошёл счастливый озноб, когда колёса легко коснулись моего пятака.
Я схватил, обжигаясь, эту тонкую металлическую лепешку, которую раскалила колоссальная громада поезда. И это было, пожалуй, самое интересное, самое сладкое, что подарило мне детство.
На ладони остался чуть заметный ожог, ставший крохотным шрамом, который не увидит никто, кроме меня.
Это был первый и самый дорогой мой пятак.
Счастлив, кто имел в жизни хоть один пятак поэзии…
 |
|
С сестрой Ольгой |
Запахи детства
Моё сибирское детство пахло новостройкой. Когда я шёл из школы домой, на окраину села Кабухай, раскинувшегося над рекой Онон у самой границы с Монголией, – скипидарно-смолистый, хвойный, чащобный дух свежих сосновых досок, тяжёлый запашок бетона, приятная вонь разогретой смолы, пресный аромат известкового раствора – всё это сливалось в волнующее благовоние и становилось всё отчетливей. За нашей избой, срубленной наскоро, с лихостью мастеров, отвлечённых от большой работы как бы на перекур, на игрушечную забаву, – возвышались в основном деревянные сооружения под мастерские, а также для хранения техники первой в районе машинно-тракторной станции. Тогда только входило в обиход это понятие МТС. И это было хозяйство моего отца – Сергея Демьяновича – прораба… Помнится, как сюда приехал первый трактор – голенастый ХТЗ, собрав громадную толпу любопытных.
Работа занимала отца очень. В нашей избе по вечерам чаще всего велись разговоры о стройке. О тёсе, горбыле, других сортах лесоматериалов. Об извести, гвоздях, цементе, гудроне, дёгте (им намазывали нижнюю часть свай, чтобы не гнили в земле). О шифере, кирпиче, жести, красках, олифе и так далее.
Самая впечатляющая для меня картина тех лет – работающие пильщики, изготавливающие доски. Это, на мой взгляд, был герб, эмблема, опознавательный знак эпохи. Я нередко любовался этими двумя мускулистыми мужиками, тела которых были мокры от пота. Один из них стоял вверху простого сооружения из четырёх стояков, на поперечинах которых закреплялось очищенное от коры бревно, другой – внизу, их соединяла длинная, в несколько лезвий пила. Это видение меня сопровождает и поныне. Много лет назад я не выдержал искушения и написал вот это:
На бревне и снизу –
двое
На концах одной пилы.
Пильщики – в поту от зноя,
Доски – в капельках смолы.
Вспоминается из мира
Давних детских полуснов,
Как игрушка на шарнирах,
Эта пара мужиков.
Оголенные по пояс,
Пилят,
А за их спиной
Край гудит, дымя и строясь,
Перед самою войной.
Лад характеров и силы.
Верхний, закрепив бревно,
Загоняет клин в распилы,
Чтоб не вязло полотно.
Звук пилы, сперва невнятный,
Выше и нежней к концу.
И струею ароматной
Бьют опилки по лицу.
Жизнь, на прихоти скупая,
Бесконечна и ровна,
Коль идешь, переступая
За пилою вдоль бревна.
С самодельной папироской
Редко делали привал.
Рядом с ними к свежим доскам
Я нередко прилипал.
Красота их и терпенье
Мне видней через года
Над различной дребеденью,
Заслонявшей их тогда.
Вот эта картина во мне живёт, обозначая становой хребет того времени… Когда бывает невмоготу нести выпавшую на мою долю ношу, на память приходит именно она. И ты вновь движешься, медленно-медленно, как бы «за пилою вдоль бревна»…
АРМИЯ:
ОЗЕРО
Лошади шумно фыркают, грызут удила, шарахаются... В чём дело? Мой жеребец не подчиняется, выступает боком, норовит повернуть назад. Не чует шпоры, готов укусить меня за коленку...
Ещё темновато, небо на востоке чуть засветилось ледяным пламенем. Впереди то ли кусты, то ли туман – не поймёшь. Чувствуется близость озера, кони непоены, но почему-то готовы отпрянуть, не хотят идти к воде.
И вот открывается озеро, почему-то тёмное, почти чёрное. И ничего живого – ни птички, ни лягушки, могильная пустота. Пахнуло парным нездоровым теплом, тревожным духом приторной тяжёлой сырости. Тяжело спрыгиваю с седла, ноги одеревенели, плохо слушаются. Приближаемся к тёмной воде, над ней курится мутно-розовый парок, почему-то вызывающий мистический страх. Он насыщен элементами беспокойства, предчувствия невзгоды, беды... Наклоняюсь, чтобы сполоснуть лицо. Боже, да это же кровь... Целое озеро крови... Бьёт в нос испарение, которое способно свести тебя с ума. Храпят испуганные кони, вырывают из рук уздечку.
Просыпаюсь. Сердце бьётся где-то около горла...
К чему бы это? Не помню, чтобы видел сразу столько крови наяву. Но сон мистический, вещий. Повеяло древними поверьями, что-то былинно-сказочное окутывает душу.
... Давным-давно не ездил в седле…
В СЧАСТЛИВОМ ТУМАНЕ МЕЧТЫ
Узнав, что я призывался со 2-го курса художественного училища, замполит полка начал эксплуатировать меня для создания наглядной агитации. Помимо ежедневных сумасшедших занятий на морозе с ветром - муштра, стрельбы из разных видов оружия, марш-броски с полной выкладкой, зубрёжка устава, уборка территории, невыносимые стояния на посту и т.д. - меня заставили рисовать плакаты на побелённых саманных стенах нашей казармы. Наивный семнадцатилетний, худущий от недоедания парнишка, рядовой запасного полка (три месяца подготовка одиночного бойца, и - фронт), я взялся и за это дело. В свободное, конечно, время. Не буду распространяться на тему, как добывались всяческие заменители настоящих красок, кистей, как в морозец краски не хотели прилипать к стене. У меня был небольшой опыт в этом отношении, так как во время учёбы в училище в Иркутске, я, чтобы не загнуться с голоду, подрабатывал в худфондовской мастерской, где лепили и подобные плакаты.
Это была ранняя весна 1944-го, Забайкалье, небольшой посёлок под названием Дацан на Ононе, где пополнение для пехоты готовили ещё две подобные части. Сюда в начале войны провели узкоколейку, по которой почти еженедельно отправлялись на основную магистраль прошедшие подготовку и экипированные команды молодых защитников родины - на фронт. Кузница кадров, так сказать. Дело было поставлено на поток. И жизнь тут (вероятно отчасти намеренно) была создана такая, что отправки на фронт все ждали с нетерпением, словно избавления от каторги. Отправляемых хорошо обмундировывали, выдавали сухой паёк по другой норме и т.д. И уже не грозило, как шутили наши остряки: «Только ляжешь - поднимайсь, только встанешь - подравняйсь!»
Сейчас самому не верится - я ещё успевал читать, был постоянным посетителем полковой, довольно богатой библиотеки. Младший лейтенант, ведавший этим учреждением, позволял мне самому рыться в книгах. Однажды в одном из номеров журнала «Октябрь» прочитал анонс: в марте будет опубликован детективно-шпионский роман Джона Пристли «Затемнение в Гредли». Неудивительно, что мне, юному мечтателю, захотелось немедленно «проглотить» его. На дворе уже апрель, значит, журнал с этой вещью, должно быть, получили. Библиотекарь сказал, что да, номер пришёл, но он «на руках». Увидев, как я огорчился, он успокоил: «Знаешь, если ты выполнишь одно моё предложение, я его добуду для тебя». Дело в том, что скоро 1-е мая, будем принимать присягу, к этому событию готовится концерт самодеятельности». И мне он предложил выучить наизусть довольно большой отрывок из поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин», чтобы почитать его со сцены в начале концерта.
Он достал однотомник поэта и отчеркнул: от строки
Если бы выставили в музее плачущего большевика...
до четверостишия:
Вовек такого бесценного груза
еще не несли океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому союзов плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Через несколько дней я гордый прилетел в библиотеку: выучил! Библиотечный младший лейтенант решил проверить: «Давай, послушаю!» И я начал. Через несколько минут он замахал руками: «Ты с ума сошёл! Это же на целый час!»
Оказалось, я не понял его и выучил длинную поэму всю целиком. И до сих пор помню. Но как и было обещано, журнал с «Затемнением» я получил. Проглотил эту вещь за один вечер, пристроившись возле круглой печки-голландки при свете слабой лампочки под потолком.
Недавно на книжном развале возле городского базара, проходя мимо, увидел под ногами потёртую книжку Д.Пристли именно с этой вещью. Она стоила буквально гроши. Из любопытства купил. Прочитал, вспоминая ту далёкую весну в холодном и ветреном Дацане. Это, наверно, самая слабая вещь замечательного английского прозаика и драматурга, на этот раз она не вызвала особого интереса - теперь детективы такого рода пишут затейливей, занимательней.
А тогда мне предложили остаться при клубе художником-оформителем. Ну! От такого предложения я чуть не взвыл, беспредельно этим обиженный и униженный. Ведь я мечтал сделаться настоящим живописцем, а изготавливать афиши, перерисовывать плакаты, значило «сбить руку» и в результате ничего не добиться в серьёзном искусстве. А я думал о себе иначе. К тому же художнику надлежит быть свидетелем великих событий. Впереди событие событий - фронт! А тут «тёпленькое местечко», какой-то жалкий клуб. В счастливом тумане мечты, будущее мне грезилось учёбой в Академии художеств, о которой я столько читал. Там сияли имена Сурикова, Врубеля, Репина, Серова.
Когда уходил из штаба, услышал за спиною: «Ну не дурак ли?..» Проходя после этого разговора к себе в казарму, как-то по-иному увидел на стене свои «фрески» - плакаты: «Родина-мать зовёт!», «Спаси!»
РИСУНКИ КАРАНДАШОМ
Кому довелось во время войны послужить в запасном полку, тот знает, что это такое. После этого жизнь во фронтовой полосе покажется чуть ли не курортом. Может быть, в таких полках, откуда маршевые роты отправлялись прямо на фронт (прошёл подготовку одиночного бойца, и всё, воюй, пехота) нарочно создавали такую суровую обстановку, чтобы, встретившись с «живой» войной, человек не дрогнул. Далеко за Байкалом, на жестоких морозах нас гоняли с рассвета до ночи. Саманные казармы, голые каменистые сопки, едва припорошенные снежком, словно кто для дезинфекции швырнул совок хлорной извести, которую разнесли, смешали с пылью бесконечные злые ветры, проникающие, казалось, сквозь стены казармы.
После дня, проведённого на морозе, после бесконечного рытья окопа в промороженном грунте, перебежек, подчас в противогазах, стрельбы по движущейся или неподвижной мишени, после занятий со станковым пулемётом, с миномётом, когда приходится помимо собственной винтовки таскать на плечах то плиту миномёта, то пулемётный ствол, после тренировочного марш-броска километров на сорок, после жиденького ужина - возвращение в казарму было неизъяснимым блаженством.
Но всё страшно лишь поначалу. Спустя полмесяца мы уже втянулись в эту жизнь, и нам стали являться забытые потребности. Уже тянуло, например, к чтению. А у меня вновь проснулась неутолимая жажда рисовать. Я призывался из художественного училища, взял с собой коробочку красок, кисти, альбом, карандаши, но всё это погибло в первый же день, точнее, в первую же ночь пребывания в полку. К несчастью, по дороге на службу мне досталась буханка хлеба и большая солёная горбуша - на одной из станций встретила предупреждённая мной сестра и вручила эти продукты. К несчастью, - я сказал. Если бы не хлеб и рыба, краски и кисти не исчезли бы. В первую же ночь, когда мы ночевали в неотапливаемом бараке так называемого «чёрного карантина», какой-то мерзавец раздвинул доски нар подо мной, когда я беспробудно спал, и вытащил из-под головы мой тощий «сидор» с жалкими пожитками, привлечённый, должно быть, запахом рыбы. Дело в том, что вместе с нашей командой прибыло и несколько «блатяг», знакомых в прошлом с тюрьмой. Потом они попались на другом воровстве, и ребята их хорошенько проучили. Но краски и альбомы для рисования бесследно исчезли. Я не горевал о хлебе и рыбине, всё равно на всю войну ими не наешься, рано или поздно надо втягиваться в жёсткую скудноватую норму. Зато утрата красок и рисовальной бумаги огорчила всерьёз. В карманах нашлось два-три огрызка хороших карандашей, чёрных, мягких, которыми так славно растушёвывать на ватмане тени и полутона...
Однажды, когда мы уже прошли через баню, где получили обмундирование в обмен на буйные кудри, снятые бесстрастным мучителем с задёрганной машинкой для стрижки, оставившим на наших головах неровные полосы, как неряшливый косарь при косьбе сенокосилкой. Когда мы получили постели, когда обжились в казарме, мне повезло несказанно: встретившийся старшекурсник нашего училища, уже отправлявшийся на фронт, подарил мне на прощанье начатый блокнот размером в половину школьной тетрадки, в обложке из тёмно-коричневого глянцевитого картона. Его фамилию я помню до сих пор — Таскин. Это была надежда нашего училища, маслом он, на зависть нам, второкурсникам, писал почти профессионально, а в рисунке ему не было равных.
В промежутке между ужином и отбоем, когда не оказалось неотложных работ (подметание территории, мытьё полов, заготовка дров и носка воды вёдрами в бездонный бак, откуда по трубе с сосками текла вода для умывания), я наконец развернул свой блокнот. Сперва я любовался изящным, непринуждённым, каким-то переливающимся штрихом Таскина — на первых трёх страницах были его рисунки, наброски, как у нас говорили «кроки», то есть беглое фиксирование позы человека, ракурса фигуры и прочее, в чём должен ежедневно упражняться художник. Это и есть единственный способ научиться ухватить жест, движение. Один из пожилых солдат нашего взвода, попавший в армию после многочисленных отсрочек по болезни, человек обстоятельный, неторопливый, бывалый, заинтересованно приблизился ко мне. Я не люблю, когда во время работы кто-нибудь заглядывает через плечо, но подошедший очень деловито осведомился, не умею ли я рисовать портреты. Я неохотно поведал ему, что только ещё учился на художника.
А нарисуй-ка меня, - с заискивающей улыбкой попросил он, и пояснил: «Отсюда одна дорога - на войну. Сфотографироваться негде, тут человек с фотоаппаратом только шпионом может оказаться. А на фронте тем более не снимешься, где уж там. Домой бы послать рисунок...» Не давая мне возможности отказаться, он горячо продолжал: «Пусть не совсем будет похоже, лишь бы вот так, в форме. Может, этот рисунок будут потом сто лет беречь, внукам показывать...»
Так началась моя карьера портретиста. Никогда потом ни в одной работе меня так не подгоняли, никогда никакая другая моя работа не вызывала таких споров и пристрастных толкований окружающих. И в самом деле, сфотографироваться негде, до ближайшего посёлка, где мог быть фотограф, свыше двадцати километров, да и увольнительные были отменены. После кратковременной подготовки нас формировали в роты и батальоны; неподалеку была площадка для погрузки в вагоны узкоколейки, грузились обычно ночами, а там уже на транссибирскую магистраль, и до самого фронта. А как хочется остаться в памяти родных и близких хотя бы на неумелом рисунке...
Когда закончил рисунок, то на счастье обнаружилось, что мне удалось передать сходство. Ведь пожилого человека, у которого на лице есть морщины, характерные детали, рисовать легче, чем юношу — они все на одно лицо, в одинаковой форме, без волос. Все одобрили портрет.
Следующим место передо мной занял вздорный, неуживчивый баргузинский парень, первым кидавшийся на еду, последним выходивший из тепла на мороз. И этот тоже мне удался. Характерный был парень.Тут подоспела команда строиться на вечернюю поверку.
В другой раз, когда выпала возможность, я старался изо всех сил, понимая, как важно нарисовать ребят точно. Эх, были бы у них усы, очки, кудри, бородавки, родимые пятна, насколько было бы легче!.. Когда я заканчивал рисунок, возникал кратковременный спор относительно похожести. Те, чья очередь позировать приближалась, эгоистично орали, мол, нечего там вола за хвост тянуть (я намеревался вместо неудачного рисунка сделать новый). Те же, кто уже получил и успел отправить домой конверт с драгоценным рисунком, как более независимые, могли и усомниться в сходстве.
И тут обнаружилось, что блокнот мой очень тонкий. Внём тридцать семь листочков, из них три первых были «испорчены» ещё Таскиным, а несколько успел запороть я, ссылаясь на плохое освещение (освещение было действительно очень слабое, одна лампочка под потолком на громадную казарму), на то, что рука плохо слушается, что тоже было правдой. Словом, на всех желающих быть запечатлёнными бумаги не хватало.
Я попытался нарушить живую очередь и своей властью сделать рисунки с тех, кто был ближе моему сердцу, с кем успел подружиться. Куда там! Я уже не принадлежал сам себе. Поднялся такой гвалт, что я вынужден был подчиниться большинству.Так и остались незапечатлёнными, хотя бы моей неопытной и малодаровитой рукой, ребята, которые были мне особенно дороги и близки.
Вскоре бумага закончилась, завершился и срок нашей солдатской подготовки. Нам выдали новое с иголочки обмундирование, снабдили сухим пайком, и однажды ночью в темноте мы погрузились в эшелон...
Так из меня и не получилось художника, непросто в наш век было осуществить свои заветные желания. Теперь я думаю, что те мои рисуночки хранятся в семейных альбомах ли, под стеклом ли на стене среди фотографий родни где-нибудь в деревенской избе, может быть, с большей осторожностью, чем иные шедевры. Ведь многим из тех, кого я рисовал тогда, сфотографироваться так и не удалось. И я последним, как мог, запечатлел их облик, и эти бледные изображения не раз наполнялись живой плотью — в воображении отца или матери, в горьком одиночестве рассматривавших их, дорисовывая своей памятью то, что ускользнуло от моего карандаша...
Дурачок
Перевидал дураков на веку!.. Самых различных. И даже чиновных. Знал одного командира полка, при речах которого окружающие стыдливо прятали глаза из-за непроходимой дикости и несуразности его речей.
Встречалось немало и злых дураков-идиотов, мужичков себе на уме, жадных, наглых, бессовестных.А этого звали ласково: дурачок, заметьте, не дурак! Он был бы очень красив (ладный, стройный, румяный, голубоглазый) – если бы не болезненная медлительность, не некая отталкивающая неряшливость, не влажные коросточки в углах губ, не отвратительное шмыгание сопливым носом, когда эта гримаса делает физиономию отталкивающе-безобразной. Он словно изнемогал под тяжёлой думой – соображал тяжело-тяжело.
Служил он в нашей роте запасного полка, где мы, только что призванные в армию, проходили подготовку одиночного бойца, чтобы через три месяца отправиться на фронт. Кажется, его потом всё же отчислили из армии, во всяком случае, во время принятия присяги 1-го Мая 1944 года я его в нашем полку уже не видел.
А запомнился он мне своими воистину запредельными вопросами. Однажды на политзанятиях, когда речь шла о гордости за свою родину, когда политрук внушал нам, как она велика – одна шестая суши всего земного шара! – дурачок с невинно-ангельским видом поднял руку. - «Чего тебе?» - «Вопрос можно? Ведь и они могут сказать, что их родина самая большая». - «Кто – они?» – насупился политрук. - «Ну, эти... враги... наши. И они своим солдатам скажут, что их страна занимает одну шестую часть света». Бедный политрук не знал, что дурачок не может мыслить логически, что объективные истины для него не существуют, и начал ссылаться на точные понятия, сыпал цифрами, водил указкой по карте. А дурачок в ответ на вопрос: «Ну, теперь понял?», грустно-виновато улыбнулся: «Но у них же свои карты! И на карте можно нарисовать всё, что хочется!»
И сколько ни воспалялся политрук, наш дурачок, потупив белёсую голову, бубнил: «Напечатать можно другие цифры... У них выходит, наверное, то же самое, что их земля одна шестая суши...»
Больше всего он умилил всех на стрельбище. Нажимая на спусковой крючок, он всякий раз резко опускал голову, словно стараясь спрятать её под себя. - «Чего ты прячешь голову?!» – ярился помкомвзвода. - «Дык, чтобы пуля не попала в затылок». - «А почему она должна попасть в твой затылок?!» - «Вы же сами на доске рисовали траекторию. Такая дуга получается. А если её продолжить...» - «Что, кого продолжить?» - «Да эту самую... траекторию... Получится круг... И пуля вернётся в то место, откуда пущена...»
Помкомвзвода даже растерялся. Дурачок, что с него возьмёшь?! - «Это я начертил в вертикальной плоскости дугу эту!.. Понимаешь, вот так пуля полетит вверх, а потом снизит эту... траекторию чёртову... И упадёт на землю...» После затруднительного молчания дурачок, простодушно улыбаясь, подвёл итог: «Это вы так говорите. А на самом деле, может быть, пуля вот так летит, – он очертил над головой круг, – над землей? А? Облетит круг, и мне в затылок...»
С годами я, вспоминая его, думаю, что он был не так уж глуп. Скорее обладал поэтическим мышлением. Ведь это здорово сказано: пуля, пущенная тобой, прилетит тебе же в затылок...
КОТЛЕТА ПО ПЯТНИЦАМ
Уходит из памяти, бывает, большое событие, а запоминается подчас какая-нибудь мелочь. Вот, к примеру, эта котлета. Через пять с половиной десятилетий я помню еёсовершенно отчетливо. Прошли и ничего почти не оставили в памяти некоторые громадные сдвиги истории – так, голое русло когда-то бурно мчавшегося потока с овальными валунами, с галечными наслоениями, хранящими следы завихрений течения. С другой стороны, эта котлета своеобразный исторический символ. Если хотите – поучительный пример опыта человечности. Да, да. Она мне много говорит.
Нашему поколению пришлось пережить не один голод. Помню, как в начале 30-х почти полностью вымерло наше село Тетеревино на Белгородщине. В ту зиму через него бесконечным потоком двигались голодающие с Украины, многие падали и замерзали прямо на дороге. Трупы складывали во дворе раскулаченного мужика по фамилии Леонов, жившего напротив нас. Так врезалась в память та пора, что хотя мне шёл всего пятый год, а вот даже фамилию этого нашего соседа до сих пор помню. Мучительная картина: ночь, в хате холодина, я просыпаюсь, укрытый на лавке, при свете чадящей лампы надо мной молится высохшая, словно мумия, мать. Улавливаю слова: «Господи, прибери сыночка раньше меня, чтобы не мучился без меня один-одинешенек…» Так что проблема питания все те годы была нешуточная. А тут война. В запасном полку нас, 17-летних истощённых новобранцев, зимой на сорок четвертый год кормили так скудно и плохо, что вынуждены были образовать особый батальон «выздоравливающих», то есть не способных от истощения выполнять службу. Там выдавали «дополнительное питание» в виде отвара из хвои. Я видел их – Боже, какие это были скелетоподобные парнишки, изъеденные вдобавок чесоткой. Интенданты крали, как могли...
И вот после запасного я оказался в учебном танковом полку в поселке Песчанка под Читой. И тут оказалось, что той нормы, что нам полагалось, если из неё не красть, да если навести порядок в столовой, чтобы было чисто, чтобы готовили вкусно, – худо-бедно хватает солдату. Конечно, в таком возрасте аппетит вообще неутолимый. Но всё же.
Командовал полком капитан Мельников. После тяжелейшего ранения и контузии у него случались припадки эпилепсии. Его хотели уволить из армии, но он добился своего и вот пришёл в наш полк. Худущий, сутулый, с поджатыми губами, хмурый. Однажды во время развода караула, на котором он присутствовал, одетый в тёмно-серую танкистскую ещё довоенную шинель, с ним случился припадок. Он рухнул, забился в судорогах, в углах губ выступила пена… Худущий, болезненный, но неизменно бодрящийся. Даже во время припадка, в беспамятстве, он, казалось, делал невероятные усилия унять конвульсии, чтобы не осрамиться перед подчинёнными. Его тут же унесли.
Наш полк – этот целая академия танкового искусства, офицеры и сержанты-сверхсрочники были ещё до войны подобраны один к одному, все очень знающие специалисты. Они всеми способами рвались на фронт, писали Верховному – не удержать. У каждого была семья, на неё положенного пайка, конечно же, не хватало. Первое, что сделал новый командир, это собрал стариков посёлка, предложил им создать рыболовецкую бригаду – рядом речка Ингода, очень рыбная. Старики, которым выдавали кое-что из списанной амуниции, понемногу керосину для ламп (его негде было ни купить, ни украсть), ещё кое-что, охотно взялись за дело. Рыба появилась на столах офицерских семей, что ободрило наших командиров-преподавателей. А нам, солдатам, каждую пятницу в дополнение к ужину подавали по рыбной котлете. Она была очень вкусной. Конечно, небольшая добавка, но, главное, впервые за всю войну я, как и мои сослуживцы, почувствовал, что хоть кому-то, хоть одному из старших есть до нас дело. Ведь всё время только казёнщина, только команда, только окрик, только должен, должен, да ещё обязан… Это очень много значит (и не только в армии), когда чувствуешь, что о тебе кто-то хоть капельку заботится, что кому-то ты дорог. И сил прибавляется – они удваиваются. И теплей вроде становится на морозе. И на душе уютней. Что там разговоры о сострадании и милосердии без изобретательного и деятельного участия?! Так, подачка. Эта котлетка по пятницам до сих пор греет моё сердце и не даёт ходу безнадёжности, неверию.
…Мы, к тому времени уже привыкшие к потере товарищей, непритворно горевали, когда Мельников неожиданно, что называется, прямо на ходу, проверяя готовность машин в парке, наклонившись к неисправному аккумулятору, вдруг упал замертво...
Сколько грехов ему простилось, каким чистым он предстал перед Всевышним – за ту прозаическую котлету, которую вскоре после его ухода перестали нам давать по пятницам, т.к. рыболовецкую бригаду распустили как незаконную.
БИ ШАМДА ДУРТЕП
…Вот видите, не знаете, что это значит. А это очень красивые слова…
Спускаюсь по Армянской, мимо Центрального рынка, иду вдоль торговок первыми цветами, - сплошь фиалки, тюльпаны, веточки вербы, - навстречу прелестная миниатюрная японочка. Юное восточное создание одето в обыкновенный европейский костюм, нормальная юбка, пиджак, застёгнутый на все пуговицы, кофточка безукоризненной белизны… Ха, оказывается, она направляется прямо ко мне, и загораживает мне дорогу: «Дайте два лея!»
Ошеломлённый лезу в карман, спрашиваю: для чего ей нужны деньги. Оказывается, она представительница студенческой организации, что-то вроде «антиспид», для этого собирает средства. Хотят обезопасить студентов от смертельной болезни. Надо, обязательно надо обезопасить такое очарование… Пока копаюсь в кармане, спрашиваю: «Вы японка?» - «Нет, я монголка». О, как тут взмыло моё сердчишко! Я ведь несколько лет служил в Монголии, видел самого Чойбалсана, проехал её вдоль и поперёк, ископал её землю окопами и всяческими сооружениями линии обороны…
Лавина воспоминания повергла меня в прострацию, погребла под собой все мои заботы и печали. Да я же помню много слов из монгольского. Даже песню их одну знаю! Говорю: «Сайн байну!» (Это значит «здравствуйте»). Она ошеломлена. Это ж надо, в центре Кишинёва встретить явного европейца, говорящего по-монгольски. А я уже не могу остановиться, выкладываю почти все мои познания: «Би шамда дуртеп!» Она потрясена: «Вы знаете, что это значит?» Отвечаю: «Что-то вроде: «вы мне нравитесь» или «я вас люблю». - «Ничего себе!…», - в её голосе и удивление, и некое недоумение, она остановилась задумавшись…
А я уже напеваю: «Шутэ, дутэ, шутэ ширгильдяйтэ…» Это так поют буряты и монголы, водя свой хоровод. Тут же спрашиваю: «Талха байна?», что в переводе значит - хлеб есть? Мог я по-монгольски спросить воды или прикурить. Знал и несколько монгольских пословиц. Одну из них, соорудив русское её подобие, особенно люблю - «Обжору не зовут богатырём!» Верно, хорошо?..
Вроде родного человека встретил – так светло на душе. Я же там так долго служил, служба была страшно тяжкой. Наш 141-й ордена Ленина имени Яковлева полк 61-й танковой дивизии 17-й Армии, отличившийся на Халхин-голе в 1939 году, располагался на окраине города Чолбайсан в голой степи, почти пустыне. Кости танкистов этого полка, почти полностью погибшего при штурме знаменитой сопки Баян-Цаган, уже давно истлели. Там погиб и командир 61-й Яковлев, впервые в истории танковых сражений, он повёл свою бригаду, не дожидаясь отставшей пехоты, чем уберёг армию от ещё больших потерь. Привычные ныне памятники в виде танка на постаменте, украшающие многие города Европейской части, - только повторение того первого танка «БТ», установленного на Баян-Цагане ещё до Великой Отечественной. Тогда Константин Симонов написал знаменитое стихотворение «Танк» - именно об этом памятнике…
Стою обалдело перед девчушкой, а сам где-то на другом конце Евро-Азиатского континента…
Когда поднимался ветер, то дул месяцами и гнал тучи даже не песка, а гальки, сёк до крови лица острыми камушками. Свирепая, почти бесснежная зима тянулась бесконечно. В саманной казарме стоял холод, т.к. топить было нечем. Печка, сооружённая из бензиновой бочки, почти не грела. Местный бурый уголь тлел, не давая тепла. Летом в низине вдоль холодного Керулена зеленела трава, и было неслыханным блаженством каким-нибудь образом получить возможность побыть там некоторое время. Пройтись босиком по мягкой, непривычно низкорослой травке, окунуться в ледяные струи Керулена, несущего клочья шерсти – чуть выше по течению работала шерстомойня…
Пока я любовался куколкой-монголкой, растерянно моргавшей передо мной, в памяти пронеслись, сменяя друг друга, такие стереоскопически объёмные картины, что я на некоторое время как бы выключаюсь из реальности. Именно там определилась моя судьба на всю оставшуюся жизнь… Стрелок-радист на танке заместителя командира полка, находясь в карауле, подметаю плац возле штаба. День отвратительный, ветер несёт тучи пыли, работа моя бесполезна - мету, а ветер несёт обратно мусор. Я устал, голоден, бесконечно одинок среди таких же, как я, до предела утомлённых парней, заброшенных на чужбину. Нам отменены увольнительные, да и пойти некуда.Здесь не увидишь даже просто гражданского человека, просто женщину, ребёнка, здесь такая неприветливая природа, и выполняю бесполезную нудную работу. И вдруг, словно во сне, слышу за своей спиной ласковый голос, неуверенно, словно спрашивающий моё имя: «Коля?» С ума сойти! Я уже года полтора ни от кого не слышал своего имени. Осталась только фамилия…
Оборачиваюсь, передо мной сутуловатый грузный мужик с погонами майора, добродушная, простецки-гражданская физиономия. Вглядываюсь.Просто не верится – это же Иван Иванович Молчанов-Сибирский – личность легендарная: известный сибирский поэт, воспитатель целого поколения иркутских писателей, создатель знаменитой тогда книги «База курносых» – её по его инициативе и под его редактурой написали иркутские пионеры. Книга понравилась самому Горькому, он пригласил Ивана Ивановича и пионеров-авторов очерков о своей жизни, к себе в Москву. Было широко известно фото Горького с Молчановым-Сибирским в окружении юных литераторов, его печатали тогда в Восточной Сибири и в газетах, и в краеведческих книгах. Я бывал у него на квартире в Иркутске, когда, учась в художественном училище, подрабатывал в мастерских Худфонда и не раз меня посылали к поэту за подписями к карикатурам «Окон-ТАСС». Оказывается, и его, уже далеко не молодого человека, призвали в армию, и он тоже оказался в Монголии.
 |
|
Иван Иванович Молчанов-Сибирский |
Поразительно, широко известный в наших краях поэт, запомнил меня, почти случайного знакомого. Надо сказать, когда я приходил к нему за стихотворными подписями, меня неизменно сажали пить чай. По-сибирски, чай, забелённый молоком, без сахара, с шанежками…
Увидев меня, худущего, в короткой шинели, в обмотках, в шапке с завязанными под подбородком ушами, он чуть не прослезился. Поспрашивал о моём житье-бытье, на прощанье сказал: «Не удивляйтесь, если вскоре вас позовут в штаб армии». Меня? В штаб армии? Чудак!
Я и забыл об этой встрече, когда вдруг меня позвал наш старшина, удивлённо меня осмотрел, велел примерить новую шинель, нашёл поновей шапку, выдал громадные рыжие американские ботинки, и велел зайти к писарю, взять полагающиеся документы: «Тебя забирают куда-то. Велено откомандировать в штаб армии». Эти слова он произнёс с особым уважением, впервые в жизни он видел человека, которого затребовали в такие верха.
Так я оказался в редакции газеты «Героическая красноармейская», где в должности писателя (во время войны при каждой армии и флоте была такая должность) служил Иван Иванович.
Надо сказать, именно за участие в Халхин-Гольских событиях газета получила орден «Красной Звезды» и лучшее, самое новейшее типографское оборудование. Здесь во время боевых действий служил совсем молодой тогда Константин Симонов. И коллектив был подобран ещё с тех самых пор, что называется, поштучно. Теперь я понимаю, каким чудом для меня было то, что именно здесь я начал печататься. Много позже у меня написались стихи, начинавшиеся строкой - «Как в книге всё со мною было…» Действительно, так и не сочинишь. И какой души люди встречались! С Молчановым-Сибирским мы изредка переписывались. Он заинтересованно следил за моими литературными опытами и на гражданке, писал мне в Читу из Иркутска, куда вернулся после службы, где и дожил до конца. В конце 90-х я как-то завернул в Иркутск, в случайном разговоре с друзьями коснулись памяти незабвенного Ивана Ивановича, которого здесь помнят и любят, и было как-то приятно узнать, что его дочь замужем за знаменитым Валентном Распутиным. Порадовался, словно это была моя родня.
В один из дней мы целой толпой пошли искать на улице Тимирязева (до сих пор адрес помню) моё общежитие в подвале двухэтажного домика, где я жил, учась в художественном училище, откуда в начале марта 44-го ушёл в армию. Сколько раз бывал до этого в Иркутске, всё никак не мог выбрать время, чтобы посетить тот убогий уголок. Где мы буквально замерзали, и, чтобы окончательно не окоченеть, по ночам ломали окрестные заборы для громадной железной печи, которую нам подарила директор училища Кукарина (по прозвищу Кукара). Печку мы тащили, запрягшись в деревенские сани, с окраины, из-за Ушаковки (есть там такая речка, отделяющая от города изобилущий хулиганьём заводской район). Нашли тот домик, он покосился, в нашем подвале теперь был склад. Мы искали хозяина, чтобы он открыл его – очень хотелось хоть на мгновение вернуться в то ужасное и счастливое былое. Так и не нашли.
Всё это пронеслось в голове молниеносной сменой кадров. Если бы не встреча с юной монголкой, может быть и не вспомнилось бы всё это, другие мучают заботы и печали, уж не до былых встреч.
Пронеслось в памяти, как мы прошли с боями через бездорожные высоты Хингана, через Внутреннюю Монголию, Манчжурию. Как спустя месяц после окончания войны, - всей Второй мировой войны! - оставляли Манчжурию, передавая китайцам почти всё вооружение, трофейные склады. Сейчас спорят из-за каких-то крошечных островов, а тогда, завоевав, оставили целую страну с русскими городами Порт-Артуром и Дальним, с железной дорогой КВЖД, построенной Россией (здесь работал инженером знаменитый русский писатель Николай Гарин-Михайловский). Что там говорить, как теперь пишут в рекламных блоках, Россия – щедрая душа… Но это так, к слову. Любопытно, когда возвращались домой, в Чойбалсан, по дороге видели громадные бесхозные разбрёдшиеся стада овец. Захватили с собой две овечки, т.к. приближалось 7-е ноября, хорошо будет угостить в этот день всю редакцию и типографию баранинкой. До праздника оставалось ещё недели полторы, было решено отдать овечек более-менее знакомому монголу-чабану, пасшему неподалеку небольшую отару, чтобы они сохранились до заветного дня.
Когда накануне праздника наш старшина с шофёром приехали за оставленными на время овцами, старый невозмутимый чабан, хорошо говоривший по-русски, выгнал им одну овечку. Ребята спросили: «А где вторая?» Он, вынув трубку изо рта, безучастно показал ею на ту же овцу: «Вот вторая». - «Ну ладно, пусть это будет вторая. А где первая?» Он так же равнодушно проговорил: «Вот первая». «Но мы оставляли вам две!» - «Ну, две». - «А тут всего одна». - «Ну, одна». - «Так где же вторая?» Чабан сплюнул: «Вот она вторая», - жест в сторону бедной овечки… Сколько ни бились, так и не смогли договориться. Обхитрил старичок… Что с него возьмёшь…
Между тем юная монголка с недоумением следила за меняющимся выражением моего лица (в соответствии с бегущими у меня в памяти картинами) не очень поняла, почему сильно пожилой мужчина застыл перед ней в какой-то прострации с блаженной улыбкой и не известно почему сказала: «Не надо ваши два лея, спасибо!» И повернулась от меня, тихо произнесла уже по-монгольски: «Баяртэ». Я тоже прощаюсь с ней по-монгольски: «Баяртэ. До свиданья».
Би шамда дуртеп, моё былое, ты было прекрасно, полно жизни, трагедий и юмора. Спасибо, что ты было. Как бы ты ни было тяжким, я тебя люблю!..
ТРЕВОГА
(автобиографический рассказ)
- Рота, подъе-е-ем!
Молодецкий выкрик дневального обдал, как ледяная волна. И чего это дневальные так отчаянно орут? Наверное, потерпевшие кораблекрушение, увидев землю, не вкладывают столько силы в возглас «Земля!» Так хорошо было лежать, угревшись, смутно чувствуя сквозь тонкое одеяло, как настужен воздух в казарме. И до чего же ласковой кажется колючая шероховатость набитого перетёртой соломой матраца!
В ружьё! Боевая тревога!— теперь дневальный кричал без прежней лихости, с расстановкой, налегая на «р».
Так делается всегда — сначала просто «подъём», чтобы не вызвать лишней суматохи. По казарме эхом прокатились эти команды, повторённые всеми командирами.
Казарма в полутьме — электричество горит только до полуночи, чадят несколько коптилок, заправленных маслом.
Ещё сквозь сон рядовой Нагорнов уловил приглушённые разговоры соседей, которых, видимо, разбудила предподъёмная суета. Он знал, что опять придётся выбежать на мороз, не зашнуровав, ботинки и сунув обмотки в карман, чтобы не выходить последним. Потом можно обуться как следует. Старшина люто ненавидит тех, кто тянется в хвосте. Рота, лучшая в полку по строевой подготовке. Некоторые из новичков, проснувшись ночью, предпочитают сразу же надеть гимнастёрку и брюки, чтобы утром сэкономить минуту-другую. Некоторые и с вечера не прочь бы улечься, не сняв одежды, да старшина смотрит, как говорят, «бдит». Нагорнов никогда не просыпался ночью, а если и просыпался, то не хватало желания проделать это самому.
«Тревога, значит, ещё не утро, значит, после построения, если тревога учебная, может, снова распустят и можно будет ещё поспать», - эта мысль немного развеселила Нагорнова. Он заставил себя вскочить, натянуть штаны, гимнастёрку, обернул ноги портянками, затянул шнурки из сыромятной кожи на огромных ботинках и, увидев, что не отстает от усердно сопящих соседей, стал накручивать обмотки, вырезанные из сукна старой шинели. Одну успел обмотать, другая выскользнула из рук и покатилась по полу. А все уже ринулиськ шинелям и пирамиде с оружием. «Чёрт, - выругался про себя Нагорнов, - весь день будут неприятности», была у него такая примета. Поспешно сунул скомканную обмотку в карман брюк, бросился к вешалке, нашёл свою шинель английского зелёного сукна. На изнанке воротника крупно написано химическим карандашом: «Нагорнов Д.И.» Прежде на воротнике была другая надпись, теперь она старательно затушёвана. Затянув брезентовый пояс поверх шинели, он нащупал в полутьме на высоте второго яруса нар на полке третий от края противогаз с такой же фиолетовой надписью, схватил автомат и шмыгнул в дверь. На пороге дневальный Огурцов в шутку довольно таки внушительно огрел его по шее и застыл с невинным видом. Нагорнов не удивился такому проявлению дружеских чувств, попытался вернуться и ответить тем же, да сзади в дверях поднапёрли так, что пробиться было немыслимо. На улице, задохнувшись от острого холода, он пристроился в свой ряд, стал скатывать в свиток обмотку, потом всё же сунул в карман: раздалась команда «Равняйсь!» Недовольный чем-то старшина пошёл вдоль строя, щупая в темноте - есть ли на бойцах противогазы. А то некоторые умники «забывают» их взять, чтобы не тащить лишний груз на марше.
Твёрдая, как чугун, земля дымилась от мороза. Звёзды колюче мерцали в бесприютном небе. Несмотря на строгости, за ночь сугробы у входа в казарму опять оказались исчерчены, словно электросваркой, - абстрактные кривые и преимущественно короткие слова. Это всегда выводило старшину из равновесия. Нет чтобы добежать до уборной, всего-то каких-нибудь двадцать шагов!
Только на дворе замечаешь, какой спёртый воздух в казарме, сложенной из самана. От построившейся роты в чистейшем морозно-дистиллированном воздухе тянуло запахом скипидарной сапожной мази, портянок, табачного перегара, мужского пота.
Нагорнов чувствовал, какая могучая сила заключена в единении этих тел, собравшихся в строй по тревоге. Он кожей ощущал горячее веяние выстроившейся колонны. «Как это просто, - думал он. - Каждый по отдельности - и вот все вместе. И умный, и забулдыга, и хороший, и плохой - в целом строй, рота, войско». На душе было сладко-тревожно. Его подняли по тревоге, может, сейчас прямо в бой. А может - в вагоны и на запад.
В темноте прошла группа офицеров, старшина присоединился к ним, на ходу бросил:
- Вольно!
Все зашевелились, заговорили сиплыми со сна голосами, строя предположения, для чего подняли. Нагорнов стал бинтовать ногу обмоткой, по выражению остряков, «двухметровым сапогом». Он наслаждался чувством собранности, хотя его пробирал лёгкий озноб, какой бывает, если выйти потным после сна на мороз. Всё у него в порядке, успел обуться, не перепутал противогаз - взял свой. Есть даже запас курева - в кармане полкисета самосада. Не каждый день бывает так удачно. То ногу не в тот ботинок сунешь, то обнаружишь, что крючок на шинели оторвался и ветер задувает за пазуху. То шапку кто-нибудь уронит, с вешалки и в толчее закатят куда-нибудь под нары - ищи, пока старшина не обзовёт раззявой и не наградит нарядом вне очереди. Пусть даже не «наградит», зато уж запомнит и при случае подзовёт этак пальчиком: «Нагорнов, ты любишь волынить, вот пойди, подмети вокруг казармы, авось проворней станешь». И каждое утро Нагорнов ожидал одну из таких мелких неприятностей. Раз как-то у него украли шинель. Все выстроились, а он всё ещё рыщет по казарме. И опять он же остался виноват. Он спал - шинель висела на вешалке. Что же, под подушку класть её, что ли? А старшина одно твердит:
- Почему у других не крадут, а у тебя то ложку, то котелок стянут? Ищи! Не найдёшь, сам укради. У меня шинелей нету. Я не держу шинельную фабрику.
Потом всё-таки выдал, но такую рвань, что весь полк потешался над Нагорновым. Спасибо, ребята из тех, кого готовили к отправке на фронт, обменялись. Им всё равно перед погрузкой в вагоны выдавали всё с иголочки.
Старшина вышел из казармы, скомандовал:
- Оружие и противогазы сложить, строиться выходи. Справа по одному в казарму - марш!
Нагорнов с первого дня службы - на правом фланге: рост 172 сантиметра. Поэтому он одним из первых вернулся в казарму, на ходу ткнув Огурцова кулаком в бок. Тот засмеялся:
- Погоди, я тебе припомню!
Огурцов - самый длинный не только в роте, а и во всём полку. В строю он ходит впереди Нагорнова, возвышаясь над колонной на целую голову. Дружба их давняя, ещё со школы, хотя характерами они сильно разнятся. Нагорнов больше лирик, склонный к пессимизму, Огурцов - юморист, прирождённый скоморох. Его любят'солдаты, и начальство снйскодительно к нему. Глядя на Огурцова, нельзя удержаться от улыбки. Он похож на голенастого аистенка. Шинель выше колен, ноги тонкие и длинные, большеносое лицо с косо срезанным подбородком притворно-простоватое, с хитринкой. Что бы он ни говорил - на занятиях ли о распространении радиоволн, в столовой ли о качестве нищи - всегда получается смешно. Посылает старшина в наряд, Огурцов притворно-тупо говорит всегда одну и ту же фразу:
- У меня ревматизма, ноги не гнутся.
И все покатываются со смеху. Перед тем как выйти на мороз, Огурцов, самый заядлый «любитель костра и солнца», обычно жмётся к печке, а когда уже больше оставаться нельзя, поспешно хватает руками воздух, суёт тепло за пазуху про запас.Проделывает это он с такой уморительной серьёзностью, что нельзя не улыбнуться, будь ты сам придирчивый ефрейтор Жилмурзаев.
Сюда Нагорнов попал из учебного танкового полка, сильно удручённый тем, что не послали, как предполагалось, на фронт. До этого всех воспитанников полка отправляли на запад. Из-под Читы его увезли еще дальшeна восток - в Монголию. Было много и других причин для расстройства-расстался с товарищами по взводу, с которыми сдружился почти за полгода учёбы. В новый свой взводпопал лишь с одним из тех, с кем служил в учебном полку, - с Евгением Смирницким, прозванным за громоздкость и неповоротливость Фердинандом. Это был рыхлый парень с огромным щетинистым раздвоенным подбородком. Волосы у него какой-то вялой рыжести. На белом лице крупные тёмные веснушки, как блёстки масла в супе. Почему-то все считали его другом Нагорнова. Может быть, потому, что они были самые начитанные, часто спорили на литературные темы. В общем, Нагорнов, придя во взвод, чувствовал себя одиноким. И тут за всё время службы судьба впервые расщедрилась. В день приезда, отчуждённо стоя у столба, подпирающего нары, в ожидании команды строиться на обед, он увидел что-то очень знакомое в одном солдате, почти лежащем на печке. Уголь был плохой, одна земля, и на печку, сделанную из железной бочки, можно было и впрямь лечь, не опасаясь изжариться. Все находились в казарме, не снимая тонких телогреек, которые надевают под шинель. Что-то родное почудилось вухватках, в голосе незнакомца. «Боже мой, да это ж Огурцов!» - чуть не закричал Нагорнов. Только тот, кому пришлось поскитатьця по запасным, полкам во время войны, поймёт, какое это счастье - иметь рядом друга. А Нагорнов поскитался немало. Правда, сперва в запасном полку был в кругу товарищей, но уже через несколько дней всех их расхватали - кого в авиационное, кого в морское, кого в артиллерийское училища. А Нагорнов никуда не годился - близорук, «годен к строевой службе в очках». Вот тут и хлебнул он одиночества.
Ещё не веря в счастье, Нагорнов потянул солдата за рукав. Так и есть - Огурцов! Тот ни капельки не удивился, будто они только вчера расстались:
- Ну, здоров, Нагорнов. Угости махорочкой. Тут можно курить, дым прямо в печку пускай, старшина не заметит.
Нагорнов не сдержался, стал обнимать его, приговаривая:
- Петро! Да когда ты сюда попал? Откуда? Давно ли? Ты же вроде в офицерское училище поступал. Вот здорово! Вместе, значит, будем. Встречал кого-нибудь из наших?
Огурцов, который уже прижился и вообще сильно пообтерся в армии, не очень понимал телячий восторг Нагорнова. Всё же ему было приятно встретить друга юности. Нагорнов ощутил крепкое пожатие его большой костистой руки.
Огурцов сильно изменился. Как-то сдержанней стал, тонкие морщинки прочертили лицо, какая-то скептически-ленивая улыбка заменила прежнюю - широкую, открытую, заразительную. Что ж, время прошло...
Нагорнов догнал Огурцова в восьмом классе: тот два года пропустил из-за болезни. В следующую зиму райком комсомола обратился к комсомольцам школы с призывом идти на учёбу в ФЗО. На рудниках не хватало рабочих рук. Нагорнов, горячий парень и активист, записался сразу же, за ним -Огурцов. После трёх месяцев учебы они стали работать на руднике в разрезе помощниками машинистов на экскаваторах. Осенью Огурцова взяли в армию. Нагорнов к этому времени получил вызов из художественного училища, куда он когда-то подавал документы.
- Цепь Галля, цепь Ренольда, - снисходительно смеясь, сказал Огурцов. - Помнишь?
Ещё бы! Эти проклятые цепи рвались ежечасно. Экскаваторы были изношены до последней степени. А вместо пальцев из специальной стали в соединение звеньев этих цепей впрессовывали обыкновенную стальную проволоку. И помощнику машиниста приходилось раза три за смену на плече тащить тяжеленную зубчатую цепь в мастерскую. Запомнишь!
- Слышал, Иван Васильевич Героя получил? В «Звёздочке» фотографию видел. - Огурцов разглядывал товарища без особого любопытства, словно знал что-то такое, перед чем всё происходящее - пустяки.
Подумать только, преподаватель математики Иван Васильевич, тот самый, что однажды отобрал у Нагорнова ножичек, которым он изрезал парту, - тот самый глуховатый и лысеющий мужчина стал Героем, прославленным артиллеристом!
Многие их однокашники по школе и ФЗО уже погибли в боях. Общий любимец комсомольский секретарь Валерка Падежнов умер в госпитале от заражения крови, так и не доехав до фронта…
В школе Нагорнов старался подражать ему, завидовал его находчивости в любом разговоре. Нагорнов до сих пор повторяет многие жесты Падежнова. Даже отворяет дверь изящно-решительным толчком, как делал это Валерка.Они долго вспоминали былое, от которого их отделяли каких-то два-тритода. Оно казалось бесконечно далёким.
Нагорнов ещё раз поразился необычайной «взрослости» Огурцова. Его лицо от постоянного пребывания на морозе было красное, как обваренное.
Между тем, все поставили оружие и противогазы и, недоумевая, зачем это нужно, выстроились снова. Нагорнов подумал: если роту пошлют куда-нибудь, Огурцову придётся заправить все постели, и усмехнулся. Уж лучше идти всю ночь по холоду, чем заниматься таким нудным делом. Старшина терпеть не может даже малейшей неаккуратности в заправке постели. Если одну свою постель приводишь в порядок, проклиная всё на свете, то довести до «кондиций» столько постелей - наказание немыслимое. Солома в матрацах превратилась в труху, попробуй её разровняй. Старайся не старайся - получается макет сильно пересечённой местности. В учебном полку, чтобы достичь идеальной заправки, под одеяла вдоль матраца с обеих сторон всовывали ровные палки. Получались геометрически точные бруски.
Когда выстроились вновь, старшина передал командование ротой помкомвзвода сержанту Снеткову, а сам вернулся, видимо, досыпать.
Теперь уже все поняли, что тревога, конечно, учебная. Вообще-то, понятно, однажды будет и не учебная. Всю войну на границе японцы устраивали провокации. Любая из них, подобно горячей спичке, брошенной около горючего, могла вызвать пожар. Поэтому при слове «тревога» каждый раз томительно сжимается сердце. В последнее время, когда полк впервые за войну получил пополнение, а большинство командиров участвовали в боях на западе, окрепла уверенность: что-то будет.
Рота вышла за расположение полка, все поняли - ведут на станцию, что в четырёх километрах от военного городка. Слабый ветерок был густ и морозен, сразу стало щипать щёки и нос. Снег, перемешанный с песком, скрипел под ногами. Начинался март, значит, жди - зарядят ветры месяца на два. Кругом пустыня, степь, пологие холмы, сухие балки. Только кустики упругого ковыля да колючих трав виднеются в поле. Днём ни одной детали, за которую мог бы зацепиться глаз. Степь, небо и солнце. Песчаные бури, которые в шутку называют «монгольским дождём», способны ввергнуть в уныние кого угодно. Сидишь в помещении, слушаешь унылый свист ветра в каждой щёлочке, треск гальки о стёкла окна. Выйдешь - лицо царапают мелкие камешки, песок набивается в уши, за воротник, скрипит на зубах.
Зато летом настоящее пекло! Нагорнову вспомнился безветренный полдень июля прошлого года. В перерыве между занятиями хорошо было лежать на обжигающей, как печка, гальке у прохладного Кэрулена, видеть над собою в небе бесконечные пышные вороха пронизанных солнцем воздушных облаков ослепительной белизны. Сквозь них местами пробиваются полотнища ещё более яркого сияния, дымящиеся золотистой пыльцой. И только подозрительная ядовитая синева ближе к горизонту отяжеляет сияющий купол. Но предгрозовая синева обманчива - дождя не будет, хотя где-то и громыхает, будто катают пустые бочки из-под горючего. Зной густеет, вода в Кэрулене становится парной. Где- то в верховьях моют шерсть, по воде плывут клочья... Пожалуй, за всю службу и выдался один такой замечательный денёк. Тут вообще почти не встретишь гражданских. А тогда Нагорнов увидел издали купающуюся с подростками загорелую девушку. Должно быть, дочь какого-нибудь крупного начальника. Тут даже офицеры жили без жён и семей. Вспомнив ту купальщицу, Нагорнов вдруг даже остановился, сбился с шага, и идущий следом наткнулся на него. Он наконец-то вспомнил сегодняшний сон! Ведь только сейчас понял: мешало что-то, как соринка в глазу. Оказывается, виденный нынче сон, забытый в суматохе тревоги, пробивался сквозь нагромождение маленьких и больших забот. И вновь, как во сне, нахлынуло ощущение горячего счастья. Стыдясь самого себя, с остановившимся сердцем, он вновь ощутил несмелый поцелуй на губах. На шее, казалось, ещё не остыло нежное тепло гибких девичьих рук. Сейчас он не мог бы сказать, какая она, та, что обняла во сне, а чувствовал её, как яркую реальность.
Долго он шагал в забытьи, не обращая внимания на мороз, не чуя, как полы шинели бьют по ногам, как телогрейка,надетая под шинель, стягивает грудь, вбирающую жадно степной воздух, сильно окрашенный предвесенними запахами. Смутные желания, ожидание чего-то необыкновенного, предчувствие тревожного счастья бродили в нём, как молодое вино.
Целовался он только раз в жизни. И то против воли, случайно. Как-то осенью их роту послали в колхоз помогать на уборке урожая. Была сравнительно привольная жизнь, солдаты отъелись на деревенских харчах. Работали хотя и много, но не надрывались. Вечера были свободные - ни занятий, ни нарядов. В сельском клубе устраивались танцы. Многие солдаты завели романы. Нагорнов силился влюбиться и не мог. Он был честен перед собой и хотел настоящей любви, о которой столько читал, которую видел в кино и театре. Но он был и наивен, полагая, что все окружающие влюбляются именно так. Поэтому ему казалось, что он обделён способностью любить. Ведь почти каждый из его товарищей имел, по забайкальскому выражению, «сухарницу» (на севере говорят «дроля», в средней России - «зазноба»). Впрочем, влюблялся он часто, но ненадолго. С утра понравится одна - к обеду уже беспричинно охладел. Понравилась другая - увидел какой-нибудь прыщик на лице или засмеялась она как-то не так, и всё кончилось...
Раз пошёл провожать девчонку с гордой осанкой с надменным выражением бледного лица. Шли от клуба в темноте, натыкаясь на коров, по местному обычаю ночующих прямо на улице. Коровы шумно вздыхали. Пахло теплом хлева, горьковатым кизячным дымком. Звёзды падали с сентябрьского неба. И Нагорнов не мог прервать тягостного молчания - ему нечего было сказать. У её дома он постоял рядом с ней в нерешительности, обняв её хрупкую фигурку, обманывая себя, поцеловал в сухие твёрдые губы. Постояв ещё немного, испытывая неловкость и стыд, жалость к этой девушке, он торопливо попрощался п ушёл...
Сейчас, думая об этом в ночной дороге, он опян испытал прилив стыда. И вместе с тем осуждал себя за то, что не проявил тогда хотя б капельки настойчивости. Может, всё бы обернулось по-другому. Ведь тот же Петька Огурцов «гулял» в ФЗО с Феней из их группы. Сперва он отзывался о ней с налётом презрения и цинизма. А спустя несколько месяцев, когда они уже работали самостоятельно, не мог дня без неё прожить. И Феню словно подменили. Вместо беспечной толстухи-хохотушки явилась серьёзно-вдумчивая ласковая женщина, по-своему величавая. Петька до сих пор не изменил своего намерения после войны жениться на ней. Он показывал Нагорнову её письма - добрые, заботливые...
Нагорнов встряхнулся, рассеяв пелену воспоминаний. Сильно замёрзли пальцы рук, он сжал их в кулаки внутри тряпичных рукавиц. Шли в темноте по дороге, через сугробики снега. Шагали молча, сутулясь от холода. Только Гришка Миневич, сосед Нагорнова слева, неутомимо рассказывал анекдоты шагавшему рядом старому солдату Уточкину:
- Сидит цыган с детишками под рыболовной сетью среди зимы и успокаивает их: «Видите, как у нас тепло. А на дворе - просунет палец сквозь сеть - ух какой мороз!»
Уточкин угрюмо молчал, и Миневича взяла досада, что тот не засмеялся. Он снова повторил свою шутку, хохотнул сам, но смех потух, как спичка на ветру. Странный этот Уточкин, то смешливый, как ребёнок, то угрюмый, злой и мефистофельски ядовит. Eгoсудьба похожа на жизнь многих сотоварищей по службе в Монголии. Только отслужил действительную, только демобилизовался, как начались халхинголские события. Опять эшелон, опять казарма. Только кончилось там, только уволился, как начался конфликт с Финляндией.И опять оказался в своей части в Монголии. Добро бы отправили на фронт. А то снова в неприютную полупустыню, где опять караул, боевая подготовка, и строй, строй, строй… Ни шагу без строя. А потом началась Великая Отечественная... Уходил из дому юношей, теперь - лысый пожилой человек. Он ещё никогда не имел своей квартиры, своей зарплаты и часто со страхом думал, как после войны начнёт гражданскую жизнь. Сколько забот сразу сядет на голову. Здесь делал не делал - накормят, обуют, оденут. Как говорится, солдат спит - служба идёт.
Таких солдат в полку было больше половины. Большинство служило с 1938 года, то есть уже семь лет. Как раз перед войной они должны были уволиться. Многие облысели, как Уточкин. Из-за местной воды выпадают волосы. Год за годом изо дня в день твёрдый распорядок, каждый день одно и то же, вокруг одни и те же лица. Ни одной женщины, ни одного ребёнка в округе. Всё в душе, предназначенное для нежности, черствело, отсыхало...
Гражданская жизнь Уточкину рисовалась чрезвычайно расплывчато. Одно видение только тешило его: он представлял себя в белой рубашке, в лёгких брюках и тапочках на босу ногу, выходящим из утопающего в зелени домика. Кругом бушует лето. Иди, куда хочешь. Не надо думать о том, что вечером заступать в наряд, что придётся стоять на посту в самое тяжёлое время - с четырёх часов утра, когда особенно спать хочется. Он идёт по тёплой земле, кругом зелёное и голубое, да ещё розовые цветы (он не успел узнать их названия, а тут цветы не растут). Он покупает бутылку молока и с наслаждением пьёт его, сильно запрокинув голову, зажмурив глаза от удовольствия и от сильного солнца. На этом идиллическая картина обычно обрывалась. Больше ничего о будущем он придумать не мог.
Старослужащие имели кое-какие неписаные привилегии. Большинство из них ходили в сапогах, поясные ремни были из настоящей кожи, шинели подогнаны по росту.
Миневич, самолюбие которого было уязвлено, принялся рассказывать новый анекдот, задыхаясь от быстрой ходьбы. Его прервал ефрейтор Жилмурзаев, огромный, жилистый казах, самый сильный человек в полку:
- Прекратить разговорчики в строю!
Он самый въедливый в роте, абсолютно лишён чувства юмора, зато немыслимо старателен.Нагорнов, которого это совсем не касалось, внезапно рассвирепел:
- Чего вы, как унтер Пришибеев, суётесь везде?!
Жилмурзаев, от обиды коверкая слова, заговорил нараспев высоким женским голосом:
- Пиришибиев? Знаим персонажи Чехов! Какой я тибе Пиришибиев?! Ты мине ответишь! Пиришибиев!..
- Отставить разговоры! - гаркнул сержант Снетков. - Что за базар? Подтянись!
Жилмурзаев замолчал, шумно дыша.Нагорнов делал над собой большие усилия, чтобы не сказать Жилмурзаеву ещё что-нибудь обидное. Не взлюбили друг друга они что называется с первого взгляда. В первые дни службы на новом месте Нагорнов как-то прошёл мимо сидящего на завалинке ефрейтора, сделал вид, что не заметил его. Просто привык за полтора года службы к приятельским отношениям со старшим по званию (среди танкистов почти каждый второй имеет звание), со многими сержантами дружил, и сейчас не поприветствовал Жилмурзаева не из-за неуважения, а по привычке. К тому жё это было в полдень, с ним Нагорнов встретился сегодня, пожалуй, раз сто. Но по уставу ты обязан приветствовать старшего по званию каждый раз, сколько бы ни встретил. Жилмурзаев внезапно остановил его.
- Рядовой Нагорнов, почему не приветствуете?
Нагорнов пожал плечами и хотел идти дальше.
- Стой! - крикнул, загораясь, ефрейтор. - А ну пройди снова и отдай честь как следует.
Нагорнов вернулся, чувствуя себя неловко, прошёл ещё раз и поприветствовала Но ефрейтор на этом не успокоился. Ему показалось, что солдат приветствует его с издёвкой. Он был вспыльчив, этот Жилмурзаев, и ему казалось, что все посмеиваются над ним, заслужившим только первое воинское звание к исходу пятого года службы. Что ж, каждому своё. Он же будет с достоинством носить ефрейторские лычки. Пусть этот молокосос-интеллигентик проникнется уважением к старшим, которые сносили в армии не одну пару ботинок. А то идёт, задрав голову. Ещё глаза щурит, чтобы показать,что много книжек читал.
- Рядовой Нагорнов, вернитесь и пройдите снова, как надо!
Солдат на этот раз прошёл уже по уставу. Но в преувеличенном подобострастии, с каким он поднёс ладонь к пилотке и слегка сгорбился, было что-то такое обидное, что Жилмурзаев совсем разъярился.
- Товарищ Нагорнов, пойдите вон к тому столбу и ходите мимо него. Отрабатывайте приветствие. По программе подготовки одиночного бойца. Идите!
Нагорнов, по спине которого катился пот, а лицо горело, как ошпаренное крапивой, сначала пошёл к столбу, а потом, сделав вид, что и думать не думал исполнять прихоть ефрейтора, повернул в сторону казармы.
- Рядовой Нагорнов, вернитесь!
Но Нагорнов уже ничего не видел и не слышал, он шёл напрямик, пока не наткнулся на стоящего у входа командира взвода младшего лейтенанта Чечёткина, офицера подтянутого, молодцеватого, любящего принять позу обойдённого начальством, чтобы понравиться солдатам. Но при этом младший лейтенант любил показаться и начальству в качестве командира взыскательного и требовательного. Сейчас он, стараясь скрыть насмешливую улыбку и казаться грозным, спросил Нагорнова:
- Откуда это ты сорвался? Молчишь? А старшим грубить у тебя; слова находятся. Ну, как бы ты хотел быть наказанным? Скажи сам. Как бы ты сам наказал такого недисциплинированного воина?
Он говорил мягко, добродушно, любуясь своей выдержкой, рисуясь своим, как ему казалось, остроумием.
- Ну, сажайте на губу.
- А как ты, будь на моём месте, посадил бы?
- Да, - с деланным равнодушием ответил Нагорнов, стараясь сдержаться и не заплакать перед всеми.
А младший лейтенант принялся стыдить:
- А ещё комсомолец! А? Нагорнов, тебе не стыдно? Ну что ж, получай трое суток гауптвахты. Жилмурзаев, отведите его на гауптвахту. Пусть старшина оформит документы.
Сидеть на губе не мёд. Но главное было не в этом. Днём водят на работу через весь городок - без погон и ремня. Стыдно. А потом его ещё и на комсомольском собрании пропесочат. Огурцов приносил еду в котелке, передавал табак. Нагорнов пронёс на гауптвахту какую-то книжку, без начала и конца, про каких-то фокусников, про любовь, про смерть возлюбленной. Прочитал её в первый же день, пользуясь промежутками в работе. Над окном в землянке, где размещалась гауптвахта,он заприметил какие-то бумаги. Полез, там оказалась затрёпанная до предела книга, точнее остатки от двух книг приблизительно одного формата. Листы были лохматы, местами разорваны. Он с жадностью ухватился за них. Одну он узнал сразу - её читала им ещё в начальной школе учительница. Это были похождения славного Робинзона. Нагорнов ещё раз поразился: как ему везёт при невезении! Всегда так - несчастье, но что-нибудь и в несчастье найдётся хорошее. Вот и теперь подвернулась книга о Робинзоне. Она вызвала в памяти столько воспоминаний детства, в ней было что-то родное, такое ласково-домашнее, что по сравнению с пережитым ощущением вся обстановка гауптвахты показалась вздорной мелочью. Другая стопка разрозненных листков оказалась остатком книги поэм Пушкина. Впервые так жадно читал Нагорнов стихи. Он заучил наизусть с одного прочтения «Графа Нулина», запомнил целые куски из «Гавриилиады», жалел,что не прочёл прежде «Евгения Онегина», хотя в школе и проходили его. В найденной книжке были только отрывки.
Вечером в темноте кто-то из солдат рассказывал своими словами и с собственными дополнениями «Похождения бравого солдата Швейка». И хохот стоял такой, что из караульного помещения несколько раз присылали солдата с требованием прекратить разговоры. Начались рассказы, кто за что попал сюда. Чёрный насмешливый татарин, должно быть, в сотый раз повествовал, как однажды ночью уснул на посту, охраняя эту самую гауптвахту. Он пригрелся у печки и уснул, растянувшись на полу. Когда начальник караула .разбудил его, он якобы объяснил:
- А я сел у печки на спину и уснул.
Его заставляли ещё и ещё раз рассказывать этот случай. И кто-нибудь в темноте непременно повторял каждый раз за ним:
- Ха, сел на спину! Ха-ха-ха...
Рядом с общим помещением находились камеры тех, кто сидел на строгой гауптвахте. Каждый из общей камеры считал своим долгом помочь чем-нибудь тем, кто схватил строгача. Им передавали табак, хлеб.
Нагорнов, конечно, понимал, что сам погорячился. Но всё же с тех пор к Жилмурзаеву относился с нескрываемой неприязнью. И никогда не упускал случая сцепиться с ним. Назло ему он решил заговорить сейчас, хотя желания говорить не было - так неприветлива была ночь, так бесприютна была степь, запорошенная песком и снегом.
Нагорнов вполголоса спросил Уточкина:
- Как ты думаешь, куда нас ведут?
- Не видишь, на станцию,- буркнул тот.
- Вижу. А зачем?
- Чудак. Дадут тебе карандашик в руки, будешь бумаги переписывать. Порисуешь. До мозолей…
Это он намекнул на то, что Нагорнов выпускает стенгазету и однажды нарисовал Уточкина, спящего на политзанятиях.
- Почернеешь от рисования,- злорадно продолжал он после некоторого молчания. - Уголёк будем выгружать. Первый раз, наверно? А я-то поковырял его за службу, дай бог... В сорок втором зимой в полку кончился уголь, капониры нечем отапливать. А машины по приказу должны быть в боевой готовности. Командиру полка хоть в петлю лезь - законсервировать танки, значит, нарушить приказ. А без топлива - заморозишь. Тогда все заборы, все столбы, даже от турника, распилили на дрова. А на укрепрайоне как копали!..
- А мы что, за печкой сидели? - холодно прервал его Миневич.
- Вы что! Только прошлым летом покопали немного. Амы-то каждое лето с начала войны кайлили землю. Поди, целую сопку землицы выбросал своими руками.Все замолчали…
Полк каждое лето выходил на рытьё укреплений. Все, от командира до писаря, брали в руки лопаты. Под злым солнцем пустыни, обливаясь потом, солдаты рыли траншеи, противотанковые рвы, эскарпы, контрэскарпы. На каждого была строгая норма в зависимости от твёрдости грунта. День, казалось,не имел конца. Тёплая вода не утоляла жажды, да и такой воды было в обрез, по норме. С утра кормили селёдкой и давали вволю чаю. Это чтобы вода дольше задерживалась в организме. К полудню в полку выбывало несколько человек от солнечного удара. Так жарило, что смотреть даже на землю было больно. Даль призрачно мерцала, мысли путались, в голове гудело. Раз, подняв глаза от земли, Нагорнов увидел на горизонте остро поблескивающую рябь озера, берега его были белые от выступающей соли. Там страшно медленно передвигался караван верблюдов. Ему вспомнились «Три пальмы» Лермонтова. Потом в глазах поплыли зелёно-красные пятна, круги,к горлу подступила тошнота. Очнулся он через минуту. Озеро и верблюды растворились в мерцающем мареве зноя. Огурцов помог ему выполнить норму. Вообще с Огурцовым работать славно. Хорошо услышать дружескую шутку, когда ты совсем уже изнемог. Даже просто переглянешься с ним и легче становится.
Замполит поддерживал одним:
- Товарищи, там на фронте люди кровь проливают. А вы от такого пустяка раскисли. Тяжело в учении - легко в бою. Будут у нас хорошие укрепления, значит, эта граница станет ещё безопасней.
Но то было летом, а сейчас в мороз ночью особенно не хотелось брать в руки лопату.Нагорнову приходилось однажды разгружать вагон с углём, и теперь от одного этого воспоминания похолодело сердце. Ещё там, дома, когда ему шёл пятнадцатый год, мать, служившая в станционной водогрейке,- а после смены она стирала соседям бельё, нанималась белить квартиры,- раздражённосказалакак-то:
- Всё с книжками! А обуться-то нево что. В школу в чём пойдёшь? Добрые люди денек поработают - полсотни в карман положат. Яшка, посмотри, в неделю раза три ходит уголь разгружать.
Яшка, дальний их родственник, служил на станции и действительно солидно подрабатывал на выгрузке угля. Нагорнов загорелся и сразу же договорился с ним. На следующий день едва рассвело, они нырнули в пульмановский вагон... Вернулся домой Нагорнов уже в темноте, измочаленный до такой степени, что не в силах был умыться. С углём приходилось иметь дело в ФЗО - проходил практику на электростанции в качестве кочегара.Так что он знал, чем пахнет разгрузка.И слово «тревога», которое так будоражило сердце, так обжигало всё внутри предчувствием необычайного, теперь как-то поблекло.
Нагорнов ещё по-ребячьи представлял войну, любил слушать бывалых вояк. До сих пор он с пристрастием расспрашивал фронтовиков об атаках, рукопашных, ранениях, бомбёжках, ударах «катюш». Иногда Уточкин рассказывал о боях на Халхин-Голе, о том, как у него сгорел танк, подожжённый японской бутылкой с зажигательной смесью, и как он успел снять пулемёт, как отбивался с товарищами до ночи и в темноте пробился к своим. Только у него всё это выглядело обыденно, просто, как тяжёлая и опасная работа. Особенно пристрастно расспрашивал Нагорнов о войне Огурцова. Тот был на фронте, получил ранение в боях за Белоруссию, но сводил всё на шутку и избегал подробностей. Это было тем более странно, что Огурцов в прошлом любил прихвастнуть. Однажды Нагорнов, которого избрали групкомсоргом, удивлённо спросил Петра:
- Ты же был комсомольцем, даже, кажется, в партию готовился. Сейчас что, выбыл?
- Чего пристал? - с непонятным ожесточением отозвался Огурцов. - Кому надо, тот знает.
И только как-то раз, когда они находились в оцеплении во время боевых стрельб на полигоне, Огурцов разоткровенничался. Пока Нагорнов караулил, чтобы в сторону полигона никто не прошёл и не проехал, Огурцов накопал картофелин в огороде поблизости. Нагорнов в это время обливался холодным потом от страха: как бы кто не нагрянул. За соучастие в воровстве по головке не погладят. Уж лучше быть убитым, чем такой позор.
После стрельб они отпросились на речку, чтобы выстирать портянки. Испекли припасённую картошку, пировали на славу, хотя и небыло хлеба. От костерка пахнуло детством, мирной жизнью, Кажется, прошло уже не полтора года с тех пор, как он стал рядовым Нагорновым, а целое столетие. Огурцов как-то размяк, погрустнел. Нагорнов снова поразился, как постарел его друг. А тот внезапно заговорил:
- Я ведь в штрафной роте побывал. Понял? Тогда осенью сорок второго меня призвали, помнишь? Ну вот, сразу на трёхмесячные курсы, звёздочку на погоны и на фронт. Там попал в разведку. Командира взвода разведки убило, меня временно вместо него назначили. Прихожу, взвод - всего несколько человек. Помкомвзвода пожилой, в отцы мне годится. Мне тогда только-только восемнадцать исполнилось. Присмотрелся, вижу, что-то не так. Какие-то блатные солдаты. Думаю, может так и надо. Помкомвзвода видит, что я растерялся, отзывает в сторонку: «Слушай, младший, если будем друзьями - крепко заживёшь, готовь дырки на гимнастёрке для орденов. У нас во взводе орлы, но не любят зануд. Будешь шухерить - мало выгадаешь. Я сам управлюсь, ты только начальству докладывай». Ничего не понимаю. Такой солидный человек, орденов целаяколлекция. Что я по сравнению с ним? Жаловаться? Ты знаешь, я этого не умею. Ну, думаю, поживём, увидим. Потом узнал я его историю. До войны сидел в тюрьме. Большой вор был. С первого дня войны принялся во все инстанции письма писать, мол, хочу на фронте искупить свою вину. Патриотическими чувствами загорелся. Пока суд да дело, начал изучать немецкий. Способный, должно быть, нашёл среди заключённых знающего немецкий, быстро научился говорить. И послали его под Сталинград. Там отличился, ранен был. Потом попал в разведку. Окружил себя такими же дружками. К моему прибытию взвод повыбило, коммунистов раз-два и обчёлся. Да и то все новенькие. Он на людях делал вид, что слушает меня. А взвод, вижу, разлагается. Пьют, сволочи. Но уж если приказал добыть «языка» - тут как тут будет. Попробовал прикрикнуть, помкомвзвода мой опять меня отзывает в сторонку, мол, не задевай ребят. А раз он отчудил такую штуку - взяли несколько «языков», а сдали в штаб одного. Остальных заперли в землянке. Через несколько дней понадобился ещё один - берут из землянки и в штаб. Пожалуйста! Помкомвзвода мой его проинструктировал, чтобы говорил, что только этой ночью взяли в плен. Я этого не знал, но подозревал, думал на следующий день посоветоваться в штабе, что делать. А ночью меня взяли в «смерш». Знаешь, что это такое? В общем, я оказался «врагом»... Помкомвзвода - к расстрелу, меня из партии (я был тогда кандидатом), разжаловали и в штрафную. Ну про это расскажу как-нибудь в другой раз. Весело было…
Потрясённый Нагорнов подавился картошкой.Всё это походило на небылицу. Разве может так быть? Неужели такая запутанная история произошла не с кем иным, а с его одноклассником?Огурцов, увидев смятение на лице товарища, деланно засмеялся:
- Это я басни баю. Просто в Белоруссии сильно долбануло. Госпиталь. В Чите отлежалея, потом - курсы механиков-водителей и сюда.
Долго Огурцов не хотел возвращаться к этому разговору. Но Нагорнов допекал расспросами. Ему всё хотелось узнать про штрафную роту.Однажды они были в наряде на кухне. До двух ночи чистили картошку, а потом легли спать на лавках у большой печки сплитой.
Остальные солдаты устроились в комнате, которую занимал начальник столовой. Тяжело дыша от сытного ужина («рубанули» по котелку каши), Нагорнов опять принялся за расспросы. Огурцов, настроенный в этот час особенно благодушно, сказал:
- Воевали-то мы отчаянно. Так что не жалею. Но обидно - оказался таким простачком. Провёл какой-то блатяга. Понимаешь, обидно. В общем, это чепуха. Знаешь, одно усвоил: нету у меня судьи строже, чем я сам. Вот, понимаешь, допустим, ночью один я должен погибнуть. Можно, конечно, и убежать. Никто не узнает, как я погиб, и никто не узнает, если убегу, Кто тут судья? Но ведь я не убегу! Понимаешь? Значит, главное - перед собой быть честным. А остальное ерунда.
- Ну, а что подумают люди это тоже ерунда?
Огурцов долго не отзывался. Нагорнов уже думал,что он уснул. Но тот наконец заговорил:
- И это правда. Что подумают люди. Но на людях хорошим быть проще. А вот когда один, тут другое дело. Я стал себя немного уважать. Потому что проверил себя.
В эту ночь Нагорнов долго не мог уснуть. Он завидовал другу так, как никогда никому не завидовал.
...Теперь глаза привыкли к темноте. Колонна растянулась, солдаты шли, спотыкаясь. Нагорнову хотелось спать, ломило в коленях. Занялась лёгкая поземка, зернистый снег с шуршанием змеился через дорогу.
Всегда, когда время тянется долго - в карауле ли, в походе или в наряде,-Нагорнов старался думать о приятном, чтобы часы бежали быстрее. И сейчас он старался вспомнить что-нибудь замечательное из прошлого. Он погружался в воспоминания, как в тёплое облако. Перед ним плыли заманчивые картины предвоенного лета: купался с дружками в речке, носился по этажам недостроенного дома, превращённого в крепость соседскими мальчишками, оборонявшимися «шпагами», выбранными из кучи дранки для штукатурки стен; сумрак чердака, где любил он прятаться с книгой; увлечение авиамоделизмом, потом рисование, которое захватило его навсегда.
Рота подходила к станции, огибая занесённые снегом тёмные остовы списанных танков. Тут было огромное танковое кладбище. Быстроходные танки предвоенного времени с лёгкой броней и сильным двигателем. «БТ-5» и «БТ-7», ласково называемые солдатами «бэтушками», теперь ржавели без пушек, без гусениц, без приборов. В полку, где служил Нагорнов, они ещё были на вооружении. Ходили слухи, что скоро укомплектуют новыми прославленными «тридцатьчетверочками». Есть что-то грозное в металлических остовах, в беспорядке сваленных здесь в степи. За время службы Нагорнову приходилось иметь дело с разными машинами. Знал он и старинные амфибии, которые солдаты прозвали «пресс-папье»,- они и внешне похожи на этот канцелярский предмет и на ходу переваливаются с кормы на нос, будто чернила промокают. В учебном полку немного изучали английские «Матильды», похожие на бронированные колокольни. Имел дело он и с небольшим, но славным танком «Т-26». Но «БТ», на котором учился с первого дня, казался самым красивым. Недаром их до войны рисовали на плакатах, показывали в кино. Было в «бэтушке» что-то от лихой тачанки времён гражданской войны. Нагорнов злился, когда экипажи «тридцатьчетверок» насмешливо-пренебрежительно отзывались о них.
Как-то, возвращаясь с учений, он высунулся из башни в ребристом шлеме, светясь восторгом. Танки шли по улице военного городка. Что бы он ни отдал за то, чтобы его в этот момент увидела девушка, похожая на ту, что снится иногда!
Здесь с танками обращаться легче - они стоят в капонирах, в тепле, заправленные. Садись и поезжай. А вот вучебном полку приходилось пролить немало поту. Летишь сперва в маслогрейку за горячим маслом, потом в зарядную за аккумулятором. А в нём добрых пять пудов. Тонкая проволочная ручка врезается в ладонь так, что весь день чувствуешь.
А стрельбы! Сколько пережил из-за них Нагорнов! Он был близорук, а стрелять хуже других не хотелось. В танкисты он попал по счастливой случайности, миновав в медицинской комиссии окулиста. Набиравший людей в запасном полку офицер-танкист просматривал анкеты. Увидев в анкете Нагорнова в графе «откуда прибыл» - «Из художественного училища», он сразу же отложил анкету в сторону, подозвал его к себе:
- Художники нам нужны. Рисовать умеешь?
- Умею.
Пока они беседовали, окулист машинально передал бумаги дальше. А в остальном здоровье Нагорнова оказалось нормальным.
Он проучился в художественном училище всего полгода, поступив сразу на 2-й курс. Конечно, рисовальщик из него был неважный, но разуверять танкиста не стал. Впрочем, в качестве художника его редко тревожили. Командиры подразделений не очень отпускали курсантов на побочные работы, чтобы те не отставали от учебной программы. Эти участники самодеятельности да художники только успеваемость тянут назад. Тем более, Нагорнову по душе были танки, его волновал запах горючего, разогретого масла.
Тут Нагорнов встретил одного парня по фамилии Таскин, знакомого по художественному училищу. Тот был теперь художником дивизионного клуба. Таскин обрадовался встрече, предложил:
- Хочешь, договорюсь, перейдёшь в наш клуб. Чем по морозу шататься, лучше уж плакаты малевать.
На белёных стенах саманных казарм клеевыми красками были нарисованы огромные плакаты и карикатуры. И хотя он смог бы так рисовать, Нагорнов отказался. Идёт война, может, пошлют на фронт. А художника наверняка оставят здесь.
На станции блекло светилось несколько фонарей, тут ночь казалась темней. Сонно сипел паровоз, возле него ходили двое с факелами. Дощатый вокзальчик, рядом сторожка-вагон без колёс. На путях составы. От заиндевелого металла тянуло стужей. Из сторожки вынесли груду лопат. Нагорнову досталась лёгкая совковая. Правда, черенок, отшлифованный многими ладонями, оказался коротковатым. На запасном пути их ожидал состав с углём. На вагон пришлось по двое. Сержант Снетков распределил всех, а сам, постояв немного, ушёл в сторожку. Нагорнов к великой досаде оказался в паре со Смирницким. Видно, сержант тоже считает их друзьями. Клонило в сон. Шевелиться не хотелось. Смирницкий, обнажив в улыбке верхнюю десну (это почему-то особенно раздражало Нагорнова), приветливо сказал:
- Хорошо, что вместе попали. Хоть наговоримся вдоволь.
«Попали-попали,- передразнил про себя На горнов. - Это я попал с тобой». И ещё подумал, что в армии это слово произносится особенно часто: попал в полк, не попал в госпиталь, попал к такому-то командиру, попал на «губу». Не выбрал, не добился, не провинился. Словно рок какой-то: попал, не попал...
- Уголь бросать на два метра от рельс,- прокричал Жилмурзаев, пробегая мимо. - Все равно пути чистить заставят. Лучше сразу дальше кидайте.
Смирницкий всегда выглядел нелепым - шинель топорщилась, шапка с обвисшим ухом, лицо помятое, в рыжей щетине.
- Прочитал «Взятие Великошумска»? - продолжал Смирницкий. - Заметь, Леонов не изменил своей манере, а эффект новый...
- Помоги открыть дверь,- громче, чем нужно, перебил его Нагорнов.
С трудом откатили дверь, нижние ролики взвизгнули, как недорезанный поросенок. Уголь высыпался под ноги.
- Видишь, и выгружать не надо! - жизнерадостно воскликнул Смирницкий. – Толькознай сгребай оттуда!
У ног образовалась куча мелкого угля. Стали отбрасывать уголь подальше от дороги. Быстро вспотели, отгребать уголь надоело. Нагорнов со злостью подумал, что им никогда не опорожнить вагон. И он раздражённо крикнул на растерянного Смирницкого:
- Чего стал, как баба?! Залазь в тот угол. Да нeпыли! Задохнёшься. Шинель бы снял.
Смирницкий надулся, но шинель не снял. Так они работали некоторое время. Смирницкий едва шевелился в своей длинной шинели, то и дело останавливаясь передохнуть. Всё более распаляясь, Нагорнов изо всех сил сдерживался, чтобы не обругать его. Сперва он почувствовал даже удовольствие от ощущениясобственной силы, молодечески бросал лопату за лопатой, приговаривая:
- Раз, раз, раз...
Вскоре на ладонях вздулись водяные .пузыри, потом они лопнули, и режущая боль обожгла ладони. В это время Смирницкий вылез из вагона якобы до ветру. Он явно волынил.
Нагорнов, который и прежде недолюбливал сегодняшнего напарника, думал о нём со злобой,. Почему-то в голову лезло, как, получив гимнастерки довоенного образцас отложным воротничком, все стали переделывать их на новый лад - было приказано зашить нагрудные карманы и переделать воротнички. Один Смирницкий что-то выгадывал. Сержант всё же заставил его зашить карманы. Но он, не обрезав клапанов, заделал их, что называется, на живую нитку, чтобы потом легко было распороть и снова щеголять с карманами. Тогда сержант сам обрезал клапаны.
Эта мелочь вызвала у Нагорнова прилив презрения к Смирницкому. «Кавалер нашёлся,- распалял он себя. - Выделиться хочет». А сам всё яростней бросал уголь, чувствуя, что не выдержит до конца взятого темпа.
- Там костёр такой разожгли! - радостно сообщил Смирницкий, возвращаясь в вагон.
- У тебя что, понос? - язвительно спросил Нагорнов:
Тот тоже вспыхнул:
- А чего ты надрываешься? Всё равно одних нас тут не оставят. Закончат все, а потом за минутку и наш вагон опорожнят. Всей ротой тут раз плюнуть. Делов-то... - примирительно закончил он.
- На чужом горбу в рай?! Эх ты!
- Каждому своё. Есть люди, которым всё равно - уголь бросать или дрова рубить. Я могу больше пользы принести на своём месте. Для этого я три года в институте корпел над книгами? Да и ты, наверно, после войны будешь доучиваться. А уголь швырять всегда найдутся люди. Им даже удовольствие доставляет физический труд.
- Вылазь отсюда! - свистящим шёпотом проговорил Нагорнов. - Шкура!
- Э-э, брось. - Смирницкий с прежней размеренностью стал кидать уголь.
Нагорнов ещё постоял некоторое время, чуть ссутулившись и упираясь головой в крышу вагона, потом опять яростно взялся за лопату.
Внизу уголь смёрзся в твёрдый пласт, пришлось долбить его ломом.Сейчас он не замечал ни мозолей, ни усталости. Презренье к напарнику смешивалось с жалостью и стыдом за него. Он вспомнил манеру Смирницкого съедать свой обед: сперва проглатывает суп без хлеба, потом медленно, смакуя, съедает кашу. Тоже без хлеба. И уже когда рота выходит строиться, принимается за хлеб. И в строю он жуёт всухомятку свою пайку. Всё выгоду ищет, думает, так сытнее...
Почему-то стали вспоминаться все обиды. Недавно в день Советской Армии отличникам присвоили звания, многие получили благодарности. Смирницкий тоже получил благодарность. А вот Нагорнов, у которого показатели по боевой и политической, пожалуй, лучшие в роте, даже благодарности не удостоился. Да тот же Огурцов,уж нисколько не хуже Смирницкого служит. А ему тоже шиш с маслом. Теперь Нагорнову стало казаться, что и вообще его обходили всю жизнь, что ему вечноне везло. В художественном училище тоже был случай - отобрали его композицию для областной выставки, а когда пришёл на вернисаж в музей, то его работы не оказалось в экспозиции, сказали, что места не хватило.
Так всегда. И в школе учился не хуже других, но классная руководительница вечно жаловалась матери, что он учится не в полную силу. И мать плакала, а у него разрывалось сердце от жалости к ней...
А разве хуже других Огурцов? С ним всегда что-нибудь необыкновенное случается. На учениях прошлой осенью бывший командир взвода, иронично-изящный младший лейтенант, лихо показывая, как надо бросать боевую гранату «Ф-1» из башни, выпустил чеку раньше, чем сам вылез, и, чтобы не подорваться, выбросил гранату на корму танка. В испуге захлопнул крышку люка, не убрав левую руку с края - отрубил два пальца. Граната взорвалась на жалюзи мотора, мотор вспыхнул. И если бы не Огурцов, который рванул танк с места, сбил пламя, выскочил из машины, забросал песком очаг пожара, быть бы большой беде. Командир батальона обнял его тогда, пожал руку. И всё. Чтобы не позориться перед командованием, дело замяли, командир взвода лёг в госпиталь и больше в полк не вернулся.
Передохнули, не выходя из вагона. Нагорнов отплёвывался. А Смирницкий, ища примирения, заискивающе рассказывал историю, которая якобы произошла в их дивизии: старослужащие танкисты, отчаявшись добиться отправки на фронт, написав десятки рапортов по инстанции, обратились прямо к Сталину с письмом: мол, вы о нас, наверное, забыли, а мы служим давно и могли бы пригодиться на фронте.
- И знаешь,- продолжал Смирницкий,- что ответил товарищ Сталин? Гениально! «Я о вас не забыл» - такая телеграмма, говорят, пришла. Значит, помнит, понимаешь, значит, мы тут нужны!
- Сказки, - устало отозвался Нагорнов. - Кто осмелится ему писать?
А сам подумал, что тут служить, конечно, тяжелее, чем воевать. Вот повезло бы - попасть туда, на фронт.
Холодно, не поднять рук, ноют ноги, а конца делуне видно. Был бы тут Огурцов, всё по-другому пошло бы. Уже наверняка кончали бы. А этот только мешает. Теперь неминуемо придётся заканчивать самыми последними. И это унижение - придут помогать ребята, сделавшие свою норму раньше. Пусть даже и ворчать не будут, всё равно стыдно.
Он опять принялся яростно загребать лопатой, стараясь бросать как можно дальше. С каждым броском лопата становилась всё тяжелее, словно на неё налипла глина. Время шло под однообразные движения - воткнул совок лопаты, размахнулся, бросил, воткнул, размахнулся, бросил. После острого приступа голода, когда даже закружилась голова, наступило полное равнодушие к еде. Руки горят, плечи ломит, ноет спина, словно по ней били палками, а угля в вагоне не убавляется.
Смирницкий уже раз пять выбегал «до ветру», Нагорнов сдерживался, подавлял желание бросить всё к чёрту и выскочить на воздух. У костра на улице слышался громкий говор, хохот. Но он знал по опыту, как трудно, начинать работу после отдыха. Совсем раскиснешь. Наконец, уже обессилев, вышел следом за неторопливым Смирницким. Рассвело. Возле костра, в котором, зловеще потрескивая и густо дымя, горела автомобильная шина, толпилось несколько солдат. Двое стрелков-радистов, бывшах баргузинских рыбаков, уже закончили свой вагон. Были они почти близнецы - коренастые, молчаливые. Сейчас он и посматривали хмуро-подозрительно: боялись, что заставят помогать отстающим. Подошёл ефрейтор Жилмурзаев, вытирая чёрное широкое лицо. На лице светились желтоватые белки узких глаз. От него поднимался пар. Жилмурзаев тоже закончил дело, хотя напарником у него был Мишка Тульских почти подросток на вид и прозванный за это Пацаном. Чтобы не простудиться, Нагорнов набросил на потные плечи настывшую шинель. Телогрейка была влажная от пота и дымилась на морозе. Он. нащупал в кармане шинели что-то твёрдое. Это был пряник. Вчера после занятий его позвал командир взвода лейтенант Новосёлов помочь распилить, дрова. Взяли у старшины пилу, пошли через весь городок к домам начсостава, там Новосёлов вынес из кладовки два припорошенных угольной пылью березовых сучковатых обрубка и небольшое сосновое брёвнышко. Распилили быстро. Колол сам Новоселов - ему это доставляло удовольствие. Потом собрали всё до щепочки и перенесли в его комнату.
В ней было пусто и холодно. Кровать, застланная солдатским одеялом, тумбочка с зеркалом, в края которого воткнута женская фотография, дощатый стол с ножками, сбитыми в виде буквы «х». Ногорнов помог растопить, вскоре закипел чайник, и Новоселов - непривычно домашний без ремня и с засученными рукавами - пригласил к столу, разложив свой офицерский доппаёк. Но Нагорнов так испуганно отказался, словно ему предлагали сделать что-нибудь неприличное. Он был щепетилен и боялся, как бы командир, к которому он чувствовал привязанность как к старшему брату, не подумал, что он пришёл помочь ему из-за угощения. Быстро оделся и пошёл в казарму. По дороге нашупал какой- то свёрток в кармане шинели. В кулёчке из газеты лежало четыре глазированных пряника. Три он съел по дороге, последний оставил Огурцову. Но в казарме уже готовились к отбою, Огурцов, который заступал с двенадцати дневалить, спал. Теперь Нагорнов испытывал искушение немедленно съесть пряник. Только есть на людях, не поделившись с ними, он не мог. А делить нечего. Он проглотил слюну, решив быть твёрдым до конца. Раз пряник предназначен Огурцову, значит надо терпеть.
Мишка Пацан, мигая белыми ресницами, особенно отчётливо выделяющимися на угольном лице, протянул клочок газетки Нагорнову:
- Сыпани-ка самосаду. Заверну маленькое брёвнышко.
Он и в самом деле скрутил цигарку в палец толщиной.
- Мастер на чужбинку - целое бревно получилось! - подшутил один из баргузинских.Были они прижимистые, даже чужой табак жалели.
- Давай, давай, Пацан,- великодушно подбодрил Нагорнов, жмурясь и от удовольствия и от дыма самокрутки, зажатой в губах.
От крепкой затяжки, пробравшей до самых пяток, на глазах выступили слёзы. Голова сладко закружилась. Он наслаждался покоем, сложив кисти рук лодочкой ниже живота.
Пацан, увидев припухлость на глазу у молчавшего Смирницкого, почему-то восторженно воскликнул:
- Ячмень начинается у тебя! Давай вылечу! Хочешь? Знаю такой заговор, ещё от матери, как рукой снимет.
После окончания работы он был весел и возбуждён. Впрочем, и все, кто отработался, как-то ожили, повеселели. Мишка заговорил, зачастил нараспев:
- Ячмень, ячмень, на тебе кукиш, что хочешь купишь. Купи себе топорок, секи себя поперёк, купи себе шильце, коли себе рыльце...
- Хорошая рифма,- лениво отозвался Смирницкий. - Кукиш-купишь. А в заговоры я не верю.
Уже и другие, закончив, подходили к огню. Черноволосый, похожий на негра, Миневич подошёл со своими неизменными прибаутками, с ним в паре был бледнолицый паренёк, тихий, безотказный, покорный. Этот с первого взгляда поражал необычайной иконописной красотой. Но стоило пошевелиться хоть малейшей чёрточке в этом лице, как очарование пропадало. А он, как назло, безобразно шмыгал носом, перекашивая лицо. И это вызывало досаду у Нагорнова.
У костра становилось теснее. Подошёл сержант, увидел Нагорнова, насупился; изъеденные оспой щёки глубоко провалились, а на скулах задвигались желваки.
- Почему не в вагоне? Уже устал? Все заканчивают, а вы в хвосте будете тянуться. А ну, на место!
Понимая правоту сержанта, Нагорнов всё же чуть не заплакал от досады:
- Да я только подошёл.
- А почему же только полвагона разгрузили? А? Бери лопату. - И вслед добавил язвительно:
- Воин.
Жилмурзаев неожиданно вступился:
- Он действительно только подошёл. Ни разу ещё не грелся. Зря вы его, товарищ сержант.
Смирницкий незаметно, чтобы не засёк сержант, пробежал в вагон.Нагорнов снова нырнул в холод.Время тянулось, как монгольская степь в дальнем пешем походе, которые устраивали время от времени для закалки. Угольная пресная пыль набилась в рот, в нос, в уши, за воротник. Мокрая нательная рубашка холодила спину. Временами он замечал, что Смирницкийшевелится едва-едва. И Нагорнов сдерживался, чтобы не ударить его.
К концу стало ещё труднее - надо было бросать уголь из углов к двери, а потом ещё и за дверь. Смирницкий совсем раскис, только загромождал пространство. Потом он и вообще вышел, покачиваясь, как показалось Нагорнову, преувеличенно. «Распустил себя,- мелькнуло в голове. - Если бы я не злился, так ещё не так бы раскис. Нельзя жалеть себя».
И всё же судорожное отчаяние охватывало его. Казалось, вагон не пустел, а наоборот, наполнялся.В вагон заглянул Жилмурзаев, поднялся на руках и, забросив ногу на порог, легко вскочил внутрь. Взялся за оставленную Смирницким лопату.
- Не мешайте,- разгоряченно сказал Нагорнов.
- Молчи. Тут самый огромный вагон. Это несправедливо,- и сверкнул улыбкой. - Не будь, как унтер Пиришибиев.
Не улыбнуться в ответ было нельзя. Вообще-то в самом деле этот вагон самый большой в составе. Правда, были и не меньше этого, но они имели с обеих сторон внизу специальные люки, разгружать те легче. А этот совсем неприспособлен для перевозки угля.
У дверей снаружи действовало много ребят, доносились голоса Пацана, Миневича...
Прошёл лёгкий сухой снежок, степь под солнцем походила на чистую свежую бумагу. У потухающего костра стояла монгольская полуторка, к ней был привязан верблюд, который доставал сено из кузова. Чернолицые, как негры, солдаты затеяли возню, мелькали снежки. Нагорнов зажмурился от бритвенно-острого света, слезы промыли борозды на чёрных щеках.
Куча шлака на путях струила жёлтый ядовитый дым. Солнце уже пригревало, и там, где лежал уголь, снег подтаивал, чёрная земля дымилась.
Нагорнов по примеру других умылся снегом.Будто и не было бессонной ночи - по телу разлилась лёгкость, чувствуешь каждую жилочку, горячая кровь гуляет по телу. Даже не верится, что какой- нибудь час тому назад отчаяние наваливалось тёмной тучей и будущее казалось беспросветным. Все по-детски веселились, и предстоящий день, густо набитый множеством всяких дел, как обойма патронами, казался лёгким, а дела пустяковыми. Один Смирницкий сидел на чёрном камне у кучи угля - неумытый, вялый, несчастный. Нагорнову стало жаль его. Всё-таки, наверное, здоровьем слабоват. И вообще, сидит одинокий, разбитый человек, ковыряя землю прутиком - как не посочувствовать? Нагорнов подошёл к нему, спросил, не заболел ли он. Тот отрицательно качнул головой. Не такой уж он зануда. Если хорошенько присмотреться, можно найти даже что-то привлекательное в этом рыхловатом лице с щетинистым раздвоенным подбородком. Нагорнов, у которого всё горело внутри от желания немедленно сделать что-нибудь хорошее, чуть не подпрыгнул, когда вдруг нашёл в кармане пряник.
- Слушай, на. Совсем забыл о нём. Ешь.
Смирницкий равнодушно взял пряник и машинально сжевал.
Построились, ходко двинулись в обратный путь, уверенные, что завтрак выдадут на славу. Вообще, последним остаётся всегда больше, а тут люди были на такой работе - повара учтут...
Из вокзальчика вышла женщина в вишнёвом пальто. На ослепительном снегу это пятно выделялось ярко и не могло не привлечь внимания. Она шла впереди — тоненькая, лёгкая, стройная, несмотря на то, что обута была в непомерно большие валенки.
Пропыленный углем, натрудившийся, Нагориов шагал с небрежным достоинством бывалого- человека. Сегодняшняя тревога может быть в большей степени, чем все предыдущие, открыла ему тайный смысл мужества.
Когда поравнялись с женщиной, он оглянулся на неё, надеясь увидеть знакомый по сегодняшнему сну облик. И вдруг запнулся, Женщина была пожилая, угрюмо-суровая, лицо широкое, смуглое, как у большинства русских забайкалок. На него прямо взглянули чёрные глаза из-за решётки морщин.
Когда впереди из-за холма показалась труба гарнизонной бани, сержант приказал.:
- Запевай!
Запевалы засовещались. Было несколько излюбленных песен: «Три танкиста», «Артиллеристы, точней прицел», «Пролетают кони шляхом каменистым», «Белоруссия родная, Украина золотая», «Эй, герой, на разведку боевой. Особенно хорошо получалась песня местного сочинения о службе в Забайкалье, с особым воодушевлением рота выводила:
Тот, кто с нами хоть полгода проживёт,
будь уверен, на войне не подведёт!
Уточкин сбил шапку на лысый затылок, не спеша начал, подхватил Миневич, а потом рота гаркнула припев с такой силой, что с далёкого кургана нехотя взлетел коршун. Слова припева казались Нагорнову беспомощными, но всё неприхотливое в поэзии запоминается лучше. Он вместе с остальными выводил:
Забайкалье, За-абайкалье,
Породнились мы с тобой,
Породнились с Забайкальем
Командир и рядовои!..
Песня родилась, видимо, в начале войны, когда ещё не носили погон, и теперь ва строевых смотрах роте делали замечание: петь надо не «командир», а «офицер». Но переучить старослужащих было немыслимо - так въелось это слово.
Шаг стал твёрже, плечи расправились. На лицах солдат, под глазами и в уголках рта, темнела угольная пыль, как у актёров после спектакля, когда плохо смыт грим. Приободрился даже Смирницкий, подпевал, не напрягая голос, хотя для виду рот разевал широко.
День не обещал никаких исключительных случаев. Всё будет, как обычно. Снова занятия на ключе в классе (бесконечные пискливые ти-ти-та, «дай закурить», «идут танкисты»). Кто-нибудь в классе уснёт, сержант внезапно крикнет страшным голосом «Встать!» Обалдевший засоня будет хлопать глазами, а сержант язвительно будет спрашивать: «О чём я только что говорил?» Потом занятия в поле «пеший по-танковому» - набегаются до упаду. Не дай бог ещё в противогазах. Потом обед. Потом обслуживание машин. Потом тренировки. Под вечер можно будет вырваться в библиотеку, надо сдать «Радугу», а взамен библиотекарь обещал дать свежий журнал...
И хотя день не предвещал ничего необыкновенного, страшно мало нового, а лишь повторение известного до автоматизма,- Нагорнов шёл навстречу ему с любопытством, с нетерпением, с лёгким сердцем.
Февраль — март 1964 г.
***
Из лужи никогда не пей.
Но жажда – смерти хуже.
И в тяжкий зной среди степей
Я приложился к луже.
С плеча винтовку сняв едва,
Нагнулся над болотцем,
Где так железиста трава,
Что можно уколоться.
Водица теплая мутна.
Козявок шустрых стая
Испуганно взвилась со дна,
Зигзагами виляя.
Я сделал все-таки глоток
Воды, густой от ила.
Но больше никогда не мог –
На всю мне жизнь хватило.
С привала трогается часть,
И я, чернее черта,
Поднялся, словно причастясь,
Водой живой и мёртвой.
И дальше, дальше повела
Меня моя колонна,
Вздымая пыли купола
Дорогой неуклонной.
 |
ЗАМЕТКИ О СОЛДАТСКОЙ СЛУЖБЕ
Вслед за постижением слова «Родина» в просыпающемся сознании нарождающегося человека непременно возникают или должны возникнуть два других — «долг» и «служба». Нет выше понятия, чем долг. Умирающий связист не в силах связать оборванный осколком провод, соединяет его зубами, и по нему, мёртвому, проходят слова приказов и донесений. Сколько таких случаев встречалось на войне. Матрос, которому необходимо устранить неисправность, чтобы подводная лодка немедленно могла погрузиться, спасаясь от вражеского огня, идёт на верную смерть, вернуться в лодку он уже не сможет. Идёт... Надо. Должен, долг. Присяга. Конечно, человек в это мгновение не думает, я в этом уверен, об этих понятиях, у него иная забота - как бы получше выполнить своё дело. Но движет им именно это чувство, которое обозначено коротким словом «долг» или несколько старомодно пышным - «присяга». И если даже никто не узнает о том, как ты поступил, была ли у тебя возможность до конца быть верным своему долгу, ты поступаешь как надо. Если долг в твоей крови...
Мы, довоенные мальчики, мечтали о службе в армии, о том времени, когда наденем военную форму, получим оружие. С какой гордостью носил иной из моих сверстников армейский ремень старшего брата, вернувшегося со службы, матросскую тельняшку или бескозырку. О доблести, о подвигах, о славе были и такие мечты. Но была ещё магическая власть тех вещей, что связаны с армией или флотом, манила сама служба, извечное мужское дело, строгое, нелёгкое, опасное. Иногда взрослые, те, кто отслужил, говорили о каком-нибудь сорванце: «Ничего, пойдёт в армию, там его живо научат порядку, человека сделают».
Трудно сказать, с каких пор в нашу жизнь вошло это слово - служба. Может быть, с прочитанного взрослыми тебе, еще не умеющему складывать буквы, рассказа Льва Толстого «Кавказский пленник», о том, как служили на Кавказе два друга — Жилин и Костылин… Может быть, с тех пор слово «служба» для меня никогда не ассоциировалось с обыкновенной работой, с делом «служащего». Это слово из разряда высоких понятий, даже несколько таинственных. Может быть, об армейской повинности услышал из случайно брошенной кем-то из старших фразы: «А вот когда я служил, так делали марши в шестьдесят вёрст, да с полной выкладкой, а это ранец, винтовка, скатка, фляга,запас патронов...»
В жизни каждого мужчины солдатская служба занимает важную часть.
Мой отец, человек хмурый, суровый, богатырского сложения, никогда не курил и панически боялся папиросного дыма. Бесцеремонный курящий мог его, обычно невозмутимого, вывести из себя. Как-то он сказал мимоходом, что попал под газовую атаку немцев во время империалистической войны, с тех пор не переносит дыма. Многие его сослуживцы погибли тогда, а он каким-то чудом выкарабкался, отдышался. Очень уж здоров был. Когда мы ходили с ним в баню и я тёр ему спину, всякий раз удивлялся и ужасался тому, как она была изрешечена шрапнелью. Многие шрапнелины так и остались под кожей, и натирая ему спину, я чувствовал их под пальцами, они перекатывались там, за многие годы сделавшиеся привычными ему.
Когда собирались мужики его возраста, нередко начинали вспоминать про сражения где-то в Австрии, про бои гражданской войны. Тут непременно находился какой-нибудь старик, который со вздохом прерывал их: «А вот на японской войне в пятом году, так у нас и не такое бывало!..» Помню я ещё и таких стариков, которые участвовали в Крымской кампании. И в разговорах о минувшихвойнах какими-то неведомыми тропками уходили в седую даль, туда, где громыхали пушки Полтавы, где метельной зимой бежала из России бывшая гордая армия Наполеона, превратившаяся в жалкий сброд. В народной памяти каким-то образом оставались времена нашествия Батыя, и малограмотные крестьяне разговаривали о тех временах так, будто это было совсем недавно. Когда я был маленький и мы жили под Белгородом, часто мать в разговоре касалась минувшего: «Вот тут, напротив нашего дома стоял немецкий бронепоезд, как жахнет из двенадцатидюймовой...» Она и не представляла, что такое дюйм, но отчётливо знала в натуре огонь двенадцатидюймового орудия. А то вспомнит неведомого мне моего дядю Масея, который, вернувшись после победы над белыми из отряда красных партизан, зашёл в наш дом, лёг и умер от истощения: «Уж я его хотела накормить, а он уже не в силах проглотить. Позвала фельдшера, тот ему дал какого-то лекарства столовую ложку. Масей зевнул и скончался…»
Да, не было дня из моего детства, чтобы каким-нибудь образом не заходила речь о войне. В нашем селе тогда была церковь, и при пожаре или в сильную метель поднимался колокольный звон. При звуках набата мать крестилась, приговаривая: «Никак опять война…» В свои ранние годы, ещё дошкольником, - это конец 20-х, первые годы 30-х годов, - приходилось слышать толкование каких-нибудь явлений природы, будь то небывалый град, затмение солнца, засуха, или, наоборот, отменные хлеба, хорошие травостои, алые зори, - всё это крестьяне объясняли, как правило, одним словом: «К войне...» Так истерзана была страна в прошлом, что любая примета толковалась к горю, к бедствию. Уж очень много было завоевателей, желавших драть с нас «ясак», получить на нашей земле «жизненное пространство», навести у нас «новый порядок».
Мальчишки довоенных лет, как мы жалели, что не родились, чтобы годиться бойцами к Чапаеву, что oпоздали к тачанкам, клинкам и трубам Первой КоннойБудённого, что не довелось нам пройти путями Перекопа или «Волочаевских дней»... Между прочим, я впервые попробовал апельсины в нашем далёком-далёком промороженном посёлке Оловянная у самого слияния Китайской и Монгольской границ, где, как известно, цитрусы не растут. Ими были завалены продуктовые магазины и киоски. Каждый апельсин и лимон был аккуратно завёрнут в узорную папиросную бумагу. Их посылала республиканская Испания в ответ на беспрецедентную помощь Советского Союза. Тогда у нас ходили слухи, что и наши оловянинские ребята добровольцами сражаются там...
Отлично помню то время, когда все наши лучшие помыслы были связаны с Испанией, где впервые в открытую столкнулись наши с фашистами, когда почти в каждом доме на стене висела карта Испании с воткнутыми в неё красными флажками вдоль линии фронта. Мы с друзьями, тогда десяти-двенадцатилетние мальчишки приветствовали друг друга лозунгом республиканцев - «Nopasaran!», подняв над правым плечом зажатый кулак. Помню, к примеру такую картину: многолюдный стадион нашего забайкальского посёлка – предстоял футбольный матч между бойцами 3-го железнодорожного полка, расположенного на нашей станции, и лётчиками недалёкого от нас посёлка военных авиаторов. В нарядной толпе замелькал пожилой озабоченный мужичок в чёрной железнодорожной фуражке и замасленной робе – только с работы. Каждому встречному он обращал вопрос: «Не знаете, где принимают деньги в помощь испанским детям? Вот получил зарплату, хочу сделать взнос. А то придёшь домой, и не увидишь денег… Вроде где-то около стадиона этот пункт…» Одна сознательная женщина повела его туда, где, говорят, всегда стояла немалая очередь желающих помочь далёким испанцам.С тех пор, когда чую запах лимона или апельсина, в памяти невольно всплывает слово Испания. Она остаётся в сердце самой трогательной и светлой землёй. Но это так к слову…
Но и на нашу долю хватило войны. С лихвой.
Как жаль, что я не вёл дневников, не записывал рассказы старших товарищей. Когда наши войска форсировали Днепр, я ещё учился в художественном училище, с нетерпением ожидая повестку из военкомата. Ходили мы в военкомат, просились добровольцами. Но что-то не помню никого из своих сверстников, кого бы взяли добровольцем. Может быть, исключительно здоровых парней, или ребят, обладавших какими-нибудь знаниями, необходимыми на войне, скажем, знанием языков,- их зачисляли в армию по собственному желанию. А так - не помню. Мы все же были довольно-таки истощёнными за годы военного лихолетья, встретившие войну в сущности детьми. Так что проку от нас не было. Так вот, помню, накануне Октябрьской годовщины на вечере у нас пронеслась радостная весть: взят Киев! Спустя многие годы мне довелось работать на киностудии «Молдова-филм» вместе с Василием Андреевичем Толоченко, который был старше меня всего на несколько лет. Каково же было моё изумление, когда мне однажды рассказали, что Василий Андреевич, будучи бойцом армейской разведки, с группой солдат пробился к зданию ЦК Компартии Украины и водрузил знамя победы над городом, который ещё не был окончательно очищен от врага... Вот так, совсем впритирку с нами прошло поколение друзей на два-три года старше. Ведь и Зоя Космодемьянская, о которой мы услышали в начале сорок второго, была всего на два-три года старше нас.
И в первый год службы, в начале сорок четвертого, судьба сводила с людьми необыкновенными, но тогда, на фоне исторических событий и всенародного массового героизма, привычными людьми. В частности, в учебном танковом полку под Читой, где довелось служить, рядом с моей постелью стояла койка старшины Казаева, удостоенного звания Героя Советского Союза за подвиг при участии в форсировании Днепра. ( http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9971 ) Одно дело прочитать о войне в газете или книге, другое - услышать в непринужденной беседе от участника события. И я невольно сопоставлял себя, свою судьбу с судьбами старших друзей-товарищей, в частности, вспоминал то торжество в нашем художественном училище по случаю Октябрьской годовщины, к которой был взят Киев. Вэто время старшина Казаев находился в руках хирургов, латавших eгoизраненное тело... И это общение, это веяние героики от идущих впереди поколений не могло не сказаться на характерах моих сверстников, не могло не определить и наши судьбы.
Но даже если бы отпала необходимость содержать армии; если бы рассеялись в мире тучи, если бы имелась совершенно бесспорная гарантия вечного мира, я всё равно стоял бы за то, чтобы новые юноши проходили бы университет солдатской службы. Это незаменимая школа, ни с чем не сравнимая закалка, уроки дружбы, интернационализма, мужества и смекалки, словом - служба. Недаром про солдата, про его находчивость, терпение, смелость, доброту, отзывчивость к чужой беде сложено столько сказок, песен, прибауток. Ещё в старые времена русский солдат делил последний сухарь с детьми, обездоленными войной, ладил мосты, строил избы погорельцам. Да, была и бессмысленная муштра, и армейская косность, но вместе с армией была и культура. Вправе ли мы забыть, что в дивизии, штаб которой находился в Кишиневе, её командир М.Ф.Орлов, его офицеры, в частности, «первый декабрист» Владимир Раевский в 20-е годы XIX-го столетия создали так называемые «ланкастерские школы», где обучались солдаты и местные жители. Многие города, где стояли гарнизоны, такие, как Кишинёв, были спланированы военными инженерами и застраивались сапёрами.
Ну а уж наша Советская Армия, наш советский солдат - наследник всех лучших качеств своих предков - воинов, в этом смысле человек образцовый. Кто не помнит кадры кинохроники, где сняты наши повара, раздающие кашу несчастной детворе поверженного Берлина?! Мне приходилось много раз видеть, как наши солдаты и офицеры, встретившись с неслыханной нищетой в селениях за Хинганом, когда мы шли освободительным походом, громя отборные самурайские части японского империализма, отдавали запасную гимнастёрку, бельё, сухари, сахар людям, доведённым до крайней степени бедности. Случись какое несчастье с гражданским населением,- солдаты ближайшего подразделения немедленно приходят на выручку.
Я помню, как незадолго до отправки на фронт нас, курсантов учебного танкового полка, осенью сорок четвертого отправили в колхозы Забайкалья на уборку урожая, как мы с рассвета допоздна грузили, перевозили, очищали зерно, копали картофель, убирали свеклу, капусту, рыли хранилища для овощей, строили зерносклады. А между тем программу боевой подготовки нам не сокращали, и в заданный срок мы должны были выйти классными специалистами... Помню то тепло, ту любовь, которыми были мы, солдаты, окружены в селах. Ведь каждый колхозник видел в каждом из нас сына или брата.
Служба научила переносить всё то, что мы называем «трудностями». Это одно. А сколько жизненно необходимого дала солдатчина. Солдат шилом бреется... Да, подчас приходится изворачиваться, браться за незнакомое дело, глядишь, освоил. Как-то,когда армия, в которой я проходил службу, была расформирована, меня направили в один степной городок. Песок, ветры, морозы, полупустыня. Мой командир капитан Ладонько получил для своей многодетной семьи квартиру в запущенном доме. Дело было к зиме. Попробовали затопить - совершенно нет тяги, весь дым валит в комнату. Посидели мы с ним на крылечке, раздумывая, как быть. Через несколько дней нагрянет вся его семья. Решили: сами сложим печь. Нашли брошюрку о строительстве печей, поспрашивали бывалых людей и взялись за дело. Прежде мне не приходилось даже раствор делать. На практике осваивая «теорию», почёрпнутую из бедной брошюрки, мы всё-таки сложили печь. До сих пор удивляюсь, как удачно получилось у нас. Как приятно было зимой прийти к своему другу капитану Ладонько, в доме которого дышала жаром печка, сложенная моими собственными руками. Спустя несколько лет, уже вооружённый опытом, я сложил печь в доме родителей другого моего друга - детского писателя Георгия Граубина. Это было уже гораздо проще. И эта долго радовала старую женщину, забайкальскую эстонку, мать Гоши. Приеду, бывало, к ней, первым делом - к печке. Действует!.. Ведь как пригодилось полученное по нужде то, хоть маленькое, умение...
С другой стороны, трудно найти более надёжного товарища, чем тот, с кем тянул солдатскую лямку, с кем, как говорится, шилом киселя хлебал. И вообще, человек, повидавший войну, износивший на службе не одни сапоги, мне кажется, много понятливей, отзывчивей, надёжней в дружбе. Во всяком случае, для меня старшие товарищи-фронтовики всегда были и надежной опорой, и примером, и ободрением... Могу ли я забытьмайора Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского, с которым прослужил несколько лет в Монголии? Это был хороший поэт, собиратель литературных сил Сибири. Или Михаила Кузьмича Луконина, прошедшего две войны, я занимался у него в поэтическом семинаре? Мог ли я усомниться в истинности хоть одного слова Сергея Наровчатова, с которым общался, учась у него на Высших литературных курсах! Ведь и он в известном смысле в общем-то сослуживец, фронтовик...
Так что в разговоре о сугубо «гражданском» своём деле - литературе, я нахожу истоки в солдатской службе. Да и печататься-то я стал, служа в армии, в армейской, а затем окружной газете. Первый свой рассказ принёс редактору газеты «Защитник Родины» тогда подполковнику Ивану Тимофеевичу Козлову; впоследствии он стал известным критиком. Козлов, прошедший всю войну сперва в народном ополчении под Москвой, а затем после тяжёлого ранения - в должности редактора газеты 6-й Гвардейской Танковой Армии,- человек прямой и строгий, и разговор, помнится, о моём первом рассказе проходил без как бы обязательных улыбочек, без часто встречающейся у редакторов снисходительной, обволакивающей ватой вежливости суждения, равнодушной необязательности. Он говорил со мной как с равным, с мужчиной, с солдатом, не боясь задеть самолюбие, и этим выражал ко мне истинное уважение. Он при мне выправилрассказ, я запомнил, как бережно его перо зачёркивало неточное слово, заменяло другим, более подходящим, как он поднимал на меня недоумённый взгляд, когда встречался с явной грамматической ошибкой, и я, сгорая со стыда, клялся себе проштудировать учебник русского языка ещё раз, и ещё... Это был урок товарищеского внимания, требовательный урок и очень памятный для меня... Впрочем, и для Козлова мои первые литературные шаги тоже запомнились. Недавно в одной его критической статье я наткнулся на упомянутый им курьёзный случай с одним молодым автором, который, сочиняя рассказ из жизни американцев (было и такое у меня!), заставил своего героя лезть на 20-й этаж небоскрёба по лестнице, так как автор ещё не знал о существовании лифта...
Так вот, главный университет для меня - служба в армии. Там я вновь и вновь прошёл и грамматику. Там прошёл курс и теории литературы. И в буквальном, и в переносном смысле. Уставы и наставления, такие сухие,такие лаконично строгие, всё же сослужили службу и в дальнейшей жизни, помогают упорядочить всё, что наваливается на тебя клубком противоречий повседневности. Много позже я написал вот это восьмистишие, в котором выражена отстоявшаяся с годами суть:
Мой шестилетний лицей.
Что я проходил солдатом,
Оставил на свежем лице
Первых морщин отпечаток.
Наметил все то, что потом
Ощупью, мало-помалу
Время живым пером
Старательно прорисовало...
СПИРТ ПОБЕДЫ
Сколько раз за эти годы я мысленно возвращался к тому дню мая, к Дню, который ныне принято писать с большой буквы… Пробираюсь туда сквозь завалы времени в которых среди великого наворочено немало фальши, пошлого, паточно-мармеладного. Как сложны были чувства того дня. Во всяком случае, это не было просто безоглядное ликование. Ведь сколько за годы войны было пережито, потеряно каждым, как устала душа. А сколько было увидено моими почти детскими глазами такого, чего вообще человеку не надо видеть.
Это надо пережить, - только что с тобой разговаривал человек, глядь, а его уже нет. О, этот бронетраспортёр, куда сгрузили убитых... Не хочу описывать само, так сказать, столкновение, оно не для слабонервных. Впервые увидел кучи трупов по обе стороны просёлочной дороги, много, много… У одного сорвана верхняя часть черепа, видно, как ещё пульсирует мозг уже убитого. Когда их погрузили в бронетранспортёр, с заднего борта свисали ноги в обмотках, у одного торчит алюминиевая ложка, заткнутая черенком за обмотку, из щели неплотно прилегающей брони бьёт тугая струя их общей крови…
В небольшом селении, откуда и выскочили смертники, привлекло внимание строение (фанза) с выбитыми окнами. Заглянул внутрь, – кровь и клочья мяса на стенах и потолке: раненый подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Неделю не мог есть…
Теряя сознание, падаю, раненый и – никогда не подумал бы! – не могу сдержать ликования: я ранен, я теперь не мальчишка, каким меня считали остальные солдаты, все – постарше, а равный всем. И с этим рыцарским ощущением счастья прихожу в себя и вижу над собой женское лицо (не понял – молодое, старое?) и в тумане бормочу какие-то слова благодарности и любви к той, которая щупает мой пульс, пока сестра делает укол…
Почему-то День Победы в моём сознании ассоциируется с образом женщины; может, это оттого, что время совпало с первым приливом жажды чистоты, нежности, любви.
В тот день не прямолинейны и не однозначны были мои чувства: наслоилось так много, так истомилась и натрудилась юная душа, что я не мог ликовать, торжествовать, просто радоваться в полную силу. Я удивлялся, как остаётся всё таким прозаическим вокруг – и эта пыль, которую гонит ветер по улицам нашего военного городка, и всё, что делают люди вокруг – что-то говорят, едят, пьют, бреются,подшивают воротничок или ваксят сапоги. Лишь один старшина-старослужащий в серебряно-золотой сбруе орденов и медалей шагал по главной улице, отдавая себе самому команды, переходя на строевой шаг при встрече с офицером, чётко поворачиваясь под собственную команду. Выпил немного, бывает…
Любопытно, не все поверят наверно нынешние, знающие как тяжело выживают очаги культуры даже в столицах, - у нас в 17-й Армии был свой театр! Самый настоящий, с профессиональной, а не любительской труппой: актёров призывали из Москвы, Ленинграда, из других городов. В тот день давали с успехом шедшую по стране пьесу Константина Симонова «Так и будет!» По ходу действия герой пьесы, раненый полковник, у которого семья погибла во время бомбёжки, приехав домой, застаёт в своей квартире чужую эвакуированную семью, тут он находит свою новую любовь, и вскоре возвращается на фронт. В минуту прощания в финале пьесы его возлюбленная поднимает тост за победу: «Так и будет!» И произносит подходящие патетические слова. На этот раз актриса, исполняющая эту роль, внезапно повернулась к залу, подошла вплотную к рампе, необычно освещённая снизу, и не театральным голосом взволнованно проговорила: «Дорогие друзья! Обычно мы, актёры, пьём на сцене вместо вина подкрашенную воду. Сегодня мы решили нарушить эту традицию. Впервые в наших стаканах не вода, а чистый спирт. Чистый спирт Победы! За победу, которую мы так долго ждали! С праздником!»
Она сделала глоток обжигающей жидкости, лицо её исказилось гримасой плача, она пересилила себя, с трудом улыбнулась, и это было так хорошо, так не театрально, что зал, боясь потревожить возникшее общее прекрасное чувство, некоторое время не смел шелохнуться. И лишь потом было то, что называется овацией…
Победа передо мной возникает в образе женщины…
***
Как взвыла, взвыла Русь от боли,
Как взмыла, взмыла ввысь мольба,
Как оросилось кровью поле,
Слезою – каждая изба.
Как захлебнулось сердце злостью,
Как брызнул гневный свет из глаз,
И хрустнули под ношей кости,–
Так оперлась страна на нас.
Юнцом в кровавой мешанине,
Тая под любопытством страх,
Был, как положено мужчине,
И я в тех самых жерновах.
И знаю не со слов, – а лично,
Сам видел, как ходила твердь,
Как с деловитостью фабричной
Война работала на смерть.
Там и моей немного крови,
Там и моя осталась боль.
Но не смотрю на мир суровей,
Чем те, кто не ходили в бой...
ЖЕСТОКАЯ ПАМЯТЬ
Людям старших поколений месяц июнь вместе с теплом, с буйством зелени, с первыми плодами несёт едкую горечь давнего-давнего того воскресного дня, когда мы, проснувшись солнечным утром, полные лучших надежд, сразу же очутились в другом мире, и сами сделались совсем иными, словно повзрослев на десятилетие. С того дня начался отсчёт немыслимым страданиям и потерям. Жестокая память того дня не оставляет нас. Эта зарубка памяти останется в нас навсегда...
Война! Мы, мальчишки, решившие в то же мгновение, как услышали эту весть, бежать на фронт, не представляли, какие испытания несёт время и нам, какой груз опустится на наши мальчишечьи плечи, что нам придётся воевать последними по возрасту - 17-летними, до предела истощённым военным лихолетьем. После войны я приехал в свой забайкальский посёлок с «производственным» названием – Оловянная. Побывал в нашей замечательной школе, посетил местных руководителей, надеясь навести справки о своих одноклассниках и ребятах постарше, с которыми дружил. Хотелось встретить хоть кого-нибудь одного со мной возраста или чуть старше, учившегося в тот год вместе мной. Никого. Ни-ко-го не осталось! Говорили, что вернулся с войны только один - десятиклассник 41-го года (я тогда учился в 8-м), отвоевавший лётчиком-истребителем, но теперь калека снарушенной психикой, ни с кем не общается...
Погибли или вернулись калеками мои двоюродные братья, дяди. Помнится, Ваня Губарев - мой двоюродных брат, а также ближайший друг, мой покровитель и защитник в стычках с заречными забияками - он был года на три старше меня - писал с фронта мне о боях, в которых участвовал. С какой завистью я читал его письма, написанные химическим карандашом на блокнотных листках! Он был башенным стрелком, участвовал в сражениях, был отмечен медалью «За отвагу». Свои письма ко мне он подписывал иронически, сбивая некий пафос: «Бешенный стрелок». Эти слова всплывают всякий раз, как вспомню своего, выражаясь по-старинному, кузена, отличавшегося в школе юмором и рассеянностью, дававший пищу для доморощенных юмористов. В сорок третьем пришло извещение – «погиб смертью храбрых...» Сгорел вместе.с машиной... Как мне не хватало всю жизнь его покровительственной руки, т.к. у меня не было родных братьев. И когда я в сорок четвертом стал стрелком-радистом «тридцатьчетвёрки», часто думал об Иване - одна дорога была назначена нам судьбой. (На сайте http://podvignaroda.ru/podvig-flash/ есть наградной лист, по которому в августе 1943 года командир башни 250-го Гвардейского танкового батальона 20-й Гвардейской Танковой Бригады младщий сержант Губарев Иван Тихонович 1924 г.р. был награжден медалью «За отвагу»: «Товарищ Губарев в боях показал стойкость, храбрость и мужество. В боях за Томаровку его экипаж уничтожил один тяжелый танк типа «тигр» и одно противотанковое орудие. В боях за Борисовку – 1 один средний танк и 7 автомашин с пехотой и грузом».
По данным https://www.obd-memorial.ru числится пропавшим безвести с 1943 года – прим.ред.)
Нынешним подросткам трудно себе представить, что ты чувствуешь, когда остаёшься словно бы на пустом пространстве, - всё вокруг вырублено, ни одного друга детства и отрочества. Это чувство некого сиротства не оставляет меня до сих пор...
В войну мне привелось служить вместе с замечательным сибирским писателем Иваном Ивановичем Молчановым-Сибирским. В молодости он руководил в Иркутске литературной студией при Дворце пионеров. По его инициативе и при его участии начинающие литераторы написали чудесную книгу, занимавшую и меня в детстве. Она называлась «База курносых». На неё обратил внимание сам Горький, пригласил «курносых» и их наставника Ивана Ивановича к себе в гости в Москву. Это событие получило широкую известность, в особенности в Сибири. Фотография юных авторов вместе со своим наставником и Максимом Горьким печаталась во всех наших газетах и учебниках по краеведению. Словом, для меня Молчанов-Сибирский былфигурой легендарной. В 1936 году его подшефные выпустили одну коллективную книгу: «База курносых» в гостях у Горького». Десятилетним мальчиком я читал её с восторгом и завистью. В начале войны все авторы этих книг пробились добровольцами на фронт. Я помню, как после войны Иван Иванович горевал: все его подшефные кандидаты в писатели не вернулись с войны, или почти все, за крохотным исключением.
 |
|
И.И. Молчанов-Сибирский с пионерами |
В своих письмах ко мне (он был и моим наставником) спустя многие годы он с болью вспоминал о своих «курносых». В Иркутске тогда вышла книга о их их фронтовых буднях и гибели, в страшных боях первого года Отечественной. А какие это были удивительные дарования! Вообще, война забрала лучших людей из самых обещающих поколений, из самого цвета народа Кто знает, какой была бы нынче наша культура, наука, не будь той кровавейшей в историивойны. И каких высот достигло бы общество, страна, обескровленная, разорённая, отброшенная за те годы далеко назад...
Этот день 22 июня сорок первого года вспоминают поныне - старшие поколения, он врезался в память каждой деталью, каждой подробностью. И для нас этой каплей едкой горечи, а подчас и слезой омрачено великолепие лета, цветения, созревания плодов и злаков.
Мы, кто постарше, отлично видим и понимаем, что и сегодня у война, словно затаившийся в подземных пластах торфа пожар, всё время пытается вырваться на простор. Нынче наша планета брюхата войной. Искрит по дуге, и всё поблизости от России. Земля начинена ещё и грозными «семенами» прошлых побоищ.
из рассказа КАМНИ ТОКУБОКУ
И из собственной судьбы
Я выдергиваю по нитке.
Б. Окуджава
В первые послевоенные годы в Чите было много военнопленных японцев, бывших солдат разгромленной в августе 1945 года Квантунской армии. Эта армия насчитывала миллион человек, в результате мощного удара Советской Армии она быстро была выведена из строя и большей частью оказалась в плену. Второй Мировой войне был положен конец. Я участвовал в этой заключительной операции, слышал последние выстрелы величайшей битвы народов, охватившей все континенты и в разной мере почти все языки. Вечером 3-го сентября все наши солдаты палили в небо в честь окончания ратных подвигов. Заслышав стрельбу, я вместе с другими выскочил с автоматом из крытого кузова своей машины, где был наборный цех, и, узнав, в чём дело, с наслаждением разрядил весь диск в маньчжурское небо, в последний раз вдохнув острую пороховую гарь...
Мне самому довелось вступать в перестрелку с японцами, самураями-«смертниками», которые во время нашего стремительного наступления оставались боевыми группами в наших тылах, действовали преимущественно ночами, бесшумно снимали часовых, вырезали спящих. Эти группы отличались коварством и жестокостью. Нам приходилось видеть обезображенные трупы наших воинов, попавших в ловушку «смертников», подстерегавших у дорог одинокую машину, открыто нападавших только при подавляющем численном превосходстве. У мёртвых они выкалывали глаза, вырезали звёзды на груди; нам доводилось видеть и такое...
Забайкалье и Дальний Восток ещё помнили лютый садизм японских интервентов во время гражданской войны. Ещё в детстве мне попадались в руки всевозможные сборники воспоминаний о той поре, проиллюстрированные документами и фотографиями, рассказывающие об изуверстве и садизме захватчиков. При поддержке интервентов творились надругательства над нашими людьми, массовые расстрелы с помощью всевозможных «баронов», «атаманов», белогвардейского отребья. Я знал многих участников партизанского движения, в школе мы встречались с бывшими бойцами отрядов Сергея Лазо.
На фоне невиданных подвигов, свидетелями которых мы были в течение четырёх лет войны, та перестрелка во время ночной азиатской грозы с беспрерывным судорожным свечением молний вскоре забылась бы, если бы её свидетелями не стали люди пишущие, в том числе известный писатель Георгий Мокеевич Марков, а также поэт, один из зачинателей писательского дела в Восточной Сибири Иван Иванович Молчанов-Сибирский. А я, юноша, жаждавший подвигов и беспрерывно сетовавший на судьбу, что родился слишком поздно, все-таки оказался «обстрелянным», испытал хоть в малейшей степени то опаляющее ощущение боя, когда забываешь всё окружающее, заострив внимание лишь на немногом, от чего зависит для тебя всё. Так сказать, «упоение в бою, у бездны мрачной на краю»...
В общем, об этом эпизоде я, наверное, не вспомнил бы, разве что в разговоре со внуками при случае, чтобы не разочаровать их, - уж очень им хочется, чтобы дед был из тех, кому довелось «понюхать пороху». Но недавно об этой перестрелке упомянул в своей книге «Моя военная пора» Георгий Мокеевич. Эти строки воскресили так много в памяти, и по какой-то ассоциативной связи мне вспомнились эти самые пленные японцы.
Упоминание о той давней ночной перестрелке в книге известного писателя так расшевелило воспоминания, что я стал перебирать всё старьё, накопившееся за многие годы в папках, конвертах, ящиках стола. Фотографии времён маньчжурского похода. Боже, неужели этот худенький мальчишка в солдатских погонах - это я! Будто вчера это было, а уже какой слой времени отделяет меня от самого себя с той поры… Самое прозрачное стекло, если его утолщать, сделается непрозрачным. А время? Тоже подчас тяжёлой завесой отделяет от тебя прошлое так, что лишь предположительно высчитываешь, что да когда с тобой произошло. А этот поход помнится чётко, до малейших деталей. Всё же - событие в жизни.
Перебираю письма Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского. Их немного, но в каждом из них он обязательно упоминает о нашей совместной службе. Вот голубой конверт четвертьвековой давности - с красным гербом в левом углу и синей маркой, напечатанной в правом углу (теперь таких не выпускают), на почтовом штемпеле чётко читается: «Иркутск, 20.XII.55». Там, где адрес отправителя, стоит знакомый автограф: «Ив.Молчанов». И сразу в воображении встаёт громоздкая фигура Ивана Ивановича с погонами майора, но неистребимо сохраняющая что-то «гражданское». Письмо написано химическими фиолетовыми чернилами, теперь такими никто не пользуется. В этом письме отзыв на мою первую стихотворную книжку; сказав добрые слова о стихах, даже излишне добрые, он и в этот раз вспомнил прошлое: «Никогда не забудется наша совместная служба и наш поход. Часто, когда настигает ночная гроза, вижу Вас и снова благодарю за бдительность, которая дала возможность писать стихи и писать это письмо. Вы, наверно, скоро поедете в Москву. Желаю Вам успеха. Хорошо зная Вас по стихам, я зрительно представляю таким, каким Вы были много лет назад, а Вы теперь отец семейства (правда, оно втрое меньше, чем мое), но у Вас всё впереди...»
Так мы с ним больше и не увиделись, и я остался в его представлении мальчишкой, а он - навечно человеком намного старше меня.
Его имя в предвоенные годы было широко известно, я помню напечатанный в журналах и книгах снимок, где он и пионеры-иркутяне сфотографированы вместе с самим Максимом Горьким. Иван Иванович создал литературный кружок в одной из иркутских школ, под его руководством ребятами была написана книга «База курносых» (1934 г.) Книга пришлась по душе Горькому, он пригласил к себе авторов и их руководителя, поэта Молчанова, присоединившего к своей фамилии псевдоним Сибирский, так как в то время широко печатался другой комсомольский поэт, тоже Иван (Иван Никандрович) и тоже Молчанов. Спустя два года вышла другая книга тех же авторов «База курносых» в гостях у Горького». Уже после войны в Иркутске появилась обширная публикация о судьбе авторов «Базы курносых», многие из которых проявили себя на фронте как подлинные герои. Но это уже другая история...
Иван Иванович был первый поэт, которого я увидел так близко, с которым мог перемолвиться словечком. В то время я был наборщиком, через мои пальцы буква по букве проходили сообщения ТАСС; пламенные строки публицистики и, конечно же, стихи; я был неплохим наборщиком, и мне поручали их набирать. Помню, проснувшись ранним утром, я всякий раз видел Ивана Ивановича шагающим в глубокой задумчивости где-нибудь неподалеку от редакции - на бугре, в кустарниках, вдоль быстрой хинганской речки. С чувством участия и любопытством смотрел я на его грузную фигуру, - вот он идёт, шевеля губами, наверно, сочиняет стихи. Вскоре в мои руки попадал лист с его автографом (эх, не сберёг!) - тогда машинистка не успевала перепечатывать материалы в номер, а почерк у Ивана Ивановича был довольно разборчивый, так что шла в набор его рукопись. И я, бросая взгляды сквозь окошко машины на загораживающие небо громады Хингана, стремительно набирал его строки:
Пики гор скрываются в тумане,
а пониже воздух синеват и чист.
Русская гармошка на Хингане,
русский на лафете гармонист...
Я не заглянул сейчас в его книгу, возможно, ныне эти строки как-нибудь отредактированы и звучат иначе, цитирую так, как они запомнились с тех пор, когда я их набирал буква по букве, заранее представляя, как красиво станут стихи на газетной полосе. Это мне казалось волшебством - то, что мы все видим, вдруг становится стихами.
Иван Иванович был человеком исключительной доброты, какой-то невероятной деликатности, и его поведение было для меня главным уроком. Офицерам полагался доппаёк - печенье, папиросы, всё это поэт как-то незаметно и необременительно раздавал солдатам. Вот и сейчас я почувствовал сладкую вязкость того печенья, как бы невзначай положенного им на край моей наборной кассы, на аккуратно подстеленный листок белой бумаги. Казалось, он подавляет в себе желание ласково погладить меня по голове, заросшей такими вихрами, что расчесать их было почти невозможно. Я был мальчик рядом с ним, он был вдвое старше меня.
Несмотря на то, что я был вооружён больше, чем надо,в нашей машине стояли два ящика гранат, ручной пулемёт, автомат «ППШ», - я мечтал о пистолете. Ну кто из моих сверстников во все времена не хотел заполучить пистолет? Офицеры, сотрудники газеты, часто ездили на передовую, всякий раз я умолял их привезти мне пистолет. Каждый из них обещал. Когда возвращались, им было не до меня - нужно срочно писать в номер. Газета наша образцовая, называлась «Героическая красноармейская», в заголовке нарисован орден «Красной Звезды», которым она награждена зa участие в халхин-гольских событиях. Были сотрудники, которые помнили ещё, как работал в коллективе редакции молодой Константин Симонов... И вот однажды сразу несколько офицеров в один день подарили мне по маузеру. Бывает такое совпадение. Подарил мне маузер и Иван Иванович, не зная, что я уже стал обладателем нескольких таких «вещей». Потом я их все раздал друзьям, а тот, что подарил Молчанов-Сибирский, хранил долго, пока его не отобрали при переезде через границу, когда возвращались домой. До сих пор мне легко представить приятную, удобную тяжесть рукоятки того пистолета.
С Иваном Ивановичем мы не очень регулярно переписывались, он заинтересованно следил за тем, как я пишу; явно завышая оценки, одобрял мои попытки в литературе. Идут годы, забываются имена, гремевшие в свое время в поэзии, а Иван Иванович, для меня во всяком случае, остаётся поэтом свежим, истинным, настоящим.
С острым чувством стыда вспоминаю один вечер после победы, когда нам вручали боевые награды. «Обмывали» их в большой палатке, рассевшись вокруг брезента, на котором стояли миски с варёной картошкой и мясом. Я впервые хватил полкружки чуть-чуть разведённого спирта, горячий туман застлал глаза, с трудом выбрался из палатки и тут увидел прогуливающегося в раздумье Молчанова-Сибирского. Он рано ушёл с этого «обмывания». Майор с недоумением посмотрел на меня, едва волочащего ноги, на мою сиротливо поблескивающую на застиранной гимнастерке новенькую медаль «За отвагу», взял меня за руку повыше локтя и повёл к машине, где я обычно ночевал. Мне хотелось сказать что-нибудь необыкновенное, выразить распиравшие грудь добрые чувства, но тут почему-то внезапно мне стало жалко самого себя: вот умру, и никто не узнает, что жил на свете такой замечательный парень, да ещё с медалью! Язык мне не подчинялся, он, помимо моей воли, сплёл фразу:
- Иван Иванович, вы напишете про меня, верно?
- Ну конечно, конечно,- успокоил меня майор, - какой может быть разговор!..
Мне тогда казалось, достаточно написать про кого-то, и всё - этот человек стал бессмертным. Сколько кануло в небытие и писаний, и тех, кому были посвящены эти самые писания...
 |
Всё же мне повезло в юности, - вот так запросто видеться с авторами прочитанных книг. Стою ночью на посту, охраняя наш лагерь - семь автомашин, несколько палаток, расположившихся где-нибудь в распадке, в рощице. В темноте слышится урчание «виллиса», ездили тогда без фар - светилась узкая синяя полоска, и шофёр вёл машину, свешиваясь чуть ли не до земли, чтобы не наткнуться на дерево или камень, чтобы не ухнуть в овраг или канаву. Сеется мелкий осенний дождь, нагоняя дремоту. Знаю, кто-то из наших возвращается из поездки в войска, но на всякий случай, как полагается, останавливаю грозным окриком. «Свои», - откликаются. Узнаю голос капитана Маркова, он худощавый, подтянутый, в гимнастёрке, перетянутой ремнём с портупеей, - вылезает из машины, чтобы я удостоверился, что тут действительно не какие-нибудь диверсанты. Пропускаю его и шофёра -- добродушного верзилу, носившего на поясе крохотный пистолетик. Они укладываются спать в намокшей палатке, а я хожу под сеющимся дождиком в темноте, перебирая эпизоды романа «Строговы», который в те годы печатался во фронтовой газете, восторгаясь жизнелюбием и весёлым озорством деда Фишки, который обещал односельчанам дрыгнуть ногой даже умирая... А тот, кто «придумал» и деда Фишку, и братьев Строговых, только что прошёл мимо меня и вот, видимо, что-то записывает, - сквозь брезент видно пятно света от карманного фонаря там, где капитан Марков расположился на ночлег.
Но я опять отвлёкся от пленных. Содержали их в Чите не очень строго: по вечерам их можно было увидеть во дворах читинцев пилящими дрова - таким образом они подрабатывали; город был в основном деревянным, большая часть домов с печным отоплением. Так что бывшим воинам Квантунской армии было где подкормиться. Большинство из них как-то скоро освоилось на новом месте. Среди них оказалось немало умельцев - часовщиков, гравёров, механиков. Заняты они были на строительстве. Для них выпускалась газета на родном языке; любопытно было видеть, как они, экономя время, на ходу проводят, так сказать, коллективнуючитку: идущий в голове колонны несёт на спине фанерный щит с прикрепленной к нему газетой, следующий за ним громко читает, все слушают. Иероглифы газеты складывались в живую речь, и она требовала внимания идущих в строю. Прохожие с любопытством провожали глазами необычную колонну. Ещё более удивили пленные, когда стали ходить в строю с песнями, часто - нашими. Они пели и старинные русские песни, любили петь «Катюшу», которая у них по-японски получалась ещё более лирической и нежной, пели «Полюшко-поле». Однажды я остановился изумлённый: японцы мощно и воодушевлённо, с какой-то, я бы сказал, бесшабашной удалью подхватывали слова:
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Поща-ады н-икто не жела-а-ает...
Кто её не знает? Эта популярная с давних лет песня рассказывает, о героизме русских моряков крейсера «Варяг», которые вместе с экипажем канонерки «Кореец», находясь в Чемульпо, были неожиданно атакованы шестью японскими крейсерами и восемью миноносцами. Они приняли неравный бой и, чтобы не сдать свои корабли врагу, потопили их.Тогда сообщение о подвиге моряков крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» облетело весь мир. Название крейсера стало символом верности долгу, отечеству, символом мужества русских воинов. Из-за бездарности царского правительства война была проиграна и жертвы оказались напрасными. Но песня, родившаяся по горячим следам событий, долгие годы жила в народе. Я слышал её в детстве, моё воображение рисовало бурные волны Жёлтого моря, где на рейде у корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) русский крейсер, окружённый вражескими кораблями, медленно опускается под воду. И как любой мальчик, представлял себя среди погибающих моряков. Всякий раз моё горло перехватывали слезы, когда раздавались первые слова этого трагического марша-реквиема:
Наверх, вы товарищи, все по местам!
Последний парад наступа-а-ет...
В это время я не думал о коварстве и жестокости врагов, - сердце подхватывала волна гордости за тех погибающих парней и зависти к их судьбе.
Только в последние годы я узнал, что стихи этой песни были сперва написаны по-немецки, их автор -немецкий поэт Рудольф Грейнц (1866-1942). Впервые они были опубликованы вместе с переводом на русский язык, сделанным Е.М.Студенской в феврале 1904 года, то есть сразу же после гибели «Варяга». Не прошло и месяца после трагедии - Россия запела о своих героях.
Раз уж зашла речь о литературе, связанной с японцами и Японией, не могу не вспомнить другую песню о «Варяге», написанную Я.Репнинским, о котором не сохранилось никаких сведений: она начинается так:
Плещут холодные волны,
бьются о берег морской...
Носятся чайки над морем,
крики их полны тоской...
И она тоже волновала наше поколение с детских лет. Помню, перед войной часто мы с ребятами пели и её, когда всем классом во время летних каникул ездили в колхоз, - полагалось отработать месяц на уборке картошки, на сенокосе, на очистке зерна. Ночевали под каким-нибудь навесом или в сарае на сене, а то и просто у костра. Долгими вечерами перед сном горланили разное,а чаще почему-то возвращались к «Варягу»... Я сказал «почему-то». Нет, объяснить это можно. В те годы после Хасана и Халхин-Гола мы нередко встречались с участниками этих событий, слышали про бои с японскими захватчиками; было немало кинокартин, изображавших события на Дальнем Востоке, воскрешавших партизанскую борьбу против японских интервентов во время гражданской войны. В частности, был замечательный фильм «Волочаевские дни». Забыть ли заключительный кадр, - уходит последний эшелон посрамлённых интервентов, к заднему вагону прикреплена метла, она заметает их след! И это всякий раз вызывало хохот и аплодисменты зрителей. Мы читали прекрасный роман Петра Павленко «На Востоке», по нему был создан фильм, и там действовал японский шпион, изобретательный, умный, коварный. Этот образ как-то связывался с личностью «штабс-капитана Рыбникова» из рассказа Куприна.
Перед войной в нашей семье по вечерам часто читали вслух Гоголя, Тургенева, Куприна, а также новинки художественной литературы. Мы получали журнал «Новый мир», в нём печатались дальневосточные рассказы Сергея Диковского. Это было любимое чтение, только закрою глаза, воскресает наша небольшая комната в доме барачного типа, наша маленькая семья вокруг стола после ужина. На чистой скатерти журнал в твёрдой обложке, старшина Иванюк, женатый на моей сестре Ольге, ироничный исентиментальный хохол, неторопливо раскрывает его, начинает читать - и в нашу комнатку вплывает пограничный катер «Смелый», со своим живописно-выразительным экипажем... И тут японцы были показаны людьми не очень приятными, от них надо ждать любой каверзы. Мы разумом понимали, что всё дело тут в агрессивных планах японской военщины, а вовсе не в народном характере, но от реальности никуда не уйдёшь. Уж очень насолили они нам. В общем, войны тогда ждали с Востока.
В последний год войны появился увлекательный роман Александра Степанова «Порт-Артур». Начиная с зимы сорок пятого года, этот роман надолго стал одной из самых популярных книг. Если видел у кого-нибудь в руках толстую книгу, можно было с полной уверенностью сказать, что это «Порт-Артур». Любопытно, что сразу после войны на экраны вышел немецкий, кажется, старый трофейный фильм «Спасённые знамена» - о героических русских моряках 1904 года. Авторов его восхитила душевная красота моряков России...
И вот в Чите японцы. Пленные. И поют, вкладывая страсть в строки, которые, казалось, могут воодушевить лишь русского. Это мне врезалось в память с особенной силой. Было в этом пении что-то значительное, волнующее...
А ведь мне доводилось видеть «смертников», которые, случайно попав в плен, не хотели есть, искали способ умертвить себя. Может, среди тех, кто шёл тогда по Чите с пением «Памяти «Варяга» были и бывшие «смертники». Значит, правда всё же сильнее злобной милитаристской пропаганды. Значит, сердце человеческое ищет и находит истину и красоту, преодолевая многолетние наслоения предвзятости и коросту национальной спеси, ограниченности.
Многие из пленных хорошо освоили русскую речь, подружились с местными жителями. А когда пришла пора возвращаться домой, среди них оказалось немало таких, кто не хотел ехать в Японию. Многие просились остаться у нас навсегда. Конечно, жизнь в любом плену не мёд, и - вот тебе на! - бывшие пленные, прощаясь с холодной суровой Читой, плакали, не скрывая слёз. А некоторых (большое количество!) приходилось заталкивать в вагоны отходящего поезда силой... Было им у нас теплей? Может быть, сытней, чем в Японии? Новедь годы тогда у нас были нелёгкие. Или им просто легче дышалось в нашей стране, интересней жилось?..
Вот вспомнил всё это, и перед глазами вновь поплыли бесконечные дороги по плоской, раскалённой степи и непредставимая для тех, кто её не видел, гигантская, кошмарно-удушливая, знойная, высотой до неба, чёрная пелена пыли над походной колонной наших войск; танки, самоходки, «катюши», бензовозы, кавалерия, рёв моторов в небе; и тут же невозмутимые, с лебедиными шеями, верблюды, тянущие пушки и повозки с боеприпасами, - это уже войско маршала Чойбалсана, монголы, действовавшие с нашей армией. Лица у всех нас чёрные от пыли, в белых бороздках от пота, сбегающего со лба. Вдоль дороги попадаются раздувшиеся трупы лошадей, перевёрнутые машины, обгорелые остовы грузовиков. Невыносимо - хочется пить, во рту всё спеклось, горит внутри. Воды нет, у крохотного родничка среди пересохшего болотца столпились было солдаты, да куда там -- вода течёт струйкой не толще цыганской иголки, полчаса ждёшь, чтобы наполнить кружку. А нужно скорее вперёд: чем быстрей - тем меньше крови. Ещё усилие, и война завершится на всей планете.
 |
Как уже говорил, служил я наборщиком в типографии армейской газеты. Набирая статьи, стихи, рассказы, корреспонденции, телеграммы, я сам учился писать, старался перенять стиль и характер разных жанров, скрываясь от друзей по службе, тайно заполнял стихами и рассказами тетрадь, которую сам же и соорудил из газетной бумаги. После войны - а мне пришлось служить солдатом целых шесть лет - нашу армию расформировали, меня взяли в типографию другой, тоже армейской газеты, где вскоре я притёрся к новым для меня людям, подружился с ними и даже стал постепенно печататься. Для газеты престижно было помещать рассказы или стихи, когда в подписи под ними к моей фамилии прибавлялось: «гвардии рядовой». Вот, мол, какая мы армия, не какие-нибудь чинодралы, интересы нашего солдата широки и многообразны. В сущности, это так и есть. Сколько я знаю писателей, актёров, музыкантов, начавших в армии. Этому университету - шестилетней службе рядовым - я обязан многим, хотя и не так просто было тянуть солдатскую лямку.
 |
Года через два после войны я, работая урывками (нагрузка наборщиков была очень большая, свободного времени выпадало мало), написал большую, по моим тогдашним понятиям, повесть о нашем походе в Маньчжурию. Страницах на полтораста я выложил многое из того, что тогда ещё хранила память. Эту свою вещицу я послал в Читу, в книжное издательство. Вскоре получил ответ и рецензию. В общем, меня ободрили и обещали напечатать мой опус, «но»,- писал рецензент,- это не повесть, а цикл рассказов». Что же, дай-то бог! Рассказы - пусть рассказы! Я и на это не рассчитывал. Одна же сцена решительно не удовлетворила рецензента, хотя именно из-за неё я и написал всю вещь. Для меня она была кульминацией всего сюжета. И описал я её, ничего не присочинив. Всё так и было.
Утром мы вышли умываться, дело происходило во дворе аккуратной деревенской усадьбы, где мы остановились на ночлег, и тут услышали приглушённые испуганные крики. Упитанный китаец, с лицом гладким и блестящим, как облитым лаком, почти равнодушно и от этого особенно противно бил палкой в чём-то провинившегося работника, покорно подставившего спину под удары, лишь слегка загораживаясь локтем, чтобы удары не пришлись по лицу. Острая пронзительная жалость кольнула в груди, когда я увидел этого худущего, согбенного человека в широкой соломенной шляпе, в выцветшей до белизны брезентовой рубахе, в залатанных коротких штанах, босого, с тонкими чёрными от грязи ногами. Особенно поразила эта покорность и некое подобие улыбки на лице избиваемого, словно извиняющегося перед окружающими за то, что он стал причиной неприятного для них зрелища. В то же время его лицо, обтянутое смуглой кожей, было искажено гримасой испуга, в сощуренных узких глазах блестели слёзы беспомощности. Для нас было дико и удивительно, чтобы человек бил другого вот так на глазах у всех, даже вроде бы «в законном порядке». Хозяин и работник, прямо как на плакате, промелькнувшем в какие-то давние годы: мандарин и кули. Помнится, мой герой вырвал у разбушевавшегося хозяина палку, едва сдерживая гнев, переломил её о колено и обломки зашвырнул через крышу фанзы далеко в густой гаолян. Так оно и произошло в действительности. Знакомый старшина из роты управления, забросив палку, крепко взял хозяина за плечо, строго погрозил пальцем: «Бить нельзя, понял?!» И, шагая от испуганного гладколицего хозяина, ещё кипя негодованием, сквозь зубы приговаривал: «Живоглот несчастный!.. Буржуйская морда!.. Не на того нарвался, а то бы...»
Рецензент обвинил меня в аполитичности и искажении правды жизни: мы вошли в Маньчжурию, лишь преследуя японских империалистов, и вмешиваться во внутренние дела Китая не имеем права, стало быть, заключал рецензент, подобного факта не могло быть. Впрочем, тогда меня поучали на каждом шагу все кому не лень. Даже то, что я видел своими глазами и отлично знал, подчас вызывало во мне сомнение: может, это мне пригрезилось - так убедительно уличали меня в неправде те, от кого зависело появление моего сочинения в печати. Если я писал, допустим, что ефрейтор выиграл в шахматы у старшины, редактор требовал снять эту сцену, так как это не типично для нашей действительности и не отвечает правде жизни. Старшина! Разве он может проиграть человеку младше его по чину? Проскользнула в рассказе фраза: «малограмотный сержант», уже чепе - разве может быть у нас малограмотный человек? Ведь ещё до войны было обязательным неполное среднее образование. Но мне встречались не умевшие связать двух слов, стыдно сказать, даже журналисты. Но уж редактор-то знал, что типично, а что от лукавого…
Многие годы спустя, в апреле 1959 года, мне довелось чуть больше недели провести в городе Маньчжурия, куда я приехал спецкором читинской областной газеты «Забайкальский рабочий», чтобы написать несколько очерков о пролетарской солидарности. Мы намеревались начать их публикацию в первомайском номере, в День международной солидарности трудящихся. Это было в самый канун пресловутой «культурной революции», повсюду, куда меня возили, мне показывали плоды «великого скачка» - самодельные печи для выплавки чугуна. На железнодорожном вокзале Маньчжурии тогда ещёвисел огромный портрет Ленина. Но уже кое-что угадывалось из трагического будущего, правда, я не мог и вообразить масштабов безумия, которое предстояло пережить Китаю. А вспомнилась эта поездка нз-за того, что китаец-переводчик, приставленный ко мне, худой и строгий парень по имени Ван, по его словам, самостоятельно выучивший русский язык от одного эмигранта-русского, мне кого-то напоминал. И от этого знакомая боль шевелилась в груди. Когда мы прощались на границе (я - с облегчением, что наконец возвращаюсьдомой, а он почему-то с тревогой и испугом), когда обменялись подарками (он вручил мне роскошный альбом в великолепном обтянутом шёлком переплете, со своей маленькой фотографией на первой странице; этот альбом я храню поныне), Ван внезапно заплакал. От неожиданности я растерялся. Вот так, всего неделю общались, и вдруг расплакался. Да как! Лицо его было залито слезами, он, наклонив голову к груди, смущённо прикрывал пальцами левой руки глаза и мокрые щёки, правой рукой сжимал мою ладонь. Подобие смущённой улыбки светилось сквозь влагу в чертах его лица. Он повторял, подавляя всхлипывания:
- Что бы ни случилось, мы будем помнить вас. Вспоминай нас добром, товарищ...
В течение всей моей поездки он часто, порой даже не к месту, повторял почти дословно одну фразу:
- Через наш город в Китай едут люди всех стран, мы - ворота в нашу страну. Мы всех любим, всем рады. Но советские люди для нас самые родные. И вы, - жест в мою сторону, - помните это всегда. Что бы ни произошло.
Я обнял его с сердечным теплом. Вроде на прощальном банкете он не выпил ни рюмки, как вообще не пил и почти не ел во время длинных китайских церемонных застолий. Некстати вспомнилось самое бедное застолье в коммуне, где перед нами поставили миску длинных огурцов только что с грядки из теплицы. И солонку с солью. Больше ничего. После неловкой паузы я взял огурец, разломил его пополам, протянул одну половину председателю коммуны, и под общий одобрительный смех мы съели общий этот огурец. После этого пошла оживлённая беседа...
Слёзы Вана я понял только позже, когда начались самостийные суды над теми, кто общался с советскими людьми, кого можно было заподозрить в добрых чувствах к нам. Теперь-то я знаю, что причиной его слёз была не излишняя сентиментальность. И эта его фраза о любви к нам,она произносилась с явным вызовом к тем, кому она была враждебна. Он, видимо, уже знал о надвигающейся опасности, предчувствовал и хотя бы словом пытался предотвратить беду. И когда он заплакал, я вдруг понял, кого он мне напоминал. Что-то в нём было, может, в каком-нибудь жесте, может, в гримасе искажённого плачем лица, от того избиваемого хозяином, кули...
И опять, как в тот день, острая и едкая боль мучительной судорогой прошла в груди; жалость - не сильнейшее ли оно из человеческих чувств?..
Ну, а эту рукопись повести даже не помню, куда дел. Кажется, просто потерял во время переезда редакциив другое помещение. В общем, расстался я с ней без сожаления, захваченный перспективами своего будущего. Мне, было не до усовершенствования написанного - я был уже во власти новой работы. Всё написанное мной на другой день казалось смехотворно-слабым; вот завтра напишу - это да! С этим ощущением я и жил, подстёгнутый первым успехом. Послал как-то в журнал «Дальний Восток» одно довольно длинное стихотворение и забыл уже о нём, вдруг получаю бандероль: стихотворение без малейших изменений опубликовано. Поэт полковник Сергей Тельканов, ведавший по совместительству в журнале отделом поэзии, прислал мне славное письмо, поздравил, высказал пожелание дальнейшего сотрудничества. Я немало слышал доброго об этом человеке, татарине по национальности, ставшем заметным русским лириком нашего Дальнего Востока. Жаль, мне так и не довелось встретиться с ним, хотя я позже и бывал в Хабаровске. Как-то так получалось. А вот в прошлом году вышла в Москве маленькая книжица его стихов «Багульник» - тетрадочка в лиловом переплёте, посмертный сборник. Я и в те годы с любопытством искал его имя в поэтических подборках, и сейчас вновь на едином дыхании прочёл его стихи, светлые, ясные, простодушно-открытые, полные любви к родному краю. Чем-то он сродни Петру Комарову, кумиру моей литературной юности. Но уже сам факт, что Тельканов извлёк из «самотёка» для журнала стихи никому не известного солдата, - что-то сейчас такого не наблюдается... Я одержимо взялся за стихи. Тем более, что к стихам редактора придирались меньше - в смысле «верности жизни», просто в них меньше подробностей обычной жизни, не за что было и зацепиться.
Много позже, четверть века спустя после войны, я вернулся к тем давним событиям, которые так волновали меня, когда писал первую свою вещицу, названную рецензентом «циклом рассказов». За лето и осень, испытывая прилив радости от работы, сделал небольшую поэму «Хинган». Памятьвынесла из забвения множество подробностей, так много, что я чуть не утонул в них. В поэму вошло лишь немного из воскресших впечатлений - больше и не требовалось по замыслу и сюжету...
Конечно, не встреться мне колонна пленных японцев, поющих нашу песню, любимую с детства «Памяти «Варяга», Восток меня всё равно долго не отпускал бы. Но эта встреча обострила любопытство, я стал интересоваться историей Китая и Японии, проглатывал всё, что попадалось под руку, - будь то серьёзные труды Н.И.Конрада или заметки и стихи из Японии Константина Симонова. На всё, что я прочитывал, ложился прозрачный слой личных впечатлений от того нашего похода с юга Монголии через Хинган, по южной Маньчжурии до Жёлтого моря. Наша дорога проходила значительно южнее крупных центров - Харбина, Мукдена, Цицикара, но севернее Пекина - по не очень густо населённым, по китайским меркам, местам. Мы видели и чудовищную бедность китайских крестьян, и богатства буддийских монастырей, и сутолоку грязных маленьких городов, вроде Линси, Уданчена, где улицы были залиты жидкой зловонной жижей по щиколотку. Мы видели грандиозные митинги бедноты, восторженно приветствовавшей освобождение. В наши руки попадали японские журналы, альбомы с фотографиями; печаль и нежность японской музыки долго ещё сопровождала нас, когда патефон крутил трофейные пластинки. Помню, японские длинные спички, чиркнешь головкой о коробку, раздаётся долгое шипение, выделяется едкий дым, и лишь спустя секунду-другую возникает пламя. «Сперва вонь, потом огонь»,- шутили солдаты. Сигареты, которыми нас снабжали из трофеев, были ароматны и приятны, говорят, вместо табака в них завёрнута нарезанная бумага, пропитанная никотином и ароматическими веществами.
То, что японцы пели по-русски, было, конечно, немалой нашей победой. Известно, что бывшие пленные, вернувшись домой, создали замечательный коллектив, выступавший в Японии с нашими песнями, многие из них стали активистами борьбы за мир, прогрессивных движений в стране. Меняются люди. Тут ничего удивительного. В 47-м году, к Октябрьской годовщине, мне дали месячный отпуск, родные мои жили тогда в Смоленске. Тогда в Смоленске было много пленных немцев, один из них с дружелюбной улыбкой подошёл ко мне, попросил прикурить. А был я в солдатской форме.
Было странно слышать русские слова от этого запылённого длинного парня в солдатском немецком мундире, в пилотке, сапогах с широкими голенищами. Он прикурил, вернулся к трамвайному пути, где лежала его шинель, взял оставленный лом, принялся вновь долбить землю, переговариваясь с товарищами на своём языке. А город ещё только поднимался из руин. Будто ничего и не произошло, лопочут по-своему, чему-то смеются...
СТРАНА И ВОЖДЬ
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Шота Руставели.
То, что хочу сказать, не даёт мне покоя уже давным-давно. А в последнее время просто подступило ножом к горлу: если не скажу, то умру лжецом и трусом. Есть незримая грань общественной жизни, которая разделяет людей на две части.
…Вот смотрю на днях по ТВ документальный фильм об Отечественной войне. Авторы заранее всё знают, и показывают великим стратегом не Верховного Главнокомандующего, а маршала Жукова. Он, везде он, проницательно разгадывает все ходы врага, он – победитель. Слов нет, действительно опытный, талантливый, удачливый. Кто же спорит? Ну, а Верховный Главнокомандующий что, - был где-то там, на заднем плане? Более того – вредил делу? Или просто послушно подчинялся своим же генералам? Кто он? Кукла в страшнейшем конфликте истории, да вдобавок безумный злодей, человеконенавистник? Ведь так получается, если читать, смотреть, слушать некоторые средства массовой информации.
Вот Курская битва. Слышим голос диктора: «…За два часа было выпущено двенадцать эшелонов снарядов…» За два часа…Вообразите двенадцать поездов, нагруженных снарядами. Только снарядами. А нужны ещё и пушки… Много пушек… Битва продолжалась не час, ни два. Двенадцать эшелонов только снарядов! Г-м-м, а сколько же тогда за всю только эту битву? Постой, постой, а что бы делал Жуков и другие генералы, не подвези, а прежде не изготовь столько орудий, самолётов, танков, столько снарядов и патронов, не выучи столько лётчиков, танкистов, артиллеристов, столько врачей?Не подготовь столько воинов? Не обуй-одень солдат, не накорми их? Не воспитай их морально? Да надо было прежде ещё и восстановить железнодорожные пути, добыть столько бензина, столько продуктов питания… Значит, государство было в порядке, работоспособно, да ещё как. А иначе что? За каждым бойцом и командиром, за каждым учёным и рабочим стояло по «гебисту», что ли? Да и даст ли такие плоды подневольный труд, служба из-под палки?
…Я жил при Сталине и даже видел его, правда, издалека. Что он значил - в пределах моего понимания. В понимании простого, маленького (в смысле совсем юного тогда) человека, нёсшего на своих плечах невероятные тяготы, в семнадцать лет ставшего солдатом-танкистом.
Но даже не о войне. Никто из нового поколения, выросшего в сытости, благополучии, не может себе представить той вселенской радости простых людей даже от такого, в общем-то, и не очень сопоставимым с Победой события, – отмены карточек на хлеб. Это случилось через два года после окончания войны, летом сорок седьмого. Страна надрывалась, чтобы и восстановить разрушенное, и создать свою атомную бомбу, так как Америка уже имела разработанные планы атомного удара по важнейшим пунктам Советского Союза. Опыт у них уже был – Хиросима и Нагасаки ещё дымились на горизонте. По словам Курчатова создание своей атомной бомбы стоило столько же, во сколько обошлась вся Великая Отечественная. Вся громадная война!!! А половина страны ещё лежала в развалинах. Мне, солдату, на четвёртый год службы дали отпуск к октябрьской годовщине 1947 года, я приехал к матери в Смоленск. Даже сейчас при воспоминании о том, что представлял тогда этот старинный русский город, по телу проходит озноб и сердце начинает биться с перебоями… Развалины, кучи битого кирпича. Уже мороз, снегопад. Ночующие под сооружениями из кусков рваной жести, фанеры, брезента, с костерком посередине, семьи с плачущими детишками, укутанными в тряпьё. Едкий, режущий глаза дымок. И такими были сотни городов, пожалуй, тысячи сёл… И вы хотите, чтобы у нас текли молочные реки в кисельных берегах?
Я упомянул Америку вовсе не желая обидеть американцев, и сейчас она очень, очень разная. Она не знала бомбёжек, по ней не прошли вражеские танки, вдобавок ко всему она была подпитана рабским трудом чернокожих, завозимых из Африки. Мы же видим, как одна часть этого сверхмощного государства делает усилия, чтобы наладить добрые отношения с Россией. Другая, имеющая мощнейшие рычаги влияния, безумные деньги, мгновенно впрыскивает яд. Помнится, едва президенты обеих стран не так давно закончили переговоры, завершившиеся согласием «перезагрузки», буквально на другой день разразился «шпионский» скандал. Не могли и дня потерпеть. Кого-то напугала сама возможность жить с Россией в согласии. Тут не просто неприязнь к другому народу, нет, буржуазия боится нового пожара, который может возникнуть из-за ещё не погашенных угольков коммунистической идеологии, оставшихся в удушаемой России… Это недобрый знак не только в сторону России, сколько в адрес своего президента и его окружения. Психоз. Надо вспомнить, что это их министр обороны Джеймс Форрестол с криком: «Русские идут!» бросился из окна небоскрёба.
Надо сказать, кстати, что в других странах, участвовавших в мировой войне, карточки отменили гораздо позже. А ведь мы потеряли несравнимо больше всех, и многие миллионы людей, и неслыханные материальные ценности, полностью, до основания разрушенные города. Надо отметить, что и тогда были люди, видевшие во всём лишь «пропаганду». Я был свидетель, - один недоверчивый покупатель спросил у продавщицы: «Что, можно покупать хлеба сколько хочешь?» - «Да», - услышал в ответ. - «Тогда дайте десять буханок!» - «Пожалуйста, берите десять». «Да нет, мне хватит и одной. Это я хотел проверить».
 |
После войны было проведено множество мероприятий, чтобы дать возможность людям, ушедшим на фронт со школьной скамьи, продолжить образование. В 1952 году меня из Читы послали на учёбу в Центральную комсомольскую школу (ЦКШ), я так успешно сдал вступительные экзамены, что со мной захотел побеседовать один из секретарей ЦК Комсомола Александр Николаевич Шелепин. В заключение довольно продолжительной беседы, во время которой я выразил сомнение, что мне уже поздно работать в комсомоле (мне шёл двадцать шестой год, и тогда мне казалось, что этот возраст - вступление прямо в старость). Он засмеялся: «Да у нас Семён Нариньяни в свои пятьдесят - один из самых боевых сотрудников «Комсомольской правды»! И вас пошлём после учёбы туда». Когда я уходил, мне подарили приглашение на авиационный праздник в Тушино. И там один из соседей по трибуне имел полевой бинокль; насмотревшись, он предложил и мне: «Посмотрите на товарища Сталина, а то далековато, не различишь». И я увидел его вблизи…
В те годы, помнится, каждого, кто возвращался из Москвы, знакомые обычно заинтересованно спрашивали, не видел ли он товарища Сталина. Ну вот, я увидел. Хоть и в бинокль… Человек как человек... Стареющий, усталый… Тяжкая это ноша – быть и осуществлять собой символ всемирной справедливости. Ничего не присвоил, оба сына воевали на фронте, ходил в солдатской шинели, отказался от награждения второй Звездой Героя, трижды отказывался стать Генсеком, на чём настаивало всё руководство партии. А говорят: узурпатор…
Какое место он занимал в наших мыслях и душах, - говорить излишне. Даже Александр Твардовский, позже присоединившийся к тем, кто осуждал «культ», в тот год писал:
Когда своё он произносит слово,
Нам всякий раз сдаётся, что оно
И нашей мыслью было рождено,
И вот уж было вылиться готово.
Но нам, живущим ныне невдомёк
В невиннейшем из наших заблуждений,
Что только он, при нас живущий гений,
Открыть и молвить это слово мог…
А дальше не помню. Да и процитированные по памяти строки, возможно, чуть исказились, так как позже в книгах стихов Александра Трифоновича оно больше не публиковалось, так что попалось тогда на глаза где-то в газете и запало сразу же в память. И это было правдой, так думало большинство людей. Ну а всеобщий любимец той поры Михаил Исаковский ещё более резко выразил это чувство преклонения перед вождём:
Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.
Ну конечно, при всех способностях он хотя бы располагал большей информацией, чем остальные граждане,- как же иначе. И что, поэты врали? Исаковский подхалимски, грубо говоря, брехал? Ведь, если помните, он написал крамольные тогда строки, ставшие замечательной песней, о солдате, вернувшемся с войны и нашедшего лишь пепелище – ни семьи, ни дома:
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Не побоялся написать такое. Что, плели чушь поэты русские, наследники Державина, Пушкина, Лермонтова, Некрасова? Или «зеркала русской революции» Льва Толстого? Так думали мы, советские люди, по мнению циников – «совки». Можно назвать «совком» Александра Блока, приветствовавшего великую революцию? Или Анну Ахматову, Бориса Пастернака, Александра Вертинского, писавших восторженные строки о Сталине? Они что, из страха перед вождем вдохновенно сочиняли стихи о нём? Ведь в момент, когда немцы были почти на окраине Москвы, и в дни, когда Сталинград держался, что называется на ниточке, многие, многие сомневались, что мы погоним врага. А он сказал: наши силы неисчислимы, мы победим! Не страх, а почти религиозное уважение к нему владело людьми.
Давайте тогда отменим всю советскую литературу, книги той поры, кинокартины, спектакли, песни, симфонии, живописные полотна. Давайте заодно предадим забвению и Пушкина с Державиным, и Чехова с Горьким. И Толстого с Блоком… Они - предшественники наших художников слова, наших мыслителей. Чего мелочиться-то! Это же Пушкин писал о тирании демократии. Вот насмехаются над Чапаевым, и фильм о нём замазан анекдотами. Обострение борьбы с коммунистическим мировоззрением началась не с дискуссии, а с грязных анекдотов про Чапаева, Петьку, Анку-пулемётчицу. Боятся враги коммунизма вступать в открытый спор, - ведь надо при этом хоть и искажённо, повторить постулаты мировоззрения Маркса-Ленина, которые могут вызвать симпатии у простых людей. И оспорить - ой не просто. Проще сказать, что Ленин страдал дурной болезнью. Проще перевести всё на пошловатые анекдоты, а то говорить что-нибудь опять про чека и ГУЛАГ…Но давайте вспомним,сколько международных премий получил «Чапаев» после выхода на экраны в том самом 37-м году даже в буржуазных странах – по всей Европе и за океаном!!! Это мировая классика. Как и фильмы про Максима, про депутата Балтики учёного Полежаева, про монтажников-высотников и т.д. и т.п.
Я не ослеплён идеями коммунизма, но нужно же хоть чуточку уважать истину! Лучшие люди планеты всех национальностей были на стороне страны Советов. Бернард Шоу, прекраснейший художник слова, высокий ум демонстративно приехал праздновать свой юбилей в СССР. Лучшие писатели Америки, Европы, Азии, Африки приветствовали создание новой России, а сколько иностранцев воевало на стороне Красной Армии и в Гражданскую войну! В Забайкалье на реке Тунгир есть Мадьярский перекат, названный так в честь отряда интернационалистов-добровольцев, погибших здесь в последнем бою с японцами и белогвардейцами. В него входили не только венгры (мадьяры), но и немцы, итальянцы, австрийцы, чехи. Остатки отряда, попавшие в плен к белогвардейцам, тут же были расстреляны. Все до одного. Там стоит, так сказать, «самодельный» памятник. Его соорудил на свои средства мой давний товарищ, живший в Забайкалье, поэт Юний Гольдман. Сколько таких памятников на Руси! Правда, иные как-то странно разрушились, оказались снесёнными.
Согласимся, - у советской власти далеко не всё получалось идеально, были колоссальные просчёты. Но мы шли первыми по этому пути. И надо видеть разницу между естественными для первопроходцев ошибками, - с одной стороны, и приписываемыми нам преступлениями.
Больше всего меня занимает (возможно, и большинство думающих людей) один вопрос: разумно ли устроено наше общество, справедливо ли оно, по правде ли живут люди? Ведь мир всё более жесток и несправедлив, и становится всё более уродливым. Как сказано давным-давно, жизнь идёт от плохого к… худшему. Так оно и есть. И надеяться, что грызущиеся между собой за сверхприбыли «деловые люди» стихийно приведут человечество ко всеобщей гармонии, приведут народы к благоденствию, это всё равно, что надеяться, что рассыпанный шрифт сам собой сложится в «Илиаду», «Фауста» или «Гамлета»… Без ведущей, всеобъемлющей идеи надежды эти бесплодны. А между тем подавляющее число СМИ долбят одно: попытка построить коммунизм провалилась, и была враждебна человечеству, Октябрьская революция (преобразовавшая весь мир!!!) – это, мол, всего-навсего буйство пьяной матросни, купленной на немецкие деньги. Мол, классовая борьба – это исторический атавизм. Тут и спорить не хочется.
Знаю, какие факты ни приводи, противники «комуняк» будут твердить своё. Это похоже на свару из-за пропавшей курицы между деревенскими соседками, когда в ссоре, исчерпав все средства, одна приводит самый убийственный по её мнению аргумент: «А твоя тётка была кривая!»
ЗАВИДНАЯ ЧАСТЬ…
Вот теперь ежедневно и ежечасно слышишь по радио и телевизору гневные тирады в адрес большевиков-коммунистов, о КГБ или ЧК, о Колыме и ГУЛАГе.
Будто только этим и «славны» советская власть, СССР, КПСС. А ведь, если глядеть правде в глаза, оценивать явления прошлого исторически, не обеляя большевиков, имея в виду всевозможные гримасы времени, выяснится, что гражданскую войну, террор развязали враги коммунизма. Они первыми начали убивать вождей революции, стреляли в самого Ленина, создали так называемую «Добровольческую армию» для свержения молодого советского правительства. Вошли в сговор с иностранными государствами. Каким пыткам, мучениям подвергали революционеров, пленным вырезали на груди красные звезды. Сколько их полегло в белогвардейских застенках! В Сибири, в особенности в Забайкалье, где прошли моё детство и молодость, было великое множество мест, где остались до сих пор следы их зверств. И это не пропаганда, - с детства слышал множество рассказов простых людей о таких событиях. Трупами расстреленных рабочих и крестьян, даже только просто сочувствовавших большевикам, набивали колодцы; сжигали целые деревни, не желавшие подчиняться белым, а так же оккупантам, в частности - японцам. Ведь Сергея Лазо заживо сожгли, и это не выдумка, есть документы. А как надо было отвечать на это!?... Вот всё время в последних известиях по ТВ показывают, с пафосом осуждая «органы», как сегодня «правдоискатели» откапывают захоронения людей, расстрелянных при советской власти. Нечего скрывать, были страшные «перегибы», творимые теми, кого, как говорится, заставь богу молиться, он и лоб разобьёт. Да, это так. Но ведь надо показывать и многочисленные могилы людей, расстрелянных белогвардейцами. Это было бы справедливо. К примеру, на реке Тунгир в Забайкалье есть Мадьярский перекат, где белогвардейцами был полностью зверски истреблён отряд красных венгров-интернационалистов, сражавшихся здесь, в глубине Сибири, за советскую власть. Что-то никто теперь не упоминает о них, не раскапывает могилы…
И не надо упиваться песенками насчёт корнета Оболенского, - такие корнеты особенно зверствовали, полагая, что они-то и есть господа, призванные загнать в стойло быдло… Им не приходило в голову, что со временем, при власти, против которой они воевали, страну прославят люди иного рода, как, к примеру, Юрий Гагарин, сын всего-навсего свинарки и плотника…
Если большевики занимались лишь тем, что мучили людей, то чем объяснить их победу в гражданской войне? Чего это тысячи тысяч простых тружеников шли в красные партизаны, в Красную Армию «и на Тихом океане свой закончили поход»? Ведь белое движение поддерживали и страны запада, и Япония. Почему бежал Колчак, а не его противники? Кстати, расстреляли его не «коммуняки», - приговор вынесло многопартийное руководство Иркутска. То есть, он был ненавистен широким кругам народа.
Почему, как оказалось, коммунистическое движение породило такое великое искусство, такую литературу, такое сочувствие трудящихся всего мира? Почему??? Где новые Ионы Друцэ, Чингизы Айтматовы, Кайсыны Кулиевы, Давиды Кугультиновы, Расулы Гамзатовы – мастера литературы окраин бывшей страны? Где новые Шолоховы, Леоновы, Твардовские, Есенины, Маяковские, Эренбурги, - не хватит места перечислить всех советских русских мастеров литературы. А каких композиторов, художников, актеров, музыкантов родила советская власть! Это сказки, что Шостаковича якобы преследовали власти. Ему некуда было вешать орденов и знаков различных наград советской власти! И Борис Пастернак, - почитайте!!! - не такой уж антисоветчик. У него множество революционных произведений, есть восторженные стихи о Сталине… Как, впрочем, и у Анны Ахматовой, которая талантливо рисует портрет вождя пролетариата. Их что, заставляли писать такое? Грозили пытками? Они же не поддающиеся…
Вот как начинается одно из стихотворений Бориса Пастернака о советской власти:
Я понял: всё живо,
Векам не пропасть,
И жизнь без наживы –
Завидная часть.
А нынче, без этой «завидной части», открывается духовная пустыня.
Международный капитал очень-очень богат, не жалеет средств для борьбы за выживание. Но ему никаких баксов, никакого бабла не хватит, чтобы повернуть историю. Нынче коммунизм отступил под натиском купленных «идеологов». Как их оплачивают!!! Но это явление временное. Посмотрите на физиономии наших бывших коммунистов-«вероотступников», голосующих в парламенте за угодные капиталу решения, против своих недавних братьев по делу… Посмотрите. Они прячут взор… Ибо, как ни крути, а со временем придётся отвечать перед Историей…
В общем, как правильно выразился нобелевский лауреат, «жизнь без наживы – завидная часть». Эта мысль вновь овладевает массами.
МАГИЯ ОБЫКНОВЕННОГО
Из чего изготовлено знамя? Да обычная ткань. Возможно, похожая на ту, что идёт на пошив, скажем, юбки, рубашки или, трусов… Почему же этот лоскут имеет запредельную силу? В истории России не раз случалось такое. Видя, что его войска бегут под натиском неприятеля, командующий приказывает: «Знамена вперёд!» И его изнурённые воины внезапно бросаются в атаку и… побеждают превосходящего по силе противника. Подобное случилось, в частности, при взятии Суворовым Измаила. В чём дело? Какая-то тряпица на палке обретает магическую силу.
…Идём целый день по жаре, обливаясь потом. Кто поверит, что изнеможение может дойти до такой степени, что солдат даже не в состоянии есть, когда среди дня походная кухня предлагает вкуснейший борщ. К концу перехода в шестьдесят километров заплетаются ноги, кажется, ещё шаг, и упадёшь. И вдруг… «Там-там-там-тари-ра-рам!» – у дороги нас встречает полковой оркестр, - врезал марш «Прощание славянки». В тебя словно впрыснули какой-то эликсир, ты вновь бодр, ноги сами шагают в такт музыке, сердце налилось надеждами и желаниями… Прагматики, заткнитесь. Есть что-то нематериальное, что мощнее сиюминутных выгод, что способно как бы возродить умирающего человека. Это очень важно знать. И учитывать. В особенности теперь, когда поруганы святыни, когда пошлость и низость царят на земле.
Как издеваются теперь над возгласом: «За Родину, за Сталина!», который использовался во время Великой Отечественной! Мол, это придумано пропагандистами ненавистного «злодея». Ну, хорошо. А можно ли вообразить, что теперь в бою кто-то закричит: «За Родину, за Жириновского!» Или: «За Родину, за Солженицына!»? Или: «За Родину, за Сахарова!» (Поставьте любое ныне знаменитое имя). Годится?.. Как говорится, щас – тут же все бросятся на врага… Такое даже вообразить невозможно. Да разве мы, идя в бой, имели в виду живую особь с требухой, с недугами- какого-то высокопоставленного мужика, справляющего по утрам нужду в клозете?? Дело в том, что в имени Сталина сфокусировалась суть желанных идей, за которые можно умереть. Оно поднимало воинов под ураганным огнём. Я знал таких. «Да, были люди в наше время…»
Это правда. На войне иначе думается, иначе чувствуется, иначе дышится. Этого не понять ни изнеженному барину ни прикормленному холую…
Мне удивительно, что теперь, исполняя замечательное стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом», чтецы обычно опускают два ключевых четверостишия:
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За советскую власть,
Точно так же, быть может,
Шагом дальше упасть.
Боятся, боятся властвующих «демократов», для которых и имя вождя, и даже слово Знамя, – это, как серпом по одному месту…
Из чего изготовлено Знамя? Из благородства, из верности, из лучших наших надежд. И вождь – он тоже был знаменем.
ОРУЖЕЙНАЯ ФАМИЛИЯ
Каждый раз, когда приближается 22-е июня, мысли невольно текут как бы на фоне кружения подробностей тех дней, тех лет, во властной памяти былого…
Буквально на днях в интернете наткнулся на статеечку о нашей школе (посёлок Оловянная Забайкальского края) – там упоминалась и моя фамилия в числе известных её питомцев. Так, оказывается, с войны не вернулось 49 её выпускников. Школа-то небольшая, то есть почти все парни-старшеклассники моего времени остались там, на месте сражений. И всех их, так или иначе, я знал…
Как-то Василий Андреевич Толоченко, вместе с которым я работал на киностудии «Молдова-фильм», рассказал мне об одном небольшом, но досадном огорчении, тревожащим его уже не одно десятилетие. Перед Курской битвой, он, будучи рядовым солдатом разведроты, написал письмо родителям, в то время находившимся на оккупированной врагом территории, и попросил хозяина хаты, где располагался, отправить его сразу, как освободят Молдавию. Дело в том, что когда началась война, Толоченко был не дома, а на левом берегу Днестра, учась в ФЗО, и вскоре был призван в армию; так и не попрощался с родителями. Теперь, зная, что впереди страшные бои, написал родителям о том, что если погибнет, то где следует искать его останки. Сообщил им номер своей полевой почты и название части. Хозяину, у которого располагались разведчики, надо было после войны только опустить солдатский треугольник в почтовый ящик. Но письмо так и не дошло… «Вот фамилию этого мужика не могу вспомнить. Какая-то оружейная фамилия. Ситуация, словно в чеховском рассказе «Лошадиная фамилия». То ли Винтовкин, то ли Гранатов, то ли Порохов…» Я поинтересовался, в каком селе это было. И был поражён,- оказывается, - в Прохоровке, а это буквально рядом с селом Тетеревино, где родился я… Кстати, стёртом с лица земли в том танковом сражении под Прохоровкой.
- Так в чём дело, едем туда, моя машина на ходу.
И мы поехали. Отчасти из желания всё-таки узнать «оружейную» фамилию.
С нами был сын Василия Андреевича, тогда ещё школьник, а также мой друг писатель Михаил Хазин, известный своей книгой про командира подводной лодки Александра Маринеско, того самого, что произвёл «атаку века», потопив громадный фашистский транспорт с офицерами и генералами. Михаил перевёл немало книг с молдавского, в том числе и знаменитую пьесу Иона Друцэ «Каса маре».
 |
|
В.Толоченко |
Толоченко был очень скромным человеком, и я, хотя и долго общался с ним, в частности вместе путешествовал однажды по Румынии и Болгарии, - не от него узнал, что 6-го ноября 1943 года он в составе небольшой группы разведчиков водрузил над Киевом Красное Знамя, когда в городе ещё действовали немцы. Об этом я узнал из давней-давней, ещё военной поры, газетной заметки писателя, тогда довольно известного, Александра Авдеенко, написанной, что называется, по горячим следам. Ещё было известно, - Толоченко участвовал в Парадах Победы, уже, будучи ветераном войны. Его не раз приглашали и на торжества в Киев как освободителя столицы Украины. Со временем, когда там узнали, что Василий Андреевич по национальности не украинец, а молдаванин, в документах о водружении знамени победы над Киевом появилась иная фамилия… Но это уже частность, и иная тема. Я - об «оружейной фамилии».
Поездка вышла замечательная. Было раннее лето, зелень буйствовала, встречные люди были добры и приветливы, у дороги встречались группы крестьянок, торговавших молоком, сметаной, молодой картошкой, огурцами, помидорами, ранними яблоками. Мирная, благодатная пора.
По дороге мы посетили поле под Полтавой, где в давнюю-давнюю пору Пётр Первый успешно проводил шведов, где «за учителей своих» поднимал заздравный кубок. Уже после посещения Прохоровки проехали и до Бородинского поля, по дороге ночевали на Бежином лугу, известном по рассказу Тургенева, побывали и в Толстовской Ясной поляне. Тут тоже было много любопытного, но рассказ мой о другом. Но всё это было, что называется, как бы в атмосфере Прохоровского сражения.
В Прохоровке в то время ещё не было комплекса мемориальных памятников, музей битвы ютился в небольшой хатке. Им ведал бывший председатель райисполкома. Мы его расспрашивали о той поре, о том, в частности, чем занимались и они – руководители района. Среди прочего он рассказал, что после сражения партийно-советскому активу было поручено собрать с убитых бойцов «документы строгой отчетности», главным образом партийные и комсомольские билеты. - «И сколько же собрали?», - поинтересовался я. - «Много». - «А куда их складывали?» - «В мешки». Нас заинтересовало, что это за мешки, - «Обычные мешки, из-под зерна или картошки». Я удивился: «Вы не ошиблись? Сколько же этих партийных и комсомольских билетов могло набраться, если понадобились мешки?» Ответ был поразительный: «Шесть мешков…»
Да…
Когда мы с Толоченко бродили по окрестностям, в одном месте он внезапно остановился и довольно долго молчал, по всей видимости, что-то его давнее переживая. Я не стал расспрашивать. Однако он сам вскоре пояснил: «Понимаешь, вроде мелкая деталь, а что-то затронула. Вот здесь я ехал в машине со своими разведчиками, гляжу, навстречу «виллис» с военными. Один из сидящих в машине - грузный военный в плащ-палатке – погон не видно – окликнул: «Кто такие?» Ну, мы, разведчики, не лыком шиты, в ответ спрашиваю: «А кому докладывать?» - «Жуков я! – повышенным тоном отозвался маршал. Потом уже спокойней стал интересоваться другими вопросами.
…С Василием Андреевичем мы поднялись на верхнюю часть Прохоровки, нашли место, где когда-то стояла хата, приютившая разведчиков. Собрались соседи, затеялся разговор. Старики припомнили то время, хозяина этой усадебки. Выяснилось, что его фамилия – Пуляев… Действительно, воинственная фамилия. От слова пуля. Он умер вскоре после знаменитого сражения. Староват был, а тут такие события... Нашлись и его дальние родственники. Но никто из них не знал, куда запропастилось то солдатское письмецо.
из рассказа ВЫСТРЕЛ НА ОПУШКЕ
Как-то поехали мы в Приозёрное, (прежде Чамашир) - родное село Павла Боцу (молдавский советский поэт и писатель, с 1965 года - председатель правления Союза Писателей Молдавской ССР, с 1967 года - секретарь правления Союза Писателей СССР, депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 7-го и 11-го созывов от Молдавской ССР - https://ru.wikipedia.org ) Была середина лета, юг Бессарабии изнывал от зноя. В селе открывался памятник воинам, погибших в боях Великой Отечественной. Казалось бы, абсолютно бесконфликтное «мероприятие». Но здесь можно было наблюдать поистине душераздирающие сцены, когда мать видела на только что открытом памятнике-обелиске имя сына, погибшего в рядах Красной Армии, но напрасно искала имя другого, – которого взяли в армию уже румыны... И таких матерей оказалось немало, они со слезами требовали от Боцу справедливости в этом деле, - матери хотели видеть на обелиске имена всех погибших сыновей. Какое им было дело до политики, для них все они - родная кровиночка! Нелегко было Павлу выйти из этой ситуации. С нами был замечательный украинский поэт и актёр Микола Винграновский. Потрясённый увиденным, он рассказал с трибуны такую историю.
 |
|
Микола Винграновский |
Будучи ещё младшеклассником, вместе с матерью он искал в грудах только что расстрелянных немцами партизан их села, своего старшего брата и не нашёл. Его матери в следующую ночь удалось на мгновение заснуть и ей приснился убитый сын, изуродованный до неузнаваемости, который сказал, что он лежит третьим с краю во втором ряду, мол, ты, мама, несколько раз прошла мимо и не узнала. Утром мать вместе с Миколой пошла на место расстрела, где лежали ещё не убранные трупы, и нашли брата именно там, где он указал, приснившись матери. Винграновский закончил свой взволнованный рассказ словами: «Мой расстрелянный немцами брат, даже лишь приснившись матери, разговаривал на родном языке...» Под впечатлением от этой истории я написал небольшую балладу:
Мать партизана
Идёт со свечкой восковой
Во тьме, где смерть всё искромсала, -
Мать ищет сына:
часовой
пустил за самогон и сало.
Бесшумной тенью, как в бреду,
мать движется над чёрной ямой.
...Я третий во втором ряду,
постой, ты не узнала, мама...
Узнать непросто при свече
да после пыток в том подвале.
...От края третий... На плече
Кровавый след кинжальной стали...
Пусть за молчание – расстрел,
я не признался на допросах...
Мать бродит среди мертвых тел
в рядах лежащих у откоса.
Окостенело всё внутри,
отравлено холодным дымом.
...Я во втором ряду... Смотри...
Она опять проходит мимо.
Уже редеет в поле мгла,
И часовой старуху гонит.
...Я третий во втором...
Прошла...
Меня безвестным похоронят!
…С Боцу мы были гостями последнего при существовании СССР съезда писателей России. Там был дан первый открытый бой закосневшей силе застоя. Звучали живые голоса как бы обновлённых писателей. На наших глазах случались остродраматические столкновения. Тут мы впервые столкнулись с «захлопыванием» неугодных ораторов – едва такой открывал рот, как раздавались долго не смолкающие аплодисменты. Так произошло с известным тогда поэтом и драматургом Анатолием Софроновым, редактором популярного журнала «Огонёк». Зал буквально неистовствовал, не давая ему вымолвить слова. Сперва он недоумевал, оглядываясь вокруг, думая, что это относится не к нему, но вскоре понял, что его время ушло, и спорить с залом бесперспективно. Большой, грузный, уже старый, он подтянулся, сделался стройней, не теряя самообладания, сошёл с трибуны, по-военному повернулся боком к президиуму и строевым шагом двинулся вдоль сцены, громко запел свою знаменитую песню «Шумел сурово брянский лес...» Голос у него был оперно-красивый, чистый.
Между прочим, Софронов рассказывал мне, что сочинил эту песню, находясь в тылу у немцев в землянке командира 1-го Молдавского партизанского соединения Василия Андреева, которого я тоже хорошо знал, и который подтвердил этот факт. Теперь и Василий Андреев забыт, и песню эту, сделавшуюся народной, что-то не слышно. А тогда её часто пели люди, даже в застолье.
...Зал смолк, старый писатель прошёл строевым шагом до своего места в зале. На несколько минут воцарилась тяжкая тишина…
ОДНО ТОЛЬКО СЛОВО
Эту небольшую часть из долгого рассказа младшего брата моей жены о своей жизни я записал как сумел в тот же день, как услышал.
...Немцы, которые расквартировались в нашей хате, едва вошли, сразу же захотели есть, принялись что-то варить, жарить. Один из них румяный, благодушный, видно, повар, вынул из ранца чистенький фартук, занял стол, очистив его от нашей посуды. Оттеснив мою мать в сторону стал нарезать мясо, которое они принесли с собой. Выбрал большой чугун, жестами показал, чтобы мать налила в него воды.
Остальные немцы были злые, желчные. Ведь это было уже когда их гнали, ранней весной сорок четвертого. Во дворе тарахтел мотор длинного грузовика, видно, что-то испортилось, шофёр возился в нём. Надо сказать, что наше село в стороне от больших дорог, и мы в сущности почти всю войну и не видели немцев - прошли, оставили жандармерию, и больше не заглядывали. Омерзительное это ощущение, когда в твоём жилье хозяйствуют чужие люди, захватчики, а ты ещё малыш и не в силах ничего поделать. Ходят по хате, везде заглядывают, всё берут без спросу. Мать затолкала нас за печь, чтобы не попадались на глаза, а то ещё в раздражении ударить могут. От них всего жди. Тем более, что в селе было известно; мои старшие братья воюют в Красной Армии... Так что лучше помалкивать.
Самый раздражённый, желчный немец - худой, с лёгкими рябинками на розовом лице, растапливал печь. Когда в печи загудел огонь, обнаружилось, что в хате нету дров. Рябой немец взял наш топор из-под лавки, пошёл рубить дрова. Послышались удары топора прямо в сенях. Мать выглянула, всплеснула руками: немец отрывал доски от сеней и тут же прямо на полу рубил их. Мать запричитала, мы в страхе забились поглубже в угол. Мать стала объяснять, что дрова есть в сарае, хотела их принести, но немец взъярился, не пустил её во двор, стал ещё злее рубить сенцы.
Он не понимал её, должно быть, откуда ему было знать молдавский язык. Да нет, понимал, да делал назло! Тогда мать, научившаяся складывать фразы по-русски за год, что жили при Советской власти после освобождения в июне 1940 года, перешла на русский, полагая, что таким образом еёслова получат больше авторитета, что ли, или же будут понятны демцу. И с первого, же слова чуть не погубила себя и всех нас.
- Товарищи! - воскликнула она. - Да что же это делается?!.,
И осеклась... Как пришлось по душе тогда, в сороковом году, это слово, каким оно было волшебным, способным расположить к разговору любого. И вообще с этим словом связывалось народное понятие о справедливости. Вот оно и соскочило с языка. При этом её возгласе она сама испугалась, а все немцы вскочили, схватились за оружие, стали озираться. Знают, оказывается, слово «товарищ»!.. Один из немцев, видно, старший по званию, тот, который сразу же, как только вошёл в хату, улёгся в тепле на лавку и углубился в журнал со снимками длинноногих полураздетых красавиц, тоже вскочил, подошёл к матери, раздражённо стал махать длинным пальцем перед её глазами:
- Товарич нихт! Плёхо - товарич! Надо это... забывай навсегда! Тьфу,-он и вправду сплюнул, - тьфу на товарич!..
Мать побледнела, а я зажал рот, чтобы удержаться от смеха. Как они всполошились, как напугались, какой суеверный ужас у них вызвало это слово, одно только слово. А ведь хотели победить целый язык!..
из статьи АННА, АННУШКА, АНЮТА
Если у тебя в молодости не было несчастья – купи его, - говорят на Востоке. По мнению азиатских мудрецов, выросший в абсолютном благополучии и холе человек всё-таки не надёжный и недостаточно ценит жизнь. Если эта пословица и справедлива, то, видимо, всё же нужна, хоть какая-то мера. Такой прорвы несчастий, бед, горя, что выпало в юные годы на её долю, не вынес бы никто другой, не обладай он таким жизнелюбием, стойкостью и терпением. Зато и человек это был редкий. Может быть – редчайший…
К ней лишь иногда кто-нибудь обращался по имени отчеству, лишь в деловых разговорах. Для читателей это была Анна Лупан. Друзья её величали Аннушкой. Близкие же – Анютой. Так ненавязчиво справедливой, душевно привлекательной, так приветливо-дружелюбной ко всем была она, что иного обращения не приходило на язык. Подруги и друзья ценили её расположение и привязанность. До последнего мгновения она заботилась о других. Её последние слова буквально перед предсмертным вздохом были полны не только страдания, но больше сострадания: «Не плачь, Коля, а то я сама заплачу…»
На её лице навсегда застыла слабая улыбка освобождения от боли и несправедливости судьбы. Незадолго до её конца заговорили о Боге, она недовольно двинула кистью руки: «Он был несправедлив ко мне… Если он есть…»
И в самом деле, столько страданий, столько обманов, столько рухнувших надежд. Бедное детство, когда даже не во что было обуться, чтобы пойти в школу. Представляю, какая мука была девчонке идти в класс, обувшись в громадные изношенные мужские ботинки, выброшенные кем-то и подобранные отцом. Это бессовестная ложь, когда некоторые утверждают теперь, что прежде у крестьян была райская жизнь. Анна не раз вспоминала, как вернувшись из Резины с базара с возом непроданного зерна, за которое предлагали смехотворную цену, равную может быть стоимости пары постолов, - ни у кого не было денег, - отец несколько дней лежал подавленный без движения. Не разговаривал, не ел, и в доме наступала тягостная тишина. Семеро детей было у Павла Матвеевича, её отца, крестьянина, одно время работавшего в каменоломнях и покалечившего там ногу. Шестеро сынов и одна дочь-любимица. Братья тянулись к учёбе, которая не принесла им в те годы благополучия. Степан вернулся домой с дипломом агронома. Пешком вернулся. Не было денег даже на билет. А приложить полученные знания было негде. Отец, страдая, и чуть не плача от жалости к сыну, выгнал его из дому, чтобы сам себе искал работу и пропитание. С великим трудом Степан устроился у какого-то помещика, но проработав год, не получил ни шиша, вернулся домой весь в заплатках… В конце концов, повезло устроиться на Шолданештский табачный завод, и то по причине умения играть на трубе: хозяева создавали свой оркестр, а Степан Лупан был отменный трубач…
Ещё хуже складывалась судьба у Николая, старшего её брата, страстного книгочея, эрудита, философа-земледельца, сделавшегося уже в советское время видным преподавателем, воспитавшего плеяду мастеров земледелия Молдавии. В молодые годы пришлось хлебнуть безработицу, затем во время войны – плен, где испытал и побои и издевательства, и невыносимый голод. Затем – побег из фашистского лагеря, долгая болезнь… Всё это нашло отражение в моей повести «Гнездо и посох», - она навеяна рассказами Николая Павловича, с которым мы особенно дружили. Ведь женившись на Анне, я приобрёл сразу шесть дорогих мне братьев… В этой повести мой герой – безымянный, мне хотелось запечатлеть как бы собирательный образ лучших людей его поколения.
Андрей, учась сперва в Кокорозенах, а затем в Ясском сельхозинституте, связался с коммунистами, из-за чего жандармы наведывались в их маленький домик в селе Михулены, расположенном над речкой Черна, к поэтическому описанию которой Анна возвращалась не раз в своих романах, повестях, рассказах. Надо сказать, что едва фашистские войска вошли в Бессарабию, как в доме Лупанов всё перевернули жандармы, увели в Кишинёвскую тюрьму брата Василия (ему шёл 14-й год) – пешим ходом, а расстояние около сотни километров… Брат Фёдор служил в румынской армии, пытался дезертировать, родители, перепуганные насмерть, убедили его вернуться в часть.
…Юная комсомолка Анна, работавшая лаборанткой в местном «Заготзерно», в первые дни войны уехала в эвакуацию вместе с эшелоном, вывозившем пшеницу. По дороге её обокрали, погибли документы, а без них девчонку сняла с эшелона одна из застав, и осталась она одна в чужой казачьей станице Кореновке. Не зная русского языка. Без денег. Без хоть чьей-нибудь поддержки. Решила, по примеру своей тёзки из русской классики, искать выход под колёсами…
Да что я говорю! Тут мне надо бы просто перепечатать главу из её большого, основанного на личной судьбе, романа «Черешни белое цветенье». Главу, появившуюся в своё время в печати в виде рассказа «Тётя Катя»… Простая русская женщина по имени Катя спасла её, приютила, словно дочку, согрела, устроила на работу. Более того, отрывая деньги от самых неотложных нужд, купила ей туфли – первые в жизни…
Недавно, роясь в своём архиве, наткнулся на справку такого содержания: «Выдана гр-ке Лупан Анне Павловне в том, что она работала во 2-м Кубанском сахарном заводе им.Микояна с 5-го августа 1941 года по 5-е августа 1942 года в качестве уборщицы и кочегара». Бумага давно пожелтела и рвётся на сгибах. Между прочим, у неё с малых лет пристрастившейся к чтению, была волшебная мечта – стать библиотекаршей. Золушка так не вожделела стать принцессой, как Анна получить доступ к книгам. Но и работа кочегаром была спасением. Анна всю жизнь переписывалась с тётей Катей. К нам приезжали в гости её повзрослевшие дети.
После того, как этот отрывок в виде рассказа был передан по всесоюзному радио, лавиной в наш адрес посыпались письма от благодарных слушателей. Откуда только ни писали. Впрочем, в наши дни все подобные истории преданы насильственному забвению…
Ах, об этом ли нужно вспоминать!.. Да и надо ли мне рассказывать то, о чём читатель может узнать из её книг. А вот не могу удержаться, чтобы не упомянуть передвижной фашистский концлагерь, с которым она пешком (пешком!), почти босая, под конвоем прошла из Ростова. Где её арестовали оккупанты, до Тирасполя, где держали уже в стационарном концлагере под охраной вместе с другими подозрительными лицами. Оттуда – под конвоем до родных Михулен, где вскоре судили и лишили гражданства. Надо было еженедельно ходить в Шолданешты и, отстояв чуть ли не целый день в очереди, отметиться в жандармерии как лицо без гражданства. Иначе – в кутузку, а проще – в холодный подвал, на сутки, двое…
Представляю, в каком потрясении встретили её родители после долгого отсутствия – босую, в отрепьях, простуженную, израненную во время одной из многочисленных бомбёжек её сбросило с крыши здания сахарного завода. Где она, как и другие работники, дежурила, чтобы гасить зажигательные бомбы. Позже это падение сказалось самым жестоким последствием, оказался поврежден позвоночник, последовало многолетнее скитание по больницам, свирепая многочасовая операция (без наркоза!) Шесть лет она лежала закованная в гипс. Но эти годы стали её первыми университетами - окончила заочно сельхозтехникум, прочитала уйму книг, написала первые рассказы.
 |
|
Анна Лупан |
…В начале учебного годы на Высших литературных курсах в Москве мы случайно столкнулись с ней на лестнице, нас познакомили, и так получилось, что с той минуты мы больше не расставались – до её конца. Потом она мне призналась, что ещё девчонкой видела меня во сне, и, любопытно, что её описание, как я выглядел в её сновидении – полностью совпало с тем, каким я помню себя в то время, - и по внешности, и по одежде. Это почти мистика, но это было так.
За эти четыре десятилетия я не помню ни одной ссоры или даже маленького недоразумения. Всегда доброжелательная, рассудительная, с удивительным тактом и чувством юмора она создавала вокруг себя атмосферу какого-то магнетического тепла и благородства. Правда, случались столкновения – на творческой почве, ведь мы множество раз обсуждали и написанное за день ею, и мной, и задуманное, и затеянное…
… Как-то я её спросил, когда она была особенно счастливой. – «А вот сейчас, – ответила она, - когда смотрю на вот этот каштан на фоне заката…» - «А когда у тебя было самое сильное потрясение?» – «Осенью в сорок втором мы подавленные, несчастные, голодные шли под вражеским конвоем в Молдавию, и вдруг в одном селе слышим, как солдаты очень браво в строю поют: «Раз, два, три калина, чернявая дивчина, в саду ягоды рвала…» Таким родным пахнуло! Не веря в своё счастье, мы бросились навстречу солдатскому строю - наши! Они были такие ладные, пышущие здоровьем, так стройно шли. И вдруг видим, - на них фашистская форма. Оказывается это власовцы… Страшней ничего в жизни меня не поражало… Ничего нет отвратительней предательства!»
Такая она была…
из статьи ПРОПАВШЕЕ СЛОВО
…Как-то мы разговорились в задушевной беседе с поэтом Сергеем Наровчатовым об окопной жизни, о фронтовых товарищах, о духовной атмосфере той поры (он прошёл и финскую кампанию, и Великую Отечественную, был ранен). На мой вопрос, как он переносил бомбёжки, артиллерийские налёты, Сергей Сергеевич, будучи убеждённым коммунистом, работавший на ответственных постах, не, задумываясь, ответил: «А я читал про себя Лермонтова:
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел…»
Знаешь, ангел помогал…»
Люблю и я это стихотворение. Оно и в мирное время целительно.
Ангел пролетел…
…Не могу забыть, как однажды на фронте, спрятавшись от дождя под кузов «студебеккера», читал случайно подвернувшийся (нашёл в кузове редакционного грузовика среди брезентовых чехлов и котелков) роман «Гений» Теодора Драйзера и так увлёкся, что только в последнюю секунду чудом увернулся от наезжавшего на мою голову колеса внезапно тронувшегося грузовика. Я тогда ещё мечтал стать художником, и трагическая судьба героя этой книги, гениального художника Юджина, раздавленного реальностью осатанелого бизнеса, потрясла меня настолько, что я как-то выпустил из вида окружающую действительность – отдалённую стрельбу, голодное брюхо (где-то потерялись тылы с кухней), неприятный холодок дождевой влаги, подтекающей под бок, опасность бомбёжки или артиллерийского обстрела…
А ещё помню необыкновенную юношескую любовь – в сердце поселилась заокеанская бедная девушка с пленительно-обаятельной душой по имени Дженни Герхард из одноименной книги того же Драйзера. Пожалуй, это был самый высокий и просветлённый порыв моей ещё ничем не замутнённой души – немедленная готовность броситься на помощь этому обманутому существу, в тяжких испытаниях не потерявшему «прелесть неги и стыда». Она жила в моём воображении совершенной реальностью. Драма её любви – материальное, как теперь сказали бы, неравенство с любимым – сыном миллионера, который и сам гибнет из-за этого… Не знаю почему, но эта «мысленная» моя любовь ощущалась явно, вполне реально и даже вызвала стихи, которые я почему-то долго стыдился публиковать, настолько это было интимно. Может быть, это любопытно для психолога, психоаналитика. Но так было…
КОМЕНДАТУРА
«От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант
заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы,
и дружески советовал мне оставить стихотворство,
как дело службе противное
и ни к чему доброму не доводящее»
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»
– Может, ты ещё и поэт? – спросил он с едкой насмешкой.
– Да, – согласился я, полагая, что все на свете при слове поэзия мгновенно умнеют и добреют. – И стихи пишу. И печатаюсь. Даже в журналах.
– Тогда иди чистить уборную! – произнёс он с невыразимой ненавистью, проглотив непроизнесённое слово «гад» и едва слышно скрипнув зубами.
Этот разговор произошёл, когда два молодых солдата-пехотинца с повязкой патруля на рукаве, задержав меня при выходе с читинского вокзала, привели в комендатуру и поставили перед сержантом, одетым в офицерскую шинель нараспашку, синие диагоналевые галифе, хромовые сапоги. Белокурый, красногубый, голубоглазый красавец-куколка. По всей видимости, «ходок» по бабам. Портили его лицо лишь небольшие коросточки по углам губ.
Я приехал в Читу по указанию политуправления Забайкальского военного округа на конференцию писателей Забайкалья, которое должна была учредить областную писательскую организацию. По всей видимости, дежурным по комендатуре нужно было перед начальством продемонстрировать свою «работу», они хватали всех солдат у вокзала, и меня взяли, так сказать, для галочки. Задержанный ни за что, грубо, хамски, я протянул хлыщу-сержанту командировочное удостоверение, полагая, что тот сразу поймёт, с кем имеет дело. Но, прочитав слова «Союз писателей», он почему-то нездорово возбудился и задал этот вопрос, что приведён выше…
Сидевший у окна над книгой молодой лейтенант поднял голову и немного охладил пыл сержанта:
– Уборную сегодня уже почистил один такой «артист». Пусть подметёт двор и проваливает.
Сержант, похоже, любимец начальства, не согласился:
– Нет, пусть ещё раз почистит, – помолчав, добавил: – А потом и подметёт.
От обиды я чуть не взвыл. К этому дню я прослужил в армии солдатом уже пять с половиной лет, участвовал в боях, имел ранение, медаль «За отвагу», а этот юнец, по всей видимости, кладовщик со склада ПФС, так нагло, с беспричинной ненавистью командует мной. Я чувствовал, что его раздражают мои чёрные погоны танкиста. Я служил в 6-й Гвардейской Танковой Армии в городке Борзя и не раз был свидетелем стычек солдат разных родов войск. Но, кроме этого, я понял: этих людей выводит из себя слово «поэт».
– А что я натворил? За что меня задержали?
Сержант с сарказмом ухмыльнулся:
– Сапоги не почищены.
– Где?! – я вытянул ногу в начищенном сапоге.
– На бороде! Он ещё спорит. Отправим прямо на губу!..
Много лет спустя мой давний приятель Давид Кугультинов, у которого я был дома в Элисте, – мы сочиняли большой диалог о Пушкине для журнала «Литературное обозрение» – рассказывал мне нечто подобное. Надо сказать, он тогда не мог приехать в Москву, как мы прежде договорились, – был очень утомлён, так как только что вернулся из поездки в Японию в составе делегации СП СССР. Между прочим, там был окружён особым вниманием как представитель народа, упомянутого Пушкиным: «Друг степей калмык». Когда его, бывшего офицера-артиллериста, прошедшего войну, за невинное сопоставление колхозов с подобными хозяйствами в Европе, высказанное в частном письме, отправили в лагерь в Воркуту, на лесоповал, какой-то небольшой лагерный начальник спросил, а какая у него профессия, Давид ответил:
– Поэт, член Союза писателей СССР.
О, как взвился начальничек:
– Уборную чистить – этого калмыка! Уборную чистить!.. Поэт!!!
Почему некоторых людей, в особенности маленьких начальников, выводит из себя это слово, я долго не мог понять.
С тех самых лет солдатчины я никогда не употребляю этого слова в отношении себя, в лучшем случае представляюсь: литератор. Но бывает, нужно правильно назвать свою профессию. Как-то, собираясь в туристическую поездку за границу, заполняя анкету, на вопрос о профессии, чтобы точно определить её (дело происходило в Молдавии), написал: «русский писатель». Не молдавский. К этому времени я выпустил десятка полтора книг и книжек. Надо было видеть, каким гневом вспыхнуло лицо сотрудницы нашего Центрального Комитета партии, занимающейся вопросами туризма:
– Русский писатель – это Толстой! Тургенев! Чехов!
– Но это моя профессия, у нас государством узаконен статус писателя. Я с утра и до ночи только этим и занят. Я этим кормлюсь. Как иначе прикажете именоваться? А что русский – что же тут позорного?
– Ха! Он не понимает!
Да... Вот если бы я был хотя бы маленьким начальником – другой разговор. Сейчас в это трудно поверить, но мне отказали в поездке в Африку…
Как-то Андрей Лупан мне рассказал, что к нему, когда он возглавлял Союз писателей Молдавии, зашёл один секретарь райкома со словами:
– Слушай, дай мне человек пять прозаиков, я им скажу, что писать, у меня такой роман в голове. Скоро мне на пенсию, тогда пройдусь по их писанине и выпущу мировую книгу. Почище «Тихого Дона».
Тоже – художник слова…
И по сей день я чувствую себя как бы в той читинской комендатуре. В мире ничего не изменилось… Нет, вру – изменилось к худшему: теперь писатель, поэт уже на правительственном уровне вообще выброшен из жизни как вредный элемент. Его гражданский статус не определён. Так, какой-то вызывающий раздражение чудак, бомж. Наконец-то чванливые ничтожества чувствуют себя хозяевами. На что им волхвы, пророки, какие-то там ещё поэты?! Этим людям – низменным, ушлым, примитивно прагматичным, верящим только в силу денег… Естественно, что-то светлое не из их мира, что-то непонятное – пугающе враждебно им. Вот был бы я шансонье, поп-музыкант или комик-анекдотчик, можно было бы за деньги пригласить на именины или иное ресторанное действо – на забаву…
Признаться, я до сих пор вздрагиваю, увидев патрулей с красной повязкой на рукаве. А вообще-то, не труслив…
***
Душа бессмертна - по ученью Будды –
И перейдёт к орлу иль червяку...
Не важно то, кем после смерти буду, -
Кем оставался на своем веку.
Но страхи мне, скудельному сосуду,
Которого могли смолоть в муку,
Нередко диктовали быть верблюдом,
Быть червяком... Дух вёл свою строку:
Я человек! И, страх превозмогая,
Обрёл терпенье, поднимаясь ввысь.
Душа и тело навсегда слились.
Бессмертна ли душа моя, не знаю.
Ей оболочка не нужна иная,
Её одна моя питает жизнь.
ЖИЗНЬ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ
Во фронтовой записной книжке Андрея Платонова есть такая строчка: «Один красноармеец сказал: бой есть жизнь на большой скорости». Как это верно замечено! Недаром год войны засчитывался в послужном списке за два. Мало! Справедливо было бы фронтовой год приравнять к пяти обычным. А может быть и больше. Замечательный прозаик Платонов развил эту мысль: война с необыкновенной быстротой образует человеческий характер, ускоряет процесс жизни. Великая война, отгромыхавшая пятьдесят пять лет тому назад, сформировала великое множество людей, выковала неповторимые, небывалые характеры.
Жизнь на большой скорости соответственно и укорачивает её. Дело в том, что фронтовики и после войны по инерции, что ли, жили в большинстве своём, так сказать, на большой скорости. Оглянитесь, сколько построено! Другое дело – какие были приоритеты, в какой последовательности это делалось, какие методы использовались. Но это не зависело от самих строителей. При всём при том никто не посмеет отрицать, - вселенский был порыв, работали с той же страстью, с какой громили врага.
Теперь принято или замазывать грязью, или попросту замалчивать деяния старшего поколения, и потому хочется хоть чуточку напомнить о фронтовиках.
Мы сломили фашизм, который есть самое отвратительное явление в человеческой истории – припадочный милитаризм, крайняя бездуховность, воинствующий аморализм, вообще – прибежище самых оголтелых подлецов и банкротов от политики. Мы видели фашизм в лицо. Как верно сказано Толстым, воевать не испытывая ненависти, безнравственно. И мы познали эту страшную ненависть к врагу, небывалое отвращение ко всему, что сопутствовало ему. Немецкие фашисты пришли к власти при чадном свете костров, на которых сжигалась мысль, поэзия человечества. Цинизм и ненависть к разуму, ко всему светлому и высокому была в основе их движения. Не случайно, пожалуй, первой жертвой фашизма во время фашистского путча в Испании 1936 года был один из самых проникновенных лириков мира Гарсия Лорка. С политиками ещё можно как-то договориться, поэзия же по природе противоположна фашизму и не поддаётся ни оружию, ни линейным доводам, ни подкупу, ни угрозам.
Из фашистской Германии уехали все сколько-нибудь значимые писатели, оставался один крупный прозаик Бернхард Келлерман, известный замечательными романами, но и он не поддался на уговоры гитлеровцев и не вступил в сотрудничество с ними, не клюнул на всяческие предлагаемые Геббельсом блага и почётные звания, жил в изоляции и под подозрением до мая сорок пятого, а сразу после войны выступил с яркой антифашистской книгой «Пляска смерти», которая явно созревала во время гитлеровского кошмара...
И вот теперь, как это ни прискорбно, фашизм возрождается, там-сям поднимают головы гитлеровские недобитки, пытаются охмурить молодёжь, стараясь стереть из памяти человечества великий подвиг наших народов, воевавших рука об руку с народами всех континентов, обеляя чёрные дела фашизма.
На западе писали и пишут, что войну против России нельзя начинать до тех пор, пока живы участники Великой Отечественной. Правильно. Хотя войну против нас никогда не следует начинать, даже когда не останется никого из тех, кто громил гитлеровцев, - безнадёжное это дело.
Что же это за племя такое – участники великой войны, заставляющие трезветь маньяков новых «блиц-кригов»? Время выбрало их, и их не с кем сравнить в истории. Наверно и другие поколения наших людей, окажись они на их месте, не сплоховали бы. Однако именно эти люди и именно в своё время справились с выпавшей на их долю исторической задачей безупречно, явив небывалый пример для грядущих поколений. Любой из воевавших тогда подтвердит, что каждый из нас, каким бы он ни был, в полную силу понимал свою историческую миссию. Я помню: каждому хотелось хоть чем-нибудь остаться в памяти последующих поколений. В нагрудных карманах бойцы и командиры носили вместе с дорогими письмами из дома и фотографиями родных вырезку из газеты, пусть самой маленькой «дивизионки», где хоть строчкой упомянуто его имя или название его части...
С гордостью я думаю о старших своих собратьях по войне, не могу без особого тепла вспоминать и своих сверстников, которые оказались самыми последними по возрасту на фронте. Ребята, призванные после нас, уже не попали на войну. Ныне уже пожилые люди, в прошлом - самые юные из участников войны, давным-давно на пенсии. И их осталось совсем мало...
В моей памяти, памяти человека, увидевшего войну прямо перед собой семнадцатилетним, её картины встают в памяти эпическими полотнами гомеровской силы, а люди – монументальными фигурами, равными античным героям. Это и одиночный боец в окопе, встречающий вражеский танк связкой гранат. Представьте, что на вас готов наехать велосипедист, и то страшновато, а тут такая махина, такой железный зверюга, изрыгающий огонь, словно кошмарный дракон. Это и передвижение несметных колонн по степи - танки, автомашины, орудия, пехота, повозки, - до горизонта, пыль под облака, ниже которых проносятся с рёвом свои и чужие железные птицы... Это и слепящие зарева пожарищ на полмира, это и ходящая ходуном под ногами земная твердь от удара «катюш», опаляющих пламенем небеса, когда ты, очевидец всего этого, надолго теряешь слух и начинаешь плохо ориентироваться...Ужасная, завораживающая, по-своему величественная картина, полная мощи, заряженная вселенским, неукротимым гневом...
Потери наши были неисчислимы, цена Победы велика. Оказались разрушенными и стёртыми с лица земли сотни городов, неисчислимое количество деревень, погибли сказочные богатства. Войной выжгло радость миллионов людей на десятилетия вперёд. Неужели мы забудем это?
А ведь есть силы, делающие всё возможное, расходующие громадные средства, чтобы люди всё это забыли. И в этом гнусном деле достигаются определённые успехи... Наш Пушкин давно заметил: «Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим». Иногда мне кажется, что дикость, подлость и невежество в наши дни набирают небывалую силу.
Надо вернуть читателям книги, рождённые на войне и сразу после нее, хранящие огонь правды – это произведения и Шолохова, и Леонова, и Эренбурга, и Твардовского, и Симонова, и Бондарева, и Бакланова, и Некрасова, и Васильева, и Адамовича... Всех не перечислишь, - литераторы, жившие вместе со своими героями, совершили тоже свой подвиг. Недаром статистика говорит: почти половина членов Союза писателей не вернулась с полей сражений. Воистину, как говорится на языке военных, пехотный выбой...
Не отдадим забвению наше прошлое. Поклонимся былому!
РЕВАНШ МЕЧА И ОРАЛА
(предновогодние раздумья старого человека)
Скорбит душа, ядовитая заноза не затихает в груди: подло извратили великое событие века - Отечественную войну. Новым поколениям она представляется вся сплошь в заградительных отрядах, которые гонят на убой. И ещё - новые «идеологи» ставят знак равенства между нами и фашистами. Тут и спорить неохота, даже унизительно вступать в такую полемику. Старшее поколение помнит всё, его не обманешь, вот почему идёт натравливание молодёжи на нас, видевших всё своими глазами. Вот почему молодёжь приманивают миражами и призраками «сладкой жизни», - по телевидению, в кино, в новой «литературе», буквально во всём звучит одно и то же: богатый счастлив, а бедный нет.
И даже страшновато - не за себя. Одна надежда - выведет на правильный путь людей совесть, она неминуемо должна проснуться. Очень это хорошо выразил Антон Чехов в декабре 1901 года в письме редактору «Журнала для всех» В.С.Миролюбову, которого наверно обуревали те же сомнения и страхи: «Скажу только, что в вопросах, которые Вас занимают, важны не забытые слова, не идеализм, а сознание собственной чистоты, т.е.совершенная свобода души вашей от всяких забытых и не забытых слов, идеализмов проч. и проч. непонятных слов. Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать её место шумихой, а искать, искать, искать, одиноко, один на один со своей совестью».
Временами я чувствую себя человеком, которому удалось выйти живым из-под обвала в шахте, где остались многие и многие, которых я знал и любил... Как больно, как прискорбно, как убийственно слышать о них только хулу, только ложь, и вообще всех героев моей юности, молодости, зрелость вообще хотят стереть из памяти. Ленина на экране превратили в карикатуру, оболгали, залили грязью. О Марксе тоже упоминают с некой насмешкой, мол, утопист. Это ж надо, не вижу ни одного фильма, скажем, великого Довженко, - их боятся показать, так как они дают истинное, поэтическое представление о революции, борьбе за Советы, о нашей советской жизни. Или Михаил Ромм, его «Ленин в Октябре», «Ленин в 18-м году», или такие картины как «Депутат Балтики», трилогия о Максиме, - кто их видит сейчас? О них ни слова во всевозможных «Серебряных шарах». Как-то выпал из интереса телевидения Борис Бабочкин, а упомяни о нём - надо вспомнить его роли в кино и театре. Они опасны для власть имеющих. Молодое поколение только по анекдотам знает Чапаева, забыты «комиссары в пыльных шлемах», о которых пел даже не очень любивший советскую власть Окуджава, а молодёжи внушают, что истинным героем был... кто бы вы думали?!.. Человек, заливший кровью Сибирь, адмирал Колчак... О нём теперь фильмы, его преподносят как образец для подражания... Да, действительно в своё время сделал немало хорошего. Но ведь запятнал себя страшнейшими преступлениями против народа и совершенно справедливо уничтожен народной властью. ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ!!! Ведь тогда в Иркутске, где его казнили, у власти было несколько партий, а не одни «комуняки». Об этом надо помнить. Это надо хотя бы поверхностно знать!!! Ах, встали бы те старики-сибиряки, которых я знал и любил в детстве, которые с дубьём да берданкой изгнали белую банду и «на Тихом океане свой закончили поход». Новое поколение и не знает этой замечательной песни, которую мы пели с детства, которая была с нами и на нашей войне.. Ну да, теперь ведь модно петь про какого-то там поручика да его дружбана корнета, разливающего вино. Как это картинно и привлекательно! Не какой-то там мужлан с вилами, а прекрасно «воспитанный», знающий европейские языки, пользующийся одеколоном да кремами красавец... Любопытно, ни одно государство не помогло тогда рабочим и крестьянам России, вставшим за свои права на мир, труд и на право просто жить, - правительства четырнадцати стран послали свои войска на подавление восставшего народа. По Владивостоку, Хабаровску, Чите разгуливали японские военные. По Одессе - французы, по Мурманску - англичане... Чего им было надо? Помните, герой «Тихого Дона» Григорий Мелехов, находясь одно время в среде «белых», говорит английскому офицеру, оказавшемуся с ним в застолье: «Шли бы вы домой, а то вам здесь накостыляют».Только простые люди всех стран шли на смерть вместе с российскими красноармейцами и партизанами. Сколько китайских добровольцев воевало с нами против белых. В Забайкалье на реке Тунгир в урочище под названием Мадьярский перекат есть небольшой памятник отряду красных венгерских добровольцев, которых здесь зверски расстреляли белогвардейцы. Я там бывал, это место свято для забайкальцев. Автор поэмы об этом событии мой старый приятель Юрий Гольдман автор и этого памятника.
Теперь красные толкуются как быдло, как серая скотинка. А ведь при советской власти великие учёные, конструкторы, художники, писатели выросли как раз из простых людей, а не из «голубой крови», не из наследников российской аристократии...
А Павлик Морозов... Это же замороченный ребёнок. И что, - это хорошо, что его зарезали? Мальчика, ещё тринадцатилетнего подростка взрослые люди поймали и ЗАРЕЗАЛИ. С годами, повзрослев, он скорей всего раскаялся бы. И теперь издеваются над казнённым без суда и следствия мальчишкой, а его убийцы - ГЕРОИ. Ну, ведь это же нынешним мудрецам не понять. И Чкалов и Мария Демченко, и Стаханов, и Папанин, и Отто Шмидт со своими «челюскинцами», и Михаил Водопьянов, спасавший их (я его знал, общался, провожал в путешествии по Забайкалью), и Гагарин - не перечислить тех, кого мы любили и на кого хотели походить, ныне вроде бы комические персонажи. А писатели той поры от Горького и Маяковского до Симонова, Твардовского, Смелякова, Леонова, Шолохова, Шишкова Распутина, - ну целый пласт талантов, который мог бы сделать честь любому государству, - это сыновья людей из низов.
Революция в России, которой перевалило за 90, - это теперь действительно, я бы сказал, минное поле истории. Что бы ты ни сказал, тебя могут тут же оспорить, ты рискуешь, утверждая как позитивное так и негативное к ней отношение, вызвать взрыв негодования и даже ненависти в собеседнике... Почему ее или замалчивают в мире или пишут о ней как о неслыханном злодействе кучки партийцев, как о спонтанном заговоре, устроенном на деньги германского генштаба да ещё преимущественно «инородцами»? Да попробуй за любые деньги поднять миллионы людей. Попробуй! Не получится. «Комуняки» злодеи? А кто мучил революционеров в тюрьмах? Или это придумали заговорщики? Кто расстрелял мирную (с хоругвями и иконами!) демонстрацию в Питере в 1905 году? И это совершил человек, ныне произведённый в сан святого!!! Что-то забыли о подобных бесчисленных расправах. Была при царе Карийская каторга в Забайкалье, где изо дня в день с утра до ночи трудилось 12 гробовщиков, которые не успевали снабжать последним приютом своих собратьев. Благо - по религии н полагалось хоронить в гробах, а не сваливать в общую яму. Здесь была в сущности фабрика смерти. Я сам лично держал в руках документы, подтверждающие это, и читая их, был так взволнован, что написал стихи об этих гробовщиках. Однажды там произошло массовое самоубийство политических каторжан, в знак протеста против немыслимых условий содержания. Эта трагедия была замечена во всём мире. Газеты на всех континентах писали об этом. Раскройте любую энциклопедию, найдёте несколько строк об этом событии на реке Кара. Что-то забыли ныне об Александровском Централе - страшной политической тюрьме в Иркутской области, а в 1918-19-х годах сделавшейся белогвардейским концлагерем...
ГУЛАГ не большевики придумали, он существовал задолго до появления этого слова. На станции Адриановка под Читой в годы гражданской войны белые расстреливали целыми эшелонами тех, ктo хоть как-то проявил сочувствие советской власти. Имеются документы, что это были простые крестьяне и рабочие, не очень-то и успевшие проявить себя хозяевами в новых условиях. Любопытно отметить, что при этом присутствовали иностранные офицеры-наблюдатели»,- и японские, и американские, в частности американский полковник Морроу.В читинском музее наверняка сохранились снимки этих расстрелов. Мне приходилось держать их в руках...
Что, Чернышевский кого-нибудь убил или ограбил? За что его десятилетиями мучили на каторге и на поселении? Сочинил неугодную правительству книгу - всего-навсего. И это справедливость?! Вот Солженицына обидели! А Чернышевского? А Михаила Михайлова, поэта, познакомившего русского читателя через свои переводы с Гейне, с Лонгфелло. Михайлов и умер на каторге в Кадае. Я побывал на его могиле на голой сопочке над рудничным посёлком нынешней Кадаи, - там стоит кирпичный побелённый известкой столбик... Не так давно, сидя во дворе усадьбы Лонгфелло в Бостоне, я вспоминал его «Песни раба», переведённые Михайловым, и это бедное самодельное надгробие. И этого человека сгноили в тюрьме…
А что творили белогвардейцы с пленными? Разве не вырезали пятиконечные звёзды на груди простых тружеников, поднявшихся против угнетателей? Не сжигали в паровозных топках?... В юности и молодости я знал немало участников гражданской войны, которые рассказывали та-ко-е!... Или вообще не было угнетения, невежества, темноты, против которых поднялся простой народ?
Вот что пишет в своих записках краском Е.Марьенков «Огонь на Севере» («Новый мир», 1966 г). «Белогвардейцы, и английские интервенты захватили в плен группу красных бойцов. Всех коммунистов ждал расстрел без суда и следствия, но все коммунисты по требованию белогвардейского офицера вышли из общего строя. Беспартийный командир Алексей Бобров тожешагнул вперёд: «Я не член коммунистической партии. Но я сочувствующий». Далее рассказывается, как на острове Мудьюг их расстреляли. Естественно, без суда и следствия, что не возмущает новоявленных «правозащитников».
Первое, что сделали большевики, это дали «больше света», как требовал Ильич. Как поднялось образование народов бывшей России! Уже на моей памяти проходила ликвидация неграмотности. Я ребёнком ходил в колхозный детсад, с благодарностью, как счастливое время вспоминаю пионерский лагерь, где что-то не помню, чтобы мы ходили строем да ещё с барабаном, а вволю купались в реке Онон, занимались авиамоделизмом, рисовали, играли в волейбол, футбол, в шахматы и шашки. Очень много читали, нас хорошо, проста роскошно по тем временам кормили... А школа? Мой отец – прораб, строил в сёлах Забайкалья школы, было обязательным посещение школы до седьмого класса, а затем - до десятого. Хорошо помню свою Оловяннинскую двухэтажную десятилетку, с просторными классами, с огромным залом для собраний и выступлений самодеятельных певцов, музыкантов, танцоров, с прекрасной гипсовой копией московского памятника Пушкину. С большущей библиотекой. А какие учителя были у нас! С каким воодушевлением, увлекая нас, они вели уроки математики, истории, литературы, ботаники, химии... Я вспоминаю учёбу как увлекательную игру. И какое братство ребятишек разных национальностей. Да что там говорить! Нет на свете более образованного народа, чем - в прошлом - советский народ. А качество жизни - оно зависело от того, что наше государство - единственное! - в сущности, противостояло всему миру дикого капитализма. После тяжелейшей Первой Мировой войны, после гражданской, разорившей хозяйство. И держалось! Да ещё как! Темпы производства в СССР до войны изумляли весь мир.
Как-то читал протокол заседания Политбюро, посвящённое созданию нашей атомной бомбы, опубликованный в журнале «Дружба народов». Известно, в США уже существовали с обозначением наших городов, которые надо в первую очередь подвергнуть бомбардировке. И нас бы не было, если бы… Так вот, в этом протоколе зафиксировано, что в ответ на вопрос сколько будет стоить создание своей атомной бомбы, Курчатов ответил: «Столько, сколько стоила вся Великая Отечественная война». И правительство пошло на это. Другого выбора не было. И что вы хотите, чтобы при таких вынужденных издержках , растерзанное войной наше государство процветало бы?! Вот толкуют про «жирную» жизнь «номенклатуры», про привилегии. Боже ж ты мой! Партийному боссу в райцентре с чёрного хода выдавали лишнюю курицу или банку консервов. Это ж надо! Где же равенство?! А нынешние миллиардеры, покупающие дворцы в Лондоне, самые дорогие яхты, как сообщалось недавно, с невинным видом возят с собой на европейский курорт свору несовершеннолетних любовниц-малолеток, купают их в бассейне, заполненном самым дорогим шампанским. Такое возмутило даже видавшие виды западные власти, и они вынуждены были попытаться дать ход этому делу в судах, да жалкие развратники с миллиардными состояниями бежали, как мелкое жульё. Куда там советским «богачам»! Ничтожные скоморохи, именующие себя поп-звёздами (звёздами!!!), летают на собственных самолётах, имеют дворцы в самых престижных районах земли. Вот оно, вернулось то, о чём мечтали члены незабвенного «Союза меча и орала» во главе с Остапом Бендером.
При самом жёстком сталинском режиме на выборы шли с лозунгом: «Нерушимый блок коммунистов и беспартийных». И я знал БЕСПАРТИЙНЫХ депутатов Верховного Совета СССР. Теперь же у нас повсюду в парламентах нет беспартийных, нет доярок, шахтёров, машинистов локомотивов, трактористов, деятелей культуры, писателей, т.е. тех, кто действительно кровно заинтересован в улучшении жизни простых людей. Все там - деятели ведущей партии, юристы на службе у олигархов, руководители наспех сколоченных», никого не представляющих «общин», упивающихся вкусом облизываемых ими поверхностей частей тела руководства.
Сегодня ничтожная кучка толстосумов руководит миром, прикрываясь лозунгами о защите демократии, об общечеловеческих ценностях. На этот счёт выработаны почти не дающие сбоя технологии. И главная их линия – разжигание воспалённого, безумного национализма. Олигархи хотят, чтобы люди различали не их в виде обирал, хапуг, врагов трудящихся, а соседние народы, вот они, мол, не дают вам дышать. А уж если зашла речь об общечеловеческом, то почему-то «общечеловечности» требуют лишь от некоторых народов, в основном от славянских. Печально смотреть на суету политиков, обещающим согражданам райские кущи. Разве не видят они, что все мы, всё человечество, едем в одном поезде?
Вот только «богатая» жизнь не такая уж безобидная. Среди богачей столько самоубийств. Нередко по ТВ слышишь, как студент или школьник убивает десяток себе подобных и кончает с собой. И это не от бедности, не от голода, а от пресыщения, из-за отсутствия интереса к жизни, которая для него замыкается кругом получения немедленных наслаждений, подобных наркотическому опьянению. А это отгораживает от истинных наслаждений. Которые дают труд, познание, творческое созерцание… Недавно в Америке миллионер убил жену, детей, лошадей, собак, поджёг свой дом и застрелился. Как говорится, Бог палкой не бьёт…
Когда-то Байрон недовольный своим изображением, заметил датскому скульптору Торвальдсену, лепившему его портрет, что он изобразил благополучного человека. Скульптор удивился: а что, разве Байрон не счастливый? На что поэт ответил на языке, понятном ваятелю, что счастье отличается от благополучия, как мрамор от глины…
Можно сколько угодно иметь удовольствий, но не знать даже тени подлинного счастья! Жаль, нынешний всемогущий обыватель не понимает этого. Будем надеяться – поймёт…
ОСКОЛОЧЕК БЫЛОГО
Даже не помню когда, но видимо давным-давно, купил где-то у букинистов этот небольшой, размером в записную книжку, поэтический сборник Константина Симонова: наверно привлёк год издания – 1942-й. Вообще-то стихи Константина Михайловича у меня в библиотеке имелись в изобилии чуть ли не с детства. Ещё со времен Халхин-гольских событий это имя накрепко застряло в памяти. Тогда, читая его мужественные стихи в газетах и коллективных сборниках, посвящённых этой «маленькой» войне, я не думал, что вскоре, совсем юношей мне придется служить стрелком-радистом в 61-й Танковой Бригаде, сыгравшей решительную роль в разгроме японских империалистов на знаменитой высоте Баян-Цаган. Оттуда стихотворение «Танк» со знаменитой концовкой:
Да, враг был храбр.
Тем больше наша слава.
Что придётся сотрудничать а затем и служить в знаменитой газете «Героическая красноармейская», награждённой орденом «Красной Звезды», (и прекрасным полевым типографским оборудованием!), где несколькими годами раньше начинал свой путь молодой тогда выпускник литинститута Симонов. В коллективе редакции и во время моей службы оставался его дух, и возможно тогда я всерьёз занялся писанием стихов и рассказов, - именно под его влиянием. Позже, уже «на гражданке» видел его в Чите, он тогда вместе с Фадеевым направлялся в Китай, однажды разговаривал с ним во время коллективного мероприятия в ЦДЛ-е... От этих встреч осталось впечатление демократизма, простоты в обращении, естественной доброжелательности...
И вот недавно наткнулся на эту книжечку. Хотя и тяжкий военный год, а издано неплохо, со вкусом, даже изящно – голубая картонная в лидерине обложка, ни заглавия, ни украшений, лишь довольно небрежная роспись автора. Книжка сильно потрёпана, корешок стёрся, видны поржавевшие металлические скрепки. На титульном листе курсивом: «Константин Симонов», затем затейливой скорописью, в которой угадывается высокий вкус художника-шрифтовика, - «Стихотворения», внизу: «ОГИЗ Государственное издательство художественной литературы. Москва 1942». Неплохая для военного времени бумага. Нет, нет, к началу войны в стране научились вполне прилично выпускать поэтические книги...
Рассматривая давно приобретённую книгу, я на титульном же листе споткнулся взволнованный, - вверху стояла почти выцветшая надпись фиолетовыми чернилами, сделанная очень хорошим почерком: «Сталинград. 1943». Чуть ниже, судя по интенсивному цвету чернил, гораздо позже поставлена неразборчивая подпись владельца, видимо он и написал когда-то слово «Сталинград».
Тираж книжки – 25 тысяч экземпляров. Тогда читали стихи!.. Как она попала в Сталинград, какова судьба её владельца? Скорей всего офицер, почему-то мне кажется – из инженерных войск, недавний выпускник института. Тогда очень любили Симонова. В особенности студенты, молодые офицеры, читающие солдаты. Константин Михайлович - из длинного ряда особо, я бы сказал, легендарно «модных» в своё время лириков, в каждое время был свой такой особый любимец, подчас и уступающий по значению более значительным собратьям. Последним в этом ряду на моей памяти был Евгений Евтушенко.
Поэтесса Маргарита Алигер, известная своей поэмой «Зоя», за которую получила Сталинскую премию (передала её государству для приобретения танка), рассказывала мне, что её сокурсник Симонов, ещё в студенчестве поставил в одном из московских театров свою пьесу (это была «Первая любовь», за которой последовала знаменитая «Парень из нашего города»), и пригласил в ресторан однокашников по литинституту, в том числе и её, «обмыть» постановку. В застолье бросил фразу, которая в её памяти жила всегда: «Вы все талантливее меня, но я из своего дарования сделаю больше всех вас». И действительно, он успел потрясающе много...
Сейчас, придирчиво прочитав всю книжку, я увидел очевидные слабости, свойственные начинающему, но ощутил и мощное дуновение истинной поэзии. Ведь автору было в то время всего двадцать семь, по нынешним временам – молокосос...
В сущности, это уже первое «избранное», так как за спиной у Симонова было уже несколько поэтических сборников: «Настоящие люди», «Стихи 39-го года», «Соседям по юрте», «С тобой и без тебя», а также поэмы «Суворов», «Родина», «Первая любовь», фронтовые стихи.
Всё, собранное в книге, было давным-давно знакомо, читано-перечитано, а вот развернул, и не мог оторваться, пока не перевернул последнюю страницу. В памяти ожило очень явственно многое-многое из былого...
Листаю книгу и вижу, как знаменательны на ней все отметины времени. Уже само слово «Сталинград» на титуле! А на следующей пустой странице: «19-ХП-69. Валюшей де ла Ада». Это уже из молдавской биографии книжки, видно какая-то Ада подарила подруге по имени Валя, которая в свою очередь сдала сборник в букинистический магазин...
Но самая любопытная надпись – это автограф Константина Симонова, сделанный синими чернилами на 33-й странице 27 ноября 1960 года – на пустом месте следом за стихотворением «Дружба». По всей вероятности тогдашний владелец книжки был на каком-то поэтическом вечере, подошёл к автору, которого растрогала выцветшая надпись: «Сталинград. 1943 г.» И он, выбрав место под одним из любимых своих стихотворений, с удовольствием подписался полным именем: Константин Симонов...
Жаль, всё более серые личности, всё более бесцветные сочинители заслоняют поэтов нашей молодости. Истинных поэтов. Говоря о Великой Отечественной войне, как-то обходят подвиг, который совершили советские писатели. С первого дня войны их слово сделалось оружием. Почти половина списочного состава Союза писателей СССР погибло на фронте. И вернувшись к книге, о которой веду речь, не лишне вспомнить, что тот же Константин Михайлович Симонов несколько раз под обстрелом и бомбёжками переправлялся через Волгу в воюющий Сталинград. И поэтому его книга «Дни и ночи» помимо всего отмечена убедительной достоверностью.
«STALINGRAD» - жизнь спустя
…Вечером в зимнем и дождливом Кёльне, оставшись один в квартире, я включил телевизор, и надо же, – показывали документальный фильм «Stalingrad», естественно, на немецком языке. Никогда не смотрел кино с таким захватывающим вниманием, забыл обо всём, хотя по-немецки не понимаю. И так было всё ясно. Немецкие кинодокументалисты рассказывали о вселенском событии, случившемся много лет назад на Волге… Всё так похоже на то, как и у нас освещают эту битву: почти триумфальное шествие фашистской армады летом 42-го по степям южной России, смеющиеся немецкие солдаты, шагающие, засучив рукава; толпы русских пленных, горящие сёла, стада коров, мечущихся под бомбёжкой, и танки, танки, танки с крестами на броне…
И за всем этим кошмаром в моей памяти что-то мучительно мельтешит, словно соринка в глаз попала. Сквозь мучительную неразбериху я вспомнил эту «соринку»: где-то дома сохранилась страничка из моей школьной тетради зимы на 43-й год и поблёкшая вырезка из районной газеты с первым опубликованными моим стихотворением. Оно было вместо подтекстовки под снимком знаменитого плаката с изображением женщины с ребёнком на руках, в грудь которой направлен плоский фашистский штык: «Спаси!» Слово, выведенное большими буквами на плакате, помогло вспомнить первые две строфы:
Беда, товарищ, на Руси:
Фашист пришел на нашу землю.
И сердце возгласу: «Спаси!»
Горя и содрогаясь, внемлет.
Спаси! Ведь мирные горят
Под вражьим артогнем селенья.
«Спасу!» – грохочет Сталинград,
Идя в большое наступленье…
Дальше и не стал вспоминать это ещё почти детское своё сочинение. Да и привёл-то его в качестве интимного подтверждения настроения людей того времени. Мы этим жили – от мала до велика. У всех на устах тогда было одно слово: Сталинград. Оттуда к нам в дальний забайкальский посёлок уже приезжали израненные наши знакомые и родственники, всё еще как бы излучающие страшное напряжение битвы,– иные без ноги или руки, иные - потерявшие зрение, со шрамами на лице…
Да, фильм жестокий, страшный. Кадры обороны Сталинграда взяты из советской и немецкой кинохроники, они ошеломляют. Кажется, люди никогда в истории не знали такого ожесточения. Чёрно-белая лента почти 70-летней давности перебивается цветными вставками, - уже сегодняшними беседами с участниками тех давних событий. Глубокие старики и старухи по-русски и по-немецки (с разных сторон) повествуют о тех давних днях и ночах, когда звучали над страной симоновские строки:
Так убей же его хоть раз!
Сколько раз увидишь – столько и убей.
И вот сделавшиеся морщинистыми и ласковыми прадедушками и прабабушками бывшие солдаты, офицеры вермахта, бывшие красноармейцы и командиры Красной Армии вспоминают минувшее. Россияне – с печалью, но и гордостью, немцы, буквально все, – со слезами. Они с уважением рассказывают, какой твердыней оказался уже казавшийся уничтоженным город на Волге, как обожглись наступающие об огненное кольцо обороны, как сражался советский воин, и как затем гибли от мороза и голода окружённые войска Гитлера. Помню, на обложке «Крокодила» тогда была напечатана карикатура Кукрыниксов: Гитлер, повязанный платочком, подперев подбородок пальчиком, поёт: «Потеряла я колечко…» И добавлено: «А в колечке 22 дивизии»… Да, свыше 330 тысяч человек.
Военный хирург, рассказывая о войне, вспомнил, что зачастую приходилось отрезать отмороженные ноги гитлеровцев вместе с сапогами, так как снять их было невозможно… Ну, а наши-то бойцы и командиры разве в иных условиях находились?
Тут я понял, что всё время здесь меня занимало именно это – минувшая война. Как могло случиться, что два замечательных народа, давших народу таких поэтов, таких философов, композиторов, учёных, хорошо принимавшиеся в среду друг друга, - как они сделались смертельными врагами, кому и каким образом удалось натравить их друг на друга? Просто демагогией? Голыми призывами? Обещаниями новых земель? Воспитанием национальной исключительности?..
Сюда пригласила меня моя внучка, работающая хирургом в крупной немецкой клинике. Помнится, несколько лет назад позвонила из своего Омска, где закончила медицинскую академию и прошла специализацию, и немного смущаясь, но не в силах скрыть и радость, говорит: собралась замуж. Пора, я рад, время иметь правнуков. Она на минуту замолчала. Я уже подумал, что прервалась связь. Наконец она нерешительно промолвила: «Выхожу за немца…» Какое-то мгновение длилось молчание, так неожиданно это. - «Он очень любит Россию, знает русский, переводит стихи Пушкина. Он замечательный…» Мне ничего не осталось: «Поздравляю. Если любите друг друга, - с Богом!»
Из Франкфуртского аэропорта в Кёльн меня везут, намеренно делая большой крюк - вдоль Рейна, чтобы я получил преставление об этой реке, так хорошо знакомой по немецкой и русской литературе. Дождь, местами туман, над разлившейся рекой, затопившей прибрежные дома, - холмы с древними крепостями-замками, знаменитая скала Лорелеи, волновавшая с детства как «персонаж» немецкой сказки и стихотворения Генриха Гейне, которое мы в школе на уроке немецкого языка заучивали наизусть. Вхожу в пейзаж чужой земли, такой ухоженной, такой аккуратной, с такими чудными дорогами. Здешние города и села, все дома, более прямолинейные, что ли, чем наши, словно бы в один миг окрашенные в серые, охристо-желтоватые, оранжевые, жемчужно-лиловатые тона, так что краски нисколько не поблекли, напоминают только что изготовленную театральную декорацию. Тесные улицы, дома прилеплены один к одному, кажется, что за ними нет дворов, кирхи, базилики, готические башни соборов.
И вот, словно на работу, рано встаю, иду с немецкими друзьями в один древний собор, в другой – ещё экзотичней и древнее, в один музей, – скажем, шоколада, - в другой, - скажем восточного искусства, - еду в один город, где историческая достопримечательность, в другой, там ещё старинней крепость или монастырь. А сам вглядываюсь в лица немцев, немок, детишек, спутников по вагонному купе или таких же туристов, покупателей и продавцов в магазине, пассажиров на вокзале, едоков в ресторане или баре. Люди как люди. Одеты скромней, чем наши. Часто потёртые джинсы, куртка, вязаная шапочка, кроссовки. Улыбчивы. Дружелюбны. Разговорчивы. Богачи не так вызывающе картинны, как у нас. Был у одного в гостях, так его дом показался пристанищем аскета рядом с дворцами кишинёвских знакомцев, делающих карьеру в новых условиях. Между прочим, и бомжи там отличаются от наших – у «ихних» больше юмора, напора, я бы сказал, некой лихости.
Пригласили на встречу с факультета славянской филологии местного университета, разговор длился до глубокой ночи, с обоюдной заинтересованностью. Заметил у некоторых учёных мужей (из бывших наших) моду ко всякому разговору, как бы между прочим, «невинно» примешивать антисоветизм. Вздорный, не стоящий и трёх копеек в базарный день. Это для иных признак хорошего тона и в то же время некий пропуск в новую элиту. Впрочем, при малейшем моём сопротивлении они готовы посмеяться над своими «заблуждениями»… В основном же - общие для всех пишущих проблемы: положение и общественный статус художника в обществе, бесцеремонный натиск всесветного шоу-бизнеса, опасная эпидемия графомании и т.д. Писатель и там должен зарабатывать деньги каким-нибудь другим делом. Серьёзная литература не покупается и не даёт тебе дохода. Идёт лишь всякая чепуха, и то, если её «раскрутить». Такое положение не устраивает и немецких интеллектуалов, и они согласны со мной, что оно поддерживается определёнными могучими кругами, чтобы люди главным образом пили себе пиво, занимались сексом, развлекались на полную катушку бессмысленными аттракционами и играми, лишь бы не думали.
Люди забыли, что минувшая война загорелась ещё задолго до вторжения фашистов в Польшу, - от искр тех костров, на которых демонстративно сжигались книги. Теперь их не жгут, их просто подменяют и вытесняют духовной макулатурой. Повсюду на земле. Современный «жёлтый дьявол», по существу бесконтрольная власть денег – это василиск, чудовище, дракон, - сжигает всё живое. Посмотрите, как нынче в мире чествуют, как оплачивают каких-нибудь исполнителей порой сомнительного дарования, говорящих не своим голосом не свои слова, и совершенно забыт АВТОР. Вот он-то и не нужен, или нужен такой, чтобы ничего и никого не задевал, не будил мысль.
Пожилая преподавательница английского языка, выслушав эти мои соображения, кратко резюмировала: «Вот сейчас весь мир захватил новый «герой», некий мальчик Гарри Поттер, я читала о его похождениях. Это так далеко от искусства слова, что и говорить-то не хочется. Бессмыслица, чепуха. А посмотрите, как его подают, как рекламируют. И карандаши-то выпускаются с этим именем, и майки, и школьные ранцы, и конфеты, и чёрт знает что, - везде этот мальчик. Забыты и мудрые сказки наших предков, и чудесные герои наших детских книг». Ну да, в героях нашего детства – живая жизнь, поэзия. А это для жёлтого дьявола невыносимо.
После долгих ответов на их вопросы я задал вопрос уже им: как они относятся к Гитлеру? Один из немецких студентов охотно ответил: «Он много сделал для Германии до начала мировой войны, и этот период нельзя не одобрить. Если бы он не начал войну, это был бы великий человек». Но то, что он начал свой путь со сжигания книг, с тех костров из произведений мастеров литературы – это была несомненная заявка на войну. Всё зло начинается с ненависти к литературе. Я пытался втолковать им эту мысль, но безуспешно… Хотя среди них были, как мне говорили преподаватели, коммунисты и сочувствующие идеям Маркса. И сейчас я вижу, как повсеместно идёт удушение художественного слова. А вот в Китае, как сообщается в прессе, сейчас литература востребована. И советские книги, в частности, «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке», произведения Шолохова, Леонова и других наших писателей выходят многомиллионными тиражами, и спрос на них растёт.
Всё это ясно. Даже неловко это повторять, настолько это понятно. Но при этом истина эта так затёрта, так замазана, так закамуфлирована великолепно оплачиваемыми факирами, новоявленными умельцами выстраивать «имидж» политических ставленников (якобы избранных народом), что удаётся «отвести глаза» народонаселения, которое уже привыкло к обманам и уже ничему не удивляется. Вот почему«зеркальце» оказывается разбитым. И лучшие книги (от Данте и Сервантеса до нынешних времен) написаны или в тюрьме или в изгнании. Данте на родине даже был приговорён к сожжению. Пусть процветает всевозможная развлекаловка, зрелищные виды спорта, даже кино, ибо оно поддаётся цензуре денег. Посмотрите, какая замечательная литература (пусть с известными изъянами) была создана в СССР. Даже самые зловредные зарубежные критики и свои «либералы» не могут отрицать этого. А со дня падения СССР на просторах бывшей империи теперь редко встречается даже чуть-чуть заметное литературное явление. Поощряется литературная игра, своеобразные шарады и мистические заклинания…
Мне приходится встречаться с молодыми писателями, студентами, школьниками, и я замечаю, как сильно отличается это поколение, выросшее при новом капитализме, от их сверстников прошлых лет. Мы с детства мечтали стать открывателями новых земель. Мы зачитывались биографиями Нансена, Амундсена. Нас увлекали судьбы таких великих тружеников как Леонардо и Микеланджело. Мальчиком я просыпался ночью с мыслью о завидной судьбе челюскинцев. Наше детство совпало с войной в Испании, и мы собирали средства в помощь детям Мадрида, Барселоны, страдавших от фашистских бомбардировок. Кстати, о челюскинцах. Мало кому известно, что когда ледокол затонул, то среди самых необходимых вещей были спасены и две книги из великолепной библиотеки, собранной Отто Шмидтом, - однотомник Пушкина и «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в переводе Ивана Бунина. Все высадившиеся на лёд челюскинцы трудились от темна до темна, готовя площадку для ожидавшихся самолётов. И, тем не менее, из-за спасённых книг возникло недоразумение: все хотели читать, хоть немного, при скудном свете свечи или крохотной лампочки от аккумулятора. Тогда решено было организовать соревнование - лучшему труженику на ночь выдавалась одна из книг... О, как боролись за победу в этом соревновании! Жаль, это ушло. Теперь чудные наши внуки и правнуки мечтают нажить капитал, в лучшем случае - сделаться полицейским с мотоциклом и автоматом... Серьёзно, нынче романтикой, рыцарской жаждой подвигов мало кто бредит. Долговязый Рыцарь Печального Образа Дон Кихот как-то растворился в беге делового мира…
Занесло меня в Трир, древнейший город Германии. Колоссальные постройки ещё начала четвёртого века, Рим возводил здания невероятных размеров, рядом с ними поздние дворцы кажутся игрушечными. Империя утверждала своё величие и могущество – такое под силу лишь великанам! Всё время, когда мы осматривали эти и другие древности, меня тянуло посмотреть на трёхэтажный домик, где когда-то явился на свет мальчик по имени Карл, чьё изображение несут на своих знамёнах многие миллионы обиженных и угнетённых. Оказывается, этот домик-музей очень посещаем, тут немало туристов. Я долго рассматриваю экспонаты, в особенности связанные с Россией. Взволнованно наклоняюсь к тетрадке, в которой, будучи школьником, он писал стихи. В городе несколько мемориальных досок, связанных с именем Маркса: по этой улице он ходил в университет, здесь жила его будущая жена. Новая Германия не стирает память о нём... Между прочим, его изображение рядом с портретом Ленина я с удивлением увидел в жилище моих потомков – внучки и её мужа. Оказывается, симпатии многих немцев на стороне коммунизма, конечно, не такого догматического.
Любопытно – у самого вокзала над огромным богатым магазином сияли неоновым светом эти слова: «Карл Маркс». Как оказалось, владелец магазина – однофамилец автора «Капитала».
Дорога, дорога, сквозь пласты истории. Вот островок чистеньких домов, мне поясняют, что здесь родился Рентген. Нет, надо остановиться хоть на минуту. Вот - на ином месте - водопровод, «сработанный ещё рабами Рима». Вот – уже в Бонне – в окружении высоких зданий новой архитектуры выделяющийся стариной домик Бетховена, так любимого у меня на родине.
Меня влечет Веймар, хочется подышать воздухом Гёте и Шиллера, а меня тянут в Люксембург, уговаривают съездить, побродить по Парижу – это не так далеко и на границах не «шмонают», как это делается на рубежах бывших республик Союза…
Не знаю чем, может одеждой, лёгкой шубейкой я привлекаю внимание окружающих, – сидящий напротив полный немец профессорского вида рядом со строгой и моложавой женой в очках, углублённой в книгу, всем своим видом показывает свою душевную расположенность ко мне. Безошибочно определив во мне иностранца, что-то горячо говорит по-английски. Я не понимаю, он переходит на французский. Я кладу ладонь на грудь: «Россия». «О-о-о!» - его лицо расцветает, приветливо улыбается его суровая жена. В другом поезде, услышав русскую речь, смуглый толстяк пересаживается к нам: ему хочется признаться в своей сердечной любви к России, к русскому искусству, к русским людям… Он с лёгким акцентом извергает поток восторженных слов, привлекая внимание других пассажиров. Для него это событие. Хотя нам здесь иногда встречались и русские, и белорусы, и молдаване. В крупных городах в людных местах встретишь и негров, и арабов, и индусов в национальных и европейских костюмах.
Невольно проникаясь трепетным чувством приобщения к чему-то высокому, как бы робея и одновременно тайно ликуя от этого редко испытываемого гармоничного внутреннего лада, шёл я под сводами кёльнской базилики святой Марии на Капитолии, почти безлюдной в эти дневные часы, рассматривал скульптуры тысячелетнего храма. В других местах чаще встречались изображения Христа и Богоматери, так сказать, условно-театрального, отчасти елейного характера, здесь же я встретился с так сказать варварским реализмом. Распятие пронзило душу, - до того достоверно, трагически-правдиво, если допустимо такое выражение, передавало оно картину казни. Я видел не условный акт, а живого страдальца. Это мог быть ты, он, я, а не некое воплощение, скажем, всемогущего Зевса или Саваофа на время нашедшего себе обличие человека, чтобы дать нам урок и вознестись. Такое изображение больнее язвит твою суть и приобщает к высокому. Кстати сказать, мне кажется, и новым властным кругам земли хотелось бы видеть Бога в золотых украшениях, увешенного орденами, или извергающего огонь подобно языческим небожителям. Трудно вообразить их живущими по учению Христа, не этого, истекающего кровью, человека-страдальца. В это время мимо меня прошла семья – мать с мальчиком лет четырёх на руках и отец с неверно ступающим малышом, который поднял на меня глаза, мы встретились с ним взглядом, я ему приветливо помахал рукой, он высвободил ручку из отцовских пальцев и тоже замахал мне в ответ. Когда я дошёл до противоположного угла, в вышине раздалась приглушённая музыка органа и донёсся пронзительный хорал. Я оглянулся на малыша, он стоял такой трогательно милый в клетчатых штанишках, синей курточке и с открытой белокурой головой, - глядел мне вслед. Я улыбнулся ему и послал воздушный поцелуй. Он попытался повторить мой жест, стараясь удержать равновесие, но не удержался и шлёпнулся на попку, продолжая мне улыбаться. Дальний наследник тех, с кем мы когда-то так свирепо, люто, непримиримо сражались... Горячая волна прошла в груди, думалось почему-то о том, что людям надо бояться не фюреров, не чиновников, не, условно говоря, палку, а Бога, к которому ведут все дороги, Господа, пусть и метафорического, живущего в каждом из нас под псевдонимом Совести.
Я провёл рукой по лицу, щёки почему-то были мокры…
***
Слеза уколет веко, как заноза,
всё чаще не справляюсь я с собой.
Стал понимать, что не позорны слёзы,
когда их не своя рождает боль.
Зато смеюсь уже не так охотно,
ведь слабости других рождает смех.
А я, себя узнав до подноготной,
сказать не смею, что безгрешней всех.
СИМФОНИЯ
Семьдесят лет назад в Ленинграде, под бомбами и снарядами, перед переполненным залом зазвучала музыка…Измученные тревогами, голодом, невыносимым горем люди слушали голос неба, собранный Дмитрием Шостаковичем. С трудом нашли музыкантов - с передовой, с завода от станка, из больницы или госпиталя. Между прочим, полтора десятка из этих исполнителей вскоре умрут от голода… Это даже писать больно…
Воодушевление же было столь велико, что все слушатели, голодные, утомлённые до обмороков, находящиеся под страхом смерти – от голода ли, от вражеской бомбы, - как бы отрешились от бед и страхов…
Эту симфонию по радио слушали люди на всём земном шаре. Это был голос будущей Победы и сама Победа, музыка, равная крупному сражению. Человечность, народный дух, божественное предназначение человека утверждали скрипки и валторны, трубы и барабаны, одухотворенные композитором, жившим страстями окружающего мира. Это был подвиг не только великого композитора Дмитрия Шостаковича. Звучало само время, слышался пульс советского народа.
Сейчас я прослушал Ленинградскую симфонию (под нейтральной цифрой 7), и она так перевернула всё в душе, что не мог не написать вот это. За ней слышались мне строки ныне преданных забвению поэтов. Почти каждый день по радио звучал голос поэтессы Ольги Берггольц. Вспомнилось, как читали по радио стихи старейшего акына Джамбула: «Ленинградцы, дети мои…» Помню, собравшиеся у репродуктора люди плакали. Не могу отрешиться от поэмы Николая Тихонова, которую со времени её появления знаю наизусть:
Домов затемненных громады
В зловещем подобии сна.
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина…
От этих строк у меня по спине проходит мороз.
Но мир вроде бы забыл об этом событии. Возможно, где-то проскользнуло такое упоминание, - не больше. Вот следовало бы собрать по случаю этой годовщины людей на торжественное собрание в Большом театре, где присутствовало бы правительство, лучшие люди страны. Так бы оно и было бы в старину.
Но… Как с горечью писал безвременно умирая истинный поэт Александр Блок: «Я перестал слышать музыку». Она теперь перестала звучать, хотя экран телевизора переполнен балалаечниками попсы, пытающимися тебя и рассмешить и удивить. Музыка – в широком понимании - как поэзия жизни растворилась в пучинах пошлости, мещанства, нынешней «нэпмановщины», социальных недовольств, лужах национальных разборок, водоворотах неслыханных хищнических преступлений чиновников и богатеев. Какое там торжество! Давай деньги, деньжата, денежки в виде долларов, евро, хотя бы каких нибудь тугриков.
Забыли об этом событии. Может быть, нарочно не вспомнили. Скажи, что в советское время рождалась великая музыка, надо вспомнить и Александра Довженко, и братьев Васильевых, и Уланову, и Сергея Прокофьева, и Михаила Рома, и Сергея Эйзенштейна, и Михаила Рома, и Сергея Герасимова, и Михаила Шолохова, и Илью Эренбурга, и Алексея Толстого, и Владимира Маяковского, и Сергея Есенина…
Боже мой, нет числа замечательным мастерам культуры советской поры. Только напомни эти имена, встанут Чапаев, герои фильмов о пролетарской революции, о её вождях, вспомнятся есенинские строки:
Небо – как колокол,
Месяц - язык.
Мать моя - родина,
Я – большевик!
А кому из сильных мира сего это надо?! Между прочим, Алексей Толстой на второй день войны опубликовал статью, кончающуюся словами: «Мы победим! И навсегда отучим немцев воевать». Устами писателя говорила история. Мы победили не только оружием. Что может вырасти, кроме древа яда, «на почве, зноем раскалённой»?!
На почве совершенно высохшей, потрескавшейся из-за неутолимой, безудержной жажды наживы одних и стремления вырваться из-под глыб безысходности - других, на почве, загаженной пронырливой, чудовищно бессовестной бездарью, так и брызжущей зловонием похабщины и непотребности, низости и цинизма?
Именно ей открыл все двери современный мир капитала. Нынешний хозяин жизни хочет подменить один грубый, грозящий кровавыми катаклизмами, способ деления человечества на две части: на эксплуатируемых и эксплуататоров, другим - лишь на самцов и самок (отнюдь не на мужчин и женщин!), низведя все желания человека только лишь к похоти … Нет, вру, ещё – к жестокости, к стремлению убивать, убивать и просто так, без причины, или в погоне за деньгами. Впрочем, одно вытекает из другого. Философия проста: тот выживет, кто бьёт первым, а награда – секс как разновидность наркотика. Какая там любовь! Доза наркотика, не боле…
Я не видел за последнее время ни одного фильма или спектакля, где бы осуществлялась попытка открыть зрителю поэзию поиска ученого, философа, художника, исследователя вселенной, простого труженика. Ведь в этом задача искусства! Иначе для чего оно? Для забавы скучающих и праздно болтающих, жаждущих развлечений? Искусство, художественное слово пропитывают интеллект нации. Подобно тому, - огрублю пример, - как необходим уголь, газ или торф для получения тепла и света, так искусство питает энергией дух человека, душу его.
А печать наполнена «разоблачениями» советской власти, её вождей, клеветой на наш народ, якобы по природе свой – рабский. Очень люблю одну восточную притчу. Слепым показали слона и попросили описать словами, какой он. Тот, кто нащупал ногу, сказал: «Слон, это столб». Другой, нащупавший хвост, возразил: «Нет, это верёвка». Третий, держась за хобот: сказал: «А по-моему это громадная змея»… И каждый был прав. На мой взгляд, политические слепцы (подчас корыстно притворяющиеся таковыми), подобным образом толкуют о нашем прошлом. Неполная правда хуже откровенной лжи! Такая скудость зрения сейчас очень характерна. А надо увидеть картину мира во всём объёме.
Умирая, Лев Толстой сказал: «Жалко только музыку».
Жалко…
ПУЛЯ НА ДВОИХ
Люди, не искушённые в литературе, часто спрашивают у автора, прочитав его книгу о войне: «Это правда, или всё взято из головы?» Правда, правда… Правда!!! Это правда, взятая не «из головы», а из сердца. Горячая и горючая правда - и у Шолохова, и у Твардовского, и Алексея Толстого, и у Леонова, и у Бондарева, и у Астафьева, и у Эренбурга, и у Бакланова, и у Корнейчука, и у Симонова, и у Носова… Мне посчастливилось их видеть, этих замечательных художников слова, с некоторыми даже был знаком и общался как с приятелями, как с сокурсниками по учёбе или соучастниками литературных событий. Это были люди необыкновенной совести, глубокого ума и пронзительного зрения. Жалко, новые поколения редко общаются с их наследием. И, уверен, это кому-то очень нужно, чтобы наши дети и внуки читали бездарную, а порой опасную чепуху, а не вещи, рождённые в невероятном противостоянии, на самом переднем крае борьбы света с мраком, добра с кромешным злом.
Те, которые воевали, живые и мёртвые, хотели, чтобы о них помнили потомки, чтобы знали об их подвиге. Даже заметка с упоминанием его имени в «дивизионке», крохотной газетке, печатавшейся чуть ли не у передовой, хранилось бойцом у сердца вместе с самыми дорогими реликвиями. Нередко у убитого бойца в кармашке находили газетную вырезку со стихами. Теперь мало кто знает, что во время войны в вооруженных силах при каждом фронте, при каждой армии, при флоте и флотилии была такая официальная должность – писатель. И имел он машину с шофёром и одно задание: быть летописцем войны, подчиняясь лишь одному командиру – Правде, по выражению Твардовского, правде «сущей, правде прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как горька бы ни была». Без этого нельзя было прожить. Молодое поколение, замордованное «попсой» и напором антисоветчины в средствах массовой информации, подаваемой под разными соусам, не знает, что в самый тяжкий для страны 1942 год по указанию Верховного главнокомандующего в «Правде» была напечатана пьеса Александра Корнейчука «Фронт», в которой очень едко-самокритично, неприкрашенно изображались трагические события отступления, провалы советского командования. И это сыграло свою роль в переменах к лучшему на фронте.
…Наверно не столько солидные годы, во всяком случае, не прирождённая сентиментальность вызывают у меня слёзы в дни празднования Победы. Знаю, это случается и с другими людьми, видевшими войну. Не знаю почему, но в этот день стоит услышать мне детский голос, увидеть жемчужное облачко, подкрашенное зарей, ощутить боль в суставах или просто кинуть взгляд на движущуюся толпу и беззаботных, и озабоченных людей, слёзы сами собой выступают на глазах.
Может быть, это потому, что в свои годы отчётливей чувствуешь хрупкость мира. То там, то там опять взрывы, стрельба, опять кровь. Опять бомбёжки, то в Югославии, то в Ираке, то в Ливии… В общем, война не кончилась тогда, в сорок пятом, а может быть идёт уже новая мировая. Третья. Или Четвёртая? Счёт потерял… Есть же за всем этим скрытый заинтересованный кукловод.
Надо быть абсолютным идиотом, чтобы верить в стихийность тех сил, что взрывают в России театры, поезда, зрительские трибуны, где сидят отнюдь не начальники, не политики, не носители чуждой для террористов идеологии, а простые зрители или пассажиры, просто люди. Для подготовки террористов, для обеспечения их успешной «работы» нужен мощнейший финансовый и идеологический буксир. Этот «буксир» направлен против родины великой революции, против того знамени, под которым мы вогнали в гроб фашизм и забили осиновый кол в его могилу. О природе иного терроризма поговорим в другой раз…
Недавно в дневнике одного старинного проницательного писателя вычитал мысль об одном типичном для всех времён слое общества, слое, который заявляет о себе всё громче в последние годы. Это «озлобленные, тёмные, неудачливые люди предпочитают обо всём думать плохо, относиться ко всему подозрительно, верить всяким клеветам и небылицам…» На этот слой и рассчитывают те, кто развязывает нынче невиданную по масштабам идейную войну, те, кто всеми силами разжигает новое кострище фашизма. Теперь определённые силы буквально осатанели в своём стремлении отобрать нашу Победу, замазать грязью её творцов, выставить всех нас, участников и свидетелей Великой Отечественной как легковерных глупцов, якобы обманутых «красной» пропагандой. Иной раз мне думается, что по аналогии со службами защиты от бактериологической, химической опасности, стоило бы создать службу идейной защиты от идеологии фашизма. Это же надо, входящие в моду «пропагандисты» ставят на одну доску с Гитлером тех, кто стоял в руководстве тех сил, что боролись с фашизмом! Всячески обеляют вермахт, гестапо, гитлеровских палачей, а нас рисуют в виде душителей свободы. Эта философия безумия призвана заморочить головы молодёжи. Вот почему нас, старшее поколение, всячески изолируют от молодёжи, рисуют в виде невежественных болванов. Мы для них Тюхи да Матюхи, не умеющие вести себя даже за столом… И у некоторой части молодёжи признаком «смелости», раскованности, «продвинутости» стало воинственное пренебрежение к нашему прошлому, да и к настоящему, рисуемому определёнными нанятыми мазилами и сочинителями как беспросветное серое бесправное существование пешек.
К одичанию общества, к зомбированию молодёжи, к воинствующему аморализму (под видом раскрепощения от моральных табу) определённые силы ведут мир не просто общими фразами, а очень даже изобретательно, стремясь замкнуть все мысли юношества на самых низменных чувствах, на сексе, пьянке, кровавых потасовках. Революция стала ругательным словом. Вовсю тиражируются всяческие скабрезности. Как бы между делом, вставляются в серьёзные передачи дурно пахнущие реплики. К примеру, смотрю недавно передачу к юбилею одного уважаемого артиста, - и ведущий, как положительное качество юбиляра упоминает, что тому повезло в жизни: не пришлось сыграть роли комсомольца или строителя БАМа… Боже ж ты мой! И это говорится из телецентра, построенного руками комсомольцев! И это говорится о действительно великой стройке наших народов... О стройке, в которой участвовала семья моей дочери, мой сын, где и я не раз побывал, о которой написал любимую мою книгу! Тут зритель должен возрадоваться, что артист, игравший и бандитов, и садистов, избежал «ужасной» участи – исполнять роль юного строителя новой жизни. Что тут скажешь?..
В давние времена я с группой молдавских литераторов (был среди нас Василий Толоченко, известный ветеран, тогда - главный редактор киностудии «Молдова-фильм», к сожалению, он не так давно умер) поехали на мою родину в село под Прохоровкой, где произошло самое знаменитое танковое сражение минувшей войны, в котором участвовал и он, мой друг - Толоченко. Мы побывали в местном музее, которым ведал бывший председатель райисполкома. Среди прочего он рассказал, что им, активистам, после сражения было поручено собрать с убитых, оставшихся на поле сражения, «документы строгой отчетности», то есть, главным образом, партбилеты и комсомольские билеты. - «А куда вы их складывали?» – спросил я. - «В мешки. Обычные мешки из-под картошки или зерна». - «В мешки? – меня удивил ответ, - Вы не ошиблись? Сколько же этих самых билетов могло набраться, если понадобились мешки?» - «Шесть мешков», - был ответ…
Немыслимой ценой мы одержали победу, в первую очередь моральную победу над бесчеловечностью и дикостью гитлеризма. С нами был весь прогрессивный мир. Лучшие люди земли приветствовали советских воинов-победителей, принявших на себя самую тяжкую долю Второй Мировой. И слово «товарищ» у нас ещё не было заменено понятием «господин». Этим мы и гордимся. И верим: фашизм не пройдёт. Люди во всех странах прозревают.
…Как-то рассказывал мне мой старший товарищ и наставник замечательный поэт Михаил Луконин о том, как на войне, вытаскивая с ничейной земли своего сокурсника по литинституту украинского поэта Арона Копштейна, он попал под огонь вражеского снайпера, и разрывная пуля, добившая Арона, разворотила спину Луконину – раздробила правую лопатку…
И сегодня я думаю, что пуля, попавшая когда-то в меня, летела и в тебя, мой читатель…
P.S. из ЗАМЕТКИ О РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ
…Не выходит из памяти один эпизод, очень характерный для русского человека. Мой дядя по матери Тихон Терентьевич Губарев зимой сорок третьего внезапно навестил меня в Иркутске, в художественном училище, где я учился в тот год. Время было ужасное, я буквально умирал с голоду, напоминал оборванца. В наше время, встретив такого юношу в драном ватнике, разбитых ботинках, буквально шарахались бы от него... Увидев дядю Тихона на пороге настуженной студии, где мы, отогревая руки дыханием, рисовали с натуры, я чуть не потерял сознание. Как он оказался туг, если жил в полторы тысячи километров восточней, за Читой? Оказалось, едва в результате Курской битвы освободили Белгородщину, и наше родное село Тетеревино, как Тихон Терентьевич до войны работавший в Забайкалье, решил вернуться на родную землю. Правительство страны способствовало возвращению людей на место недавних боёв, где всё-всё разрушено до основания, чтобы взяться за восстановление хозяйства и жилищ. Семье дяди предоставили товарный вагон, куда он загрузил свои бедные пожитки, бочонки с квашеной капустой, помидорами и огурцами, мешки с картошкой, столы, стулья, ведра, кастрюли и прочее. В Иркутске их вагон должны были прицепить к другому эшелону, и у негопоявилась возможность добраться до меня. Я потрясённый спросил: «Куда же ты на старости лет? Зима, холод. Даже землянки какой-нибудь там не осталось. А ты оставляешь в Забайкалье обжитый дом, чтобы начинать всё с нуля». Дядя Тихон, старенький, согбенный, вечный счетовод-бухгалтер, даже помрачнел от моих слов: «Мальчик! Ты ничегошеньки не понимаешь... Мы же русские! Хочу быть похороненным среди родных могил... Эх, а ещё художником хочешь стать...»
Какие муки он перенёс, и сказать тяжело. Весной следующего года, построив с семьёй хатку, он, так сказать, с сознанием выполненного долга ушёл из жизни. Много позже я с друзьями-кишинёвцами побывал в Тетеревино, где после войны не осталось даже хоть камешка от какой-нибудь хаты, от церкви, где меня крестили, от школы, где я выучился писать и читать. Посетил старинный бедный деревенский погост с бесчисленными надгробьями, обозначенными нашей фамилией и фамилией моей матери... Да, надо было постоять на этом погосте, чтобы ещё более проникнуться... нет, не просто любовью к родной земле, - чем-то более существенным, и высоким, и горьким, и... даже, если хотите религиозным... Все надмогильные фамилии на слуху - Губаревы (материн род), Савостины - родня по отцу, Леоновы, Свиридовы, Сосковы, Кулагины - соседи, с детишками которых ходил в первый класс...
…Есть хрупкая мечта – поселиться на севере Забайкалья, где-нибудь в Новой Чаре, в изумительных по красоте местах возле чудного хребта Кадар, где, скитаясь в молодости, написал первую свою поэму «Тайга», которую до сих пор печатают в сибирских антологиях и время от времени в тамошней районной газете. Прожить остаток жизни среди удивительных людей того края. Рядом с внуками и правнуками. Да не могу оставить здесь родные мне могилы… А добираться туда погостить, при теперешних ценах на авиабилеты, трудней, чем слетать в Америку, где я не так давно побывал и лишился многих иллюзий…
***
Вдруг, бывает, боль сомнет свирепо, -
В чаше жизни вместе с медом яд.
Те, что душу вознесут на небо,
Наготове за спиной стоят.
Будет день, и я землею стану,
Груз все тяжелей день ото дня.
Вверх и вниз земля и небо тянут,
Разорвать готовые меня.
 |
|
Н.С. Савостин |
Николаю Сергеевичу Савостину…
Ленинградская область. Город Колпино. 2014 год. В крупных магазинах появились книжные стенды – каждый желающий мог принести ненужную книгу и взамен взять любую понравившуюся. Стоял у стенда, изучал корешки новых и ветхих томиков, и вдруг… Боль резанула сердце. Николай Савостин «Ночная гроза» - синяя обложка, 1982 год издания. Пожелтевшие от старости страницы. Прошептал: - Вот мы и встретились, мой дорогой Николай Сергеевич. Спасибо Вам! Десять лет назад я покинул Кишинев. Но Кишинев не покинул меня. Как часто родной город приходит во сне, напоминает о себе короткими и неутешительными новостями в СМИ! Остались незримые нити, связывающие с Родиной: семья, близкие люди, воспоминания о детстве и юности. Многим людям я всегда буду благодарен за тепло и свет дружбы, за науку и воспитание. Одним из таких людей был Николай Сергеевич Савостин, выдающийся русский писатель. Он был для меня неотъемлемой частью Кишинева, - приезжая в Молдову, гуляя по милым сердцу улицам, я всегда вспоминал Николая Сергеевича, звонил ему. Больше никогда я не посещу его квартиру, мы не будем сидеть на кухне и пить белое вино. Николай Савостин умер…
В 2005 году на одном из мероприятий СП РФ в Санкт-Петербурге, ко мне подошёл Дмитрий Каралис и спросил: «Это Вы из Молдавии приехали? Николай Сергеевич писал мне, беспокоился». Меня обступили гости мероприятия, некоторые из них приехали из самых удаленных городов России, и засыпали вопросами о жизни и здоровье Николая Савостина. Я с изумлением понял – насколько писатель известен и почитаем в России. Невыносимо больно вспоминать эти годы. Борьба с русским языком и литературой в Молдове, массовый исход русскоязычного населения. Много строк было написано, сняты документальные фильмы. Рана не заживёт никогда.
2004 год. Кишинев. Мы сидим в новом помещении СП. За окном весна – время надежд. Николай Сергеевич рассказывает о войне, о литературе. Многие, многие часы мы провели вместе. Союз писателей – маленькая и дружная семья. Островки творчества, соединившиеся в хрупкий литературный материк. Николай Савостин всегда очень старался найти средства на то, чтобы организовать фуршет – накормить нас. Как-то он грустно сказал мне: «Сейчас время такое – вроде тепло, а на сердце у каждого – ледяная корка. Сжимает, не дает вздохнуть. Нет радости в людях. И праздник – не праздник, и любое торжество такое, что скорее плакать хочется, чем смеяться. Лёд лжи кругом – обжигает. Будет и другое время. Будет правда. Она растопит лёд. Когда? Кто знает?.. От нас зависит».
Он часто приглашал меня к себе домой, расспрашивал о жизни. В холодильнике всегда было красное и белое вино, хотя Савостин практически не пил. – Это простое гостеприимство, я люблю угощать гостей хорошим молдавским вином. Николай Сергеевич не разрешил мне издать книгу стихов: «Ты еще не готов. Нужно много учиться. Пойми это!» Я долго обижался, а сейчас бесконечно благодарен Николаю Сергеевичу за терпение и науку. Бережно храню газеты с моими первыми стихами, которые он редактировал. Однажды он позвонил: «Приходи в гости, посидим, скоротаем вечер». Скромный рабочий кабинет, старенький компьютер, живущий своей жизнью модем. Мы разговаривали до глубокой ночи, потом Николай Сергеевич сказал: «Ты мечтаешь стать писателем, русским писателем. Значит, ты должен немного пожить в России. Я списался со своими друзьями, они помогут тебе в Петербурге. Уезжай!» И я уехал. Мы переписывались, потом письма от него стали приходить всё реже и реже – он тяжело болел. Меня всегда поражали его руки – даже в период обострения недугов, - это были руки сильного и волевого человека. В моменты эмоционального напряжения Николай Сергеевич сжимал кулаки – белели костяшки. Савостин боролся – с болезнью, с русофобией, с бескультурьем в обществе. Как мог, как умел. Поразила травля писателя, не так давно прокатившаяся в СМИ – в виде комментариев к его статьям. Завистливые и пошлые комментарии. Как можно?.. Николай Сергеевич никогда не делал из себя идола, кумира, объекта для поклонения. Он писал великолепные стихи, потрясающую прозу. Почти все его последние книги стоят на моей книжной полке – с трогательными автографами. Я не буду приводить отрывки из его поэзии, цитировать строки из статей. Зачем? Для меня и для тех, кто его знал - он всегда был и будет не только достойным и мудрым русским писателем, но и необыкновенно добрым и мужественным человеком.
Незримо, неуловимо уходит от нас поколение великих людей. Будем ли мы такими же? Совесть, патриотизм, честность, Родина, искренность, дружба, доверие – ведь были же, были эти слова когда-то важными, первостепенными. Утрачен смысл. Замороченные, обманутые люди, век подмены понятий. Как же Николай Савостин любил Молдову - многонациональную, творческую, богатую человеческим ресурсом страну!.. И как же часто его предавали. Нам принадлежит творческое наследие Николая Савостина. Стихи. Проза. Много статей. Он учил, воспитывал, предостерегал от того, что может скоро произойти. От неизбежного. Страна, в которой мы родились и выросли, больше не существует. Так уж случилось. Умер Николай Савостин – безвозвратно ушла от нас часть творческого мира Кишинева. Что же осталось? Осталось само творчество, остались талантливые люди, мечтающие стать писателями. У кого-то получится, кто-то расстанется с этой мечтой. На доме Савостина (рано или поздно) появится мемориальная доска: «Здесь жил и работал русский поэт Николай Сергеевич Савостин». Люди будут гордиться культурными достижениями большого и общего для всех Кишинева. И им не придется уезжать…
Башкиров Денис.
http://www.lgz.ru/blog/Denis_Bashkirov/
За помощь в подготовке материала Николай Чобану сердечно благодарит Татьяну Адреевну Лупан, Аллу Аркадьевну Коркину, Вячеслава Барбароша и коллектив кишиневской библиотеки имени М.В.Ломоносова.