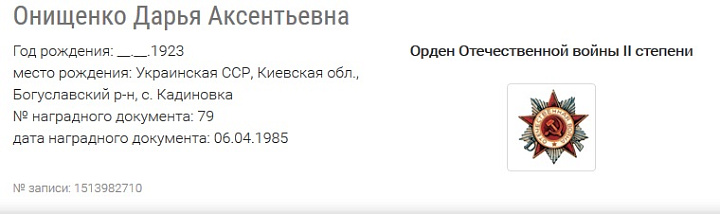Д. О. – Меня зовут Онищенко Дарья Аксентьевна, девичья фамилия – Кабалик. Родилась 1 апреля 1923 года в селе Кидановка Богуславского района Киевской области в семье селянина. Семья была очень большая – одиннадцать детей, двое родителей и бабушка. Я в семье была десятой. Когда началась коллективизация, отец отдал бычка, мы поступили в колхоз. А потом началась голодовка, мне тогда было девять лет. Голодовку пережили очень трудно. У отца было шестеро братьев, а у них много детей, и все они умерли от голода – и дети, и взрослые. Мы остались живы только благодаря тому, что отец держал корову, родители ее все время прятали. Жили мы в такой «шевченковской» хатке, половина под жилье, а вторая под комору, и корова там ночевала.
Во время голодовки по селу ходили активисты-коммунисты из района, искали по хатам зерно. Пришли они к нам, а у нас полная хата малых детей. Помню, мама замуровала под печью внизу горшочек жита, килограмма на полтора, чтоб на следующую осень посеять. И вот когда пришли вот эти самые активисты – старшина, представитель из района и, вроде бы, свидетели – то мама упала на колени, рыдала, просила: «Не трогайте жито, его надо посеять! У меня же дети!» Но они расковыряли глину, забрали тот горшочек и ушли. Так мы ни с чем и остались. Отец потом где-то насобирал семнадцать колосков жита, принес домой, и мы их не съели, а завернули в тряпочку и спрятали в горшочек. Взяли родители этот драгоценный горшочек и повесили под сволок, чтоб мыши не съели. Ели воробьев, крыс, собирали картошку прошлогоднюю, обдирали липу. Как могли, выкарабкивались и выживали в то время.
Мы жили недалеко от центра села, и вот я очень хорошо помню – мимо нашей хаты каждый день ехала повозка, такая одноконная площадка, и на ней трупы вповалку. Мы, дети, выскакивали на улицу и смотрели, как эта площадка ехала на кладбище, а наш огород как раз выходил на кладбище. Два человека хватали трупы за руки, за ноги и сбрасывали их в большущую яму.
А.И. – А до коллективизации как жили? Был достаток в семье?
Д. О. – Какой достаток?! Я в пять лет уже работала. Меня с самого утра будили, выгоняла гусей пастись. Трудно было, очень трудно. Мы, четыре сестры-школьницы, одним пером закончили школу. Писали очень аккуратно, чтобы не сломать, друг другу его передавали. Спали на печи, шестеро маленьких детей. А еще у нас был такой каганец с манипусеньким таким фитильчиком, и мы при нем делали уроки. Вот в таких условиях… И что я Вам скажу, тогда была огромная тяга к знаниям – я Зощенко читала под партой в школе, будучи в пятом классе (он, по-моему, тогда был запрещен). Мы очень хотели учиться, а не просто в школе штаны просиживали. У меня семь классов образования и техникум, но я любого могу за пояс запихнуть, потому что училась по-настоящему, и очень многое пришлось в этой жизни пережить.
Мою старшую сестру родители на год задержали и в школу не пустили, потому что одежды не было – одна раздевалась, а другая одевалась. Если зимой кататься с горки, так брали «кулик» – обмолоченный сноп – и на нем катались. Ботинки отец сам шил. Сам шкуру вычинял, устилку ложил из соломы. Еще что хочу заметить – хотя и очень трудно было жить, но никто ни у кого не воровал, хата не закрывалась, да и нечего было воровать. Сами ткали полотно, сами шили. Старшие сестры пошили отцу чемерку, а мне в два года как одели домотканую рубашку, из грубого полотна – так я ее носила до шести лет.
В селе я закончила семь классов, и нужно было думать, куда идти учиться дальше. В Богуславе тогда было два средних училища – медицинское и педагогическое. Поступила в медицинское. Когда через два с половиной года мы его закончили, начали нас распределять на работу. Хорошие распределения получали дети председателей колхозов, бригадиров и разных других начальников, а я-то кто? Наполовину сирота. Отец умер в 1938 году на шестьдесят четвертом году жизни, а мама позже, в марте 1942 года, а до этого она шесть лет лежала парализованная.
В 1939 году распределили меня в село, но там свободного места не было. Тогда меня и еще двух девчат направили в Киев на улицу Круглоуниверситетскую в Горздрав, а уже оттуда меня направили на работу в хирургическое отделение Октябрьской больницы. Первое дежурство хорошо помню – 17 июля 1939 года.
Жила в общежитии от Октябрьской больницы. Там на территории, где сейчас фонтан, напротив 5-го корпуса, стоял деревянный клуб, и в нем было общежитие – стояло шестьдесят кроватей, и моя шестьдесят первая. Заведующим отделением, где я работала медсестрой, был очень хороший врач, профессор – к сожалению, не помню его фамилию. Хирургическое отделение было одно для всех – сейчас хирургию разделили на «ухо, горло, нос, сисю, писю, хвост», а тогда было все вместе. Как раз в мое первое дежурство к нам привезли 87 человек – что-то такое случилось, что много людей заболело. А я в школе и в училище училась на украинском языке, русского не знала, так если мне, например, говорили подать кислород, то мне надо перевести, понять, что кислород – это «кисень». Было страшно трудно. Там я работала до начала войны. Зарплата была 37 рублей.
А.И. – Что можно было купить за 37 рублей перед войной?
Д. О. – Мало что. Тем более, я в свою Кидановку высылала тюльку, помогала семье. Каждый месяц одну-две посылки отправляла, в Киеве тюлька стоила копейки – всего 30 копеек за килограмм.
А.И. – Вы предполагали, что может начаться война?
Д. О. – Нет, не думала. Хотя меня первый раз мобилизовали еще в 1939 году, когда освобождали Западную Украину – четыре месяца работала в военном госпитале на улице Щорса. Раненых не привозили, ухаживала за демобилизованными. А что там происходит на Западной Украине, я не знала и не думала.

|
|
Медсестры Киевского окружного военного госпиталя, сентябрь 1939 года. В центре – Дарья Кабалик, справа – Устина Сыч |
А.И. – Какие политические разговоры ходили перед войной, Вы не слышали?
Д. О. – Нет. В восемнадцать лет я интересовалась тем, что бы мне покушать и выполняла свою работу.
А.И. – Как для Вас началась война?
Д. О. – Как раз в ночь 22 июня, когда началась война, было мое дежурство. С Поста-Волынского начали везти этих раненых, ночью. А 23 июня меня вызвали в Горвоенкомат и оттуда направили на улицу Артема, 53 или 43 – не помню. Там я встретила комиссара Константина Тимофеевича Тимофеева, и тут же начали формировать восемь санитарных поездов. Нас, медиков, распределили по командам – меня взяли медсестрой в поезд №1082. Наша команда, начиная от начальника поезда, составила пятьдесят шесть человек. И мы потом с Тимофеевым всю войну ездили.
Начальником поезда был Брун Яков Бенционович, 1916 года рождения, еврей из Винницы, по специальности гинеколог. Мирона Наумовича Ворошиловского назначили начальником хозчасти, он был 1906 года, так до конца войны и работал. Он молодец был – не боялся бомбежек. Кладовщиком был Юрий Богомаз, тоже еврей, начальником медицинской службы – студентка мединститута из Днепропетровска, Анна Гавриловна (фамилию не вспомню). Квалификация у нее была невысокая – до войны успела окончить всего два курса, мало что умела, но она об этом сказала сразу же. Я же за два года работы в больнице приобрела большой практический опыт и знания в области хирургии – умела определять группу крови, давать наркоз (тогда наркоз давали капельным путем), переливать кровь и прочие манипуляции.
Одели мы военную форму, построились, обули кирзовые сапоги и под марш «Прощание славянки», под духовой оркестр строем отправились на станцию Киев-Московский, где стояли все поезда. Там получили ключи, нашли свой состав из пяти вагонов – холодильник, кухня, штабной, операционная и один вагон для тяжелораненых (остальные вагоны потом цепляли на станциях). Так что я хочу сказать – когда мы открыли поезд и зашли в него, там лежало абсолютно все необходимое, он был полностью укомплектован спиртами, перевязочными материалами, катетерами и так далее. Тогда все выпускалось в порошках, шприцов же никаких не было и даже атропин в порошке. А стерильные материалы и инструментарий были в вазелине, и мы ночью, пока ехали до Тарнополя, вытирали все инструменты и материалы. Когда приехали в Тарнополь, наш инструментарий был в таком идеальном состоянии, а команда настолько подготовлена, что только мой руки и оперируй. Все было на высшем профессиональном уровне, были готовы ко всему, к любым ситуациям!
На кухне у нас стоял автоклав для стерилизации – все инструменты кипятили, все как надо. Брали дистиллированную воду, сами делали растворы вплоть до того, что в рецептурниках искали, какой нужен атропин, какой его состав, и сами готовили. Потом когда вернулась с фронта, я на фоне других медсестер была «профессором».
В Тарнополь прибыли утром 24 июня, начали загружать раненых. На станции стояли теплушки с кригерами (носилками-кроватями на станках Кригера – прим. А. И.), на полу солома. И туда население сносило раненых, но не гражданских, а только военных.
А.И. – Какая была обстановка в Тернополе?
Д. О. – Бомбили уже, Вы что! Первое место, где Гитлер получил большое сопротивление – это 12 июля под Киевом, за Ирпенем, наши уже начали обороняться. А до этого немцы шли прямо, никто остановить не мог. А Тарнополь вообще никто и никак не оборонял! Вот как к нам сейчас вошли в Крым (разговор происходил в июле 2014 года – прим. А. И.), и никто ни от кого не оборонялся, вот почти так и в Тарнополе было в 41-м году.
Что дальше… Забрали в Тарнополе раненых, привезли их в Козятин. Потом ехали так – до ста километров от фронта – три часа загружаемся ранеными, везем в пункт назначения, там три часа разгружаемся и обратно к линии фронта за новыми. Во время транспортировки оказывали возможную помощь. Потом начали привозить их в Киев. Нас без конца бомбили, мы всю войну для немцев были целью. Как-то проезжали Мироновку (пятнадцать километров от Богуслава, откуда я родом), так и раненые, и люди из нашей команды говорили: «Сойди с поезда! Сойди с поезда, оставайся дома». Ну, я не сошла, дальше поехала.
А.И. – Что помните из событий в Киеве?
Д. О. – Евреи выезжали на крышах. Ехали на пульманах, цеплялись за вагоны – как могли, так и ехали. У нас в больнице старшей медсестрой работала Таубина – как начали вызывать в военкомат, так она упала на кушетку: «Мне плохо!» И ее понесли. Ну Вы понимаете – это чтоб не ехать на фронт. И все евреи, которые у нас в больнице работали, остались работать, а потом уехали в тыл. А такие дурные, как я, сироты, пошли на войну.
Я Вам расскажу о своем третьем, последнем рейсе из Киева. Это было 18 сентября, а на следующий день Киев сдали. На станции Киев-Петровка нам загрузили раненых моряков и население, без медикаментов. Только переехали железнодорожный мост, не успели доехать до Дарницы, и минут через пятнадцать мост взорвали. Поехали дальше, приехали в Ромны. Там было очень много наших солдат, особенно из Средней Азии – молодых хлопцев по восемнадцать лет. Они не знали ни языка, ни то, как обращаться с оружием, как прикреплять магазин к винтовке – они ту винтовку ни разу в руках не держали. Приехали мы туда с ранеными, надо было набрать шесть вагонов воды, но не смогли, потому что началась сильная бомбежка. А военные на той же станции ждали оружие, но вместо него приехало шесть вагонов галош – вот такая неразбериха была. Потом приехали в Полтаву, заправились водой, продуктами и повезли раненых в сторону Харькова. Отъехали километров тридцать от Полтавы – опять бомбежка, в нас попало две бомбы, троих из команды ранило.
Был случай с одним тяжелораненым моряком. У него были множественные ранения в бедро, ноги, правую руку, грудную клетку, весь в бинтах, только левая рука целая. А кригеры были двухэтажные. На первом этаже находились лежачие, которые совсем не могли двигаться, на втором – раненные в грудную клетку, в руку и тому подобное. Как он смог повеситься – не знаю. Когда рассвело, смотрим, а он с нижнего этажа поднялся, петлю из ремня сделал, за верх зацепился и висит.
Проездила я до конца войны. Сначала была Юго-Западная дорога (Тарнополь, Козятин, Киев, Ромны, Полтава, Харьков). Потом Южная дорога и Сталинград. Потом один рейс в Баку, а дальше поехали в сторону Курска. Потом Белоруссия – Минск (были там шестнадцать раз), Могилев, Брест. И в самом конце войны поехали в Польшу, в Варшаве были двенадцать раз. За войну поезд семь раз переформировали, после бомбежек.
Где-то до середины октября (1941 года – прим. А. И.) мы всех раненых доставляли в Харьков, нигде долго не стояли, сразу ехали туда. После Харькова поехали на Воронеж, потом на Сталинград (это летом 1942 года, уже под осень). Там по дороге есть станция Поворино, узловая, девяносто колей. И вот каждую ночь начальник передвижения войск собирал там народ – поезда с горючим, с ранеными. И не выпускал до вечера. Мы так думали, что он был предатель, что так поезда собирал. Как вечер – летят самолеты, вешают фонари на парашютах, начинается бомбежка. Бомбили эту станцию страшно. А мы всегда ее переезжали – Ворошиловский все время бегал к коменданту, даже ящик масла носил и просил, чтобы нас поскорее выгнали со станции.

|
|
Медсестры временного военно-санитарного поезда №1082. Слева – Марьяна Бартковская, справа – Дарья Кабалик |
Потом Сталинград – это страшное дело! Непрерывно сюда-туда гоняли – загружали и выгружали, опять загружали и выгружали, и это под постоянной бомбежкой. Было такое, что я тринадцать суток не снимала сапоги. Сколько через эти руки прошло крови, гноя… Тяжелейший труд, врагу не пожелаешь такого. Помню август 1942 года под Сталинградом. Стоит наш поезд: с одной стороны – лес, с другой – посадка, впереди дорога разбита. И нас третьи сутки бомбят, поэтому никак не могут починить полотно. Раненые голодные, но терпят, бедные, никто не скулил. Кто мог как-то передвигаться, поползли в лес. Кто совершенно не может двигаться, те лежат. И вот представьте себе – стоит невыносимая жара, везде мухи, черви... Лежит тяжелораненый боец, повязка вся в гною, в крови, сверху ползают черви, он кричит. Но Вы знаете, там, где заводились черви, рана потом была прекрасная – они выедали гной, поэтому рана была самая чистая. Так вот, стоим мы, стоим, надо раненых накормить – мы во всех шести вагонах спустили из туалета воду, сварили перловую кашу, а потом в течение трех суток по две ложки в день давали раненым. За сутки поезд продвигался метров на триста, но никто шума не подымал и никто не жаловался, да и кому там жаловаться.
И вот в это время произошел случай, который я всегда вспоминаю с содроганием. К нашему поезду (не помню, на какой станции) прицепили вагон госпиталя, в котором ехал полковник медслужбы, а у нас уже третьи сутки у раненого был острый живот, и он лежал без сознания. И оперировать его взялся этот полковник, потому что у нас никто не имел такого опыта, чтобы проводить такие сложные операции. Значит, полковник пришел оперировать, больному уже дали наркоз, он спит. Вокруг стоят Брун, Анна Гавриловна, я, еще кто-то. И тут на поезд налетает штук десять самолетов! Началась бомбежка. Раненые, кто ходячий, побежали в разные стороны. Хирург хочет взять скальпель, а я не даю. Вся на нервах, зубы стучат. Машинально сорвала с него маску и потеряла сознание. Как потом оказалось, после этого Брун достал пистолет и наставил на меня. Тогда Анна Гавриловна ударила его по руке, и он уронил пистолет на пол, а я так и лежала без сознания. После войны мы с Бруном встречались в Киеве, и он сказал, что благодаря Анне Гавриловне я тогда жива осталась, что он хотел меня застрелить – я ж не давала провести операцию. Когда началась бомбежка, я была просто в шоке от этого, да еще и проблемы со щитовидкой, поэтому так отреагировала. Ну и всем пришлось разбегаться – немцы ж бомбят. Операцию так и не сделали, раненый умер, и не только он. Мне оно до сих пор снится, а перед глазами зубы летчика, который нас бомбил.
Что еще… В начале войны к поезду прицепили вагон с зенитчиками, чтобы охраняли. И они, когда видели немецкие самолеты, то начинали стрелять, поэтому немцы нас быстро замечали и бомбили. Ой, как же мы просили их не стрелять…
А.И. – Они прислушивались?
Д. О. – Да по-разному... И я так скажу, что нам попадало, а у них за всю войну ни одного убитого.
Когда началась война, у нас в каждом вагоне санитары были здоровые мужики, но по возрасту, как сейчас афганцы – не штатные военные, а резервисты. А уже позже их забрали на фронт и заменили инвалидами, нестроевыми. Помню, у нас работал 27-летний санитар Марийченко без одного глаза.
Санитары круглые сутки находились в вагонах с ранеными. Если что-то случалось в каком-то вагоне, то когда поезд поворачивал, санитар брал простынь и махал ею. Тогда мы по крышам ползли именно в тот вагон, чтобы помочь.
А.И. – А по поезду нельзя было пройти?
Д. О. – Это же теплушки, как товарный вагон, между ними перехода нет. Приходилось по крышам лезть. И спускаться с крыши тоже – вот представьте себе, спускаешься, а поезд на полном ходу. У нас могла быть остановка там, где можно заправиться, а потом километров по семьдесят ехали абсолютно без остановок. А уже когда мы тут сгружали, дальше от фронта, тогда раненых брали в медсанбат, там их обрабатывали и везли в тыл.
А.И. – Кого еще помните из команды поезда?
Д. О. – Я многих наших девчат помню. Основная масса персонала у нас была из Киева. Но потом, конечно, приходили еще люди – я помню, в Белой Церкви было пополнение, потом в Воронеже. В нашем поезде, кроме врачей, было всего четыре медсестры со специальным образованием. Из них только я одна до войны работала в хирургии, другие три девушки были медсестрами в детской поликлинике и в детском саду. А остальные все девчата-добровольцы. Вот, например, как к нам пришла Таня Тимукина. 22 июня у нее был выпускной, а уже 23 июня она пришла к нашему поезду и просится: «Возьмите меня, я поеду на фронт». Ей шестнадцать лет, никакого медицинского образования не имела, но санитаркой мы ее взяли. Клаву Инакову мы «подобрали», когда ехали через Саратов. Была еще Лидочка Сопелкина, родом из Воронежа, тоже сама пришла, работала санитаркой.
Хочу рассказать о нашем комиссаре Тимофееве. До войны он жил на улице Январского восстания, возле завода «Арсенал». У него было пятеро детей, и он для нас, девчат, был как родной отец. Образование имел всего пять классов, но дисциплина и порядок у него были идеальные! Я, например, получала офицерский табак, у меня было пятьсот литров спирта, но никто не пил, табак я отдавала раненым, или, если приходили бабы с продуктами, то меняла у них на еду для раненых.

|
|
Константин Тимофеевич Тимофеев, |
Я Вам скажу, что у нас не было ни одной гулящей, ни одной потаскухи. Единственное, был такой случай. Работала у нас санитаркой Катерина, из Донецка. Ухватки у нее были донецкие – ну Вы понимаете, какие. Уже не помню, где мы ее подобрали, но потом она вроде бы в Горловке жила. Красивая была, хорошая фигура, мужчины всегда обращали на нее внимание. Стояли мы на какой-то остановке, без раненых, а рядом поезд с танкистами. Мы ждем отправления, они ждут семафора, играют гармошки, многие танцуют. А мы, девочки, все молоденькие, стройные такие, ну просто загляденье. Обычно мы ждали пять-десять минут, чтобы поезда разъехались, поэтому и не волновались. Наша Катя выплясывает вовсю, как вдруг отправляется поезд с танкистами, его решили пропустить раньше. Так танкисты затянули Катю на танк, и она поехала с ними. Ой, что тут началось! Они уехали, а мы остались. Как бросился наш Ворошиловский сюда-туда, начал звонить начальникам станций... Он же как начальник хозчасти отвечал за каждого солдата. И Вы знаете, гнался за ней на поездах восемьдесят километров и догнал. Потому что каждый отвечал за солдата. Когда этих танкистов задержали, он забрал Катю.
А.И. – Какие меры были приняты к ней?
Д. О. – Никаких абсолютно. Она ж не была в чем-то уличена. А вот я на гауптвахту попала в Кочетовке, после налета. Я как раз была дежурной по части, имела при себе пистолет. Наши-то все знали, что мы не отправляемся, потому что в небе появились немецкие самолеты, скоро начнется налет, поэтому команда собралась моментально. Всему личному составу приказали укрыться за забором. А я была на дежурстве, но решила пойти посмотреть, где наши, чтобы знать, откуда их звать, когда кончится бомбежка. Бомбежка закончилась, все остались невредимые, возвращаются к поезду, а меня нет. За то, что я оставила пост, меня посадили на гауптвахту в тамбур вагона и даже забрали пояс. Я сидела и плакала. Девчата и кушать приносили, и проведывали, но я очень боялась, что может опять начаться бомбежка, а я там буду сидеть и не смогу спрятаться. Не прошло и суток, как у меня через этот стресс поднялась температура до сорока градусов, поэтому меня выпустили.
Еще Вам расскажу – был у нас «юмористический дуэт». У меня было два санитара, солдата. Один – Козырь, лет около тридцати, все лицо ископано оспой. Второй – Юлиан Прилук, еврей. Грязный такой, засмоктанный, сопли висят. И вот я говорю: «Прилук, надо то-то и то-то». А тот всегда отвечает: «А где Козырь?» Козырь поворачивается: «Так, твою мать, сейчас сброшу с поезда» – «Эээ, он меня убьет!» Что б я ему ни поручала, он сразу же: «А где Козырь?» Раз попросили Прилука принести утку, он кричит: «А где я ее возьму?! Где я вам возьму утку?!» Не понимал, что утка – это судно, а не птица. Вот такой интересный экземпляр был. Вы знаете, настолько это запомнилось, что я часто так шутила с мужем. Он что-то попросит, я отвечаю: «А где Козырь?» А потом что, когда в 70-х годах начали уезжать за границу, так первый в Америку уехал этот Прилук – сопливый, грязный еврей немытый. Он в Киеве работал кровельщиком, и в Америке стал работать кровельщиком, хорошо зарабатывал.
А.И. – Что входило в обязанности медсестры?
Д. О. – Очень много всего приходилось делать, особенно если были тяжелые ранения – например, в области таза. Они ведь не могли сами мочиться, только через катетер. У нас было 40 резиновых и металлических катетеров, и никто, даже начальник поезда, не мог правильно спустить раненым мочу. Это умела делать только я. Тяжелых раненых мы ложили на нижние полки, на вторых полках были менее тяжелые, а на третьих – с легкими ранениями. Мы уже знали, что когда нарушены тазовые органы, человек не мочится, поэтому я два раза в день спускала им мочу. Вы бы видели, как они меня ждали! Да, наверное, родную мать так не ждали, настолько им было больно не помочиться.
А.И. – Никто из раненых не приставал к медсестрам?
Д. О. – Сейчас расскажу. Иду я по вагону, а санитар с катетерами за мной. Подхожу к раненому, ставлю катетер, вытираю платочком, санитар остается возле человека, я пошла дальше. Поставила почти все катетеры, вдруг слышу голос: «Сестрица, ты что ему держала?» Я говорю: «Твоего еще не держала». Боже, что тут началось! Как поднялись раненые, чуть не убили его. Потому что как это так? Я избавляю от таких ужасных страданий, а он позволил себе грубость в мой адрес.
Но у меня была большущая трагедия с этими катетерами. Как-то поставила их кипятить, и они сгорели на электропечке. Я тогда чуть с поезда не кинулась, так переживала. Тогда Ворошиловский начал звонить по дороге, по селектору связывался с медицинскими учреждениями. Потом приезжаем на станцию, нам дают восемь катетеров.
А.И. – Раненых немцев приходилось перевозить?
Д. О. – Да. И мы к ним так же прекрасно относились, как и к нашим. Они лежали смирно, терпели и такими молящими глазами смотрели на нас, когда их перевязывали. Может, боялись, что мы их убьем или задушим.
А.И. – Общались с ними?
Д. О. – Никаких разговоров. Да я и немецкого не знала. Кормили их как обычно, ели абсолютно все, что и остальные раненые. Мы готовили два котла, в основном, перловки, иногда манку – не было никакой диеты совершенно. Персонал ел все то же самое, что и раненые.
А.И. – Тушенка была?
Д. О. – Боже упаси! И близко не было. Никакого первого, второго – одна каша, даже макарон почти не было. Мы раненых очень жалели, отдавали свои порции, а сами ходили голодные – всего ж мало, хлеба мало. Но терпели, никто ж ничего не требовал.
А.И. – Какие-то жиры вам давали?
Д. О. – Масло было то, что в общую кашу ложили, а отдельно никто никому ничего не давал. Сала не было. Сахар тоже – кидали в чай в общий котел. Еще ж и посуды толком нет – нема кому мыть. Кашу давали в алюминиевых котелках, чай – в кружках или в баклажках.
А.И. – Смертность раненых была большая?
Д. О. – К сожалению, были настолько тяжелые, что не получалось их спасти. Я Вам скажу так: то, что происходило до Сталинграда – это ад. Например, в Шепетовке в 1941 году мы брали раненых с соломой, с грязью, со скалками – в ранах сплошное месиво. Доставляли же обычные люди, не медики, поэтому у многих состояние было критическое. В Сталинграде – не меньший ад. А уже после Сталинграда много изменилось, стало лучше. А в самом Сталинграде стояло много медсанчастей, поэтому нам подвозили раненых, уже предварительно обработанных. С необработанными ранами поступали только те, которых жители откопали. Огромное количество раненых было под Сталинградом, но когда там закончили, то совсем другая жизнь началась.
Что еще… Я занималась распределением поступивших людей по тяжести ранения. Когда их привозили, я залазила на машину и говорила, кого в какой вагон и на какую полку ложить. За войну я так налазилась на эти машины, что до сих пор колено болит. Хорошо, что хоть брюки были у меня. Зимой – ватные, летом – обычные. Все остальные ходили исключительно в юбках – просто тогда не было женских брюк, вот и не носили. А мне свои брюки дал Тимофеев.
А.И. – Как развлекались в минуты отдыха?
Д. О. – Находили возможность радоваться, устраивали небольшие праздники. Все ж молодые, по восемнадцать-двадцать лет, любили петь, танцевать, рассказывать анекдоты… Как-то стояли под Пензой, станция Асеевская – поезд разбили перед этим, ждали переформирования. А рядом с путями был красивый лес – высокие елки лапатые, густые такие сосны. Вот мы все и пошли в лес встречать новый 1943 год. Взялись за руки, водили хороводы вокруг елки, пели, танцевали. Закуска какая-то была, а вот выпивки – не было. Так что сделали наши ребята? На станции стоял эшелон с шерстью. Так они пошли, украли один тюк шерсти, продали на базаре и купили самогонки. Потом они же ее и выпили. Боже, как увидело население этих наших военных, а мужиков же не было абсолютно, все ж на фронте, как поприбегали эти бабы с Асеевской, как начали таскать этих наших стариков-мужиков. Потом еле-еле их собрали. Нахалом лезут – хватает мужика и туда, и туда.
В поезде был вагон, где хранился инструментарий и прочее. Так мы туда поставили пианино, где-то по дороге его подобрали. Когда раненых нет, мы сами себе устраивали концерты. Например, Тамара очень хорошо пела, я прекрасно играла на гитаре, и устраивали самодеятельность.
Расскажу, как нас водили в баню. Есть такая станция Лиски в Воронежской области. Мы там остановились, пока формировали новый состав, нас построили и повели в баню. С одной стороны бани заходили, полностью раздевались (и все наши вещи тут же сожгли), а с другой – выходили и одевали новую одежду. Что Вам сказать, приходим в свое купе, раздеваемся, а на совершенно новом бюстгальтере двадцать пять вшей! Где они взялись – понятия не имею.
После Сталинграда, весной 1943 года, мы привезли раненых на Кавказ. В Баку нас встречали и хлебом, и солью, и цветами, и слезами. У них же там войны не было. А у меня в операционном вагоне было купе-аптека и десять подвешенных кроватей, которые предназначались для раненых в голову. Нас же без конца трясло, и чтоб им мягче было ехать, сделали такие кровати. Так у меня там был мальчик, осетин – красавец, восемнадцать лет, но без обеих рук. И мы с ним ехали дней шесть, наверное, до Баку. Все это время я его кормила, поила, подавала и убирала утки, ухаживала, как за маленьким. И вот мы выгружаемся, а он смотрит на меня и говорит: «Мама, не уезжай, оставайся тут, не уезжай. Тебя убьют, не уезжай». И так горько плачет... Наши все пошли кушать в привокзальный ресторан, а мне надо получить новое постельное белье для раненых. А он говорит: «Я не пойду без мамы». Ну что, пошли вместе. Получили белье, зашли в ресторан, и тут он говорит: «Это моя мама». Все смотрят на меня – что же это за мама такая? А я старше его всего на два года. Как он плакал: «Не уезжай, не уезжай». Сейчас все время вспоминаю…
А.И. – Сколько человек из персонала поезда погибло за войну?
Д. О. – Не знаю точно. Одного нашего убили в Основе (под Харьковом станция), а Иосифа Клименко и Мишу Оболенского – ранили. Вы знаете, я всю войну молилась «Отче наш», и, наверное, как-то помогло – слава Богу, не ранена. А может, это подкова «на счастье» помогла? Наши ребята где-то нашли подкову, прикрепили на штабном вагоне, и он ни разу не был разбомблен, проездил всю войну с этой подковой.
Еще одно смешное расскажу. Как-то весной, перед Пасхой, попадает к нам один еврей с ранением в брюшную полость, и у него все время оттуда выделялся кал. Поэтому приходилось три-четыре раза в день делать ему перевязки. И вот я обрабатываю ему рану у себя в операционной, дверь открыта, в купе заглядывает Ворошиловский и говорит: «Одарка, чем ты занимаешься?» А я перевязывала не сама, а с медсестрой Сашей. Она спросила, чем обрабатывать, а я сказала, что зеленкой, потому что там кроме живота попрели половые органы, поэтому может попасть инфекция. Так потом Ворошиловский всю войну смеялся: «Так ты всегда на Пасху яйца красишь?»
А.И. – Ранения как-то отличались в начале и в конце войны?
Д. О. – Нет. Куда кому попадало. Чаще всего – ранения конечностей. Вот снайперских почти не было, не было летчиков, танкистов обгоревших – в основном, пулевые и осколочные ранения. Очень много было кровотечений, особенно при ампутации ноги. Если где-то соскочил сосуд, тогда приходилось три раза перевязывать его, а это ж тяжело, когда движется поезд, все трусится. Специально ж никто никогда не останавливался, научились работать во время движения. Но организовано все было на высоте. Приведу пример: мы едем, и у нас на пути Козятин. Звоним мы в Козятин, подъезжаем туда, и нам к поезду выносят все, что мы заказывали наперед. Самое главное, что нам все давали без упаковок, не нужно терять драгоценное время на распаковывание.
Хорошо помню, когда мы проезжали Белоруссию и под городом Бобруйском должны были переехать через мост. И по эту, и по другую сторону – болото, впереди дорога разбита. Мы приехали как раз после боя. Люди, лошади, пулеметы, машины погрузли в болоте. И убитые, и раненые – все в одной куче. Там болото шевелилось – это жуткое зрелище… Постояли, дали задний ход, поехали назад… Да что говорить, это ужас был, все время ужас. Вы видели обстановку на Майдане, когда людей расстреляли?
А.И. – Я там был после расстрела.
Д. О. – Так Вы это видели один день. А то – без конца война, четыре года. Понимаете? Сейчас вот сижу и думаю, что если вдруг придет война сюда, все поломается, все разрушится в нашей стране. Вспоминаю ту войну, убитых, эти горы кирпича, и мне до сих пор страшно. Под Курском вот тоже бомбили ужасно. Помню, мы трое (Йосик Клименко, Лида Сопелкина и я) лежим в ямке, а он бомбит и бомбит. А выемка маленькая, наверное, на лопатку глубиной, и мы на эти бомбы смотрим: «Вот это уже наша, вот это уже наша». Ну, обошлось как-то. Йосик и Лида поженились после войны.
Помню, что когда переехали Брест, то где-то проезжали мимо польского кладбища. Я была поражена – война идет, а кладбища убраны, кругом лампадки горят, на каждой могилке свечечка. Абсолютно все, как будто в мирное время. Я до сих пор не могу успокоиться – такая война шла, а у них все как положено.
А.И. – Как вас встречали в Польше?
Д. О. – У нас Миша Оболенский был, толстый такой дядька. Только приехали под Брест, стояли в каком-то населенном пункте. А Миша подходит до поляка: «Ну как, пан, бимбер йосць?» – «Йосць» – «А как колхоз?» – «Цо?» В Варшаве видела баррикады из мешков с мукой. Россия тогда много муки им поставляла. Вот как лежат мешки с песком, так там лежали мешки с мукой. С той стороны Вислы стреляли, так эта мука летела в разные стороны.

|
|
Дарья Кабалик, медсестра временного военно-санитарного поезда №1082. |
Войну закончила на Одере 8 мая 1945 года. Мы тогда уже были без раненых, и вдруг, в два часа ночи началась стрельба – ракетницы, автоматы, карабины... Мы вскочили – что случилось? А все вокруг радуются и кричат: «Победа!» И мы начали плакать от радости. Дальше Одера я не поехала. Потом нас пять или шесть человек забрали на Киев. Чемоданов ни у кого не было, только мешки. А у меня была подушка. Сложила я в этот мешок подушку, шинель и поехала домой. Потом мне рассказывали, что когда расформировывали поезд, все остальные выехали вагонами. Они там нагрузились и бельем, и простынями, и одеяла забрали. А у меня было отложено три новых простынки, думала с собой взять, но их забрали. Приехала в Киев без ничего, в мужской рубашке, в гимнастерке, в юбке с двумя латками на заднице, а на ногах сапоги.
А.И. – Трофеями не разжились?
Д. О. – Абсолютно! Если я из поезда и выходила, то по городу не ходила нигде, даже в Германии.
А.И. – Чем награждены за войну?
Д. О. – Медалями. «За оборону Киева», «За оборону Сталинграда», «За Варшаву». Но «За оборону Киева» я не сразу получила. Меня нашли уже позже с этой медалью, в 1978 году.
Демобилизовалась я 25 октября 1945 года, дальше уже гражданская жизнь пошла. Хочу рассказать, как я восстанавливала удостоверение участника войны. Все мои киевляне удостоверения получили, пришла и я в наш райвоенкомат (это был Ленинский район), а мне говорят: «Вашей воинской части нет» – «Как нет?!» Пришла второй раз, третий. Пять раз ходила и все впустую, ничего не выдают, потому что поезд №1082 у них в книге не записан. Тогда мы вместе с майором, молодым парнем, наверное, Вашего возраста, поехали в городской военкомат искать правду. Ну, он там в райвоенкомате молодых девчат пощупывал, до меня ему дела не было. Я сама пошла в отдел медицинской службы, а там сидит полковник – колодки от носа до яиц, весь в наградах. А я пришла, ноги болят, на мне босоножки, а на улице еще лед был. А он встает и говорит: «Женщина, кем Вы работаете?» – «Медицинской сестрой». А он говорит: «Оно Вам надо?» И-и-и! Как он это сказал, после всего, что я прошла за четыре года войны, и мне не надо?! Я как гавкнула: «А Вам надо, что Вы всю жизнь здесь работали, на фронте не были, что ординарцы Вашу жену везде возили?!» Сбежался весь горвоенкомат. Подходит майор, который морским отделением заведовал, говорит: «Женщина, идемте со мной». Взял эту книгу, пошли в другую комнату. А я принесла все свои награды, благодарности, документы, даю ему. Потом поехала опять в свой военкомат, и там уже сделали запись, что такой поезд есть. А еще раньше я написала в Подольский архив, и они выслали справку, что мой поезд участвовал в войне и был на линии фронта 291 день. Принесла справку полковнику, он говорит: «Успокойтесь, Вы сейчас все получите». Но не тут-то было. Кинулся – нет на месте ключей от сейфа с печатью. Говорит: «Вы идите домой, оставьте телефон, и сегодня получите удостоверение». Через полтора часа мне домой тот самый майор со своими девчатами принес удостоверение участника войны. А когда я жаловалась полковнику на него, то он говорит: «Женщина, Вы знаете, не власть виновата. Этого майора поставил его отец-генерал, я его не могу снять». Вот Вам и коррупция.
А.И. – Как устраивались в Киеве?
Д. О. – Когда вернулась, жилья ж у меня не было. Военкомат написал, чтобы что-то из жилья выделить, но Вы же сами понимаете, что написать написали, и на этом закончилось. Поэтому я полгода у Марьяны Бартковской жила, ныне покойной. Потом вернулась работать в Октябрьскую больницу, жила в общежитии. Меня поставили работать младшей операционной сестрой в отделение профессора Шварцбурга Якова Александровича. Приходилось работать на полторы ставки – когда приезжала скорая помощь, то и днем, и ночью меня звали. И еще я подрабатывала сиделкой. У нас в больнице лежали и бедные, и богатые больные, так вот одни богатые евреи нанимали меня за пять рублей, чтобы я сидела возле покойника и закрывала ему глаза. Так и крутилась, как могла, а где ж я еще деньги возьму, больше неоткуда… Настолько трудная была жизнь, что не передать словами. Спасло то, что мне на работе было положено питание. Кормили этой несчастной манной кашей – без молока. Но все-таки, благодаря этому я выжила. Сапоги и шинель у меня через месяц украли в общежитии, осталась гимнастерка и юбка, постельного белья не было. И у меня ни кола, ни двора, ни забора… Родители умерли, сестры жили в селе, сами голодали, куска хлеба не имели. Так что, помощи никакой – я сирота!
Потом перевелась в железнодорожную больницу в лор-отделение, тоже работа тяжелая. Помню, со мной часто дежурил молодой врач Виталий. Так вот он говорил: «Никуда не уходи, никуда не уходи – скорая помощь как навезет… Что я сам с ними буду делать?» Очень боялся, что сам не справится. Бывало, привезут острую гортань, за ночь может быть пять трахеостомий. А трахеостомия – это доли секунды, надо действовать моментально. Начинает делать операцию, я говорю: «Куда ты лезешь? Ты щитовидку перережешь!» Ну парень молодой, в ординатуре, что он может? Ну а я уже что-то знала к тому моменту. Вообще, после войны женщины спасли положение. Едешь в поезде – вокруг дороги вся земля обработана. Женщины запрягались в плуг и все тянули на себе. Мужчины ж вернулись не все, калеки, слепые, без рук, без ног, неспособные к работе.
В железнодорожной больнице я проработала 38 лет, даже имела льготы – бесплатный проезд в поезде. Специальность – медицинская сестра, то есть, широкий профиль, делала все, что угодно. Со своим мужем Онищенко Василием Павловичем я познакомилась в нашей больнице. Он был монтером, делал ремонт в нашем отделении и у меня в операционной. Муж был очень красивый человек с шикарными голубыми глазами. Когда мы познакомились, он постоянно мне конфеты приносил, и я ими угощала девчат. Царство небесное, хороший был человек!
Помню, во Дворце культуры был какой-то праздник, и мы с ним пошли туда, а тут как раз и его мать пришла. Подошла ко мне и говорит: «В тебе хати нема, у його хати нема». Это так меня будущая свекровь за своего сына замуж «звала». Очень волновалась за него. Потом Василий Павлович сделал мне предложение. Вышла я замуж по обстоятельствам, без всякой романтики. Стали комнату снимать. У его матери была знакомая дворничиха, у нее в квартире был водомер – вот на том водомере и стояла наша кровать. Мой муж замечательным человеком был – очень добрым, заботливым, благородным. Очень любил природу, рыбалку, был умелец на все руки. Из простого монтера стал депутатом, заслуженным связистом республики, его большущий портрет годами висел в Академии наук. Откуда бы он ни приходил – с работы, с рыбалки – всегда приносил букетик ромашек или васильков для меня. Весной «котики» приносил, я каждый день была с цветами. Вместе прожили 63 года – как говорится, душа в душу, он меня ни разу не ударил, не оскорбил. Пошла я замуж без большой любви, но мы всю жизнь прожили с большим взаимоуважением.
Почти сорок лет прожили в коммуналке – было двадцать жильцов, по очереди ходили в ванную, по очереди стирали. С нами и евреи жили, и белорусы, и украинцы, и русские – и все было мирно, дружно. Со свекровью прожила восемнадцать лет, и ни разу не поругались, хоть я и языкатая.
Жизнь улучшилась при Хрущеве – единственный был настоящий хозяин из всех руководителей. Во-первых, он поднял всех из подвалов в хрущевки – до войны люди же жили в подвалах, туда и свет не попадал. Во-вторых, Хрущев посеял кукурузу, было изобилие мяса и молочных продуктов. Мы жили на Владимирской, 32 (напротив КГБ), а рядом была кулинария – продавали колбасы в фарфоровых горшках. На углу, возле оперного театра, был гастроном, и вот какие были цены: килограмм черной икры – 11 рублей, килограмм красной икры – 8 рублей, килограмм мяса – 90 копеек, кефир – 10 копеек, килограмм творога – 46 копеек, кролятина, курица табака – по 90 копеек, арнаутка – 16 копеек. Я могла идти со ста рублями на Сенной базар, на 90 рублей покупала окорок килограммов на шесть, а на 10 рублей – зелень на месяц. И буженину делала, и колбасу домашнюю. Когда шла на ночную смену, то брала бутылку кефира, половину арнаутки, и мне хватало. А сейчас такая арнаутка, что сегодня купила, а завтра она зацвела. При Хрущеве все были при деле, все заняты, много было рабочих мест. Как убрали Хрущева, так все и пошло на спад. Начали на него «бочку катить» – волюнтарист, такой-сякой…
Потом Андропов как стал руководителем, успел ненадолго порядок навести. В обеденное время, с часу до двух, проверяли у людей паспорта (например, в кинотеатрах), узнавали, где человек работает. Если он был в кино в рабочее время, то на завтрашний день будет писать объяснительную, и даже могли уволить. На проходной у каждого был свой номерок. Например, если рабочий день начинается в 9 часов, а я пришла в 9:02, моего номерка уже нет. Дисциплина была железная. А сейчас? Да кроме разболтанности и предательства – ничего. В стране война, а тут в Киеве сколько этих морд сидит, еще и умничают. Почему Шуфрич не воюет? Почему мы вынуждены Ахметова спасать? Почему Ахметов шикует, а наших ребят убивают? Старушка из Житомира трясущейся рукой дает три гривны на армию, а Ахметов жирует. Почему? Потому что нет ни дисциплины, ни ответственности. А если этого нет – ничего хорошего не будет.
А.И. – Часто вспоминаете молодость, войну?
Д. О. – Каждый день. Анекдоты вспоминаю, товарищей своих, как жили. Раньше без конца с ними общалась, звонила. И мы все семьями дружили. Но нет уже моего мужа, моих друзей, а мне осталось ждать своего часа. Последний мой причал тут, а потом – Байковое и больше уже ничего. Из нашего поезда в живых уже нет никого, я одна осталась. В прошлом году еще анекдоты рассказывала, а в этом – некому.

|
|
Дарья Аксентьевна Онищенко, июль 2014 года |
А.И. – Что Вам помогало пережить испытания?
Д. О. – Вы знаете, я в очень тяжелых условиях родилась, жила и росла. С пяти лет работала, грядки сапала, снопы вязала, ноги были в колючках. Столько горя узнала, что меня это закалило. И всю жизнь работала, никогда не ленилась, у меня пятьдесят пять лет трудового стажа. Дома уже хожу по стенке, но еще вареники вкусные налеплю. Жизнь научила трудиться. А те, кто не работает – долго не проживут. Нет здоровья? Все равно копайтесь, ковыряйтесь. Потому что сидите в мерседесах и задыхаетесь – как не геморрои, так инфаркты или инсульты. Нужно трудиться, чтобы жить! Вот и весь секрет.
| Интервью: | А. Ивашин |
| Лит. обработка: | К. Яцевская |