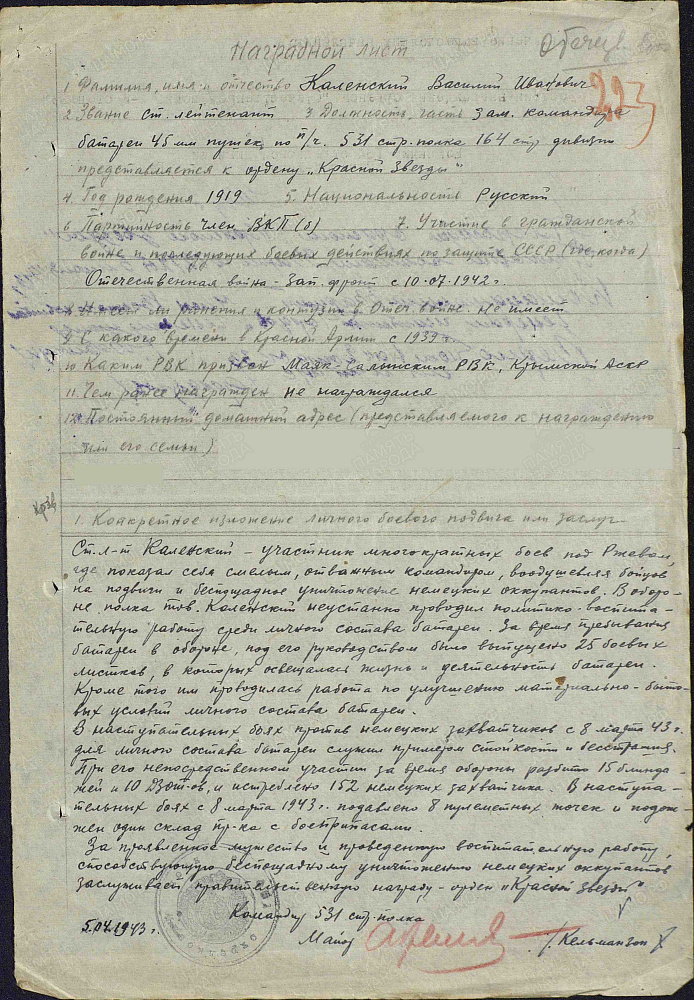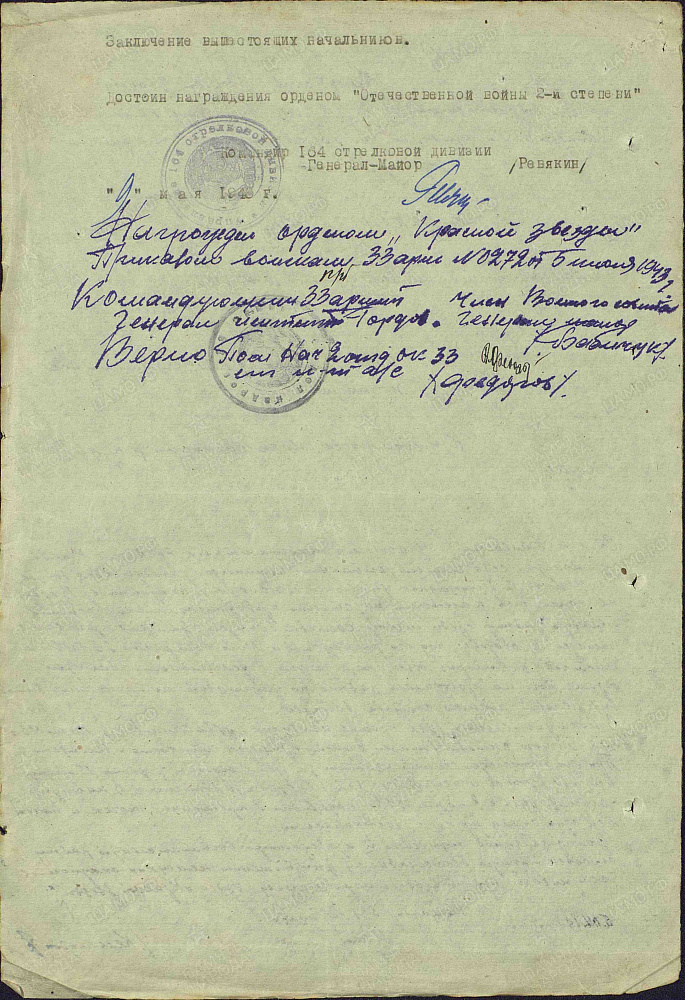– Меня зовут Василий Иванович Каленский. Родился в городе Коростень на Украине. В пятнадцати километрах от этого города находится село Каленское. Это Мальенский район, Житомирская область. Появился я на свет в 1919 году в очень бедной семье: отец, мать и трое детей.
В школу пошел, кажется, в 1928 году, до коллективизации. Ее я помню хорошо. В 1933 году я окончил пять классов на Украине, и нас голод застал. Я ходил пешком по деревням ради куска хлеба от города Калинковичи в Беларуси и до города Луга под Ленинградом. Мама оставалась дома с младшим братом. Папа так же, как и я, в Беларуси ходил на Пинские болота в тот период. Там, посреди болот, был небольшой островок, на котором стояла деревушка на пять-шесть, а то и меньше домов. А к ним зайдешь во двор, а там и свиньи, и куры, и корова, и лошади есть. Хозяева ходят во всем полотняном, в лаптях. Все домотканое, а на зиму полушубки заготовлены. В хате лампы даже не было. Посуда у них была глиняная и деревянная. Дома хлеб ржаной, яйца, рыбу ловили, грибов и ягод много, соль, кваса целые бочки. Сок березовый они тоже собирали. Вот отец покупал сапоги, ремни, иконы, хорошую посуду и туда вез, а в обмен там брал просо, рожь. Привозил это все в Коростень, часть продавал, а часть оставлял для кормления семьи.
Тут заболел тифом народ. Люди были до того голодные и бедные в 1933 году, что не платили даже за проезд на поезде. Дошло до того, что, когда снег уже сошел на старых картофельных полях, оставшуюся, перезимовавшую мерзлую картошку выкапывали. Да и вообще что только не собирали. И где-то в июне я приехал домой. Дома никого не было. Мама умерла от голода, и ее похоронили. Папа заболел тифом, и его положили в больницу в Коростени. Затем его выписали, даже не долечив до конца. Когда я явился домой, он лежал на печке без памяти из-за смерти мамы. У меня был самый маленький брат девяти лет. Средний, Коля, остался в Беларуси. Получается, я застал дом совсем пустым, когда вернулся.
Уже были полуспелые вишни. Мама рано весной посадила картошку из очистков, поэтому к моему приезду уже она взошла. А через поле село было, где тетя жила, мамина сестра. Вот я решил к ней сходить и узнать что-нибудь. У нее был сын и дочь.
В нашей местности занимались добычей торфа, используя паровые машины. Вот здесь работали моя двоюродная сестра и Павлик: они на лошадях возили торф. Была проведена колея к железной дороге от станции Семигородняя. Расстояние составляло семь километров. Торф там грузили на электростанции и жгли.
Через некоторое время папа взял маленького сына и живущего через огород от нас своего троюродного брата с его взрослыми детьми, и они уехали в Крым. Там не было голода. В Крыму создали в свое время совхоз на месте усадьбы помещика. Местные сказали отцу, что он и сыночек выглядят худыми и опухшими. Предложили ему ребенка отдать в приют. Отец спросил у Стёпы, пойдет ли он туда. Мальчишка согласился. Пошел до вагоносборника на станции, где собирали детей. Их обмывали, стригли и увозили.
Отец был совершенно безграмотный и не смог даже записать номер поезда, на котором уехал. Дальше от тетки я узнал, где он. А однажды выхожу на улицу, а ко мне подходит молодой мужик и говорит, что работает с моим отцом в Крыму. Назвал мне его адрес. Сказал, что папа очень хочет, чтобы я к нему туда поехал. Мне нужно было добраться в Крым до города Керчи, а для этого необходимо было, не доезжая восемнадцати километров, выйти на станции Ташлияр. От нее южнее на семнадцать-восемнадцать километров расположена большая болгарская деревня, где живет папа. Я и поехал.
Без билета я добрался до нужной станции, а в это время как раз призывали новобранцев, и оттуда, с Марфовки, отбывали парни, которых провожали близкие. Я как раз вышел из поезда и смотрю: там и болгары, и русские. Одни меня проводили до деревни под дождем. Это был вечер. Подвели меня прямо к дому. Открывает дверь какая-то девочка. Увидела меня, мокрого оборванца, и тут же закрыла. Я стал рассказывать, кто я такой, и тут сопровождающие узнали, что я сын Ивана, и открыли мне в итоге дверь. Я зашел, погрелся, просушили меня, накормили, а утром пошли в совхоз. Так я нашел отца. Это был 1933 год.
Осень глубокая. Отец сторожем работал, а я на его кровати в общежитии спал. Он утром приходил с вязанкой соломы: в Крыму ведь степи, поэтому дров нет и все отапливают бурьяном, а если нет, то соломой. Вот он приходил с дежурства в общежитие, приносил солому, ложился на кровать спать, а я топил печку, чтобы всем было тепло.
Потом настала весна. Я пошел в совхоз, а осенью в шестой класс. В маленьких деревушках: татарских, болгарских, русских, немецких, еврейских – только четырехлетки были. Марфовка же – большая деревня, и там была семилетка. Из далеких деревень сюда ходили в школу, здесь было организовано общежитие, интернат, в котором койки стояли деревянные. Кухне частично помогал продуктами профсоюз совхоза .
Закончился учебный год – ушел пасти овец. Начинается опять учеба – снова в школу. Сперва отец давал мне на пропитание пять рублей в неделю, потом перешел на три рубля. У него денег мало было: всего девяносто рублей зарплата. Я с большим трудом перебивался в общежитии, а потом еще приехал Коля. И вот мы с ним спали на одной койке. Потом Коля начал подрабатывать в пекарне, которую топили тоже соломой.
Я окончил семь классов. Научился немного рисовать, лозунги писал к праздникам. Я хорошо умел писать буквами большими. Потом я нарисовал Сталина, мне сказали, что получился портрет очень похожим. Меня направили за счет совхоза на учебу в сельскохозяйственный техникум в город Красноармейск. Это в Сталинградской области, в шести-семи километрах от самого города. Это было в 1936 году. При старом царском режиме там была земская школа специалистов земледелия, а уже при советской власти на базе школы основали техникум.
Окончил техникум. Присвоили мне звание агротехника. Я снова вернулся в совхоз в Крым. Меня назначили на должность агронома. Всем совхозом командовал старший агроном. У меня было девять тысяч участков земли. Там находились деревни, болгарские и татарские, но простиралась земля аж до Черного моря. Это уже 1939 год. Тогда машин было не так много, как сейчас: «полуторка» ГАЗ-АА, ЗИС-5. Ездили в основном на лошадях и волах. Тракторов у меня было девять. Один был гусеничный. Вот мы пахали, сеяли, убирали, молотили, веяли зерно, траву косили, сено, стога для овец на зиму заготавливали. Хлеб надо было вывозить на элеватор на станции. До Черного моря от нас было восемнадцать километров. Там тоже размещался элеватор на пристани. Вот у меня скопилось как-то семьсот тонн зерна в поле. Мы накрыли их брезентом, и нужно было вывезти на пристань. У меня были четыре повозки: одна – на лошади и три – на волах. Лошадь еще быстро могла довезти зерно, а вот волы пока съездят туда и обратно. Так им еще и отдохнуть дня два нужно. Они лежали, им подносили воду, поесть.
Я, как передовой комсомолец, подал заявление на принятие в партию. Утвердили меня в райкоме в тридцати пяти километрах от совхоза. Подошла моя очередь, меня пригласили в кабинет. За столом сидел первый секретарь. Я представился. Он зачитал мое дело. Потом мне задали несколько вопросов относительно работы: «А сколько у вас зерна осталось не вывезено в поле?» Я ему сказал, что чуть меньше, чем семьсот тонн. Пообещал вывезти к зиме. Тогда мне ответили, что вначале я должен вывезти зерно, а затем уже приходить беседовать насчет принятия в партию. Мы попрощались. Со временем я таки вывез все зерно, и меня записали в число кандидатов в партию. А в октябре 1939 года меня призвали в армию.
– Расскажите, как у вас происходила коллективизация.
– Собирали людей. Уполномоченный по торфоразработке из партийной организации, председатель сельсовета и исполнители вели собрание. Там проводили агитации. Кулаков раскулачивали. Это было зимой в 1932 году. Итого в селе было тридцать девять кулаков. Они использовали наемный труд бедняков. Земли у них много, строения большие. На базе этих хозяйств организовали колхозы. Кулаков сослали. Всю их одежду изымали и раздавали беднякам, а самих везли на повозках по семь человек на станцию, а там уже садили, видимо, в эшелон. Помню, как они плакали.
– А какое у Вас лично было к ним отношение?
– Я тогда был школьником. Лет двенадцать-тринадцать. Я считал их куркулями богатыми. Мы все – бедные дети, голодные, а они – богатые.
После раскулачивания стали образовывать колхозы. Настала весна, и на их землях бедняки начали пахать, сеять, сажать картофель. Осенью убрали хлеб. Зимой отец и тетка молотили. Через улицу жил середняк – дядька Иосиф. Дом у него был хороший, пасека на восемьдесят ульев в саду. Он нам помогал, а отец ему землю обрабатывал. Дядьку Иосифа не раскулачили. Сын его работал на торфоразработке. Самый старший сын был женат, жил на хуторе, а остальные дети были моими ровесниками. С одним из его пацанов я учился.
Настала осень. Хлеб свезли на тока. Около нашего дома тоже жил мужик, который был немного богаче. Если у нашего отца была только одна хата и сарай для скотины из лозы плетеной, обложенный соломой, то у того сарай был хороший, а еще и часть колхозного хлеба свезли к нему. Однажды вечером я заметил в окнах зарево. Выскочил на улицу и вижу, что горит сарай. Его подожгли оставшиеся кулаки с целью уничтожить. Хлеб сгорел. Хату спасали как могли: накрывали мокрыми простынями (мочили, бросали их на крышу соломенную).
Перед организацией колхозов кулаки уже стали засевать меньше земли, меньше хлеба. Что интересно: на полях земля подмерзла, а кулаки и середняки начали выгонять лошадей со двора, и те шлялись по полям и ели озимые. Помню, идем в школу, а лошади ходят по полю. Ее вполне можно было забрать себе.
Настала осень. Если раньше у кулаков было больше хлеба и они сдавали налог, то сейчас его уже стало меньше. А в деревне ведь был план, сколько нужно сдать хлеба. По улице ехала повозка, на которой сидели исполнители, двое или трое. Как-то подъезжают они к двору моего отца, ведь знали, что у него три гектара земли. Отец сказал, что у него столько хлеба нет, те тогда начали его искать. А мама, чтобы спасти зерно, оставляла жито, рожь и насыпала их в разные горшки, чтобы все сразу не нашли. Некоторые на улице в огороде закапывали, а исполнители ходили с палкой и проволокой и искали спрятанное зерно, грузили на повозки и увозили. Отец корову продал, потому что надо было покупать в городе просо. На тысячу сто рублей купил разного товара и в Беларусь поехал обменивать. Но вскоре кушать стало нечего, начался голод.
– Получается, план по хлебу был слишком большой? Или все же это вина кулаков?
– План был большой, а кулацкие хозяйства мало сеяли. Значит не хватало зерна со всей деревни, поэтому зерно брали со всех, чтобы выполнить общий план.
Помню, когда отец записался в колхоз, мама плакала, как мы будем жить дальше. С одной стороны, шла активная агитация входить в колхозы, а с другой стороны, проводилась и контрагитация. И в основном женщины наслушаются и по-своему истолковывают всё. И вот мой отец несколько раз забирал свою подпись, а затем ставил снова. Потом по хатам стал ходить уполномоченный с торфоразработки и проводил агитацию. Мы сидели на печке, а мама его слушала. В результате отец в колхоз не записался. Настала весна, и он пошел на торфоразработку.
– А язык в селе был украинский?
– Да. Я на украинском языке учился до пятого класса. А когда я в Крыму пошел в шестой класс в болгарской деревне, то там уже учился на русском. Вначале, конечно, было трудно, но постепенно я его усвоил. С третьего класса мне преподавали русский, а в пятом классе стал изучать немецкий. Учебники у нас были на украинском. Тетрадок не всегда хватало, поэтому использовали обои, края газет.
– Стены в хатах обклеивали или мазали?
– Мазали белой глиной. Штукатуренные стены были у богатых, а у бедных – просто дерево. Вот у нас в хате были толстые бревна. Их раскалывали пополам, топором зачищали и белили.
– А что у Вас в период голода было лакомством?
– Лакомств не было. Питались хлебом, картошкой, капустой, морковкой. У нас дом состоял из одной комнаты, даже сеней не было. Картошка и зерно в доме хранились. Рожь в мешках стояла. От урожая до урожая продуктов не хватало. Отец обращался к соседям за помощью, и ему давали продукты, а он взамен помогал им в работе. Картошку еще хранили на улице, перед окном насыпали. Сперва солому клали, а на нее картофель. Затем укрывали снова соломой, засыпали землей, листьями. Так она всю зиму и лежала до марта. Весной ее откапывали: замерзшую землю прорубали топором. Картошка была нормальной, свежей.
– Когда Вы впервые кино увидели?
– Я еще пацаном был, когда в деревню стали кино привозить. Сначала немое. Продавали билеты, но они копейки стоили. Просмотры устраивали в клубе деревенском. Я жил на хуторе, в километре от поля, а тетка жила близко к клубу, поэтому я тоже туда заходил иногда. И один раз я заснул на галерке, как в палате. Кино закончилось, я проснулся – никого нет. Пришлось через окно вылезать из клуба.
Хочу рассказать про радио. Электричества у нас не было. Лампы керосиновые использовали. Около клуба два бревна лежали: одно – толще, другое – тоньше. Мы связали их, мужики веревками подняли шест метров на двенадцать. Укрепили, провели антенну, а в клубе детектор установлен был. Детектор то ловил сигнал, то нет. Я даже не знаю, как он работал без электричества: на батарейках или на чем-то другом. То работает, то нет.
– А у кого-то были часы?
– Были настенные часы у зажиточных семей. Около тетки через дорогу жил такой мужчина: не бедный и не куркуль, но современный. Дом хороший был, полы деревянные. И у него в доме жила семья одного служащего, так вот, в их комнате были часы настенные, а потом через какое-то время и у хозяина появились они. Еще у хозяина был граммофон, на котором пластинки крутили и музыку слушали. У этого мужчины вообще дом был покрыт железом. У некоторых других жителей деревни тоже такие стояли. Были и покрытые черепицей, а у бедняков в основном солома, конечно.
– А велосипед в деревне у кого-то был?
– Не видел.
– Вы сказали, что отец мало зарабатывал, поэтому тяжело было. А когда стало легче?
– А легче стало, когда пошел работать. Я пас овец. Мне платили двенадцать рублей в месяц. Иногда больше. Старался меньше на столовую при общежитии тратить, собирал эти копейки, чтобы что-то купить себе, а купить нельзя.
Белый хлеб только иногда я видел . В другой деревне дядя жил наш – примак у зажиточной женщины. А наша земля была плохая и песчаная. Пшеница не росла. Только жито, гречка, овес. Так вот, мой дядя ездил через нашу деревню на рынок в Коростень и привозил нам в качестве гостинца белый хлеб. Мама иногда меняла конфеты и подушечки на яйца.
Первый костюм у меня появился, когда я еще овец пас. Мы жили на участке в совхозе, а папа сторожем работал. Родившегося ягненка резали, а родившихся маленьких овечек, девочек, оставляли. Образовывалась отара маток, и их доили потом. Молоко у овец, как у коз, жирное. Доили, используя специальные станки. Загоняли восемьсот-тысячу овец в загон со станками, распределяли в кучки по шесть-семь штук. Доярка держала веревку, открывавшую дверь к станочку. Овца заходила, дверь опускалась, и женщина доила ее. Ранней весной удавалось с каждой овцы получить триста-четыреста граммов молока. Так набиралось несколько бидонов. Отец отвозил молоко на центральную усадьбу, а там был молокозавод, где делали масло, сыр. Сыворотку от молока вместе с молотым зерном выливали в корыто и скармливали трем-четырем кабанчикам. К осени откармливали кабана до восьмидесяти-ста килограммов. А тогда по деревням ездили заготовители животных из ГосСкота и скупали таких кабанчиков, отвозили на продажу. Вот отец выкормил одного. Приехал заготовитель. Папа ему кабана сдал, получил квитанцию, отнес ее в магазин, и ему разрешили на нее костюм приобрести. Так он мне купил костюм шерстяной. Правда, грубая шерсть была, но хорошая. Уже в техникум я поехал хорошо одетый. Это было или в 1935, или в 1936 году.
К 1937 году жизнь уже полегче стала. Отец больше не женился. Депрессии этого года бедняков совсем не коснулись. Репрессий тоже не было. В 1937 или 1938 году Крым настигла засуха. Весной 1939 года я уже работал агрономом. Засеял на своем участке семьсот гектаров овса. Но поскольку все это делал на лошадях, а не на тракторах, то засеял с опозданием. Началась весна. Поздно посеяли хлеб в полусухую землю. Овес мой взошел. Стал расти, а дождей нет. Он на корню и погиб из-за засухи. Пшеницу и ячмень тоже зимой сеяли в Крыму, так они тоже погибли. Тот хлеб, который вырос, пшеницу в основном, отвозили на станцию машинами за тридцать пять километров от совхоза. Помню, что тогда часть зерна украли: в совхозе взвесили одно количество, а доставили другое. Говорили, что это дело рук шоферов, но я не понимаю тогда, куда смотрело руководство.
А вот что случилось с овцами. Жара стояла сильная. Из-за мух на овцах развелось большое число клещей. Мы купали овец в мышьяковом растворе, но не помогало. За лето две тысячи овец пало, заразившись пироплазмозом. Очень быстро подыхала скотина: утром заболела, вечером уже умерла. Директор виноват в этом, агроном старший виноват, ветврач виноват, старший зоотехник виноват. К нам приехали осенью в августе из НКВД и в район увезли перед самым праздником Октябрьской революции. Отдали их под суд. Меня как комсомольца обязали оказывать помощь милиции в охране преступников. Их всех в клубе посадили, и мне попался старший агроном. А я ведь его помощником был некогда, а сейчас стоял с малокалиберной винтовкой и охранял его. Их всех осудили, начальника политотдела тоже посадили. Он был до этого работником посольства в Иране, его будто английская разведка завербовала. Всем дали по десять лет и увезли. В марте все вернулись, кроме начальника политотдела. Его, говорят, расстреляли. Конечно, должности некоторых из них уже были заняты другими людьми. Только начальник, старший агроном, свое место занял, ветврач свое место занял, директору дали место в другом совхозе. Вот такая репрессия.
– Как проходила Ваша учеба в Сталинградской области?
– Нормально я учился. Меня даже хвалили. Я цеплялся за науку, стремился из рабочих выйти в служащие. Это была моя цель. В итоге получилось, хотя мне девятнадцатый год шел. Как сейчас помню, что мой оклад был триста пятнадцать рублей. Директор совхоза получал шестьсот десять рублей. Он не имел высшего образования, а агроном, зоотехник, главный механик и ветврач по семьсот рублей зарабатывали. Они уже имели высшее образование. И вот вроде деньги есть, а купить ничего не можешь, потому что вместо ценников на платьях, штанах, рубашках, костюмах висела бумажка с указанием того, сколько килограммов хлеба, зерна, волокна, шерсти нужно сдать, чтобы получить конкретную вещь.
– Как у Вас складывались отношения с девушками?
– У меня была девушка работящая – стахановка в совхозе. Я с ней познакомился, нагулял ребенка в 1939 году. А осенью ушел в армию. В 1940 году она мне написала, что беременна, а в мае родилась девочка. Осенью 1941 года я должен был демобилизоваться, но остался в армии. Она в Крыму в совхозе жила с моим отцом, который вот так стал дедушкой. Он ей кое-чем помогал. Поселилась она в общежитии. Потом, когда начала работать, за ребенком присматривали и кормили те, кому нужно было позже на работу. Тоже бедняга: испытала жизнь, мучилась.
Война. Я в армии. Немцы очень быстро оккупировали Крым. Одному перебежчику дали должность в совхозе в бухгалтерии. Она за него вышла замуж, потому что думала, что я просто погибну, а я живым остался. Потом наши пришли и перебежчика под суд отдали. А от него у Гали тоже сын родился. Мне отец сообщил об этом и мой товарищ. Он был инвалидом, поэтому болгары его в армию не взяли. Вот он мне письмо и написал. А ей стыдно было, потому что отец раньше говорил ей, чтобы она не делала глупостей и дождалась меня из армии. Из-за чувства стыда она вынуждена была переехать в другой совхоз – в Красноармейский район в Крыму, с запада от Керчи. Я уже был офицером, в армии остался после войны служить. Надо было жениться. Я старался о ней не думать. Мы не переписывались. В 1945 году в августе я женился на другой девушке и стал работать в Министерстве обороны. До сих пор живу в Москве.
Я знал, что у меня есть дочка. Жена моя тоже знала. Девочке уже было шестнадцать лет, когда мы поехали с женой в Ялту в санаторий. Я говорю: «Давай я напишу Гале письмо. Пусть она девочку или привезет, или та сама приедет, чтобы я на нее посмотрел». Написал открытку, и в один из дней мы идем в столовую с женой. Подходим, и вижу людей на скамейке, среди которых Галя с мужчиной и девочка. Я поздоровался. Узнал ее. Поздоровался и с девочкой. Пошли в кафе. Посидели, а вечером Галя и мужчина уехали, а дочку я оставил с собой. Снял ей комнату, одел ее по-городскому. Жена не возражала, и с тех пор, как я еду в санаторий, если один, заезжал к ним в гости. Моя младшая дочь от нынешней жены даже ездила к той девочке погостить на несколько месяцев. Они приезжали в Москву ко мне зимой, холодно было. Я постоянно просто посылал деньги дочке, одевал ее хорошо. Когда она выходила замуж, меня не было, а вот когда внучка выходила замуж, я приехал по приглашению. Поехал один, без жены. Вся родня там собралась. Хорошо посидели. И между нами, между нашими семьями, тесные отношения сложились. Потом моя дочка заболела. Сердечница была. В шестьдесят один год она умерла, ее мать тоже. У нее остались две дочки и муж. Среди них и моя внучка. Они в Симферополе живут сейчас. Когда я был здоровым, каждый год ездил в гости. Принимали меня отлично, особенно старшая внучка. До сих пор с ними связь поддерживаю.
– А как в деревне относились к тому, что у Вас с Галей была половая связь до брака? Раньше ведь и стены дегтем обмазывали.
– Да, такое было, но не в этих местах. Это на Украине было, в нашей деревне, ближе к Беларуси. Там, да, ворота обмазывали дегтем, если девку изнасиловали. Это срам на всю деревню! Но в Крыму этого я не встречал.
– А где знакомились с девушками?
– На танцах, играх или после кино в клубе, на улице. Была игра такая на улице, когда подбегали девушки, и так я с Галей познакомился. А перед этим я повстречал другую. Она работала в столовой официанткой, а я туда ходил кушать. Она всем рассказала в деревне, что я ее жених, парень, поэтому на меня все косо смотрели. Я это заметил и бросил ее. Начал гулять с Галей. А ведь все друг друга знали, поэтому заметили, что мы встречаемся. Потом перед самой армией она жила у тетки, а у той была всего одна комната, но большая. Тетка с мужиком на одной кровати спала, а я с ее племянницей на другой. А потом, когда ушел в армию, она забеременела и написала мне об этом. Вообще половые связи до брака были скорее исключением из правил. Только у меня был такой опыт, хотя один парень за ней ухаживал тоже. Но мы с ним в армию ушли, а потом я сказал ему, что она беременна от меня.
– Как проводили Вас в армию?
– Меня провожала она. В тот день дождь шел. Нас двоих отправили из совхоза на лошадях. С нами поехали сопровождающие. Мы добрались до военкомата. Она плакала, платочки вышила, а я совсем понурый стоял.
– Вы рады были, что пошли в армию, или воспринимали это как повинность?
– Это была конституционная повинность. Но все старались идти в армию. Я даже Ворошилову писал письмо, потому что брали с восемнадцати лет, а меня сперва не взяли, ведь я был на учебе. Мне исполнилось двадцать, уже многие служили, а я все нет. Я написал письмо. Мне пришел ответ, что меня призовут. Это произошло 10 октября 1939 года. Я с удовольствием, как и все, пошел. Был призван в зенитную артиллерию. Брали туда только образованных людей. На момент призыва я уже был кандидатом в партию, а значит – на учете партийной организации.
Попал я в зенитный дивизион, что стоял в Мариуполе. Была образована новая 134-я дивизия под командованием комбрига Базарова. Базаров принимал участие в боях у озера Хасан. Он себя там показал с лучшей стороны. Полки стояли в Донбассе в разных городах, а наш 315-й артполк в Мариуполе был. Армия росла, казарм не было. Для нашего артдивизиона зенитного отвели клуб завода «Азовсталь», что был построен через речку. Вот там образовали казарму. Нары были деревянными и стояли в три этажа.
Я был сперва в отделении разведки. Нам досталось спать аж на третьем этаже нар. Я был кандидатом в партию и более или менее грамотным. Но у нас были и более грамотные солдаты. Комиссар батареи мне поручил читать книжку про бои у озера Хасан. Он уходил вечером домой после службы, приглашал меня в кабинет зайти и просил меня почитать своим бойцам от такой-то страницы до такой-то. Утром я относил ему книгу и докладывал, что приказание выполнено. На следующий день то же поручение. И таким образом я как бы помощником стал. В нашем дивизионе совсем безграмотных не было, потому что мы зенитчики, а вот среди пехоты были и безграмотные.
– Вас призвали прямо перед началом Финской войны. Какая информация на тот момент была про Финскую кампанию?
– Сильно мы готовились к Финской войне. Осталось четырнадцать дней до отправки на фронт. Это секрет был, но в Мариуполе появились раненые с Финской войны. Рядом с нашим дивизионом находилась школа. Там локализовался госпиталь. Тех, кто был более или менее здоров, приглашали, чтобы они рассказывали о войне. Перед нами выступал один Герой Советского Союза, что очень подняло боевой дух. Он рассказал про доты, «кукушек» (снайперов финских). Говорил, что снега много, трудно было.
– В 1939 году произошло расширение армии. Как с кормежкой было перед войной?
– Хлеб черный был, и ржаной, и пшеничный. Нормы не было. Сто пятьдесят граммов мяса, сто граммов рыбы, двадцать граммов масла сливочного, но его не давали, тридцать граммов постного масла, пятьсот граммов картошки на сутки. Поскольку в Мариуполе мы жили, рыбы было у нас достаточно. В основном судак. Мы его проклинали, потому что он колючий и, когда попадаешь на кухню и чистишь его, руки ранишь. Кашу перловую, пшенную, мясо варили в котле общем. Супы, включая борщ, варили из натурального мяса или сала (как на Украине в основном). Кусочки сала клали в кашу. В обед мы ели борщ, котлеты редко. Чаще всего гуляш и каши (гречка, кстати, тоже была). Макароны редко давали, двадцать граммов. Разведчики и связисты, которые кабель тянули на большие расстояния, приходили во двор и просили хлеба на кухне. После занятий тоже просили часто, потому что хотелось перекусить.
– А с одеждой как было?
– Плохо. Ткань хлопчатобумажная была, ее красили в зеленый цвет, но краска была слабой и летом выгорала. Обмундирование становилось желтоватым. Сначала у всех были фуражки, а потом стали уже выдавать пилотки. С этого момента уже фуражки только в выходной день или в увольнение надевали. Первоначально молодые солдаты с обмотками ходили, а затем уже давали кирзовые сапоги. Зимой у нас были шинель, теплое байковое белье, телогрейка. Раньше еще буденовку носили. Она уши закрывала, нигде не дуло.
В 1940 году весной было приказом наркома введено звание ефрейтора, младшего сержанта, сержанта, старшего сержанта. Я был приближен к комиссару, и он мне давал поручения. За это мне присвоили звание заместителя политрука. Я носил четыре треугольника. Осенью 1940 года меня пригласили в политотдел дивизии. Я туда пришел, а там еще семь человек сидит. Нас пригласили на беседу. Начальника политотдела я знал в лицо, а тут смотрю, что полковой комиссар сидит. Сразу он спрашивает: «Товарищ, вы международную обстановку знаете?» А нас же на политинформации информировали относительно этого. Все мы по очереди начали отвечать на вопрос. Комиссар нам говорит: «Войны не избежать. Германия концентрирует свои войска у наших границ. Они имеют военный опыт. В данный момент мы должны создавать армию больше, чем она сейчас есть. Для этого нужен хороший командный и политический состав. Вам, как коммунистам, а некоторым, как кандидатам в коммунисты, я рекомендую идти учиться в училище на политработников». Все согласились, в том числе и я. Тем более я жил в совхозе. Нас отпустили.
Меня направили в политотдел. Под вечер подошла машина, «полуторка», на которую посадили восемь человек. Комиссар тоже был с нами. Приехали на станцию, а оттуда в Харьков в училище. Экзаменов не было, но комиссия сидела. У всех спрашивали, кто и где учился, и все.
– На мандатной комиссии можно было упоминать, что был голод и что мать умерла?
– Это все знали. Это не было новостью. Я говорил, что мать от голодовки умерла.
Сразу нас распределили. На второй день началась учеба. Общеобразовательные предметы были, политические в основном, история партии и военные дисциплины. Я помню, что 22 июня было воскресенье, выходной. Но в этот день проводилась общая лекция по международному положению в клубе, что был через овраг, где «Газпром». И вот шла лекция. Вдруг заходит дежурный училища, подходит к лектору, говорит пару слов и уходит. Лектор поднимается: «Товарищи, лекция закончена. Через тридцать минут будет выступать Молотов». Мы быстро отправились на построение вниз и в расположение училища. Спустились со второго этажа клуба, построились по команде командира взвода Ивана Третьяка. Он строгий был лейтенант. Тут начинается речь Молотова, где он говорит о начале войны. А мы, молодые, начали кричать, что немцев в пух и прах разобьем. Так все думали. Закончилась речь. Все стояли не в подавленном состоянии, а, скорее, даже возбужденно-веселом: мы будем воевать.
На второй день в училище во дворе большой фанерный щит разместили, а на нем карта. На ней начали флажками отмечать города, которые заняли. Каждый день все больше флажков перемещалось по карте в глубь страны. Все понурые стали, упали духом, но не сильно.
К речи Сталина мы отнеслись нормально. Это сейчас его только обливают грязью.
– Какие зенитные орудия были в дивизионе?
– Зениток было меньше, чем нужно. Две пушки зенитные еще со времен Гражданской войны. У них стволы были меньше, чем у современных пушек. Они стояли на деревянных повозках, железом кованных. Колеса, борта полукруглые. Когда открываешь борта, получается площадка, где посредине кузова стоит орудие. Возили трактора «Коммунар», которые выпускались на Запорожье, на этих повозках. Были пушки образца 1938 года на двухколесной машине. Тумба перекидывалась на цепи. Ствол был уже 76-миллиметровый. Современный трактор привозил пушку, затем отцеплял ее и уходил. Она оставалась стоять на двух колесах, но, чтобы поставить ее полностью, колеса надо было убрать. Там такие ломы специальные были, которые откидывались, а затем потихоньку опускалась вся рама и станина на землю. Ось освобождалась и колеса откатывались, а тумба и ствол оставались лежать. Теперь надо было привести пушку в боевое положение. Веревки по шесть метров завязывались. Сюда расчет пошел, три или четыре человека, и туда такое же количество. Командиры отделений в конце ствола рукой держали и командовали: «Раз, два, три!» Как бы подкидывали ствол рукой, а все шесть человек должны были дружно ухватиться и тянуть. Вот так пушка приводилась в боевое положение. Дальше уже управление огнем. Был круглый деревянный стол, а на клеенке в центре стоял штырь. У этого штыря тоже идет клеенка, а на ней две вершины и углы расписаны, азимуты. Я в разведке был, и у нас в отделении разведчиков был искатель. Мы должны были отбежать на двенадцать километров от батареи, нам сообщали, откуда должны появиться самолеты. Мы следим. Каждая катушка составляла километр провода, а их у нас было двенадцать. Вот мы бегом бежим, а связисты раскатывают и связывают провод. Мы добегаем до конца, устанавливаем треногу и связь. Телефоны еще с Гражданской войны бельгийские были, тяжелые, с ручкой. Вот по проводу шла связь. Мы сразу докладываем, что на месте, и следим, появится ли самолет. Нас уже научили их распознавать. А потом появились длинные дощечки, по которым мы могли определять высоту, на которой летит самолет. По компасу устанавливали его направление, а также передавали данные угла, из которого он летит.
Вообще мы изучали «Юнкерс-87» или «Юнкерс-88», немецкие и итальянские самолеты. И, конечно, советские.
– Расскажите о возрастном составе дивизиона.
– Когда призвали в армию, со мной взяли и запасников. Были призваны даже учителя в годах. В нашей батарее в дивизионе был доцент Днепропетровского института, грамотный. Я помню, командиром дивизиона был капитан Шпалов, который ранее участвовал в Гражданской войне. Он оберегал этого солдата-доцента. Он занимался с младшим командиром, писал и считал с ним, даже командирам преподавал, поэтому его командование берегло. Были учителя в нашем отделении. Преподаватель украинского языка, намного старше меня. Я подружился с одним командиром, он – агротехник, а я – агроном. Он был назначен командиром батареи, толстый такой. Носил шинель командирскую, все как положено, а у меня была солдатская шинель с петлицами командирскими. Мы с ним перекидывались словами: где кто работал, какой урожай был и так далее.
– А каким был национальный состав?
– Много было украинцев, в основном из Днепропетровска и Днепропетровской области, из Запорожья много солдат. Были ребята с Кавказа. Грузины в основном. Из Средней Азии – никого. Татары из Крыма были. А так в основном украинцы и русские. Кавказцы неплохо понимали по-русски. Почти все были со средним образованием. Особенно те, кто прибыл из Днепропетровска. Семь классов точно имели. Некоторые даже учились в институте. Студентов брали в армию. Несмотря на то, что там многие были городскими ребятами, а я деревенским парнем, разницы я между нами не ощущал. Разговаривали все в основном по-украински. Средний возраст солдат был восемнадцать-девятнадцать лет. И пожилые были тоже.
– До 1939 года проводилась пропаганда против немецкого фашизма?
– Да, но не слишком активно. Как-то надеялись на рабочий класс, что он не будет против советских людей воевать.
– А заключение пакта с немцами как восприняли?
– Нормально. Все на англичан напирали и на японцев. Американцев никто не трогал. Говорили, что англичане затеяли войну с Германией, что она уже идет, но нас не коснется.
– А вот в начале 1941 года было ощущение, что война начнется?
– Уже чувствовалось, что она будет, но надеялись на что-то.
– Помните ли Вы что-то о заявлении ТАСС относительно того, что войны не будет?
– Откровенно сказать, нет.
– Как развивались события после выступления 3 июля? Настроение упало?
– Это я уже был в училище. Первоначально говорили, что мы разобьем фашистов, думали, что солдаты, фашисты Германии – это мобилизованные рабочие, что они не будут против нас воевать, а на самом деле получилось наоборот.
– У Вас была карта, на которой отмечали линии фронта. Когда ее сняли?
– Когда училище уехало. Это в конце сентября. Были слышны раскаты оружейных залпов: они шли от Обухова.
– Как прошла эвакуация?
– Я же говорил, что эшелонов не было, вагонов не было. Выехали мы на станцию железнодорожную. Там на станции, на путях, пробыли суток двое, пока нам эшелон не дали. Он смешанный был: и пассажирские, и товарные вагоны. Погрузили людей, имущество: шкафы, столы… Некуда было грузить. Часть вещей осталась на станции. В вагоне между полками на первом этаже кровать клали. Теснота была невероятная. Много имущества осталось на станции. И поехали на юго-восток в направлении Ростова. Ехал эшелон очень медленно, потому что станции все были забиты: на запад шли составы с войсками, а на восток шли эшелоны платформ, на которых станки. Заводы эвакуировались с этими станками. Также там люди сидели. В основном семьи, дети, женщины и рабочие. Вдоль железной дороги громадные стада скота гнали: коров, лошадей, овец. Приехали мы с Ростова на Кавказ, а затем в Баку.
На одной станции был перерезан путь немецким войскам, а эвакуировалось из Харькова не только наше училище, но и танковое училище тоже. В этот же день в начале ночи оттеснили немцев и эшелоны проскочили через Ростов в Баку. В Баку дня два-три ждали парохода. В результате он пришел набитый людьми, гражданскими. Шел с Астрахани. Нас погрузили. Наше отделение разместилось на лодках. Вся палуба была загружена людьми. Гражданские тоже ехали. Наш взвод и наше отделение было на палубе.
Через Каспийское море в Красноводск приплыли. Там разгрузились. Жарко было, хоть и стояло 2–3 октября. Дела с водой в этом городе обстояли плохо, поэтому туда привозили ее в железнодорожных цистернах. Погрузили нас и повезли через пустыню в Ташкент. На окраине Ташкента было сельскохозяйственное училище, техникум. Вот там нас и разместили по классам. Койки, матрасы положили на пол, где мы в основном и спали. Питание было нормальное. Потом стало хуже: компот уже не ставили.
30 или 31 декабря был выпуск. Одели в теплую одежду нас, в командирское: брюки суконные синие, гимнастерка суконная зеленая, звездочки и по два кубика. Кроме этого обмундирования были еще шинель, шапка, сапоги какие-то (точно не командирские, а кирзовые). Нас, двести пятьдесят человек, направили на Урал. Оттуда – в Свердловск, в политуправление Уральского района. Там ждали назначения. Меня назначили комиссаром 137-й зенитной батареи 164-й дивизии, которая располагалась в сельской местности Свердловской области Красноармейского района. Там расположены были батальоны, роты в деревнях. Не было такого села в Свердловской области, где бы ни стояли временные войска. Дивизия пополнялась личным составом из вылечившихся в госпиталях солдат, но большей частью формировалась из освобожденных зэков из лагерей, но не политических. Даже в нашей батарее сорок-пятьдесят освобожденных было.
Оружия еще толком не было. Но надо же было обучать солдат навыкам. Это уже была зима. Сельская местность. Деревня Александровка. Мы лом вбили в землю мерзлый, на него надели колесо от повозки, а на этом колесе такую платформу сделали из ворот от сарая, то есть смастерили нечто наподобие зенитной пушки со стволом из бревна. И вот обучались. Платформа крутилась, и ствол поднимался. Нам команды подавали, какой угол и тому подобное. Обучали зенитчиков. В поле тоже выезжали на практические занятия, а тогда снег и морозы сильные на Урале были. Обморожений в нашей батарее не было. Одеты мы были тепло: валенки, телогрейка ватная, сверху шинель, шапка. Оружия не было, только деревянные винтовки. Солдаты оружие получили только, когда приехали в Тулу.
– Какова была Ваша роль как комиссара?
– Моей задачей было воспитывать бойцов, поднимать их боевой дух, проводя политинформацию, читку газет («Красная звезда», «Правда», «Известие»). Когда кто-то из солдат получал письмо из дома, я разрешал ему зачитывать письмо вслух перед всеми, чтобы все узнали, что делается в тылу. Мне немного не хватало опыта проведения политработы, поэтому я не стеснялся обращаться к более опытным политработникам в других частях. Они мне подсказывали, что да как лучше делать.
– Как у Вас сложились отношения с командиром?
– Нормально. Командир батареи был грамотным парнем. Ходил в шинели нараспашку, затем надел вместо буденовки кубанку с красным верхом. Я ему сказал, что так делать нельзя. Он все понял. С командиром мы друг друга хорошо понимали. Он был более опытным, ведь в частях служил дольше меня. Он где-то в Евпатории в Крыму окончил зенитное училище.
– Какое было настроение у солдат в январе 1942 года, когда немцы так активно занимали все большую территорию?
– Упаднического настроения не было.
– Как солдаты к советской власти относились? Может, считали, что неплохо, что немцы пришли?
– Никто ничего не говорил про советскую власть. Наоборот, с воодушевлением люди относились к ней.
Кормили нас скудно. Были и завтрак, и обед, и ужин, но мало. Дисциплины все придерживались строго. Водку нам не выдавали. С ней трудности были. Перед нашей дивизией здесь тоже была другая дивизия, которая уехала на фронт. Нас же распределили по избам в зависимости от того, насколько большая семья жила в доме. Куда-то заселили три человека, куда-то пять. Меня как командира в хороший дом отправили. Там жил старый дед, его жена, двое детей, лет по четырнадцать-пятнадцать. Дом был очень чистый, хороший. Две комнаты, баня.
Формировка продолжалась по 17 марта. Затем приехал эшелон, и мы отправились в Тулу. Пока ехали, никаких особо разговоров, касающихся фронта, не вели. Я помню, что тогда попался мне один из зэков из Ленинграда. Я не интересовался, за что он сидел, но он был из числа артистов, комик, поэтому всю дорогу рассказывал комические истории, пел. Очень был шутливый мужик, хоть и старше меня намного. Люди в батарее были разные: из крестьян, из рабочих. Были и те, кто уже повидал фронт, госпиталь. Но обратно попасть на фронт они не боялись.
– Солдаты из Средней Азии были?
– Были, конечно. На Урале к нам попал из госпиталя казак, потом с Кавказа осетин.
Приехали мы в Тулу. Разместили нашу батарею и еще, кажется, разведроту дивизии в клубе ТОС (Тульский оружейный завод). Тут стали получать мы оружие с заводов: винтовки, карабины, пулеметы. Артполки стали получать пушки. А ведь в нашей зенитной батарее, как мы на фронт 10 июля 1942 года выехали, пушек не было. Они на заводах не изготавливались.
По пути на фронт батарею расформировали и раздали по артиллерийским полкам командиров. Меня направили в 534-й полк и назначили политруком 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 164-й дивизии. Мы приехали под Белёв, на Оку, сменили дивизию там для наступления. Два дня побыли там. Немцы обстреливали нас. Не успела наша дивизия занять позиции для наступления, как нас снова направили назад, в эшелон погрузили. Приехали в Москву. Двигались мы по окружной железной дороге. Я запомнил Казанский вокзал. Приехали в Волоколамск. Там эшелоны стали разгружать. Нас было где-то семь эшелонов по восемь тысяч. Оттуда мы двинулись пешком вдоль фронта: от Волоколамска шли на север к Волге.
Сосредоточились недалеко от Волги для наступления. Там дивизия стояла в обороне после боев, и наша дивизия заняла там позиции. Это было 3 августа 1942 года. В три-четыре часа ночи нас покормили. 4 августа в шесть часов началась артподготовка. Все гудит, дым кругом. Из окопов поднялись. Целый час шла артподготовка. «Катюши» первый раз услышал. Они стояли сзади на опушке леса. После окончания артподготовки огонь был перенесен вглубь, и мы пошли в наступление, в атаку. Девяносто человек было в роте. Командир роты был на правом фланге, а я на левом. Три командира взвода были: два – младшими лейтенантами, один – лейтенантом. В основном все мобилизованные командиры, как и солдаты, были молодыми. Командир роты погиб прямо на правом фланге. Он даже из окопа не смог подняться. Я командование взял на себя, хотя я и так отвечал за роту. Мы пошли в атаку. Я помню, была нескошенная рожь, посеянная осенью, но ее не могли убрать, потому что она находилась на нейтральной полосе между немцами и нашими. Так вот, мы шли вдоль перезревшей ржи. В итоге остались живые немцы. Стреляли и минометы, и пушки. Я видел, как, не успевая крикнуть, падал один человек, второй, третий…
Мы дошли до реки Держа. Там уже немцы вели огонь. Берег был высоким. Там, где мы форсировали реку, глубина была по шею. Вода холодная. Я дошел до середины реки. У меня, кроме нагана, был автомат. На той стороне размещалась огневая немецкая точка, на которую мне пришлось израсходовать весь диск автомата.
Перешли мы на ту сторону. Берег там крутой, поросший мелким кустарником. Сунулись туда, а там немецкая колючая проволока . Пришлось ее лопатками рубить. Преодолели препятствие. Окопы были разрушены нашей артиллерией, там попадались и раненые, и убитые немцы. Справа блиндаж немецкий был, тоже заваленный. Оттуда доносился стон немцев. Прошли мы через траншею, преодолели ее. Я еще пробежал пятьдесят-шестьдесят метров. То снаряд, то мина пролетали. Я почувствовал удар по голове, упал на левый бок, в глазах белые звездочки. Голова звенела, каска висела на ремешке. Я лежу на левом боку, во рту солено – это оказалась кровь. Мне попал осколок прямо под мочку уха и остановился, порвал мне связки. Кровь туда попала через рот. Мой ординарец стал перевязывать мне голову, а я смотрю, что у него пальца на правой руке нет, белая кость видна только. Тут другой солдат подскочил, и тому выше локтя снайпер руку пробил насквозь. Подбежали санитары, еще солдаты, потом меня раненого перевязали. К моему ординарцу подбежал солдат, начал перевязывать ему руку, а тут немцы открыли огонь. Мы ползком в крапиву нырнули. Спрятались от противника. Нас подобрали и обратно через речку в медпункт переправили, оттуда в медсанбат, а затем в госпиталь. Там я пролежал шестьдесят суток. Меня вылечили. Вначале я не мог открывать рот, меня кормили через трубку. Потом, когда зажила рана, сделали операцию на ухо. Достали пинцетом осколок размером с ноготь . Больно, конечно, было. Меня спасло то, что во время выстрела я повернул голову. В бою все в касках были.
После излечения я снова был направлен в свою дивизию. Попал туда вместе с одним артиллеристом из 531-го полка. Он тоже был ранен. Ехали через Завидово в Москву, потом прибыли на Сталинградскую, а оттуда на Ольшевский и из Ольшевского уже поехали в мою дивизию вдвоем. Дивизия уже Зубцов освободила, но дальше не продвигалась и стояла там в обороне. Там же, на реке Вазуза, плацдарм был. Моя дивизия прошла четыре с лишним километра и в боях была настолько обескровлена, что дальше не могла выступать в первом эшелоне, ее вывели во второй, а потом со второго эшелона переправили на Западный фронт в 49-ю армию. Недалеко, в нескольких километрах, был район города Юхновец. Меня назначили сперва комиссаром истребительно-противотанковой батареи 45-миллиметровых пушек. У нас из шести пушек четыре осталось. Так я стал комиссаром истребительно-противотанковой батареи. Это мы уже приехали на реку Угру. На тот момент стоял уже октябрь. Листья опали. Мы заняли оборону несколькими километрами западнее Юхнова. Угра – река быстротекущая, но извилистая, а местность там пересеченная, а та дивизия, которая там находилась, набиралась сил. До нас она расформировалась полностью, и ее перебросили на другой участок. Нас поставили на ее место. Мы стали получать пополнение, наша дивизия набирала силу. В один из дней подходит ко мне солдат нашей батареи. Он был бывшим учителем истории в Челябинской области. Так вот, он мне рассказал историю реки. Оказывается, на этой реке князь Московии остановил некогда татарскую орду.
Целью было держать оборону с октября месяца. В марте мы перешли в наступление и пошли дальше. Немцы – по ту сторону реки были, а мы – по эту. Нашей задачей было не давать спокойствия немецким захватчикам, вести наблюдение и вести огонь на поражение, а задачей противотанковой батареи было создать кочующие орудия. Пушки стояли на танково-опасных местах, а это непосредственно на передовой у траншеи. Командир взвода высматривал противника на той стороне. А ведь снег лежал, поэтому немцев не просто было заметить. Часть из них тоже вели огонь. А наши пушки противотанковые выслеживали немецкий блиндаж. В блиндаже обычно пятнадцать-двадцать немцев было. Они ночевали там, вели смену караула по траншее. Еще перед нами была поставлена задача не просто палить снаряды, а экономно их использовать, чтобы разбить блиндаж. Обычно давали один снаряд на сутки. Его, конечно, было мало. Мы снаряды экономили, собирали пять-семь штук, а затем стреляли. За это время расчет и командир взвода выслеживали, где блиндаж, по карте высчитывали точное расстояние, ночью выкатывали пушку, предварительно выбрав для нее место. И вот старались ликвидировать немецкий блиндаж. Бывало, что попадали, бывало, что нет. Немецкие танки там тоже стояли в одном месте. Мы определили, что немцы отапливают ночью, поэтому удалось обнаружить дымок, с бугорка через трубу идущий. Вот и поняли, что это блиндаж. Навыки стрельбы имели все офицеры. У нас так было: сегодня, например, командир взвода стрелял, через день-два командир батареи находил для себя цель, на следующий день – заместитель по строевой, потом комиссар. Наступила моя очередь, и я с четвертого снаряда попал в блиндаж. У меня наводчиком был пожилой солдат Давыдов, воевал в Чапаевской 25-й дивизии. Так вот, он старым был, но очень хорошим наводчиком. Его нельзя было сравнить с молодыми. На наблюдательном пункте командир полка заметил, как был разбит блиндаж, и командиру батареи сообщил.
– А немцы открывали ответный огонь?
– В основном минометный. До семи снарядов выпустишь и сматываешься, иначе накроет минометным или артиллерийским огнем. Отстреляли, и близко уже передок стоял и пара лошадей, запряженных в повозке. Лошади – умные животные: им только команду дашь – хватают передок, разворачивают пушку и сами бегут, ничего не цепляя при этом.
Когда мы стояли там в обороне, то вели огонь постоянно, не давая немцам покоя. Они тоже стреляли. К нам делегация с тыла приезжала для воодушевления бойцов. К этому моменту в нашем полку процентов сорок-пятьдесят составляло пополнение узбеков. Узбекская делегация во главе с первым секретарем комсомола Узбекской ССР, в том числе артистами и знаменитой артисткой, приехали, когда мы стояли в обороне. Там были лес и речка, а в километре оттуда располагался штаб полка. При нем был клуб сделан, как землянка. Вот там мы стояли. Бывало, что пять-десять процентов лучших солдат туда в клуб отправляли. В других полках тоже была такая система. Я был не комиссаром, а заместителем командира батареи по политчасти. Мне говорили, сколько солдат я могу в клуб послать, в кино.
Когда узбекская делегация приехала, у нас узбеков совсем мало было в батарее. Всего три-четыре, а в стрелковых ротах много было их. В основном узбеков туда водили. Артисты выступали, пели песни, показывали по-узбекски, потом раздавали подарки в мешочках. Это мог быть кишмиш, сахар фруктовый кусковой, как стекло. Конечно, рады были им: мы ведь земляки. То есть это поднимало боевой дух абсолютно всем солдатам, а не только узбекам. Все стояли по очереди, менялись. Вот такая работа.
В нашу дивизию также приезжала монгольская делегация во главе с маршалом Чойбалсаном, но я его не видел, и в полку у нас его не было. Говорят, что он в дивизии был. Поступили полушубки, шапки. Те, что были белого цвета, отдали командирам, чтобы они могли скрыться от немцев зимой. Мы знали, что нас отстреливали. Никого не убили, но точно охотились.
– А снайперов с немецкой стороны много было?
– В двух местах были зоны опасные. Траншея проходила так, что немцы могли видеть идущего человека. Протяженность этой опасной зоны составляла тридцать метров, поэтому ее старались пробежать, нагнувшись, чтобы не успели застрелить. В одном месте овраг был, и его траншея пересекала. Он тоже простреливался немцами. Чтобы туда попасть, бежали изо всех сил.
– Вернемся к первому бою. Вы стали комиссаром, политруком роты, а разница в личном составе артиллерии и пехоты сильная была?
– В артиллерию набирали более грамотных людей, потому что там надо расчеты делать грамотно. Безграмотных у нас не было.
– Правда ли, что наша пехота была пассивной: говорят стрелять – стреляй?
– Я с таким не сталкивался. В траншее по очереди менялись. Один стоял на наблюдательном пункте. Немца видели – стреляли. Такого не было, чтобы не стреляли. Когда мы стояли в обороне на реке Угре, у нас было большое пополнение из узбеков. Организовали целую группу, которая занималась немецкими перебежчиками. Эту группу возглавлял узбек-учитель. Узбекам не все доверяли. Они часто перебегали на сторону немцев. Говорят, что те даже возвращали узбеков обратно, особенно малограмотных. Я с такими случаями лично не сталкивался, но слышал о них.
– А самострелы были?
– Были. Я таких не видел, но слышал. В нашем полку был один, однако его разоблачили. Самострелы брали мокрое полотенце, обматывали руку и стреляли, выбирая куда попасть так, чтобы стать калекой. Но в госпитале обычно разоблачали, что самострел.
– Вернемся к лету 1942 года в роту. В атаку Вы пошли шагом или побежали?
– Сперва бежали некоторое расстояние по ржи. Только головы видны были. Потом пешком шли. Затем снова четыреста метров бегом, потом опять пешком.
Солдат заставлять стрелять ни разу не приходилось. Они должны были сами понимать, что у них есть враг, которого должны убить. Все были обучены. Моей задачей как политрука было воспитывать у солдат крепкий боевой дух.
Мы локализовались в деревне Павлово. Она была разбита, сожжена, только печки стояли. Сохранились отдельные сараи и строения. В населенном пункте размещались немецкие окопы. Деревня переходила из рук в руки несколько раз: то немцы заберут, то наши отобьют. Но это не при нашей дивизии было.
– Вот Вы увидели первых убитых, раненых немцев. Какое Ваше отношение было к ним?
– Увидишь раненого – некогда разбираться. Он стонет. Не видел, чтобы их пристреливали. Я и сам не пристреливал. Надо было скорее дальше идти.
– Вашей задачей было воспитание ненависти к немцам у наших солдат?
– Да, это было основной задачей. Воспитывал в них ненависть к противнику как к оккупанту. Он враг! Я любил читать, много стало статей из Оренбурга. Я читал их солдатам, они любили слушать. Читал, как тамбовские колхозники собрали сумму денег и построили на них танковую колонну. Потом саратовский пчеловод Головатый на свои средства купил второй самолет.
Батарея находилась под передовой: может, метрах в трехстах-четырехстах от передовой линии в замаскированном виде. Лес. Блиндаж для людей и лошадей. Там была кухня. Днем перемещаться было невозможно, потому что немецкий снайпер снимет сразу. Как только стемнеет, можно. Газеты мне, как политработнику, регулярно, каждый день поступали. Это были: «Правда», «Известие», «Красная Звезда», а также дивизионная газета «За Родину». Так вот, как только стемнеет, я с этими газетами шел к расчетам, к пушкам. Там стояла маленькая землянка, которая отапливалась печкой. Приходишь. Все садятся, кроме ночного наблюдателя: он все равно стоит. Печка горит. Я начинаю читать газеты, рассказываю, мне задают вопросы, а я отвечаю. То есть вот так проводил непосредственно политработу. Читал о том, как люди собирают деньги для армии, на оружие. Рассматривали пример старшины нашей батареи Парахина, шахтера под Москвой.
Мы захотели провести сбор денег. Комиссар полка, заместитель части мне говорит, что не стоит про этот вопрос узнавать и утверждать выше. Он оказался прозорливее меня. Он уже был членом партии и старше меня. Мы рассказали о своем плане солдатам оружейного расчета и начали собирать сумму денег. Все начали отдавать, кто сколько может. Таким образом собрали двадцать семь тысяч рублей. В полку тоже начали сдавать, у кого что было. Собрали деньги, сложили в мешок. Я отправился в расположение. Там мы со старшиной написали письмо на имя Сталина, как в газетах. Начальник политотдела прочитал мое письмо, доложил о нем. Затем что-то громко крикнул. Начальник политотдела попросил пригласить начфина. Тот пришел через несколько минут. И ему говорят: «Вот, от товарища старшего лейтенанта примите деньги, собранные на то-то» – и я ему сдал деньги, а он мне квитанцию выписал. Начальник политотдела пригласил редактора газеты, с которым он беседовал. Он, конечно, это письмо отправил по назначению, и мы 8 марта перешли в наступление, и где-то к концу марта в ходе наступления вдруг подходит ко мне почтальон-солдат, который индивидуально был у каждого подразделения. Передает мне телеграмму от Сталина. Я прочитал, а командира батареи рядом не было, потому что он был в другом взводе. Я и не спрашивал в каком, потому что идет наступление. Некогда. Я сказал, чтобы телеграмму отнесли начальнику отдела, все прочитали. Я пригласил редактора газеты. И вот дивизионная газета опубликовала почин нашей дивизии. Так по всему полку тоже начали собирать деньги.
– Первую помощь при ранении Вам оказали на поле боя, а дальше спасал ротный медпункт?
– Нет, не ротный. Медпункт в батальоне был, затем основной медпункт полка, а медсанбат в дивизии располагался. Выше него только госпиталь. Сразу меня отвели в медпункт. Кровь просачивалась. Меня заново перевязали, оказали более квалифицированную помощь, но все равно отправили в медсанбат. Там заполнили карточку раненого. А порядок вот какой был: если солдат лежит – значит надо на машине везти; если сидячий, то повозка нужна; если стоит солдат, то может пешком идти. Вот набралось семь-восемь раненых. Мы пошли к полевой дороге. Выходим, а там машины ходят: везут на фронт в войска боеприпасы, продукты. Был приказ: если на дороге один-два раненых, то водитель обязан остановиться, подобрать их и отвезти в госпиталь, если машина издалека, а если она промежуточная, то до ближайшего пункта. В основном в госпиталь везли. Мы вышли на дорогу, шел бензовоз пустой. Он слил горючее и отвез нас в госпиталь в Новозавидовский, что размещался в школе.
– А противостолбнячные уколы там делали?
– Какие-то делали.
В Новозавидовском лежали тяжелораненые, которых невозможно было вылечить в полевом госпитале. И, вы знаете, подавленных солдат там не было.
Когда я стал лучше себя чувствовать, меня выписали.
– Как Вам удавалось поддерживать дисциплину в армии?
– Никак. Все были в боевом настроении. Они знали, что перед ними враг и они могут умереть, поэтому тоже были сосредоточены и старались убить. Пока батарея стоит в обороне, в лесу, она ничем не занята, то есть расчет и пушки стоят, наводчики усиленно занимаются, обучение идет. По ночам один несет дежурство: стоит на посту у пушки, а она зарыта в окопе.
– За внешним видом следили солдаты?
– Еще как! Даже во время боя одеты отлично, как положено. Им не нужно было даже напоминать о надлежащем внешнем виде. Все были застегнуты, подпоясаны.
– Вши были?
– Еще сколько! И у нас, и у немцев уже в окопах. Мы это обнаружили, когда заняли их. Немцы прямо там писали нечто наподобие «Убей вошь» на немецком. Мы, конечно, так не делали: не писали, не рисовали. Хочу сказать, что проводили борьбу против вшей с помощью бани. Иногда раскидывали в овраге палатку медицинскую. Если зимой, то рубили лес, еловые ветки. У бочек из-под бензина вырубали дно, разводили огонь. Топилась бочка, в палатке становилось тепло. Вот так грели воду. Затем заносили и выливали воду, где мылись солдаты, одежду прожаривали. Приходили машины, в которых хлеб развозили. Там вешалки были, на которые цепляли одежду. В кузов машины подавалась прожарка, шел пар. Солдаты мылись, а потом оттуда свою одежду забирали. Она горячая была. Вшей это убивало, конечно.
Поили нас настоящим черным чаем, кормили два раза в сутки: утром и вечером. В основном это были каши: перловая, пшенная. Макарон не было, а рис даже и не видели. Перловка и ячменная каша реже выдавались. К весне, когда витаминов особенно не хватало, для борьбы с авитаминозом использовали хвойные ветки. В походной кухне было обычно два котла: горячая вода для чая и горячая вода для каши. Так вот, повар ветки мелко рубил, измельчая, и добавлял в котел с горячей водой для чая. Получался темно-зеленый отвар. Санитар контролировал работу повара, а санитара контролировал фельдшер. Чай был крайне противный. Но пить приходилось для борьбы с цингой и авитаминозом. Только после этого давали тарелку с кашей.
– Куриной слепоты много было?
– Да. В основном пожилые люди болели. Как только солнце зайдет и никто не видит, их везут в санчасть. У нас в батарее человека три-четыре было. Санитар идет впереди, а они друг друга за шинель держат и гуськом шагают.
– Вы пили?
– Я лично почти не пил, но у каждого командира фляга была. Стеклянная, алюминиевых не было. Потом из стеклянных мы делали в блиндаже окошко, чтобы светло было. Мы их складывали, а промежутки между ними заполняли глиной или грязью, чтобы окно не рассыпалось. В результате понадобилось четыре-шесть фляг. Старшина мне в флягу заливал водку, а у солдат кружек не было. Нормой были сто граммов.
Курением тоже не увлекался. Сейчас тоже не курю. Солдатам давали моршанскую махорку. Командирам редко, но доставался настоящий турецкий табак. Папиросы: «Ракета», «Беломор». Тем, кто не курит, доставалось печенье или конфеты. Старшина знал, что я не курю, поэтому сразу давал мне конфеты. Доппаек командирский мы не получали.
Нам платили зарплату. Я лично клал деньги на полевую сберегательную книжку. Некоторые отправляли домой, была же полевая почта. У меня отец в оккупации был, а туда нельзя было посылать их, поэтому я клал на книжку.
– Как Вы отнеслись к введению погон?
– Мы были в наступлении. Стояла зима. Утро. Я находился около кухни, где были старшина и повар. Вдруг я увидел, что идут два командира мимо нас: один – как положено, а другой – с погонами. Мы уже знали по газетам, что введено воинское звание («офицер» и погоны). Мы засмотрелись на золотые погоны с интересом. А потом стали уже погоны давать за заслуги всем офицерам и солдатам.
– Не было разговора про золотопогонников?
– Нет.
– Как восприняли отмену позиции комиссара и введение замполита? Были ли урезаны серьезные полномочия у комиссара?
– Полномочия были сохранены.
– Со СМЕРШем приходилось сталкиваться?
– Приходилось два раза. Первый раз в тылу на Урале пришел ко мне, но я в лицо его уже знал. Он стал со мной беседовать насчет командиров батареи. Также намекнул мне, что проводить политработу нужно не только с бойцами, но и с командирами.
Второй раз я встречался с особистом непосредственно на фронте. Стояли мы в обороне на Угре, а поскольку я был в легкой противотанковой артиллерии, то она перевозилась лошадьми. У меня был ординарец, а у командира взвода не было. Когда я приезжал в расчет, то оставлял лошадь с ординарцем, а сам беседовал с солдатами. Мой ординарец был молодым парнем (девятнадцать лет) с Донбасса. Я не знал, что у него привычка собирать немецкие листовки. А потом он показывал их солдатам. Я об этом просто не знал. И вот однажды мы стояли в обороне. Приходит ко мне особист и говорит, что мой ординарец подбирает немецкие листовки и агитирует русских солдат. Я пообещал быть внимательнее к своему солдату в будущем. Особист подошел к ординарцу и сказал, что если тот не прекратит агитировать других, то его арестуют и он пойдет под трибунал. Парень весь бледный стал. Затем особист сказал ему снять штаны и отлупил его ремнем три-четыре раза.
– Какая американская помощь до вас доходила?
– Тушенка доходила, но нам ее не давали.
– Трофеи были?
– Мой ординарец принес как-то мне их «шмайсер», автомат, пистолет, не немецкий, а наш ТТ, покрытый ржавчиной. Он его подобрал в лесу.
– Теперь расскажите, как Вы перешли в наступление.
– Это было накануне 8 марта. Нас, полковых офицеров, командир дивизии и комиссар дивизии собрали в клубе. Комиссары приехали и говорят, что на немецкой стороне уже пожары появились, то есть они готовились к отступлению. Об этом мы сами уже догадывались. Немцы сжигали деревни. Нашей задачей было не дать фашистам свободно уйти. Танки частично догнали. Мы штрафные роты переняли от немцев, и в нашем полку на одном из участков наступления немец отошел, и для прикрытия своих сил немцы проштрафившегося солдата-пулеметчика приковали к дереву вместе с пулеметом, чтобы он не убежал и не прекращал стрелять. Конечно, он стрелял.
Не могу сказать, что наступление было легким. Первые несколько километров – да. А потом пошли бои. Даже вот какой случай был. Было такое местечко перед заводом, где стояла большая деревушка. Мы оттуда вышли и должны были до завода километра три-четыре идти. Открытое поле. Зима. В полутора километрах справа был лес, низина и громадная поляна. И вот только мы вышли из деревушки в сторону завода по открытой местности, как начали палить немецкие пулеметы и снайперы из леса. Я лично не видел, но знаю, что двое солдат были убиты. Командир полка шел вместе с пехотой. Пушки тянули с помощью лошадей, где можно было пройти, а, где нельзя, солдаты тянули их на лямках. Я приказал постараться обнаружить снайпера и уничтожить его. На окраине деревушки также разместился снайпер, который стрелял из сарая. Он специально в стенке выбил бревно, просунул туда ствол.
Вскоре командир взвода, наводчик и командир отделения закатили пушку и определили, где сидит снайпер. Он был в метрах восьмистах. Он сделал себе хатку в снегу, поэтому его было сложно обнаружить. Они только засекли вот этот бугорок и дымок. У нас наводчик был хороший и со второго-третьего выстрела ликвидировал снайпера. Он больше наших не убивал. Мы пошли дальше.
На середине дороги по нашей батарее начали снова стрелять немецкие пулеметы, но никого не ранили. Потом дошли до завода. Наша батарея оказалась на его окраине. Там стояла школа, а в школе – немецкий медпункт. Все было застлано соломой. Мы пошли туда обогреться. Хорошо, своевременно кто-то напомнил, что там вшей полно в соломе: там же спали раненые. Все сразу выскочили. Вход в школу был заминирован. Мина противотанковая. Потом кто-то догадался, что эту мину нужно взорвать. Дальше пошли наступать.
Еще был такой случай в ходе наступления. Вся деревня была сожжена, только одну избу оставили. Там женщины были. Немцы их туда согнали, но не подожгли, вот они и сидели в тесноте. Мы продолжили свой путь. Немцы, отступая, расчищали дорогу от снега, но, конечно, заминировали ее. Мы шли следом. Потом начался немецкий обстрел. Мы прячемся. Я упал на снег и вижу прямо перед носом противопехотную мину. Она в снегу закопана, и три усика торчат. Я знал, что это мина, и если шевельнулся бы чуть вперед, то произошел бы взрыв.
Речку Угру мы форсировали раза три-четыре, потому что она извилистая, поворачивает постоянно. Около большого населенного пункта Знаменка, а еще раньше, в Павловке, еще лед был, так мы по льду перемещались. Против нашего полка вел сражение полк власовцев. Они дрались очень отчаянно в немецкой форме. Мы подожгли их блиндаж. Они начали быстро выскакивать оттуда, ругаясь по-русски и по-украински. Потом уже в ходе наступления мы даже взяли в плен двенадцать власовцев. Когда мы вели их в тыл через ряды своих солдат, то каждый старался ударить прикладом власовца. Те совсем понурые все шли. Власовец хуже немца! Ненависть к ним была невероятной.
Потом меня отозвали с фронта, когда упразднили институт политработников подразделений, то есть в ротах, батареях, эскадрильях, а в полках оставались заместители. Это было в мае 1943 года. Провели политработников подразделений и всех отправили на учебу в командный состав, в том числе и меня, как политработника батареи. Разговоры ходили, что с Западного фронта более трехсот человек отправили на учебу. Меня в армии пригласили в особый отдел, поскольку я получил телеграмму от Сталина. Они посчитали, что я им подхожу для службы в особом отделе. Я отказался, потому что знаю свой добрый характер.
К маю я уже навоевался. Я с начальником артиллерии дивизии ехал на лошадях до самой передовой. Мы знали друг друга, поскольку я – артиллерист, а он – начальник артиллерии. На совещаниях часто встречались. У нас зашел разговор. Начальник посоветовал мне ехать в тыл на учебу.
Нас погрузили в машины на станции, и мы поехали на восток в город Муром. Недалеко размещался промышленный городок, где был построен металлургический завод. Оттуда километрах в восьми-десяти размещалась деревня Большая Виля. Там был пруд. По ту сторону леса был учебный артполк, куда нас, артиллеристов, политработников, направили. Там могли принять далеко не всех. Еще один город был тоже недалеко оттуда, где локализовался запасной минометный полк. Я же отправился в артиллерийский учебный полк. Там у нас были землянки вырыты. Все было уже совсем не по-фронтовому: учебные классы, где нас обучали артиллерийскому делу. Здесь я изучал 152-миллиметровые пушки и 160-миллиметровые минометы, 50-миллиметровые минометы, а также 82- и 120-миллиметровые. Нужно было уже вести расчеты, знать, как правильно их делать.
Когда мы окончили учебу, нас стали распределять по полкам. Меня и еще человек сто из полка отправили в Москву. Жили мы под Москвой в казармах. К нам приезжал на беседу начальник какой-то. Лично меня он пригласил пойти в ГУК работать (Главное управление кадров). При этом ГУКе было ГУСУ (Главное управление статистического учета). Он размещался недалеко отсюда, за Ржевским вокзалом, в здании школы. Там была громадная картотека на офицерский состав вооруженных сил. В классах разместили столы и деревянные ящики с картотекой. Как только ты училище оканчивал, тебе присваивали звание лейтенанта или младшего лейтенанта, сразу заводили карточку в ГУСУ с указанием ФИО, звания и должности (или командир взвода, или батареи). Данные хранились там вплоть до смерти. С левой стороны внизу была черная полоса, где указывали, если солдат погиб. Затем отмечался послужной список, перемещения по должности. Звание и сама должность на другой стороне записывались. На фронте командующий армией присваивает воинские звания, затем составляется приказ, потом он отправляется в ГУК, а затем в ГУСУ. Тут вносят приказ непосредственно в карточку, указывается, кто был разносчиком. Это могли быть и гражданские девушки, но в основном офицеры.
При ГУСУ организовали отдельный запасной офицерский полк. Меня назначили командиром офицерской роты. Она состояла из офицеров: младших, старших лейтенантов, капитанов, майоров. Они возвращались из госпиталей и сразу в запас. Здесь и работали. Допустим, вам дали приказ на присвоение звания Иванову. Офицер с этим приказом шел в нужный класс. Бывало, что с одной фамилией было много человек, а иногда и имя с отчеством совпадали. Тогда офицеру приходилось копаться в документах о семье и разбираться, которому из Ивановых присваивают звание. У каждого офицера был свой штамп. В случае ошибки его можно было вычислить.
Моя обязанность вот какая была. Офицеры жили в общежитии. У меня был помощник. Я уже был в должности. Так вот, у меня был младший лейтенант, который выдавал постельные принадлежности: одеяла, простыни, белье, чистые полотенца. Шел строгий учет всех принадлежностей, чтобы мой помощник не продал простыни, например.
Внизу у нас столовая была – бывшая ученическая столовая. Сперва был вещевой аттестат, а потом вещевая книжка. Имелась денежная книжка, продовольственный аттестат. Утром – подъем. Все умываются, строятся. Талончики были. Я раздавал их, шагом марш шли в столовую питаться. Вольно не ходили.
– Как окончание войны встретили?
– С радостью. Стоял невероятный, но радостный шум! Это было раннее утро. Я ночевал у своей подруги в семейном бараке у завода ЗИЛ. Шум. Я открываю окно. Люди бегут, кричат, поют. Очень радостно все встретили! Дальше днем везде на улицах стало еще более радостно.

| Интервью: | А. Драбкин |
| Лит.обработка: | Н. Мигаль |