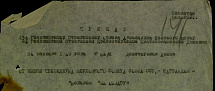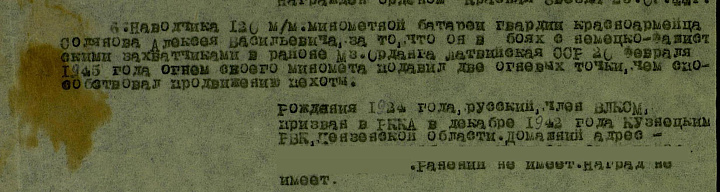Я, Солянов Алексей Васильевич, родился в марте 1925 года в городе Кингисепп Ленинградской области. Мой отец - Солянов Василий Андреевич, родился и работал в Ленинграде. С тремя братьями жил на Фонтанке, дом 97. В начале двадцатых годов отец заболел и ему порекомендовали уехать в деревню. Так наша семья оказалась в деревне Мали Кингисеппского района. Там у родителей родились трое детей, в том числе и я. В 1934 или 1935 году отец умер. Впоследствии мама вышла замуж за вдовца с двумя детьми.
В школу я ходил в соседнее село за 4-5 километров, окончил пять классов. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, родители сказали: «Земля большая, надо работать, помогать», - и отдали учиться на сапожника в Кингисепп. В свободное время я ходил в городской Дом Культуры учиться игре на балалайке, потом учился играть на гитаре. Игре нас учил казак, он мне говорил: «Ой, у тебя хорошо получается, давай!». Я уже получил паспорт и вскоре после этого мне пришла повестка: явиться в Исполком тогда-то в такой-то кабинет. Нас, таких ребят, как я, собралось около сорока человек. Сказали, что мы будем шахтёрами. К тому времени сапожничать мне уже надоело и я был даже рад такому изменению в своей жизни. Посадили нас в грузовик и отвезли в Сланцы. Это сейчас город, а тогда было болото. Бегали по трапам, а под досками стояла вода. Поселили нас в четырёхэтажном здании школы. Всего было набрано семьсот человек. Помню, были ребята из Пскова и других районов Ленинградской области. Преподаватели нам рассказывали про шахту: как она сделана и всё такое. Раза четыре нас спускали в шахту. Шахта была глубиной около стапятидесяти метров. Помню, вдоль шахты текла отводимая вода. Хо-o-лодная! Шахта освещалась электричеством, там был даже свой «Комсомольский Уголок». В шахте находились рабочие лошади, их на поверхность не поднимали, а всё необходимое опускали в низ. Всего было две лошади, они по штреку таскали вагонетки, причём бегали одни, без погонщика. В забое у рубмашины вагонетку нагружали сланцем и лошадь бежала к клети. Там нагруженную вагонетку ставили в клеть и поднимали. К лошади прицепляли пустую вагонетку, лошадку стегали и она бежала до самой рубмашины. Рубмашина выпиливала в породе глубокую щель. Наподобие как сейчас пропиливают асфальт для прокладки кабеля, только пропил делался горизонтальный, в стене снизу. Потом просверливались отверстия глубиной сантиметров сорок, в них закладывался динамит и подрывался. Подрезанная глыба оседала, её дробили отбойными молотками и грузили в вагонетку. Работа тяжелая. Меня готовили к работе на рубмашине.
Двадцать второе июня был такой хороший, жаркий день. С утра я решил поехать к матери в деревню. Помню, заметил, что залетали наши гидросамолёты, знаете, были такие у них: мотор сзади, наверху, а лётчики сидят внизу. Они могли садиться и на воду, и на сушу. Приезжаю, а там бегают лётчики. Раньше в такую жару они все ходили в белой одежде, а тут все в чёрных фланелёвках и чёрных бескозырках. Я спрашиваю: «А почему в чёрном-то все? В такой день!». Мне говорят: «Ты только никому не рассказывай, говорят, что война началась! Ты давай уезжай обратно, а то тебя могут арестовать за то, что ты уехал к матери». Приезжаю в Сланцы, а там уже все говорят: «Война, война! Война началась!» Сразу открыли склады и говорят: «У кого нет формы, вот, берите!» У нас была своя, ремесленная форма. Шахта ещё какое-то время работала, но через несколько дней нас собирает замполит и говорит: «Всё! Шахту придётся затопить, а вас всех эвакуировать». Помню, что перед затоплением лошадей из шахты подняли.
Нашему мастеру выдали винтовку и поручили пешком довести всех до Ленинграда. Ребята смеялись над мастером с его старинной винтовкой. В Кингисеппе я жил на улице Иванова и решил туда забежать: узнать, остался там кто или нет. Город уже бомбили. Иду, смотрю: боже, ж ты мой! Идут, бегут, женщины, мужики, тащат ящики с вином, с этим, с тем. Я посмотрел и думаю: на кой хрен мне эта водка! Мне нужно посмотреть, живы ли там в моём доме. Пришел, но там уже никого не было. Напротив находилась зубная поликлиника. Смотрю, зубы валяются, инструменты и прочее. Но надо было собираться. Часть ребят разбежалась по домам, собрали нас человек пятьсот. И вот этот мастер нас вёл. Шли по Криковской дороге. Мы шли вдоль асфальтированного шоссе. Помню, что на дороге лежали убитые коровы, свиньи, козы: скот угоняли в тыл, а немецкие истребители их расстреливали. А жарища такая и они лежат…
В воздухе над нами было столько боёв. Помню, как «мессера» издевались над нашим Ил-ом. Мы лежим в лесу и смотрим, как немец поджигает наш штурмовик. Оба лётчика выпрыгивают с парашютами, а «мессер» подходит и расстреливает. «Вот паразит, - думаю, - уже лётчики прыгнули, а он, чёрт побери…» И вот таких два или три боя наших штурмовиков и «мессеров» я тогда видел.
Пришли на какую-то станцию. Нам сказали, что сейчас привезут молока и творога и нас накормят. А мы всю дорогу ничего не ели. И вот подошли телеги с молоком, сметаной и творогом. Мы подходили и нам всё это давали без ограничения, потом подогнали паровоз с телячьими вагонами. Нас погрузили в телятники и повезли в тыл. Тащились, тащились. У ребят разболелись животы, начался понос, а двери закрыты. Стали говорить: «Давайте откроем, давайте откроем!» Но тут подъехали к какой-то станции, все сразу повыскакивали. Ну и всё там обосрали (рассказывает, улыбаясь). Ну молодёжь, что там говорить. И вот, в конце концов нас привезли на Волгу, тоже на сланцевые шахты, в такой грязный городишко в Сызранском районе. Снова определили в ремесленное училище. Сперва нас кормили в столовой, а потом выдали рабочие карточки. Многие ребята убегали домой, но их ловили и возвращали обратно. В шахту мы опустились всего один раз. А потом сказали, что надо строить дома: люди приезжают, им надо где-то жить. Ещё нас посылали на Волгу вылавливать брёвна - в шахтах не хватало крепёжного леса. По Волге шли большие плоты, некоторые брёвна отрывались, тонули или плавали отдельно. Создавались целые бригады. Мы по двое садились в лодку и выходили на реку. Один сидел на вёслах, а второй с крюком и багром, сидя на корме, зацеплял крюком бревно и подтягивал его к лодке. Потом в бревно вбивалась скоба, к которой привязывали верёвку и тащили бревно к берегу. Знаете, есть такая песня «Венский вальс», что ли? Она ещё начинается словами: «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай…». Там есть такие слова: «Будто Волжские видит разливы…», вот когда я слышу эту песню, то вспоминаю эти Волжские разливы. У Волги там разливается левая сторона, а правый берег высокий. Другой раз половишь брёвна и поплывёшь собирать морошку, пожрёшь - и обратно.
Постепенно некоторых ребят постарше меня стали забирать в армию. Я тоже пришел в военкомат, но военком сказал мне: «Знаешь, давай иди гуляй! Нечего тут. Рано тебе ещё». Я говорю: «Ну, как же, ребят взяли! А что я, один тут буду, что ли?» А он отвечает: «Гуляй, гуляй. Ничего не знаю». Тогда я подошел к капитану или лейтенанту, не помню и говорю: «Ну, почему меня-то не берут? Вот у меня паспорт. Ну как же так?». Он говорит: «Ну, давай документы, иди становись в строй». И вот так я попал в армию. Это произошло в январе 1943 года.
Учебный стрелковый полк располагался в деревне Тат. Канадей (сейчас – село Тат. Канадей Кузнецкого района Пензенской области). Область уже не помню. Жили в казармах, они находились наполовину в земле, а окна - на крыше. В казармах стояли двухъярусные нары. Помню, приводит нас старшина и говорит: «Вот здесь вы будете жить: «зассыхи» ложатся на нижний ярус, а кто не ссытся - ложитесь наверху». Наш старшина Романьков - белорус, кадровик, он нас так гонял, что дай боже! На улице холодина, а он нас гоняет голых по пояс. Чтобы одеться, давалось четыре минуты, через четыре минуты - чтобы ты оделся и выскочил. Сперва нас было немного, но постепенно казарма наполнялась. Проснешься, смотришь - пришло новое пополнение. Потом ещё и ещё приходит. Потом пришли узбеки. Помню, они всё время пели песни. Ой, надоели! Я даже поневоле выучил слова. До войны была песня со словами: «Э-эй герой, на разведку боевой…». А узбеки: «Э-э старля хурли мурдыя старля…». И целый день только и слышно «старля». И ботинками отбивают шаг - это их учили ходить в строю. Главное - чтобы «ножку, ножку, ножку». Если вы служили в армии, то знаете. Всё «носок тяните, носок», понимаете ли.
Когда подготовка окончилась, нас погрузили в эшелон и привезли под Москву. Потом почему-то повезли на Север. Из учебного полка нас около ста человек привезли куда-то под Ленинград. Помню, было ещё холодно. Там стоял какой-то домик, но все в него вместиться не могли, поэтому грелись по очереди: одни выходят - другие греются, одни выходят - другие греются… Помню, как раз мы зашли в домик, вдруг кричат: «Подъём! Выходить!» Вышли мы и построились, сто человек. Вдоль строя идёт офицер и два сержанта. Офицер, указывая на некоторых солдат, говорит: «Выходи. Выходи…». На меня тоже показали, ну и я вышел из строя. Сержант командует: «На пра-во! Шагом марш!» И мы, человек двадцать, пошли, а куда ведут, нам не сказали. Я смотрю, название посёлка - Песочное. Завели нас в ворота и лейтенант говорит: «Вы находитесь в учебном полку и будите изучать 120- миллиметровые миномёты, вот вы будете учиться на наводчиков». Я спрашиваю: «Ну, куда же на наводчика? Винтовку мы проходили, ну, автоматы «ППС»». Он отвечает: «Да, вы будете учиться на наводчика. Вы миномёт-то проходили?» Я сказал, что проходили 82-мм и 120–мм проходили: вес плиты 94 килограмма, ствола - сто килограмм, лафет - шестьдесят килограмм, но прицел нам не рассказывали. Лейтенант сказал, что вот теперь будем изучать прицел и учиться на наводчика.
Мы жили в большой казарме. Здание было разделено на две части. В одной жили мы, а во второй половине - девчонки. Они были одеты в морскую форму и обучались работе с ключом на радиостанции. Девчонок было два взвода по сорок человек, столько же, сколько и нас. С ними мы встречались, только когда нас вели в столовую или в клуб: нас ведут - и их тоже.
Наша учебная часть готовила пополнение для тридцатого гвардейского корпуса. Там проучились мы месяц или полтора. При выпуске мне было присвоено звание младшего сержанта. Попал служить в 64-ю гвардейскую дивизию на батарею, входившую в 194-й полк.
Ничего особенно сложного в прицеле 120-мм миномёта нет. Это у 82-мм миномёта прицел оптический и наводчик видит цель, а наши миномёты всегда стреляют с закрытых позиций - у них есть только прицел и коллиматор. А у разведчиков - буссоль, стереотруба. Если у артиллеристов батарея состоит из четырёх орудий, то у нас батарея - это шесть миномётов. Три взвода, в каждый взвод входит два миномёта. Командуют миномётами сержанты. Взводами командуют лейтенанты, старший офицер батареи - в звании старший лейтенант, а командиром был капитан.
Каждый миномёт перевозился в повозке, запряженной парой лошадей. Если к позиции не подойти «передком», то, значит, несёшь на себе. Боеприпасы тоже сами подтаскивали, в каждом ящике лежало по две мины. Выбираем место для огневой позиции. На НП устанавливают буссоль, определяется наша зона обстрела, каждый миномёт должен пристрелять цель. При наступлении это, как правило, немецкая траншея, орудие или пулемёт. Но надо так пристрелять, чтобы противник не заметил. Миномёт наводится по буссоли, «плюс» - мина улетела дальше за цель и там взорвалась. Я засёк, надо мне выпустить вторую мину так, чтобы «минус» было. Я на прицеле делаю поправку и где-то через полчаса делаю второй выстрел. Если я сделаю два выстрела подряд, то немец поймёт, что что-то готовится и поменяет позицию. А так всё будет выглядеть, как будто это случайный обстрел. Я делю «плюс» и «минус» напополам, а третий выстрел сделаю при артподготовке. Это называется «вилка». Я в свою книжку записываю данные целей: такой прицел, такой прицел… Во время артподготовки мне говорят: «Цель номер один». Я смотрю: ага, прицел номер такой-то, угломер такой-то… И «огонь!». А сколько по каждой цели выпустить мин, мне уже скажут. Может три, а может быть и пять.
В обороне мы почти не стояли - наш гвардейский корпус считался корпусом прорыва. За день или полтора ночью мы тихо сменяли УР (Укреплённый Район), стараясь за ночь установить батарею, чтобы когда рассветёт, всё выглядело так же, как накануне нашего прихода. А после, по сигналу - артподготовка. Одна артподготовка, потом вторая артподготовка. Только и слышно, как там говорят: «Заряд один! Заряд два!». Мы стреляли на третьем, на втором, ну, в крайнем случае - когда идёт наступление - на третьем заряде. При интенсивной стрельбе стволы миномётов иногда так раскалялись, что мина вылетала из ствола, ещё не дойдя до бойка - а порох уже вспыхивает и происходит выстрел. Это, конечно опасно, но что же делать, если приказ. Конечно, старались дать стволу остыть и пока все стреляют - один миномёт остывает. Потом другой, и т. д.
Вес мины - шестнадцать килограмм. Когда мина выстреливается, то находящиеся в её головке два шарика по инерции откатываются вниз и мина встаёт на боевой взвод. То есть при малейшем касании за ветку или травинку прорывается мембрана, срабатывает взрыватель и происходит взрыв. Это называется – «осколочного действия». Специальным ключом взрыватель можно поставить на «фугасное действие». Это когда взрыв происходит с замедлением на долю секунды после касания земли. За это время мина несколько погружается в грунт и только тогда происходит взрыв.
И вот идёт наступление. Нам приказывают менять позиции. Три орудия на месте, а три, понимаешь, менять! И вот, мы всё вот это на себе. Плита ушла в землю: её достаёшь ломами, а она присосалась - под неё надо воздух впустить. И четыре человека - бегом менять позицию, а наступление идёт быстро. Если, конечно, немец бежит. Приходим на новое место - надо пилить лес, чтобы мины при выстреле не задевали деревья и не взрывались. Потом обкапываем немного, ищем плотную землю. Потому что очень плохо, когда при стрельбе плита уходит в землю. В таком случае каждый раз надо снова двигать прицел влево-вправо, выше-ниже. Если земля не плотная, то под плиту подкладываются напиленные деревья, немножко присыпанные землёй. Это чтобы плита глубоко не уходила, а то ещё по своим шуранёшь, а после отвечай.
В январе 1944 года мы участвовали в операции по снятию блокады Ленинграда. В начале наступления вышли на станцию Гатчина, а после нас направили на Красное Село. За его взятие нашей дивизии было присвоено звание 64-я Красносельская гвардейская стрелковая дивизия. Дальше пошли на Лугу, Кингисепп и на Нарву. Вот у Нарвы немец нас остановил.
Когда наши войска взяли Гатчину, мы пошли вслед за наступающей армией. Я вижу: у дороги лежит куча немецких сигнальных патронов для ракетницы. До этого я ракетницу и в руках-то не держал. Мне интересно было узнать, как же они выстреливают. И из мальчишеского любопытства взял несколько патронов. Там на деревянных столбах проходила линия электропередач. Чтобы столбы не гнили в земле, их приматывали толстой проволокой к двум кускам рельсов, врытых в землю. Мне один и говорит: «Видишь в рельсах отверстия? Сунь туда патрон, стукни по пистону, ракета и полетит». Я, дурак, его послушал. Вставил патрон в отверстие - оно как раз подошло. И стукнул штыком по капсюлю. Гильза как вылетит! Меня даже немного отбросило, такая сила! Но и ракета полетела вперёд и загорелась. В том направлении как раз находились солдаты. Сразу поднялись крики: «Кто стрелял!? Кто стрелял!? А-а вот он!» Привели меня к командиру, тот матери, перематери! (рассказывает, улыбаясь) Ну, детство в жопе играло.
Наступление шло быстро и нам приходилось часто менять позиции, и всё бегом, быстрей, быстрей, чтобы немец не успел окопаться. И вот в очередной раз меняем позицию, а второго человека - взяться за ствол - нет. Я один схватил ствол, а он весит сто килограмм. А там ледок и сверху снежком присыпано, а я бегом с этим со ста килограммами, дурак. И ка-а-ак упал, и ствол - мне на грудь. Я лежу и мне не дыхнуть. Тут возвращаются те, кто несли плиту и двуногу: «Ты что тут, у нас всё готово. Уже под плиту выкопали, землю отбросили, а тебя нет!» А у меня грудь лопнула. Кость выставилась и до сих пор так и осталась. В медсанбат я не пошел, уже прижился на батарее и ребят всех знаю, а из госпиталя куда ещё попадёшь!
Во время наступления на Кингисепп мы проходили примерно в трёх километрах от моей деревни. Я обратился к капитану Савельеву с просьбой сходить в деревню: посмотреть остался ли кто-нибудь из моих. «Давай, бегом и до конца ночи чтобы догнал батарею! И принеси пол-литра!» Прихожу, стучу. Никто не открывает, думаю - неужели никого нет. А они уже все спали. Потом к двери подходит мать и спрашивает: «Кто, кто, кто?». А голос-то у меня изменился. Она помнит мальчишеский, а теперь у меня голос, считай, как у мужика. Я ей говорю, что «это я, сын твой». Она: «Как? Откуда?» А дверь не открывает. Потом мама зажгла лампу и меня впустили, немножко поговорили. Мать рассказала, что в нашем доме всю войну жили немцы, а они были вынуждены жить в землянке. Но благодаря тому, что в доме размещались солдаты, он уцелел, в то время как большинство других домов немцы сожгли. Потом я говорю маме, что мне некогда, надо идти, но капитан просил, чтобы я принёс пол-литра. Мама сперва растерялась, а потом говорит, что сходит к дяде Яше и попросит у него. Пошла и принесла пол-литра. Уже потом я спрашивал у мамы: «откуда у него взялась пол-литра, он же тоже был в оккупации?» Она мне объяснила, что при немцах дядя Яша был у них старостой. Узнав, что пришел я, с оружием, и прошу пол-литра, он сразу дал.
В июне нас послали на Финляндию. Наш 194-й полк 64-й дивизии дошел до линии Маннергейма. С левой стороны было большое озеро. Там наш батальон попал к финнам в окружение. Ребята рассказывали, что в одну из ночей финны вырезали целый взвод спящих солдат. Вскоре нас остановили и два дня мы там стояли. А после говорят: собираемся и уходим обратно.
Нам надо было форсировать Нарву. При артподготовке наводили понтонный мост, и по понтонам - вперёд. Немец делает налёт, понтоны разбиваются. Их опять налаживают, но уже в другом месте, потому что у него уже это место засечено. Все дома в Нарве были взорваны так, что было не пройти. За Нарвой наши взяли много пленных. Вот бежишь, а офицер останавливает - веди пленных! Я говорю, что только что отвёл одних и мне надо срочно возвращаться в часть. А командир: «Приказ, всё. Бери пятнадцать человек и веди в крепость!». Ну, молодой: молодого всегда и туда, и за снарядами, и за этим, и за тем. Помню, среди пленных попадались эстонцы в чёрных мундирах со своими эмблемами на рукавах.
Мы продолжали наступать. Пехота уже ушла далеко вперёд. Нам приказ: два миномёта - пятый и шестой - вперёд. Выбирать новую огневую послали меня и Борьку-разведчика (ему потом осколком оторвало зад). Идём по сжатому полю, на котором стоят скирды. Смотрю: лежат два солдата. У них что-то подложено под голову. Головы забинтованы и у одного ещё перевязана рука. И оба убиты выстрелом в лоб. Это значит, что их убили уже после ранения и перевязки. Идём дальше: три человека убиты, дальше ещё четверо добитых. Дальше смотрим: две санитарки-девчонки убитые и с ними трое или четверо раненых. Борька говорит: «Ага, между первым и вторым эшелонами идёт группа немцев!» Мы быстро вернулись, доложили. По рации связались с первым эшелоном и сообщили о двигающейся за ними группе немцев. Там на их пути поставили пулемёты и всех уложили. В плен не брали. Мы потом проходили это место, и я их видел: лежало человек двадцать, может больше, или меньше - я не рассматривал. Наступление шло быстро и вот в следующий раз мы с Борькой идём вперёд, а кругом минные поля. Спрашиваем встречных раненых, где здесь проходы, а они точно ничего сказать не могут: «А вот идите, мы прошли - и вы как нибудь пройдёте…» Идём дальше и проходим блиндаж, а из него слышится немецкая речь: «Ахтунг, ахтунг…». Рация работает. Мы подошли, приготовились и говорим: «Выходи, а то гранатами забросаем!» Вышел немецкий офицер и радист. Что нам с ними делать? У нас же своё задание. Борька мне говорит: «Ты не знаешь, из ракетницы можно убить или нельзя?» Я спрашиваю: «А что это у тебя в голове?» Он отвечает: «А хочу попробовать. Всё равно их расстреляют». Немцы, по-видимому, догадались. Офицер продолжал стоять, а солдат заплакал, стал показывать нам фотографии жены и детей. Говорил: «Пух-пух нет! Пух-пух нет!». Я говорю, что может надо доложить? А Борька, мол: «Чего с ними возиться!» Тут мимо идёт пополнение в пехоту. Лейтенант спрашивает: «Ребята, где здесь минные поля? Идём на пополнение, а как пройти - не знаем». Мы им говорим, что вот - берите немцев, они вам покажут. Отдали и они пошли. Я слышал, что с пленными иногда расправлялись, но сам таких случаев не наблюдал.
Кажется, тогда у меня появился немецкий пистолет. Не помню марку, но в отличие от большинства пистолетов, у него при перезарядке надо было за такие две пуговки поднимать вверх. До этого я ни разу ни из одного пистолета не стрелял, да и не знал, как это делается. Я отошел от батареи в лес, двумя пальцами подняв, взвёл затвор. И, чтобы лучше прицелиться, поднёс пистолет к лицу и выстрелил. Поднявшимся затвором как даст мне в лоб! Рассекло кожу, я зажал рукой, прихожу на батарею. Все с вопросами: что с тобой? Что с тобой? Я рассказал, что так, мол, и так. Ребята говорят: «Ты только командиру не говори!» Когда потом я познакомился с «ТТ» и другими пистолетами, то подумал, что если бы стрелял из «ТТ», то отошедшим назад затвором пробило бы голову.
Раньше я не знал, что можно спать на ходу. До войны у нас в деревне был такой дядя Яша. Про него бабы говорили: «А ну и что из того, что он рано встаёт! Он на ходу спит. Пока дойдёт до покоса, выспится». Я слушал и не верил. А в армии сам убедился, что можно идти и спать, только надо держаться друг за друга, а если держишься за телегу или передок, то вполне можно спать. И вот как-то мы идём ночью и объявляют привал. Команда: за придорожные канавы не заходить и, когда будем подниматься, чтобы будили друг друга. А я со своим карабином перелез канаву, сел под деревом на корточки и прикрыл глаза. Открываю глаза - никого нет. Мы шли в составе полка, а тут - ни батареи, ни полка. Вышел на дорогу и не знаю, куда идти. Совершенно не запомнил, в какую сторону мы шли. Кругом тишина. Ну всё, думаю, хана: расстреляют, скажут - дезертировал. Смотрю: идут машины, «студера» и они везут снаряды. О, думаю, значит на передовую! Остановил первую машину, объяснил ситуацию. Шофёр говорит: «На снаряды я тебя не посажу, а давай, держись за борт». А у него с боку такие рейки. Я забрался на колесо и встал на рейки. Догнали каких-то солдат, я спрашиваю: «А где 64-я дивизия?» Мне ответили, что она впереди. Иду туда, спрашиваю, какая дивизия? Мне отвечают: «64-я». Я спросил: «где 194-й полк?» Мне объяснили, а там уже нашел свою батарею. Ребята говорят: «Ты что! Старший батареи и командир уже спрашивали, куда ты пропал!» Старший батареи увидел меня и говорит: «Ты где был? Все уже позавтракали и легли спать. Ну ладно, иди в расположение». А солнце уже взошло. Я пришел в расчёт и лёг спать. И как заснул, так и проспал до вечера, когда стали собираться в поход. Во, сколько проспал! Поужинали - и опять пешком. А кормили в основном перловой кашей. И так она надоела, что даже повар кричал: «Не буду вам больше варить, всё равно не едите!»
В другой раз приходим мы на один хутор. Там только русская работница с двумя детьми. Мальчик и девочка лет пяти - шести. Мы спрашиваем: «Где хозяин?» Она отвечает: «А он нагрузил две телеги и ушел с немцами. А меня оставил, приказав охранять хутор. Сказал, что он вернётся». А на дворе полно свиней, кур. Мы спрашиваем: «Так что, у вас поесть нечего?» Она говорит: «Да нет, вот он нам оставил зерна». Показала нам это зерно, ещё что-то. Я думаю: «ну что же это такое, полный двор скотины, а люди сидят впроголодь!» Недолго думая, взял и застрелил свинью. Говорю: «Ешьте». Она в ответ: «Ой, знаете, хозяин придёт…». Мы ей объяснили, что не придёт хозяин - берите и пользуйтесь, вот свинья, ешьте. Скажите, что солдаты были и свинью расстреляли. Когда пошли, мне один парень говорит: «Ты знаешь, что это мародёрство. Ты же смародерничал. Тебя расстреляют». А тогда как раз вышел строгий приказ о борьбе с мародёрством, а я и забыл про это дело. «Ё-моё, - думаю, - как же так!» Я же сам видел, как расстреливали за мародёрство: построили полк или даже дивизию буквой П, вывели троих разведчиков, обвинённых в мародёрстве, и двоих из них расстреляли. Но в моём случае обошлось.
Когда наступление закончилось и мы перешли к обороне, немцы несколько раз пытались ходить в контратаки, но у них ничего не получилось. За брустверами траншей осталось много убитых. Наших ночью постарались вынести, а немцы так и лежали. Через несколько дней на летнем солнышке они стали портиться. Если ветер дул в сторону, то ещё ничего, а когда он дул в нашем направлении, то из-за бруствера шел такой запах: просто нечем было дышать. Сидишь и думаешь: скорей бы в наступление.
Помню, кажется, в Эстонии перед наступлением всё время шел дождь, дождь, дождь. Палатка уже мокрая, в огневой позиции скапливалась вода. Мы выкопали ямку, чтобы вода в неё стекала, из ямки воду вычерпывали и отбрасывали. Ствол миномёта стоит под углом 75-80 градусов, в него тоже попадает дождь. Был у меня заряжающий Гаязов, татарин. И он, чтобы вода не набиралась в ствол, отрезал у убитого полы шинели и одной из них накрыл ствол и сверху ещё надел чехол. Когда сыграли артподготовку, каждому: «цель такая-то, цель такая-то. Перейти на такую-то цель!» У меня был пятый (номер миномёта), а шестой стрелял через меня. Там было болото и ему негде было поставить свой миномёт, вот он через меня и стрелял. Я говорю: «Огонь, огонь!» Гаязов опустил мину, а через некоторое время - вторую. А первая-то не выстрелила. Шестой стрелял через меня, четвёртый рядом. Там такой гул стоял, что не услышать: выстрелил ты или не выстрелил. И вот, понимаешь, две мины. А по рации говорят: «Почему нет пятого? Почему нет пятого?» Понимаешь, с НП кричат. Старший на батарее, Гарькушин, прибегает: «Почему нет?!» Гаязов говорит: «Две мины!» Радист передаёт на НП: «У пятого две мины!» Старший лейтенант Гарькушин был математик, умница, в голове сразу рассчитал. Говорит: «Перевести первый и шестой на пятый!» Гаязов тоже испугался, посмотрел в ствол: там может на 200 или 150 миллиметров торчит мина. Он руку сунул и потихоньку её вытащил. Говорит: «Всё, вытащил». Я говорю: «За шнур!» А у нас есть шнур. Если осечка - дёргаешь несколько раз за шнур, другой раз мина вылетает. Это если заряд отсырел, или что. Другой раз зажжется, вылетит. Иной раз вылетит, как будто плюёт, вот так знаете - как будто полный рот слюней плюёт эта мина. Она вылетает, но не улетает, а падает рядом потому, что бывает сырой порох. Бывало, бывало такое. И вот он за шнур дёрнул. Я думаю: «Ну что ты, ё-моё, понимаешь!» Выскочил и начинаю. Дёргал-дёргал, дёргал-дёргал - ни черта. Давайте разряжать. А разряжать - это значит надо снимать обойму, ствол, казённик развернуть, надо вытащить с плиты.
А получилось вот что: когда началась артподготовка, Гаязов снял чехол, а лежавший под ним кусок шинели сложился и упал в ствол. Вот миномёт и не стрелял потому, что между капсюлем и бойком попала тряпка. Когда артподготовка закончилась, приходит «Смерш»: им кто-то уже сообщил. Вызывают Гаязова. Гаязов от них приходит и говорит: «Всё, я ухожу. Наверное, пошлют в разведку боем». Потом вызывают меня: как, откуда вы, где, что? Я рассказал, что мне скрывать-то? Меня оставили при батарее, но не наводчиком, а связистом: тогда одного из двоих полагавшихся связистов убило, и остался один связист. И меня - к нему. Через какое-то время, когда всё успокоилось, Гарькушин говорит: «Скажи спасибо Лёша, что я тебя оставил, а то должна была проводиться разведка боем. Набирали - и вот Гаязов туда попал. А ты, когда обстрел идёт, должен был за вертлюг держаться». А вертлюг - это где ставится прицел. Знаешь - где ствол поворачивается то влево, то вправо, то вверх, то вниз - это вертлюг называется. Когда идёт выстрел, ствол наклоняется до самого низа и назад становится, амортизирует. Ты должен руками чувствовать эту амортизацию. А я не держал. Гаязов больше на батарею не вернулся и дальнейшая его судьба мне не известна.
Попав в связисты, я всё проклял. Как налёт - связь не работает. Как налёт - связь не работает. Ночь - не ночь, обстрел - не обстрел, а беги, налаживай связь. Ночью берёшь катушку с запасным кабелем, в руку берёшь провод и бежишь. Провод проложен по кустам, по лесу. А кто его знает, где взорвался снаряд, ночью-то не видно. Провод в руке скользит и выскакивает. Останавливаешься и думаешь: ага, пробежал примерно пять шагов. Поворачиваешься на 180 градусов, отсчитываешь шаги, встаёшь на коленки и ищешь свой провод. А там бывает четыре, бывает пять проводов. Батальонная, ротная, полковая связь идёт. Батарейные связи идут и все на НП, у всех свои позывные. Вот нащупаешь провод, берешь конец, соединяешь и даешь позывной. Там откликаются, есть связь - значит наладил. А бывает, подсоединишь - а позывной не твой, отсоединяешься и отбрасываешь этот конец, пусть сами налаживают. Ползаешь, ищешь свой провод. Наладишь, придёшь на НП весь мокрый, грязный - а тут снова связи нет, беги обратно ищи обрыв. А тут - снова обстрел! Смотрю: упала одна мина, вторая, спрятаться некуда - мины только траву режут, а воронок не оставляют. Вижу: старый немецкий блиндаж. Катушку и аппарат оставил, а сам нырнул в него. Тут мины как посыпались! Ну, думаю, всё! Когда кругом утихло, полез к выходу, а мне не вылезти: брёвна осели и в оставшуюся щель не пролезть. Пришлось ковырять руками землю, а она там крепкая. В детстве мне говорили, что если голова прошла, то и сам пролезешь. А тут - голову просунул, а самому никак, пришлось прорывать дальше. Вот бывали и такие моменты.
Помню, осенней ночью нас привели на берег моря. Предстояла высадка на остров Муху. В полной темноте светили только прожектора. Прожектор - как даст луч по морю, так всё видно! Даже если палка какая нибудь плавает, то и палку видно. Раньше я видел, как они работали во время ночных налётов: ловят немецкие бомбардировщики, но когда немец сбросит бомбы, то все прожектора сразу гаснут. Бомбы взрываются и прожектора снова вспыхивают. Я думал, нас погрузят на корабли, а нам командуют: «Грузитесь на шхуны». Я и не знаю, какие бывают шхуны, я же не моряк. Подогнали шхуны, а это две железные баржи - не баржи, соединённые болтами. Когда била волна они: «ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду» - стучатся друг о друга. Нам сказали: когда будет волна - держитесь за поручень, всё же девять километров по воде идти. Рядом с нами на какой-то корабль грузилась пехота. Я слышу: команды морякам на корабле подаются на финском языке. У нас в Кингисеппском районе было много финских деревень, мы в клубе встречались с финскими и эстонскими ребятами и поэтому я немного понимал по-фински. Тогда я был очень удивлён, что финские корабли перевозят наши войска - ведь совсем недавно мы воевали с Финляндией. Подошел катер, моряки завели с него трос на шхуны и катер нас потащил. Уже начиналось утро. Где-то за морем всходило солнце, в небе виднелись подсвеченные облака. Знаете, как бывает на море: в небе светло, а внизу ещё темно. Пошла большая волна. Мы все мокрые лежим и держимся за поручни. Помню, у меня была одна мысль: хоть бы умереть на земле, а не в море. Солнце поднялось ещё выше и тут прилетели «мессера». Стали сбрасывать мелкие бомбы. Я смотрю: ё-моё, уже солдаты плавают! А берега ещё не видно. Наши истребители прилетели, а немцы уже ушли. Солнце ещё поднялось и я вижу: далеко-далеко виднеется берег. Думаю: слава богу, хоть бы высадиться на берег. А с берега тоже стреляют по нашим. Тут слышу нарастающий гул. Такой гул, думаю: сейчас нас будут бомбить. А такой гул, что боже мой! Я лёг лицом кверху и кричу товарищу: «Васька ложись, держись за поручни, сейчас нас бомбить будут!» Он отвечает: «Да что там, мы сейчас подойдем к берегу!» Я говорю, что до берега ещё ого-го, ты ещё утонешь! Держась за поручень, я посмотрел на берег. Вижу, а это наши Ил-ы. Пикируют на берег, пускают «эрэсы» (РС – реактивный снаряд) и сбрасывают бомбы. Пустив ракеты, штурмовик с рёвом поднимается вверх, за ним пикирует следующий, а первый, набрав высоту, разворачивается и снова заходит в атаку. И так - друг за другом. Отработав, одни улетают, прилетают другие. Как только шхуны уткнулись в отмель, нам приказ: «Прыгать!» Я посмотрел, какой «прыгать» - там ещё глубина! Но что же делать – надо! Прыгнул - и с головой! Оттолкнулся от дна, подпрыгнул, ещё. Встал на дно и пошел к берегу. Немцы уже отошли, оставив свои окопы.
Муху - небольшой остров, но он соединяется дамбой с крупным островом Эзель, длина которого - 60 или 80 километров. Дамба длиной несколько сот метров была построена ещё Петром Первым. Уходя с Муху, немцы дамбу взорвали.
Эзель в одном месте сужается, и вот в этом узком месте немец нас остановил. На острове мы захватили немецкого тяжеловоза. Здоровый такой битюг, умный. Его вся батарея любила. Командир батареи капитан Савельев мне приказывает: «Бери ездового, запрягайте лошадей и давайте быстро за минами». В немецкую повозку запрягли этого битюга и маленькую лошадку. Поехали в тыл. Дорога шла между минных полей. По краю дороги с обеих сторон стояли флажки, флажки, флажки. Дорога такая плохая: вода, грязь. У немцев там были проложены такие как бы рельсы из брёвен, по которым у них, наверно, ходили машины. Одно бревно - по левому краю дороги, другое - по правому, наверно чтобы машины не съезжали. Едем мы по этой дороге, а день такой хороший! С обеих сторон от нас поле. Слева видно море и справа - море. Смотрю: подошел большо-ой корабль (я забыл его название, но после войны он достался нам и стоял на Неве). Вместе с ним подошли маленькие корабли охранения. Мы продолжаем спокойно ехать. Думаем: что он, по повозке стрелять будет, что ли! И вдруг такой гром, снаряд ка-ак взорвался! Впереди стояла сосна, так её свалило и такая огромная воронка. Лошади испугались, опрокинули телегу. И вырвав передок, понеслись по минному полю. Я остался в упавшей телеге, а ездовой с намотанными на руку вожжами унёсся на передке. Всё же ему удалось повернуть лошадей и вернуться. Мы подняли телегу, закрепили шкворень и приехали на базу. Я кричу солдатам: «Давай быстро грузи мины!» Подходит лейтенант и говорит: «Чего грузить-то? На чём ты повезёшь?» Я говорю: «Как на чём? Вот лошади стоят. Грузите быстрей!» Лейтенант снова: «Ты посмотри, на чём повезешь-то». Я говорю: «А чё смотреть-то, оно запряжено». А после я подошел, посмотрел - у этого битюга с груди капает на землю кровавая пена. Смотрю: худенькая лошадка ногу подняла, а у неё стопы нет! Стою и думаю: как же так! Значит, она от минного поля по грязи бежала без ноги. Вот всю жизнь у меня в голове не укладывается, как она это смогла. Командир говорит своим солдатам: «Отведите её в овраг и застрелите. А этого - давай к ветеринарам».
Помню, мне и сержанту Мардвинову приказали наладить связь к НП. Впридачу дали два больших термоса с едой. И вот у каждого термос, катушка с боку и аппарат. Прихожу на НП: там майор, командир артиллерии нашего полка. Он командовал нашими четырьмя батареями и приданными «сучками»: у нас были четыре самоходки «СУ-76», мы их называли сучками. Я сунулся туда: ё-моё, оказывается, мы спирт принесли! Они жрали там с капитаном. Чего там. После войны, на одной встрече я подошел к нему и говорю: «Ну, ё. твою мать, ну вы и жрали водку тогда!». А он отвечает: «Не говори, водки было залейся». Я в то время и в рот не брал. Поначалу ребята подходили, спрашивали: «Ну ты не будешь пить, давай мне!» А ребята там уже были, по моим понятиям, старики. Ещё не пил Коля Феоктистов, он недавно умер. И вот ребята подходили: давай, давай! А потом стали поступать проще: если не пьёшь - давай в сторону! А сколько есть водки - делить на всех, кто пьёт. А другой раз и не принесут по сто грамм, а мне и не надо. Уже в конце войны тем, кто не пьёт, взамен давали папиросы. Я тогда и не курил, но думаю: «нет, Беломор я буду брать!». Возьмёшь, а к тебе: дай закурить, дай закурить! Ну ладно, на. Махорку давали, лёгкий табак давали.
Другой раз мы хорошо пробежали: там сделали, тут сделали, позывной дали, а тут - давай на НП. Требуют буссоль - у них буссоль разбило. Уже стемнело. Бежим мы и вдруг немец повесил две осветительные ракеты, потом ещё одну дальше. Они ме-едленно летят, а видно как днём. Я слышу: батарея немецкая стреляет. А когда долго находишься на фронте, то знаешь, какая батарея стреляет и чувствуешь, куда полетит мина. Если мина летит так: шик-шик-шик – значит, она пролетает мимо. Если она рядом с тобой падает, ты её не слышишь. А там он стрелял только 81-мм минами. Я кричу: «Ложись!» А рядом нет даже воронки, чтобы укрыться - кругом только вода: на Эзеле рядом море, поэтому вода. Я кричу: «Ложись, ложись в воду!» Я лёг в воду, а ноги наверху, думаю: ноги - хрен с ним, осколок попадёт - и пусть. А он кричит: «Не могу я лечь, мокрый!» И я чувствую, что он вскочил, встал. И мина, ка-ак рванёт! Мне ни дыхнуть, ничего не могу, понимаешь. Ну вот ни дыхнуть никак! Потом ракеты сгорели, обстрел пошел уже дальше по тылу. Чувствую: в ногу мне попал осколок, но я всё же встал, смотрю - этот мёртвый. Ну, осколками прорезан весь. Я взял буссоли, две этих. Прихожу на НП, говорю: «Мардвинова убило, а я ранен в ногу». Капитан отвечает: «Бери двух разведчиков, волокушу и вези Мардвинова на батарею». А волокуши, они и по снегу, и по земле, и по воде. Запрягаешься и тянешь. Пришел писарь, зарегистрировал. Там прямо на батарее его и похоронили.
У нас на батарее числилась санинструктор, но мы её не видели. Она жила с командиром, а сумку с крестом носила для виду. А у меня кровь течёт из-под обмотки. Мне говорят, что мол, иди в медсанбат. Пройдёшь минные поля и там в овраге увидишь. В медсанбате мне осколок вытащили, ногу замотали. Сказали, что кость не задета, рана небольшая, несколько дней побудешь в медсанбате. Вдруг приходит офицер и говорит: «Кто может передвигаться и держать оружие, прошу вернуться в подразделения, идите в подразделения, быстро». Кто могли - пошли. Я тоже вернулся на батарею.
Там что было: пехота бежит, раненые кричат, всю боевую заняли: «Товарищ, спаси! Товарищ, спаси!» Да где спасать: нам нельзя бросать свои миномёты. Нас расстреляют, если мы их бросим, понимаешь? Гарькушин нам приказывает окопаться впереди огневой. Телефонной связи с НП уже не было. Радист даёт позывные, даёт, даёт - НП не отвечает. Немец уже прошел оставленные пехотой окопы и уже идёт к нам. Остаётся двести или даже 150 метров. Нам команда: «Занять оборону!» А я смотрю: ё-моё: говорят немец оттуда пойдёт, а выстрелы сзади! А, оказывается, он стрелял разрывными - они ударялись о кусты и взрывались сзади. А немец идёт. У них рукава засучены, идут прямо и от живота бьют из автоматов. Ну, наверно, пьяные. Их было может рота или, по крайней мере, взвод. Там вся местность заросла кустарником и было не видно. Незадолго до этого я вместо своего карабина взял у убитого пехотинца «ППС». Осколком у него был повреждён откидной приклад, а в остальном автомат был совершенно исправен. Я лежу в окопчике и смотрю. Слева от нас стояли короткоствольные 76-мм пушки. Расчёты ближайших двух орудий сняли с пушек замки и убежали, а два других, которые стояли подальше, ещё левее, открыли огонь картечью во фланг атакующим. Немцы, шедшие прямо на нас, взяли правее и пошли на стоявшую там батарею сорокапяток. Как потом говорили, там все артиллеристы во главе с командирами погибли. С этими артиллеристами мы встречались на походе и с некоторыми были знакомы. Помню, у нас ребята как повстречают эти сорокапятки, сразу кричали: «О, смерть врагу - п…ц расчёту!» Тут из тыла послышались крики «ура!» - это сборная рота пошла в контратаку, и немцы отступили.
Моя рана хоть и не болела, но постоянно гноилась и нога распухла. Мне говорят: иди в медсанбат, у тебя может начаться заражение крови. Я пришел и оказалось, что в тот раз осколок они вытащили, а в ране остался кусочек обмотки, не дававший ей зажить.
Ох, столько было раненых. Сколько я их видел. «Товарищ, помоги, помоги!» Где «помоги», когда у тебя своё задание. Правда, я вытащил одного танкиста. Шло наступление и мы меняли огневую позицию. Мы шли вдвоём с сержантом Шапошниковым. Я смотрю: подбитый танк, недалеко лежит и стонет танкист. Помню, он был грузин. Я подошел, говорю: «В чём дело, что с тобой?» А он обгорелый и стонет. А Шапошников кричит: «Хули ты пошел туда, чего ты пошел?! Нахера тебе это нужно?!» Я говорю: «Ну, вот человеку-то надо помочь!» Шапошников и говорит: «Ну и неси его!» - такой он мудак был. Ну, мне пришлось идти. Тут вижу - солдаты. Я к ним, говорю: «Ребята, помогите. Мне надо к огневой позиции поддерживать пехоту!». Они говорят: «Ну, оставь. Придёт санитар и мы его передадим».
В другой раз проводилась разведка боем. После неё уже прошло три дня. Мы с Шапошниковым шли на НП и заблудились. Уже думали, что зашли к немцам. Продвигаемся осторожно, ползком. Смотрю: мальчишка, парень тоже в шинели. Так я слышу: «о-ой, о-ой, о-ой!» Мы лежим с ним и не знаем, куда идти: там стреляют, там стреляют, ничего не поймёшь. А Шапошников снова на меня: «Вот зашли, да ты ещё его забрал!» А я говорю: «Вон слышен какой-то стук по металлу». Он отвечает: «Ну иди, смотри! Я тут побуду». Я отполз метров пятьдесят, перевернулся под куст, лежу и смотрю. Вижу: стоит замаскированный ветками танк, рядом, за камнем, чуть-чуть тлеет костёр. Из-под танка вылезает танкист. Я думаю: неужели немцы? Танкист прикурил от костерка и говорит: «Тьфу, ё. твою мать!» - и снова полез под танк. Я вернулся к Шапошникову и говорю: «Там наши, наш подбитый танк». Он говорит: «А, наши! Бери его, пошли». Я взял раненого, а он держаться на спине даже не может. Я, наклонившись еле-еле, иду. Пришли, я говорю: «Ребята, возьмите раненого». Они говорят: «Да что вы оставляете, куда нам? Мы сами тут два дня стоим. Подбили, надо гусеницу менять». Я объяснил, что мы заблудились и нам давно надо быть на НП. Ну и оставили раненого у них.
На Эзеле были захвачены огромные склады с боеприпасами и продовольствием. Помню, встречаю ребят, они говорят: «Ты что, ещё тут? Немец уже ушел». Я говорю, что вон ещё стрельба. А они: «Да это немцы оставили заслон, он наших придерживает. Но к складам пробраться можно. Мы вот уже себе набрали. Иди, бери!». Мы втроём туда побежали. Прибежали, смотрим: ё-моё, чего только нет! И шоколад, конфеты, сыр, залитый в восемсотграммовые банки, тушенка, сгущенное молоко в бочках… Некоторые бочки открыты и опрокинуты. Не знаю, кто это делал - наши или немцы, но помню, что мне было жалко, что столько сгущёнки пропало. Ребята стали набирать продукты, а мне класть некуда, у меня кроме карабина и аппарата ничего нет. Ребята говорят: «Ну что ты, не соображаешь? Вон у убитого возьми вещмешок и затаришься». Я пошел, взял у убитого солдата вещмешок, высыпаю, а там - одни патроны, одни патроны и больше ничего. А у немца ранец возьмёшь - там чего только нет: и сигареты, и НЗ, и то, и другое.
По поводу захвата этих островов хорошо помню своё недоумение, когда нам сказали, что город, расположенный, кажется, на Эзеле называется Кингисепп (вероятно Курессааре). Я всё думал: как же так, я жил в Кингисеппе и тут - снова Кингисепп.
Я видел очень много наших подбитых танков. Кажется, когда шли по Латвии, встречалось очень много сгоревших американских танков. Кто-то мне сказал, что это «Черчили». Ребята говорили, что это танки Баграмяна. Если наши сгоревшие «Т-34» попадались по одному, то «Черчилей» стояло помногу. У нас был солдат по фамилии Циолковский, он был часовым мастером. Он мне предложил залезть в подбитый танк и снять часы. Сказал, что в американские лезть не стоит, а вот в наших часы хорошие. Я подошел к одному, но вижу, что из приоткрытого люка свесился убитый танкист. Да и в танке ещё что-то тлело, и я не полез.
Помню, стояли в Курляндии. Был мороз, а снега не было, мёрзлую землю приходилось долбить ломами. И тут – танки! Моторы ревут, да ещё из орудий как дали! Нам команда: «Не высовываться!» А оказалось, что это они нам на психику давили. Как потом выяснилось, у немцев не было горючего, и они закопали свои танки в ряд. А тут они только запустили двигатели и открыли стрельбу, имитируя танковую атаку. А мы-то откуда знали, что это только демонстрация. Нам командуют открыть огонь по танкам, а как откроешь, если НП ещё не развёрнут, буссоль не установлена и данных для стрельбы нет. Я сижу возле миномёта, а кругом рвутся снаряды. Тут меня как даст по спине глыбой мёрзлой земли! У меня сразу из носа пошла кровь. Наша Маша, капитанова жена, на батарее не появлялась. Идти куда-то, кого-то искать сил не было. Да и уходить с батареи не хотелось - уже вместе столько пройдено. Командир говорит: «Да полежи здесь. Может быть отойдёт». Так я два дня пролежал в ровике рядом с позицией.
Один раз я стоял на посту у миномёта. Помню, было очень морозно. Вижу: по дорожке лошадь везёт повозку. У телеги высокие борта и она доверху нагружена мертвецами. Это с передовой везли хоронить убитых. Едет эта телега, гремит по кочкам, а я смотрю. Вдруг ка-ак рванёт! Я аж присел. В ветвях дерева взорвалась прилетевшая мина. Смотрю: ездового нет, а лошадь стоит и дышит. И у неё со спины при каждом выдохе вырывается струя пара, как у паровоза: фхы, фхы, фхы! Так пар идёт. Тут прибежали люди, смотрят: лошади осколком пробило рёбра и лёгкие. Командир говорит: «Пристрелите лошадь!» Её пристрелили. Так и оставался труп лошади и телега с убитыми, пока мы не пошли в наступление. Вот такая картина у меня запечатлелась.
Нам надо было перейти речку и там затащить миномёты на крутую гору. Только мы затащили туда два ствола, вдруг - в нашем тылу ракеты: сигнальные и осветительные! Поднялась такая стрельба, трассы! Кто-то кричит: «Немец сбросил десант!» Потом кричат: «О! Победа!» Нам сказали, что всё, Германия капитулировала, группировка тоже должна сдаться. Давайте, спускайте стволы. Но ещё несколько дней немец не сдавался, а потом выставил белые флаги, простыни. Нам приказали сниматься и выходить к дороге. На дорогу не выходить, а остановиться в лесу рядом с ней. Тут летят наши Илы. По ним открывает огонь зенитная артиллерия, а пехота уже вывесила белые флаги. Одни штурмовики уходят, приходят другие, бомбят. Но потом всё прекратилось. Наши летают, а выстрелов больше нет. Тут со стороны немцев едут машины, в них сидят наши разведчики и из кузова бросают стоящим у обочины пехотинцам коробки с немецкими сухими пайками. Все радостные, кричат. В это время подъезжает «катюша» и прямо с дороги, как даст залп по немецким позициям! В ответ немцы дали залп по дороге, на которой было много наших пехотинцев. Я успел прыгнуть в соседний окоп, а среди солдат было много убитых и раненых.
Нам приказ: идти навстречу сдающимся немецким колоннам. Проходим мы по мосту через какую-то речку, а там ползают немцы. Я спрашиваю у солдат: что они там делают? Оказывается, был приказ, что каждый немец должен сдаваться со своим личным оружием, а безоружных в плен не брать. Вот немцы и искали в реке своё оружие, которое то ли сами туда побросали, то ли наши, не зная о приказе, отобрали и бросили. Вот подходим к какой-то станции, усталые, грязные. Всю ночь шел дождь и под ногами сплошная грязь. Надо было переезжать через железную дорогу. И вот мы в этой грязи в своих обмотках, мокрых, заляпанных шинелях, помогаем лошадям перетаскивать наши немецкие повозки с миномётами через рельсы. Навстречу нам к этому же переезду подъезжает блестящая машина с открытым верхом, в которой сидят немецкие офицеры. За ней машина с платформой, на которой установлен крупнокалиберный зенитный спаренный пулемёт и третья - с немецкими солдатами. Из первой машины выскакивает немецкий офицер и в своих начищенных сапогах по грязи подбегает к нашему командиру и говорит: «Разрешите проехать главнокомандующему!» А капитан как пошлёт его матом! Переводчик отдал честь, повернулся и доложил командующему. Тот ему что-то сказал, переводчик сел в машину и они стали ждать, пока мы проедем. Я понимаю нашего командира - он в начале войны был ранен в живот. Старая рана болит, он стоит, за живот держится, да ещё не проехать. Люди уставшие, мокрые. Так, что я его вполне понимаю. Уже после, вспоминая, какие и как мы шли, думаю: ни хера себе вояки, а немцев завоевали! (говорит, улыбаясь).
Нашего капитана назначили комендантом городка Айзпуте. Он был крутого нрава, думаю, при случае мог и расстрелять. Во всяком случае я видел, как он, достав пистолет, говорил: «Я вас… Война ещё не кончилась». Мы за чем-то пришли в комендатуру, тут же к зданию комендатуры привели человек тридцать или сорок немецких пленных. Приходит капитан и говорит: «Ну, давайте. Надо власовцев смотреть». Ему говорят, что немцев привели, а он в ответ: мол, какие немцы, здесь власовцы! А какие «власовцы» - они немцы, все говорят по-немецки. А капитан, наверно, был поддавши, не знаю. Вышел, пистолет вытащил и спрашивает: «Кто власовцы!? Ты власовец!? Ты власовец!?» Они молчат, ничего не говорят. Но капитан не стрелял. Может неудобно было - там солдаты, народ.
Вскоре после войны демобилизовали всех стариков, в том числе - специалистов из артмастерских. Стали срочно искать по полкам, кто хоть немного знает эти вещи. А я любил копаться во всяких механизмах, часах. Вот помню «махались»: «Давай махнёмся. У тебя часы не ходят, а у меня ходят!» В своих руках даёшь ему послушать и при этом незаметно пощёлкиваешь ногтём по корпусу: тик, тик, тик… Спрашиваешь: «Слышишь, ходят?» Он говорит, что ходят. Махаемся. Он берёт, слушает и, конечно, они не ходят. Я говорю: «Как, не ходят? Ходили! Ты слышал, ходили? Ходили. А теперь не знаю, ты наверно тряхнул, вот они и не ходят!» (рассказывает, улыбаясь)
Мы тогда стояли уже под Выборгом. Меня хотели сделать начальником артмастерской и послали на учёбу в Таллинн. Там был ДААРм (дивизионные армейские артмастерские). На этих курсах проучился два месяца. Туда присылали по одному человеку от полка, среди курсантов были представлены почти все рода войск: моряки, десантники и мы. В первый же день нас предупредили, что когда будем ходить в увольнения, то по одному не ходить, а по двое или трое. Потому что бывают нападения и были случаи, когда в парках находили повешенных солдат. После учёбы вернулся в часть, дали мне солдат, которых надо было обучить разбираться в автоматах, орудиях, миномётах. Почему не работает, почему не стреляет, как исправить. Я уже был старшиной и мне собирались присвоить офицерское звание. Говорили, что старых кадров осталось мало, а приходящие из училищ молодые офицеры в щит попасть не могут. Но я хотел демобилизоваться и просил не присваивать мне звание. И в 1951 году ушел из армии.
К Сталину у меня отношение двойственное. С одной стороны я помню, как до войны к нам в деревню по ночам приезжали «воронки» и увозили то одного, то другого, а за что - неизвестно. Помню, жена одного жаловалась, что арестовывать его было не за что - он пахал землю, растил хлеб и, наверно, его должны скоро выпустить. Но началась война и никто из арестованных так и не вернулся. Помню, что если ты, например, собираешься забить поросенка, то должен вызвать забойщика и отдать шкуру государству. Тоже и с овцами. Если держишь кур - то сколько-то яиц отдай государству. От коровы должен сколько-то литров молока вынести государству. Но с другой стороны на фронте я слышал, как пехоту поднимали с возгласом: «За Родину, за Сталина!» Но и один раз кто-то рассказал про Сталина анекдот. Не буду пересказывать - неудобно. И опять же когда в песне «марш артиллеристов» заменили слова «Артиллеристы, Сталин дал приказ…» на «Артиллеристы, точный дан приказ…», у меня в душе поднялось возмущение: как это - такая песня и выбросили имя Сталина! Так что сам посуди, кто виноват, он или Берия или ещё до Берии? - не знаю.
За войну я награждён тремя медалями: «За Оборону Ленинграда», «За Отвагу» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.». Я был представлен ещё к одной медали «За Отвагу, но по глупости отказался. Было вот как: через несколько недель после вручения первой медали меня снова вызывают в штаб для вручения награды. Я пришел, встал в строй с другими награждаемыми. Вышли офицеры и командир по фамилии Буран стал вручать награды. Когда вызвали, меня я Бурану говорю: «Так мне уже вручили медаль «За Отвагу». Вот она у меня». Он говорит: «Ну тебя же выкликивают? Иди!». Я снова говорю, что уже получил. А он: «Ну на хер, стой тогда». И прошел дальше.
Вот вспомнил, что ещё хотел рассказать. У нас ведь в полку был воспитанник, как сейчас говорят - «сын полка», Сашка Шарапов. Мальчишка лет восьми или десяти. Ему сшили форму, а потом тоже наградили медалью «За Отвагу». Он часто бегал на передовую мимо наших огневых. Помню, придёт, посмеемся. Война кончилась и он тоже «демобилизовался».
Каждый год в день освобождения Красного Села ветераны нашей 64-й Красносельской дивизии приезжают в Красное Село. Раньше нас встречала администрация города, но уже лет пять, как администрации не до этого и встречает только школа. Приведут и разбирают по классам, а нас осталось всего четверо ветеранов. Вот придешь в седьмой или восьмой класс, начинаешь рассказывать, как воевали, как жили, какие песни пели. Спою им одну, другую. (Напевает хорошим голосом.) Уже и звонок с урока прозвенит, а ребята всё не отпускают. Но надо идти в другой класс.
Ну, ладно хватит наверно уже.
Санкт-Петербург 2010г.
| Интервью и лит.обработка: | А. Чупров. Правка С. Олейник. |