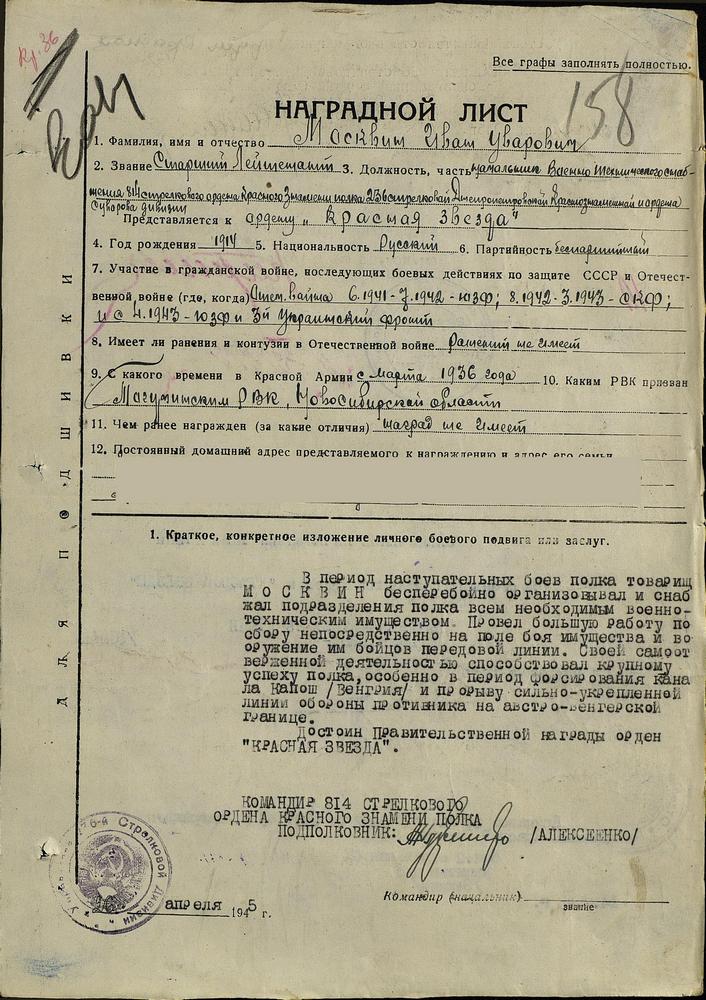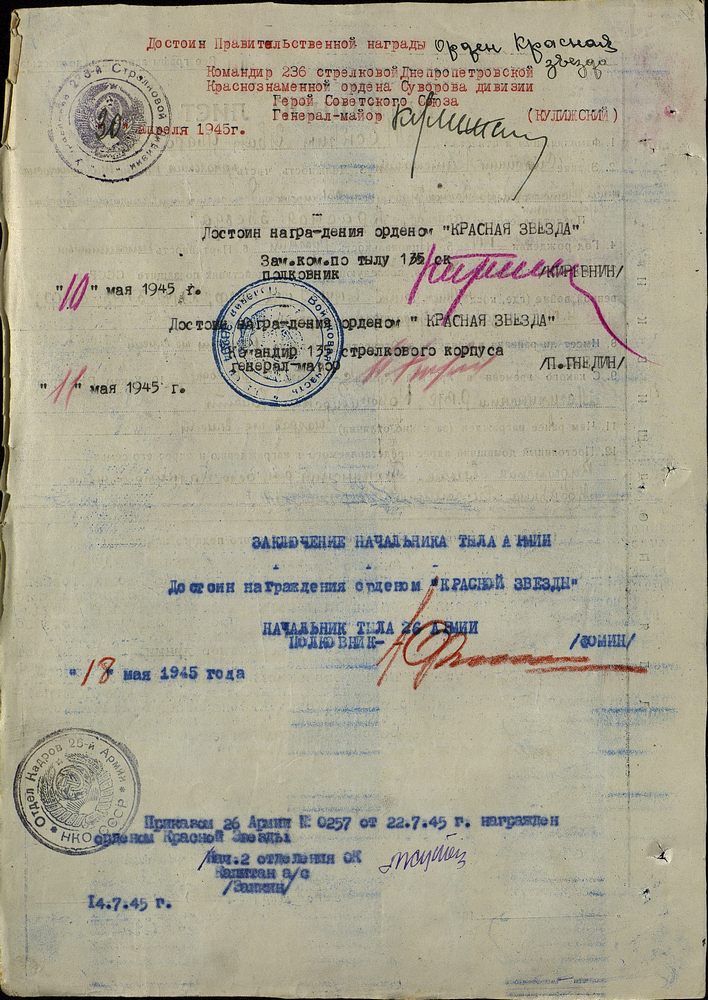Отца моего, Ивана Уваровича Москвина, уже 18 лет нет на этом свете, а дневники его я открыла для себя только полгода назад. Не потому, что невнимательна была к родному человеку, нет. Для меня отец был самым близким духовно, образцом для подражания. Я не встречала другой личности с такой силой воли, какая была у моего отца.
Просто жили мы далеко друг от друга, встречались не часто. После его ухода папины дневники хранила мама, особенно не афишируя: ну, есть и есть. Теперь моей мамы тоже нет, а дневники остались - о деревенском детстве; о солдатах-колчаковцах; о стремлении к учебе; о первой любви, продлившейся больше пятидесяти лет (той первой любовью и была моя мама); о войне, в которой он участвовал с самого начала и до самого конца; о многом другом.
И о людях - хороших людях, о которых отец просто не мог не написать.
Ольга Лукичева, младшая дочь
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
Предисловие
Моя жизнь всегда была в поиске. Я жаждал знаний, смело брался за все, что считал для себя и знаний своих полезным и нужным.
Времена моего детства и юности были тяжелыми, безрадостными.
Я рано потерял мою маму. Когда она умерла, мне было всего около восьми лет. При отце нас оставалось шесть человек - брат Игнат тринадцати лет, сестра Тоня десяти лет, я, трехлетний брат Павел и двое двойников, только что родившихся, проживших при матери одну неделю, и даже не получивших имен.
Мама умерла где-то среди лета. Я это помню потому, что бегал с мальчишками босой по зеленому ковру конотопки. Четко помню, как делали гроб, как она лежала на лавке в горнице около окна - вся в белом и сама белая с закрытыми глазами.
На второе лето отец нанялся пасти общественное стадо овец, сделав нас с братом Игнатом пастухами. Целое лето мы пасли овец. Так было и в следующие годы, правда, Игнат на второе лето ушел в батраки к богатым крестьянам, а вместо него мне дали в помощники мачехина сына Ваську. Но он был ленив и мы часто с ним дрались.
С наступлением осени мы продолжали пасти овец, и в школу начинали ходить с опозданием на месяц или полтора. Изо всех сил старался я догнать своих одноклассников, и не только догонял, но и перегонял. Весной, как правило, оканчивать учебный год мне не приходилось, надо было снова заниматься пастушеством.
Когда мне исполнилось 14 лет, отец сказал:
- Ну. Ванюшка, ты уже взрослый. Пора кончать пасти овец. Иди завтра к Кукарцеву Василию Петровичу, работай у него. Я с ним обо всем договорился.
Это было осенью 1928 г.
- А как с учебой, тятя? - спросил я
- Ты уже достаточно грамотный, да и школы у нас такой нет, чтобы продолжать учебу, - ответил он.
И правда, в нашей деревне Вассино обучали только в начальной школе до четырех классов. Чтобы продолжать учебу, надо было ехать в Тогучин, что в то время было невозможно.
В батраках я проработал зиму, а весной 1929 г. начала создаваться коммуна им. Буденного, с поселением в 8 км от Вассино (правый Курундус). Мы с братом Игнатом вступили в эту коммуну и выехали на место поселения. Отец сильно ругал нас, хотя сам жил, можно сказать, в нищете. Мы ведь давали ему какой-то доход, а теперь доход от него ускользал.
Пробыв в коммуне до декабря 1930 года, я по объявлению поехал, вернее, пошел в г. Томск на курсы киномехаников - без денег, в ветхой одежонке. Но до Томска добрался, нашел курсы, с трудом, с помощью однокурсников окончил их, получил удостоверение, и осенью 1931 г. прибыл в Тогучин работать киномехаником. В силу некоторых причин эту работу пришлось бросить и вернуться в коммуну им. Буденного. Мне тогда уже исполнилось 17 лет. По тем временам я уже считался совершенно взрослым и обязан был работать наравне со всем.
Вот об этом и последующем я и хочу поведать своим внукам и правнукам в этой своей повести о детстве и юности.
КОЛЧАКОВЦЫ
Железная печь топилась жарко, отдавая горячее дыхание и запах печеной картошки. Около печи толпились мы - я, Тоня, Игнат, наши двоюродные братишки и сестренки, жившие по соседству. Игнат и другая Тоня - двоюродная сестра - резали картошку ломтиками и раскладывали на печи - с боков и сверху. Как зарумянится ломтик, мы его снимали и ели. Какое это было удовольствие! Какой вкус! Я до сих пор ощущаю его, и с удовольствием покушал бы ту картошку теперь.
Тоня-большая (двоюродная сестра) и Тоня-маленькая (это моя родная сестра) не столько ели сами, сколько кормили этой картошкой маленьких Павлика и Паню. Взрослые не вмешивались в наше занятие, руководствуясь принципом "чем бы дети ни занимались, лишь бы были сыты". Так ежедневно мы съедали по ведру картофеля на семерых.
Однажды, наевшись, мы занимались кто чем. Я сидел у окна и делал из лучинок крестики (так мне тогда казалось, а на самом деле эти крестики выходили у меня подобными конвертам, ныне применяемым в строительном деле).
Все были увлечены своим и не обратили внимания, как по улице возле нашего дома галопом проскакали несколько вооруженных всадников. Вдруг окно, где я сидел, потемнело. Я бросил взгляд в темноту и увидел: у самой стены остановился солдат, и что-то чертил на ней. Он был в серой шинели, перепоясанной ремнями, такой же серой папахе, с оружием на спине. Его рыжая лошадь уперлась мордой в окно, как бы намереваясь тут и войти в дом.
Мне показалось, что меня хотят схватить. Испугавшись, я с криком бросился под кровать, на которой сидели, прижавшись друг к другу, Тоня с Павликом. Забрался на полку, где мать хранила белье, и затих.
Что там происходило, я не видел, только слышал, как в комнату быстро вошла мама, крикнула на ребят, чтобы сейчас же шли домой, что-то взяла и выбежала во двор. Отца мы не видели уже несколько дней. Мама нам говорила, что он уехал в Новосибирск, на базар, и задержится там долго.
Игнат сел к окну и восклицал:
- Во! Смотри, Тоня! Какую корягу везут лошадями! А солдат-то сколько!
Я прислушивался к восхищениям моего старшего брата. Брало любопытство, а вылезть из своего временного укрытия не решался. Слышу - зашла мама, позвала Игната и о чем-то пошепталась с ним. Игнат оделся и ушел.
Посидев еще немножечко в своем укрытии, я потихоньку вылез и стал пробираться к окну. Сначала смотрел в окно издали, затем подошел ближе и, стоя за простенком, стал наблюдать за движением солдат по дороге. Наконец, осмелев, я сел на подоконник и стал смотреть уже открыто. Ко мне подошла Тоня с Павликом на руках. Солдаты двигались без всякого строя. Картина периодически сменялась подводами или упряжками лошадей, которые волокли эти коряги (пушки).
От группы идущих отделились три солдата и направились к воротам нашего двора. Мы с Тоней быстро отскочили от окна и сели на кровать, забившись в угол. Скрипнули ворота. Зло, с приступом залаял наш пес Верный, привязанный на цепи и бегавший от амбара к дому по проволоке. Некоторое время было слышно только лай собаки с какой-то хрипотцой, потом раздался выстрел, послышался собачий визг, и все стихло.
Ужас не покидал нас, а еще больше разгорелся в наших детских душах после предсмертного визга Верного. В дверь постучали, она открылась, в дом вошли солдаты, о чем-то громко между собой разговаривая.
- Нет, у тебя, Аким, жалости! Зачем застрелил собаку? Что она, порвала бы тебя? Большевиков боишься - это правильно, а собаку боишься зря. Собака - не большевик, в плен бы тебя не взяла. Зря тебе ружье в руки дали, не так ты его применяешь.
- Эй, хозяин, - послышался голос, и открылась дверь в нашу комнату.
Вошел высокий, с черными усами и такой же черной бородой, солдат. Мы заплакали. Солдат сел на лавку, заговорил.
- Чаво голосите? Я ведь человек, - и начал нам показывать какую-то игрушку. Позже я узнал, что эта игрушка называлась патроном.
В комнату вошел еще один солдат, молодой, похожий на нашего дядю Васю. Я даже обрадовался, но как только он заговорил, меня опять охватил страх.
Переговорив что-то между собой, они вышли на кухню как раз в тот момент, когда в дом вошла мама. Ругаясь и плача, начала она наступать на солдат.
- Зачем убили собаку, ироды? Что она, вас съела бы? Ходите по дворам, как бандиты бесстыжие! Есть же у вас, наверное, жены, матери, дети! Подумать бы о них прежде, чем пугать наших детей!
Солдаты молчали, только один какой-то покрикивал изредка: хватит, мол, нас исповедовать! Жить будем у вас, помиримся.
Стояли эти солдаты у нас недолго. Вечером вдруг засобирались и быстро ушли. На дороге видна была скученная спешка.
Тот солдат, который говорил маме "помиримся", зашел к нам утром рано с обмороженными пальцами рук. Стал умолять маму, чтобы она его спрятала и переодела. Пришел он без ружья, сбросил шинель и стал обрезать погоны.
Мы, видимо, спали плохо с перепугу и, когда солдат зашел в избу, проснулись, окружили маму и молча смотрели на солдата.
- Что у тебя с руками?
- Наверное, обморозил, - ответил солдат.
Мама засуетилась, достала чашечку с гусиным салом, подала ему.
- Мажь руки, - а сама взяла у солдата шинель, стала отпарывать погоны.
Немного обогревшись, он засобирался уходить. Мама достала из печки чугунок с картошкой, наложила ему, сказала:
- Ешь!
Солдат с жадностью набросился на еду, а когда наелся, спросил:
- Можно взять с собой?
Мама достала еще несколько картофелин, положила перед ним. Посмотрев на него, спросила:
- Куда же идешь?
- Мне тут недалеко, в Дергоусово. У меня родня, - ответил он, - а вот до ночи мне надо где-то пересидеть.
Мама позвала Игната:
- Отведи в свою нору.
Игнат любил делать в соломе норы, где иногда прятался во время игры. Брат оделся, сказал:
- Идем, - и они ушли.
САНЬКА
Санька Банный, как его звали все за то, что он с родителями и сестренкой жили в бане у богатого бездетного Кукарцева Василия Куприяновича, - мой одногодок.
Усадьба Василия Куприяновича стояла неподалеку, почти напротив нас, так же, как и наша усадьба, - на крутом берегу речки Курундус. Разделяли нас дорога да заборы. У него дом высокий, тесовый, у нас - низкий, из жердей.
Санькины родители приехали в нашу деревню из Поволжья в 1921 году. Отец его все время болел, выглядел тощим, побледневшим, и казался старым, хотя лет ему было чуть больше тридцати, Был он среднего роста, носил рыжеватую бородку. Серые глаза его провалились, были какое-то потухшие. Санькин отец очень медленно передвигался, больше сидел или лежал, был молчалив. Звали его Захар Мефодьевич.
Мать Саньки - очень энергичная, в делах быстрая и удивительно спокойная, как будто у нее нет горя. Она целыми днями, не переставая, что-то делала. Шила, стирала, ухаживала за скотом хозяев. По характеру она была очень добрая. Ее голубые, очень ясные глаза излучали тепло и нежность.
Санька и Ира, его сестренка, были все время в движении, под стать матери. Суровая бедность заставляла их ходить по деревне с сумочками через плечо, прося кусок хлеба. Они принимали все, что могут дать им люди, и этим, в основном, питались.
Я подружился с Санькой спустя некоторое время после их приезда, но заметил его сразу же, на второй день.
Было жарко, в дорожной пыли купались воробьи. Санька с Ирой подошли к нашему окну и стали просить милостину. Прибежав с улицы, я сидел у окна, ел печенку - картофелину, только что испеченную в русской печи моей сестренкой Тоней. Увидел их и, долго не думая, взял кусок ржаного хлеба, несколько штук сырых картошек, выбежал на улицу и подал Саньке все в руки.
Он некоторое время смотрел то на меня, то на мой дар. Потом сказал:
- Спасибо, родненький! - так, видимо, учили благодарить за подаяние, положил картофель в сумку, хлеб подал Ире, и та, тоже сказав:
- Спасибо, родненький! - убрала хлеб к себе.
Санька еще раз посмотрел на меня, на мои босые грязные ноги, улыбнулся, дескать, небольшая у нас с тобой разница в судьбе, и они молча пошли вглубь деревни. Я долго стоял и смотрел им вслед, как шли они босые по пыльной дороге в одежонке заплатанной.
Однажды вечером я увидел Саньку одного. Он сидел с удочкой под крутым берегом недалеко от моста, ловил пескарей.
Мне хорошо было видно его из двора. Немного поколебавшись, я пошел к нему. Присев в трех шагах от новичка на комок сухой земли, покрытый тощей растительностью, стал наблюдать за ним.
Он был несколько меньше меня, хотя и мой одногодка, как выяснилось потом. Курчавый рыжеватый волос на Санькиной голове был, как у отца. Брови, тоже рыжеватые, все время то поднимались, то опускались. Глаза очень живые, как у матери, голубые, были постоянно в движении. Лоб часто морщился.
Он не отрывал взгляда от поплавка, и когда рыба шевелила поплавок, Санька произносил:
- Ох!
А когда снимал пескаря с крючка, шептал:
- Есть!
В то время нам было около восьми лет каждому. До этого я часто сидел на реке с удочкой вместе со своим старшим братом Игнатом или с Гришей - моим двоюродным братом. Особенно мне нравился крутой берег, омуток с повисшей большой березой над ним. Но одного меня к этому омуту почему-то не пускали.
Посидев с Санькой, я сбегал домой, взял удочку, котелок под рыбу, червей, и пошел назад.
Некоторое время мы рыбачили молча, наблюдая за поплавком, радуясь добыче. Изредка переглядывались, но мало-помалу стали обмениваться словами, показывая друг дружке пойманных пескарей. Под конец уже весело болтали.
- Тебя как звать? - спросил я его.
- Санька, - ответил он, - А тебя?
- Ваньша, - и пояснил, - так зовут меня мои дружки.
- Ты чей?
Он посмотрел на меня, видимо не понял вопроса, отвернулся, потом заговорил:
- Чей, чей! Мамин!
- Я тоже.
Увидев, как Санькин поплавок нырнул, я крикнул:
- Сань, клюет! Так обычно клюет пескарь или окунь.
Санька рванул удилище и в воздухе блеснул крупный пескарь.
- Во-о-о какой! - показав мне добычу, он с дрожью и какой-то поспешностью снял пескаря с крючка, быстро надел нового и опять закинул удочку. Мой поплавок лежал на воде тихо, было даже как-то неловко.
Первая рыбалка для нас стала началом нашей большой и долгой дружбы. После той рыбалки мы уже не играли один без другого.
Однажды я попросил маму сшить мне сумку.
- Для чего тебе, сынок, сумка понадобилась?
- А я с Санькой буду ходить по деревне! - ответил я.
- Что ты, сынок?! - испугалась мама, - У нас есть все! Зачем тебе куски от чужих людей?
- Я не себе, а Саньке.
Мать сумку мне не сделала и строго запретила ходить с другом по миру. Я каждый день ждал, когда Санька вернется из похода, а позднее - от работы, где он поил, кормил скот хозяина, чистил стайки от навоза, а летом и весной выезжал с хозяином в поле, боронил или возил копны в сенокос.
Осенью 1923 года отец Саньки умер, и их семья после похорон продолжала жить в той же бане уже втроем.
Санька с Ирой изредка продолжали ходить по миру. Мать - тетя Аня - работала у Василия Куприяновича в работницах.
Когда надо было топить баню, они весь свой скарб выносили на улицу, и возвращали назад, когда все уже помылись. Баня была небольшая, может, не больше пяти квадратных метров, с каменкой, сделанной по-белому, предбанником и полком, который служил семье моего друга и кроватью, и столом. Потолок в бане был невысокий, примерно в рост среднего человека. И стены, и потолок - были выбелены. Из-под полка и пола всегда пахло сыростью.
Наша дружба с Санькой крепла, сами мы росли.
САНЬКА-ДОЯР
В 1925 году, когда нам исполнилось по одиннадцать лет, Санькина мать нанялась пасти коров, а мой отец договорился пасти овец, но ни мать Саньки, ни мой отец сами не пасли, а заставили заниматься этим делом нас.
 |
Запруда на реке Изылы. Вассино |
Выгоняли мы скот в разное время и разными дорогами, но в поле соединялись в один гурт. На водопой гоняли к речке Изылы рядом с Цыганской Согорой. Место это было удобное: животные, напившись, стояли по брюхо в воде или лежали под отдельно стоявшими ветвистыми деревьями. Мы с другом рыбачили. Клев обычно был хороший, мы успевали наловить рыбы и сварить себе уху.
В том мае погода была солнечная и безветренная, а в лесу всегда было тихо и спокойно.
Лес у нас, в основном, березовый, крупный. В это время на деревьях набухали почки, местами, особенно на опушке леса, пробивались молодые зеленые листочки.
Мы с Санькой подгоняли к лесу свои гурты, чтобы попить березовку - этот сладкий березовый сок. На открытых местах луга покрылись зеленым ковриком, и скот пасся спокойно.
Но однажды тишина была нарушена. Лес вдруг ожил, зашумел, в воздух поднялась птичья стая. Карканье ворон, стрекотание сорок, свист крыльев...
Мы с Санькой настороженно переглянулись, бросили трубочки, через которые пили березовку из лунок, кем-то сделанных накануне.
- Ваньша, давай гнать стадо дальше от леса, вдруг волки, - с опаской сказал Санька, и мы побежали заворачивать скот от леса.
Были у нас длинные, метра по четыре, бичи. Я поглядывал на лес, а сам думал: "Бич-то у меня - во какой! Корова - и то боится, а если волк, так я его - раз-два, и убежит серый. Сам как махну бичом, дерну на себя - в воздухе прозвучит резкий хлопок, как выстрел!"
Птичий переполох стал медленно перемещаться к опушке леса, к нам.
Из леса вышли не волки, а такие же, как мы, мальчишки, может, некоторые были постарше на год-два. Их было семь человек, и все - из богатеньких семей, с нашего края деревни. Они окружили нас Санькой и начали забрасывать вороньими яйцами. До слез взяла обида! Их же скот пасем, а они вот как поступают с нами. Сначала мы гонялись за обидчиками, стараясь достать бичами, потом бросили это, подставив им свои спины, и погнали скот дальше в поле.
Разбив все яйца и посмеявшись, они ушли. Мы не могли им простить такую обиду. Санька говорит:
- Давай, поймаем корову Димкину и выдоим молоко.
Мы подманили Димкину Пеструху кусочком хлеба. Я держу, Санька доит. Сначала одну, потом другую и третью. Сколько могли - пили молоко, а больше - на пол. Домой пригнали скот с полупустым выменем.
Вечером пошли с Санькой на колоды, где обычно гуляла молодежь. Подкараулили Димку, наподдавали ему и сбросили в речку. В тот же вечер поймали Володьку Хлебникова и тоже наколотили, а потом выкатали в крапиве. Предупредили, что если они еще хоть раз попробуют нам принести зло - убьем. Наша угроза, видимо, подействовала и на них. Остальные, узнав о нашей расправе, испугались и не решались больше над нами глумиться. Некоторые стали с нами дружить и даже бегали к нам в поле. Вскоре мы уже играли со всеми на равных.
После яичного приключения мы с Санькой каждый день, пригнав скот на водопой, приступали к выполнению своих "обязанностей". Я вытаскивал из сумки баночку с червями, шел к речке, доставал из тайника свою удочку и садился рыбачить. А Санька брал котелок и шел доить чью-либо корову - особенно тех хозяев, которые были скупы на продукты нам. Некоторые состоятельные крестьяне, имевшие по две-три коровы, десятка полтора-два овец, не кормили нас завтраками, а в поле давали по куску ржаного хлеба, пучок зеленого лука или бутуна, да щепотку соли. Мы мстили доступным нам способом: доили их коров и пили свежее, парное молоко.
Рыбалка бывала удачной. Обычно рыба хорошо брала насадку. Особенно прожорлив окунь. Временами я подкидывал к поплавку кусочки хлеба или одного-двух червяков. Наловив до десятка окуньков, тут же у реки потрошил их, помыв в речной воде, шел к нашему костру.
Санька, подоив коров, разжигал костер и вешал котелок с водой на таганке над костром. Я опускал в этот котелок рыбу, бросал соль, варил уху.
Так проводили мы с Санькой каждое лето до 1927 года. Летом - в поле за скотом с длинными бичами, а зимой учились в школе. Правда, не приходилось нам начинать и заканчивать свои школьные дела вместе со всеми. Осенью пасли скот, пока не упадет снег, а весной - чуть снег сойдет с полей, мы бросали школу и шли пастушествовать.
Четыре класса мы все-таки окончили в нашей Вассинской школе, а дальше учиться было негде.
Я продолжал пасти овец в лето, а в зиму отец отдавал меня в батраки к Кукарцеву Василию Платоновичу. Санька стал батрачить у Зверева - жадного и злого человека, а дружба наша, по-прежнему, была крепкой.
ЛАПТА
Нам с Санькой редко приходилось играть с ребятами в лапту - так называлась игра в мяч в сибирских селах. Но уж когда мы участвовали в игре, наша сторона обычно выигрывала. Чаще всех бил мяч Санька. Он бил метко и сильно и мы, как правило, успевали сбегать до определенного места и обратно, не боясь, что нас застукают.
Однажды нас подменили в работе. Меня - мой старший брат Игнат, Саньку - его мать. Нам как бы дали выходной. Это было в воскресенье. Санька пришел ко мне с некоторым опозданием. Я уже хотел пойти к нему, как вдруг увидел его в дверях нашего домика. Быстро собравшись, мы побежали к ребятам, игравшим на зеленой поляне недалеко от Андроновой хаты.
Был конец мая. Снег давно сошел, отшумела в разливе наша речка Курундус, только в низинках еще стояли лужи да на правом, пологом берегу, вдали от русла, громоздились огромные глыбы льда, занесенные весенними водами.
Разбившись на две группы, мы начали играть в лапту. Вскоре к нам стали подходить взрослые парни и старички. Они были зрителями и судьями. В разгар игры к месту, где бьют мяч лаптой, незаметно подошел Петька Лихоманов - парень лет двадцати пяти. Что ему надо было, не знаю.
Вдруг события так быстро развернулись, что вся игра была нарушена, и мы с Санькой помчались изо всех сил к нам домой, постоянно оглядываясь - не гонится ли кто за нами.
А дело было вот как.
Я подавал мяч, а Санька бил по нему лаптой. Когда я в очередной раз отдал мяч, Санька ударил его со всей силы. Лапта по инерции полетела в левую сторону и угодила Петьке в лицо, разбив ему нос и бровь. От неожиданности тот упал, но быстро вскочил и, отирая кровь с лица, бросился на Саньку. Я стоял рядом, подставил ногу Петьке, он запнулся и вторично упал. Мы с Санькой бросились бежать.
Долго он нас караулил, и вот однажды - было это в середине лета 1927 года - мы с Санькой стояли на мосту около нашего дома и смотрели, как играет рыба под мостом. Обернувшись, Санька заметил быстро идущего на нас Петьку, толкнул меня, и мы бросились бежать - Санька по направлению к Бусыгиным, а я вдоль речки по ее правому берегу. Пробежав метров сто, я оглянулся и увидел: Петька гонится с кнутом за моим другом. Я быстро вернулся домой, сказал Игнату и Гришке - им было в то время по 17 лет. Втроем мы выскочили на улицу с палками. Санька и Петька скрылись в лесу за Бусыгиными. Мы только хотели броситься в погоню, как вдруг увидели, что Санька выскочил из леса и что есть духу бежит к нам. Вскоре Петька тоже вышел из леса и стал, размахивая плетью, быстро приближаться. Когда мой дружок, весь раскрасневшись, достиг нас и хотел бежать домой, Игнат остановил его, взяв за руку:
- Не бегай, Сань. В обиду не дадим.
Гришка вышел вперед с палкой в руках. У меня в руках тоже была палка. Я отошел от Игната шага на два, остановился, не сводя глаз с приближающегося неприятеля. Петька, видимо, понял нашу решимость, обошел молча. Зло сверкнув глазами, проговорил:
- Защитники! Всех перебью, щенята! Запомните.
Эти его угрозы не были пустыми. Как-то раз наш враг поймал Гришку и жестоко избил.
Прошло после этого случая недели две, и Петьку нашли в одном озерке в Цыганской Согоре. Его убили выстрелом в голову. Гришка это сделать не мог - у него не было ружья. Врагов же у Петьки было много. Он занимался воровством и разбоем. Кому-то особенно насолил.
МОЯ ДЕРЕВНЯ И МЫ
Деревня наша Вассино возникла в девятнадцатом столетии, когда было отменено крепостное право в России.
Мой дед Константин Иванович Москвин вместе с бабушкой Ольгой Тарасовной прибыли в эти места молодыми. Деревни, как таковой, не было. Стояло всего три небольших домика на берегу речки Изылы, и обитали в них вдова Васса с тремя сыновьями. Двое уже были женаты и жили отдельно от матери, а третий парубковал, годы его были уже в той поре. Облюбовав место для застройки жилья на крутом берегу речки Курундус, дедушка с бабушкой принялись за дело. Лес был тут же, транспорт не требовался. С помощью сыновей Вассы к осени они построили себе домик.
Васса дала им маленькую телочку-однолетку с тем, чтобы они весной будущего года помогли старожилам раскорчевать лес под пашню. Леса в ту пору были таежные, глухие, и земли под посев зерновых и картофеля не было.
Год за годом деревня росла. Сначала - в Междуречьи, а затем домики стали появляться по другую сторону - в Заречье. Приходили и селились люди из центральной части России - в одиночку и группами. Васса всех, как могла, пригревала, чем могла - помогала. Ее сыновья со временем стали мастерами плотничного дела - люди по весне отрабатывали им за их труд.
Так Васса стала как бы головой зарождающейся деревни, а когда умерла, собрался народ и впервые назвал свое поселение именем ее - Вассино, в честь этой доброй и умной основательницы деревни. Произошло это в 1870 году.
К нашему появлению на свет деревня уже не умещалась между реками. Много было построено домов как за той, так и за другой рекой. Более четырехсот домов стояло здесь уже в 1920 году. Еще до моего рождения в деревне были выстроены красивая церковь, церковно-приходская школа, волостная управа. Около церкви каждый понедельник собирался базар.
С приходом советской власти, особенно в период новой экономической политики, Вассино гремело в округе свои базаром, гостеприимством жителей, большими конными состязаниями, весельем, песнями. Сколько собиралось людей на конные скачки, особенно проходившие зимой, просто трудно себе представить! Бывало, мы в своей утлой одежонке обмораживались, а уходить со скачек не хотели.
В тринадцать лет я впервые был посажен дядей Фаном на вершни его скакуна Бурки (правда, до этого я много ездил верхом на других лошадях и крепко гонял галопом). До меня седоком на Бурке был Гришка, мой двоюродный брат, но с возрастом он стал для этого небольшого скакуна тяжеловат. Вот дядя и решил сменить седока. Задолго до понедельника я каждый день делал пробежку галопом на Бурке по два-три километра, и всегда его подкармливал, чтобы приучить к себе.
 |
Феофан Константинович Москвин, ориентировочно, в конце 20-гг. |
Когда наступал понедельник мы с дядей и Буркой прибывали к месту скачек. Дядя надевал на меня красную ленту через плечо, я садился на Бурку и спокойно разминал его по дороге на деревню Кудрино. Сговорившись с хозяином другого скакуна о состязании между нами на определенное расстояние: три, пять или восемь километров, мой отец ставил нас на старте и по счету три отпускал поводья. Лошади, почуяв свободу, с места брали в галоп. Дядя Фан [Феофан Константинович Москвин. О.Л.] мне всегда говорил:
- Не вырывайся вперед, ложись на хвост сопернику, дави его, сохраняй силу Бурки, - что я и делал. А когда до финиша оставалось метров пятьсот-шестьсот, я давал волю своему коню, подбадривая плеткой. Бурка выскакивал вперед и шел с максимальной скоростью, оставляя соперника позади. Мы редко проигрывали - только тогда, когда забег шел на малом расстоянии.
В период НЭПа деревня как-то быстро разделилась на богатых и бедных, на мастеровых, охотников, промысловиков, на купцов и барышников. Пошло сильное деление на классы.
В 1928 году нам с Санькой было уже по четырнадцать лет. Мы выросли, окрепли и на зиму нанялись в батраки. Санька, как я уже говорил, ушел за речку к Звереву, а я - к Кукарцеву.
В зиму нам редко приходилось встречаться, было очень много работы. Меня обычно поднимали в четыре-пять утра. Запрягал две пары лошадей в сани и ехал в поле за сеном - за шесть-семь километров от деревни. Сено нужно было привезти до обеда. У хозяина было много скота. Того, что я привозил, хватало только на сутки. Кроме того, к вечернему кормлению нужно было накрошить солому на соломорезке, замешать с отрубями, раздать скоту и всех напоить. Поили скот на речной проруби, а прорубь-то надо было освободить ото льда и сделать подход.
Навоз из стаек я не убирал, этим делом занималась женщина, которая доила коров. Она же перерабатывала молоко на сепараторе, убирала помещения и обихаживала маленьких телят.
В мои обязанности входило один раз в неделю - как правило, в понедельник - вывозить навоз на пашню и складывать в кучу. Поле хозяина было в шести километрах от села, на обратном пути я грузил мякину или солому. Вот так целый день - с раннего утра до позднего вечера - я находился в работе. Поработав так до Рождества, я заявил хозяину, что ухожу. Он удивился моему внезапному заявлению, да еще в середине зимы, посадил меня напротив и спрашивает:
- Что же ты собрался уходить? Аль обижает кто тебя?
- Надоело редьку с квасом есть, пойду к тому, кто лучше кормит, - ответил я.
- Как редьку с квасом? - спрашивает.
- А так! Ем я всегда один, и всегда редьку.
Он вдруг резко встал и быстро ушел в кухню, где была его жена тетка Дуня. Что там они говорили, я не знаю, только через некоторое время он нашел меня в конюшне и сказал:
- Живи, Ванюшка, будем работать вместе, и обедать - за одним столом.
После этого я стал лучше питаться: мясо, хлеб, сливки были для меня вдоволь. За кормами ездили вместе с хозяином. Но работы у меня было невпроворот. А тетка Дуня смотрела на меня, как на злейшего врага.
У Саньки жизнь была, пожалуй, еще труднее. Его хозяин имел большое хозяйство. Сам был всегда под хмельком, очень груб и, чуть что не так, давал подзатыльник всем членам семьи без разбора. Доставалось и Саньке.
Ко всем неприятностям, заболела мать моего друга и не могла работать. Хозяин потребовал, чтобы они освободили баню, в которой жили. Положение у тетки Ани и Иры, Санькиной сестры, было просто пиковое. Санька терпел подзатыльники хозяина, работал до устали, чтоб хоть чем-то помочь матери и сестре. Я не мог оставить их, иногда прибегал к Василию Куприяновичу поработать за тетю Аню - лишь бы хозяин до весны не выгнал их из бани.
Весной 1927 года Санька нашел квартиру - не без моего участия. Их пустили во флигель к соседу моего дяди Фана, Романову Дмитрию Ивановичу. Но вскоре в нашей деревне начали создавать коммуну им. Буденного, семья Саньки вступила в нее, и уехали они на выселки вместе с коммунарами.
Я стал просить брата Игната, чтобы и он вступил в коммуну. Ему в ту пору было уже около двадцати лет, а мне шел пятнадцатый. В апреле наше желание исполнилось, и мы покинули отца.
 |
Река Курундус |
Наш пятистенник стоял на левом, крутом берегу реки Курундус. Когда-то эта небольшая речка была бурной, а в весенний паводок настолько свирепствовала, что сносила мосты, заливала луга и низко стоящие огороды сельчан. Курундус гудел в створе моста, рокотал так, что ночью страшно было в доме. Низкий правый берег не умещал в русле весенние воды, которые разливались широким морем по лугам - вплоть до Цыганской Согоры, а когда вода спадала, на лугах громоздились огромные глыбы льда, которые лежали там до июня. Я захватил свирепость и полноводие Курундуса, и каждый год наблюдал, как он озорно хохочет, пенясь.
Когда проходит половодье, Курундус становится тихим, лишь слышно мелодичное журчание на перекатах. Русло реки сильно извилисто, и на поворотах образовываются омуты, небольшие по площади, но глубокие, с обилием рыбы - от пескаря до щуки, налима и окуня.
КОММУНА
В 1928 году в нашей деревне Вассино началась коллективизация. В начале апреля мой брат Игнат пришел домой поздно, сел в кухне на лавку и задумался. Я ждал его, не спал, слышал, как он появился. Вышел к нему, он повернул голову в мою сторону и спросил:
- Ты что дома?
- Я ушел от хозяина, - ответил я.
- Почему?
- А ты знаешь, наверное, что его раскулачивают. Сегодня приходили люди во главе с Борцовым Иваном. Описали все имущество. Ты что задумался?
- Я, Ванюшка, записался в коммуну. Вот думаю, как об этом сказать отцу - он ведь против колхоза, - сказал Игнат.
- Ты в коммуну! И я с тобой! - обрадовано прокричал я.
Отец, видимо, не спал, или я своим криком разбудил его. Он вышел к нам и сразу к Игнату:
- О какой коммуне ты говоришь? - спросил отец, краснея.
- О той коммуне, которая выехала на поселение на земли кулаков, - ответил брат.
- А ты спросил меня?!
- Я не вас записал в коммуну, а себя.
- Ну что ж, иди, но от меня ничего не получишь.
Я стоял и слушал их разговор.
Отец повернулся и ушел в горницу. Брат встал, оделся, пошел из дома, но я его остановил:
- Ты куда? А я? Ты не берешь меня? - встревожился я.
- Иду сейчас в коммуну, а ты ложись спать. Завтра хорошо подумай на свежую голову, и если решишь - приходи, - ответил он.
Брат ушел, я лег спать. Долго вертелся, обдумывая, но все же уснул.
Утром встал - отца не было, мачеха возилась в кухне. Павлик спал. Наевшись, я взял кусок хлеба и вышел из кухни. Мачеха не окликнула меня. Никуда не заходя, пошел в коммуну. Снег уже растаял, но с утра еще подмерзало. Шел бойко, и семь километров прошагал быстро. Пришел, когда коммунары уже были в работе.
Первым встретил Саньку. Увидев меня, он прокричал:
- О! Ванюха! Как ты здесь оказался?
Я поведал ему, что пришел жить в коммуну с Игнатом.
- А я его видел. Он поставлен конюхом. Да вот он!
Я обернулся и увидел Игната. Поговорив с Санькой, пошел к брату. Он, видимо, ждал меня, не удивился, только спросил:
- Как отец?
Я сказал, что ушел рано, отца не видел.
- Ну, ладно, помоги мне убрать навоз, напоить лошадей и пойдем, отведу тебя к Ефимову, чтоб зачислить в коммуну и определить на работу. У нас, брат, так: кто не работает, тот не ест.
- А где жить будем? - спросил я.
- У тетки Груни, я с ней о тебе говорил, она не возражает.
- С тобой вместе?
- Да, а что? Хочешь отдельно жить?
- Нет, я так.
Когда все сделали, пошли к председателю коммуны Ефимову Якову Михайловичу. Он выслушал Игната, посмотрел на меня, немного подумал и сказал:
- А что, Иван, пойдешь молотобойцем в кузницу? Парень ты, вроде, плотный, силенка, похоже, есть. Научишься ковальному делу, будешь у нас кузнецом. В кузнице сейчас работает один старичок-эстонец, Ян Францевич. Хороший кузнец, может многому научить. Правда, говорит по-русски плохо. Старайся его понять. Да, сколько тебе лет?
Я посмотрел на брата, сказал:
- Четырнадцать.
- Да-а-а. Маловато - и, как будто что-то вспомнив, сказал:
- Ничего, привыкнешь. Мы такие же работали наравне со взрослыми на Путиловском, в Питере, - и спросил, - Пойдешь кузнецом?
- Пойду, - ответил я.
- Вот и хорошо. Жить-то где будешь?
- Со мной, у тети Груни, - ответил Игнат.
Из конторы мы пошли в кузницу. По дороге я спросил Игната:
- А что, председатель – правда, приезжий?
- Да, он из Ленинграда, рабочий Путиловского завода, приехал строить колхоз.
Незаметно мы подошли к кузнице, стоявшей отдельной избушкой вдали от домов небольшой улицы в тринадцать домов, построенных по обе стороны.
Ян Францевич гремел молотком в кузнице. Брат подошел к нему, представил меня, сказал:
- Вот вам молотобоец, - и подтолкнул меня вперед.
- Карашо! Очен карашо! - обрадовался Ян Францевич.
Поболтав немного с кузнецом, брат ушел, сказав мне:
- Принимайся за работу серьезно, вникай в секрет его дела.
С Яном Францевичем мы работали все лето. У нас не было выходных даже в воскресенье. Кормили нас в коммунарской столовой хорошо, я всегда наедался досыта. Только было с ним скучно. Он говорил мало. Ни разу за лето я не видел на его лице улыбки. Работал с раннего утра до позднего вечера и строго требовал, чтобы я не опаздывал на работу и не уходил раньше кузнеца. Это было для меня тяжело. За день намахаешься кувалдой так, что не до игры с ребятами. Мне эта работа стала надоедать, и я стал подумывать, что как-то надо уходить ближе к ребятам.
Однажды днем в воскресенье к нам в кузницу зашли мои сверстники Ванька Голешов, Васька Тямкин и мой лучший друг - Санька по прозвищу Банный. Я раздувал мехом горн, стоя рядом с ним, а в горне лежала шина для колеса. Эту шину надо было разогреть до тех пор, пока из горна полетят хвостатые белые стрелки (значит, появятся концы шины). Кузнец обычно быстро вынимает шину, кладет на наковальню, а молотобоец бьет с силой по тем местам, куда кузнец показывает своим молотком. Так идет процесс сварки концов металла. Я заговорился с ребятами, упустил момент плавки металла и сжег концы.
Когда Ян Францевич вошел в кузницу и увидел сноп белых хвостатых искр, вырвал шину из горна, посмотрел на ее концы, бросил в сторону и, ни слова не говоря, нанес мне такой удар, что я не устоял на ногах. Из носа и губ потекла кровь. Я вскочил на ноги, вылетел из кузницы и убежал.
Несколько дней не появлялся в кузнице. Нос и губа распухли. Через три дня кузнец пришел ко мне. Я лежал на печке. Он прошел вперед, сел на лавку, посидел минут пять, потом подошел к печке и произнес:
- Ифан, а Ифан! Я некарашо делал, прости старую свинья. Пойдем работать. Много работы.
Я посмотрел на его морщинистое лицо и трясущиеся руки, слез с печки, оделся в свои рваные одеяния и сказал:
- Пойдем!
И стали мы с ним снова работать каждый день, как обычно, только зимой для нас воскресенья были выходными.
В октябре меня приняли в комсомол. Игнат что-то не поладил с коммунарами, уехал. Я остался один. У Саньки умерла мать, и он сразу после похорон перешел ко мне жить. У Васьки Тямкина убили отца, когда он ехал с мельницы с мукой. Муку забрали, а его положили в сани, и лошадь привезла труп. Все это произошло в декабре 1928 года.
Весной я все-таки ушел из кузницы и стал вместе с ребятами пахать поле, сеять хлеб, косить и убирать сено. Осенью меня посадили машинистом на сноповязалку. Когда Петр Голешов предлагал мне работать на сноповязалке, сказал:
- Ты с этими машинами знаком, так как ремонтировал их с Яном, берись смелее.
Я впряг пару самых лучших лошадей и начал убирать хлеб. Сноповязалка косила сено, укладывала его на лафет, транспортером подавала к прессу, где шпагатом паковался сноп. Еду, бывало, а снопы периодически летят на землю ровными рядами. Сзади идут женщины, девочки, поднимают эти снопы и ставят в суслоны. Хорошая это пора, веселая! А ароматный запах сжатого хлеба ни с чем не сравним.
Так, в дружной, спаянной семье мы прожили 1929 год. Хлеб родился хороший, сена накосили много. Для скота и лошадей было достаточно корма. Хорошо питались и мы.
Денег у нас не было, нам их не давали. Коммуна должна была за работу нас кормить, обувать, одевать. Первое выполнялось четко, а вот с одеждой и обувью было плохо. Почему-то в сельпо эти товары завозились очень редко и мало.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ТОМСК
Однажды летом 1930-го года я прочитал объявление в газете "Советская Сибирь" о том, что в Томске идет набор на курсы киномехаников. Написал заявление и отправил по адресу. В ноябре пришло долгожданное сообщение - вызов. С этим вызовом отправился к председателю и попросил справку, удостоверяющую мою личность (паспортов тогда не было). Такую справку дали, и я хотел, было, пойти, но Ефимов остановил меня, спросил:
- В чем же ты поедешь? Уж больно слабенькая твоя одежонка, а зима уже наступила. Да и лет-то тебе маловато - могут не принять. Зря съездишь?
Я не попросил ни денег, ни одежды, только сказал:
- Примут! Куда они денутся? Вызывают ведь! - с этим и ушел.
На курсы надо было явиться к 1 декабря 1930 года, и я стал собираться. Тетя Груня положила мне в сумку хлеб, два яйца и несколько штук вареной картошки. Санька дал три рубля, сказав при этом:
- Будешь работать - отдашь.
С этим багажом и финансами я утром 29 ноября отправился из коммуны в сторону большой дороги Вассино-Тогучин. В селе Нечаевском вышел на эту дорогу и бойко зашагал вперед.
Мороз крепчал, под ногами похрустывал снег. Северный ветер, хотя и не сильный, продувал - особенно от колен до пояса. Вскоре меня догнала подвода. Посторонился. Ехал в розвальнях на сене Яков Алексеевич Кудрявцев. Увидев меня, он задержал лошадь и крикнул:
- Ты куда это по такому холоду пошел?
- В Томск, дядя Яша!
- В То-омск? Да ведь это далеко. Садись, Ваньша, подвезу тебя.
 |
Москвин И.У. (справа) с лучшим другом Санькой Банным в коммуне. |
Сидел он в меховой шапке-ушанке, в тулупе, в валенках. Я смотрел на него и думал - сесть или нет? Если сяду - замерзну, и сказал:
- Ладно, дядя Яша, ты езжай, а я побегу за тобой. Как устану - сяду.
- Ну, как знаешь, - и он тронул.
Лошадь бежала трусцой, я - за ней. Прошло так, может быть, десять минут. Он становился и уже повелительно сказал:
- Садись!
А сам раскинул полу тулупа. Я сел, дядя Яша прижал меня к себе, накрыл полой, и мы тронулись. Сам я согрелся, а ноги стали подмерзать. Я хотел, было, встать, чтобы пробежаться, но он задержал, сказав:
- Скоро деревня, заедем к знакомым, обогреемся.
Правда, скоро показалась деревня Кудрино. Я спросил:
- А Тогучин скоро?
- Э, брат, мы его объехали.
- А куда Вы едете?
- На станцию Аяш, ответил мой попутчик.
- А далеко до этой станции?
- Да верст сорок будет от этой деревни. Сегодня не доехать, где-нибудь переночуем.
Вскоре подъехали к дому-пятистенку, он привязал лошадь к столбу, дал ей охапку сена, отпустил чересседельник и пошли мы в хату. Хозяйка, как старая знакомая, приветствовала нас и почему-то, растерянно посмотрев на меня, засуетилась:
- Ноги-то, поди, отморозил? А ну, быстро снимай сапоги! - приказала она.
Я разулся. Она развернула мои рваные портянки, выбросила их в сенки, подала мне мужские валенки и сказала:
- Одевай!
Я растер ноги, сидя около топящейся железной печки, надел теплые валенки, и хозяйка посадила нас с дядей Яшей за стол. Достала из русской печи чугунок, наложила в миски горячих, хорошо пахнущих щей, стала угощать. Мы только взяли в руки ложки, как вдруг открылась дверь, и в дом вошел рослый хозяин с черными, объинеевшими усами. На миг остановился, потом широко развел руки и произнес:
- Яков Алексеевич! Какими путями?
Мужчина быстро сбросил с себя верхнюю одежду, подсел к столу, поздоровался с нами, затем повернулся к хозяйке:
- Ты что же, мать, садишь людей за сухой стол? Дай-ка первачка!
Хозяйка улыбнулась, вынула из-под фартука бутылку, поставила на стол. Через некоторое время Яков Алексеевич и хозяин весело заговорили. Подкрепившись, дядя Яков поблагодарил хозяев и начал собираться в дорогу. Я тоже стал собираться. Хозяйка подала мне чистые портянки, сказала:
- Возьми эти, твои я выбросила. Больно рваные и грязные они у тебя.
Я стал обуваться. Когда надел сапоги, хозяин подал мне два рукава от пальто и тонкую бечевку, сказал:
- Одевай, брат, рукава на сапоги, а этой бечевкой привяжи их, тебе и будет тепло.
Когда я все с помощью хозяина сделал, хозяйка подала мне мягкое длинное полотенце:
- Возьми, сынок, это полотенце. Одним концом замотай шею, а вторым - прикрой свой инструмент, а то ненароком отморозишь, как жить-то будешь?
Я взял полотенце, завернул шею, как шарфом, и вышел, даже не сказав спасибо. То ли застеснялся, то ли сильно расчувствовался. Но вспомнил, что нехорошо поступил, вернулся и увидел: хозяин и хозяйка стояли на крыльце, улыбаясь. Почти одновременно они крикнули:
- Езжай, сынок! Пусть твой путь будет гладким и счастливым.
Яков Алексеевич подобрел, снял с себя тулуп, подал мне:
- Бери, Ваньша, я в полушубке не замерзну.
Я сначала не брал, но когда холод стал мурашками проникать по спине и ногам, надел тулуп.
Ехали мы долго и все время вели тихую беседу. Когда я увидел, что у попутчика намерзли сосульки на усах и густые брови покрылись инеем, спросил:
- Застыл, дядя Яша?
- Нет, - ответил он, - скоро будет село.
Солнце садилось, вокруг него образовались багровые кольца. Лошадь чаще переходила на шаг, и ее надо было изредка понукать. Вскоре въехали в село. Дядя Яков постучал в окно. Вышел хозяин, после переговоров открыл ворота. Мы въехали во двор. Я хотел помочь выпрягать лошадь, но дядя велел идти в дом. Хозяйка долго молча разглядывала меня, отчего мне стало как-то неловко. Я не знал, куда себя девать. А она ушла в другую комнату, не ответив на мое:
- Здравствуйте.
Я так и остался у порога. Вскоре вошли хозяин с дядей Яшей. Пропуская их, я посторонился. Хозяин обратил внимание на меня, перевел взгляд на моего попутчика и спросил:
- Что же не раздеваешься? - вопрос предназначался мне.
Я не знал, что мне делать с моей обувью - снимать или остаться обутым. Сняв свое пальтишко, сел на припечке и, наверное, долго бы сидел так, если бы не дядя Яша. Он подошел ко мне, сказал:
- Раздевайся, лезь на печь. Завтра поедем рано.
Хозяйку я больше не видел, а их дети - семилетний мальчик и девочка лет десяти - молча ходили возле - тоже, как мать, оглядывая меня с ног до головы. Самовар хозяин поставил на стол, но я не сел к чаю. Залез на печь и уснул. Рано утром меня подняли. Одевшись, мы вышли. Перед уходом дядя Яша подал хозяину деньги за ночлег, и мы тронулись в путь.
Прибыли на станцию в середине дня. Поблагодарил я дядю Яшу за все, что он для меня сделал. Он пожелал мне счастья, и мы разошлись. Я пошел на вокзал, а он поехал по своим делам. В вокзале людей было мало. Около кассы - мужчина средних лет, а рядом - девочка лет десяти стояла, держась за полу отцовского полушубка. Я подошел к ним, прислушался. Мужчина подавал кассиру деньги, просил, чтобы ему дали два билета. А кассир, видимо, уже не в первый раз отвечала:
- Я вам говорю: нет билетов! А вы все одно твердите: дай! Да где я вам возьму, раз нет местов?! - и закрыла окошечко.
Мужчина отошел и, что-то про себя бормоча, почесал затылок. Постояв немного, я подошел к окошечку, постучал. Окошечко открылось, Кассир спросила:
- Что надо?
Я сказал, что мне надо в Томск. Она, посмотрев в свои бумаги, кивнула:
- На томский билеты есть.
- Сколько стоит билет?
- Четыре рубля двадцать копеек.
Я задумался.
- Что, будем брать? - спросила кассирша.
- Денег у меня не хватит, - ответил я и отошел.
Постояв немного, сел на лавку и стал соображать, что же делать. Через некоторое время ко мне подошел мужчина:
- Куда собрался ехать, парень?
Я посмотрел на него и грустно ответил:
- В город Томск.
- В Томск - это далеко, - проговорил он, ни к кому не обращаясь, а потому сказал - уже мне:
- Знаешь что, паренек, садись в тамбур первого грузового поезда и катись до первой остановки. Там сойдешь, обогреешься - и снова в тамбур. Так и доедешь до своего Томска. Одежонка, правда, у тебя плохая, но если тебе очень нужно - наберись мужества, не падай духом. Смелее действуй! Будешь мерзнуть - шевелись, только не усни.
Я послушался его совета, пошел к стоящему на пути поезду. Нашел вагон с тамбуром, стал поджидать. Вдруг где-то впереди паровоз дал гудок и поезд тронулся. Я вскочил на подножку и забрался на площадку тамбура. С боков тамбур открыт, а спереди - площадка загорожена заборчиком из досок в метр высотой.
Поезд набирал скорость, усилился ветер, и на меня полетела снежная пыль. Стал сильнее ощущаться мороз. Я уже не мог стоять, стал ходить по площадке туда-сюда - по пять шагов, но это не помогло. Сильно мерзла шея и ноги от поясницы до колен. Вспомнил про полотенце, которое мне подарила хозяйка в селе Кудрино. Одним концом полотенца обмотал шею, другой пропустил в брюки. Я пытался присесть на корточки, надеясь согреться таким способом, но это не помогло. Поднялся и, согнувшись, стал опять ходить по площадке, чувствуя, как мерзнут нос, щеки, мерзну сам весь. Ну, думаю, конец, не выдержу! А поезд мчит с прежней скоростью, мороз крепчает.
Я уже не хожу, а быстро переминаю руками, ногами, стараясь согреться, но все это только еще больше вызывает ощущение озноба. Я был в отчаянии!
Вдруг поезд стал замедлять ход, и через некоторое время остановился. Я с трудом слез с площадки и пошел к вокзалу.
Когда вошел внутрь, дежурная по вокзалу обратила на меня внимание и закричала:
- Эй, парень, ты весь обморозился! - она бросилась на двор, принесла снег и стала растирать мне щеки, нос, а потом чем-то намазала мне лицо, завела меня в дежурку, начала расспрашивать обо всем. Отвечая на ее вопросы, я надеялся, что наконец-то она мне поможет добраться до места, но она не помогла.
Ночь я просидел на вокзале, а утром пошел пешком по линии железной дороги в сторону станции Юрга. Шел быстро, в Юрге был засветло. Нашел столовую - тут, на вокзале, купил три стакана чаю, сайку покушал. Сел в сторонке около круглой, обитой железом печи, пригрелся и заснул.
Сколько спал - не знаю. Проснулся от толчка. Открыв глаза, увидел, что передо мною стоят милиционер и женщина в красной фуражке. Милиционер скомандовал:
- Встать!
Я встал.
- Идем со мной! - он подтолкнул меня и мы пошли. Милиционер слегка поддерживал меня за локоть. Завел он меня в комнату, где сидели еще два человека в милицейской форме. Один из них предложил мне сесть и потребовал документы. Я подал свои бумажки. Он развернул их, посмотрел, почитал, и спрашивает:
- А где это такая коммуна Буденного?
Я сообщил полный адрес.
- А кто председатель этой коммуны?
- Ефимов.
- Правильно, - сказал он, - я из тех мест, - и добавил:
- Вот что, земляк, полпути ты уже почти прошел, достигая цели, а сейчас иди, досыпай ночь.
Я вышел из комнаты и вернулся в вокзал, сел на то же место и заснул. Утром, только рассвело, тронулся в путь. Прошел верст пять-шесть - до моста. Когда стал подходить ближе, меня остановил вышедший из будки красноармеец с винтовкой.
- Куда идешь, парень? - спросил он.
- В Томск.
Он, видимо, подумал, что я шучу, подошел, сказал:
- Иди в будку.
Я повиновался. В будке сидел еще один красноармеец. Тот, который меня остановил, куда-то позвонил, сообщил, что ими задержан человек. Затем сказал:
- Есть! - повесил трубку и мне приказал:- Садись!
Я сел. Прошло немного времени, в будку вошел военный в белом полушубке, потребовал у меня документы. Я подал, он почитал их, посмотрел на меня и проговорил:
- Поди, голодный?
Я промолчал.
- По глазам вижу, что голодный, - продолжил он и обратился к красноармейцу, что задержал меня:
- Иди, на кухне пусть дадут, что есть, да побольше.
Боец быстро ушел, а военный в полушубке продолжил меня расспрашивать. Вскоре принесли мне целый котелок густых щей, целый кусок хлеба подами, и я с жадностью стал есть. Поел, обогрелся. Тот военный, что проверял документы, снял свои варежки, подал мне и сказал:
- Дарю, носи, они теплее твоих, - а мои взял и бросил в печь.
Вся жизнь не забуду его большие и очень прозрачные глаза. Как сейчас слышу его голос и вижу его слегка загорелое лицо. Проводив меня через мост, он посоветовал:
- Здесь почти рядом маленький полустанок. Иногда тут останавливаются поезда, но ты не садись в товарняк - замерзнешь.
Вскоре показались строения. Не заходя в хуторок, я продолжил свой путь по линии. Сколько поездов обогнало меня, сколько прошло навстречу - не счесть, а я иду, и никому нет до меня дела. Шел долго, стало вечереть, а станции нет, и вдали не видно. Мороз ослабел, пошел несильный снег. Усталость то и дело манила меня присесть, но я не знал, чем может кончиться этот отдых, и продолжал идти. Кругом потемнело, только рельсы не давали мне сбиться, да идущие поезда бодрили, показывая, что жизнь идет вместе со мной, впереди, сзади, с боков. Так, уже ночью, я пришел на станцию Яшкино. Забрался под лавку и уснул. Никто меня за всю ночь не потревожил.
Утром вышел из маленького вокзала, спросил у рабочего, что-то делавшего на путях, далеко ли до станции Тайга. Он посмотрел на меня, ответил:
- Верст тридцать.
Я думаю: "Ладно, пешком больше не пойду. Сяду опять в тамбур и поеду. Мороз ослаб, выдержу". Когда шел вдоль товарного поезда, заметил вагон-коробку. Думаю: "Вот в него-то я и сяду". Стал ходить около этого вагона. Когда поезд тронулся в нужном мне направлении, я вскочил на подножку, влез в этот вагон. Оказалось, что он - из-под угля, зато все стороны имеют высокие стенки, значит, меня не будет обдувать ветром. Но когда поезд набрал скорость, в вагоне поднялась такая пыль, что нечем стало дышать. Я прильнул к той дыре в задней стенке, через которую влез, и до Тайги не отходил, хотя замерз до предела.
Когда поезд остановился в Тайге, я вылез из вагона и пошел в вокзал. Только зашел, меня тотчас же вышвырнули на улицу со словами:
- Бродяжина проклятая! Ходят тут, людям покоя не дают!
Оказавшись на улице, я побрел вдоль вокзала. Вижу: открыта дверь. Потихоньку вошел в коридор, оглядевшись, толкнул еще одну дверь. Небольшая комната, топится печь. Я присел возле печи, а сам думал: "Хоть бы подольше никто сюда не заглянул, чтоб лучше согреться". Однако вскоре вошел мужчина, уже в годах, снял шапку, положил на столик и, разглядывая меня, спросил:
- А ты откуда это взялся?
Я ему говорю:
- Дяденька, не выгоняйте меня! Я только обогреюсь и уйду.
- Да кто ты такой?
- Я пробираюсь в Томск, - достал и подаю свои бумажки.
Он взял, посмотрел на них, немного помолчал и говорит:
- Ладно, у меня хоть и не положено находиться посторонним, но так и быть, снимай с себя пальтишко, умойся.
Я разделся, он взял мое пальтишко и вышел на двор. Хотел, было, крикнуть ему: "Куда понес мою одежду!", но дверь захлопнулась, и я остался стоять с открытым ртом. Вскоре он вернулся с моей одеждой и спросил:
- Где это ты набрал столько угольной пыли?
Я все ему рассказал, уже умытый. Мужчина достал кастрюльку, разогрел суп, поставил передо мной:
- Давай, парень, закуси. Часа через два я тебя посажу на пассажирский поезд, в теплый вагон. Денег, говоришь, нет? Попрошу проводника, чтоб "зайцем" тебя доставила до Томска.
Я хорошо отогрелся, сытно покушал и сидел в ожидании. Он ушел, и его долго не было, но вот скрипнула дверь:
- Ну, одевайся, пойдем. Я обо всем договорился.
Когда подошли к вагону, проводница спросила:
- Этот, что ли?
- Этот, береги его, кума.
- Ох, Федотыч, доведешь ты меня со своими пассажирами до сумы!
- Ничего, когда пойдешь с сумой, первый подам, - улыбаясь, ответил Федотыч и ушел.
Женщина - Марья Михайловна, как я узнал, завела меня в вагон, показала на верхнюю полку и сказала:
- Ложись и до Томска не вставай.
На полке было очень тепло. Я уснул, а, проснувшись, ощутил, что весь мокрый от пота - так было там, наверху, жарко. Спустился, сходил в туалет. Колеса вагона выстукивали какую-то одну фразу, вроде "будь здоров, будь здоров". Вернувшись, я вновь забрался на свою полку, но не пролежал и получаса, как Марья Михайловна крикнула:
- Эй, пассажир, вставай! Приехали.
Сошел на перрон, посмотрел на нарастающую толпу пассажиров, выходящих из вагонов поезда беспрерывным потоком. Подумал: "Сколько народу вмещает поезд! Сколько людей в движении! Целый поток!" Перрон, заполненный людьми, стал быстро светлеть, многоголосый шум - стихать, и вскоре все затихло, лишь изредка пробежит человек с вещами или без. Мороз начал прижигать мне нос, и я направился в помещение вокзала, набитого людьми, видимо, ожидающими сигнала к посадке в вагоны. Протиснувшись сквозь толпу, я вышел на привокзальную площадь, спросил стоявшую там пожилую женщину:
- Тетя, скажите, как мне найти улицу Коммунистическую?
- О, парень! Это далеко! Если пешком, то километров семь-восемь будет. Видишь, люди пошли? Вот иди за ними, а как до города дойдешь - спроси кого-нибудь, тебе и скажут. Понял?
- Понял, - ответил я, поблагодарил женщину и быстро пошел. Вскоре догнал толпу. Людей впереди шло много. Когда стал обгонять, услышал возмущенный голос женщины с большим чемоданом:
- Дожили! Ни одного извозчика, как провалились все!
- Где они сейчас, извозчики, - ответил мужчина, - Лошадей-то в коммунию забрали, так что терпи, милая, до лучших времен.
О чем они еще говорили? Я уже ушел далеко и не слышал их разговор. В городе неожиданно вышел на свою улицу, а вскоре нашел и нужный мне адрес. У дома и в помещении толпились люди. Я открыл дверь и вошел. Спросил у белобрового парня:
- Где тут принимают на курсы киномехаников?
Он посмотрел на меня как-то по-особенному, снизу вверх, засмеялся, хотел что-то сказал, но стоявший рядом широкоскулый, небольшого роста отстранил его:
- Идем, парень, я покажу, - и мы пошли.
Дойдя до двери, он открыл ее и втолкнул меня, предупредив шепотом:
- Не робей!
Мужчина с седой шевелюрой, сидевший за столом, поднял голову, спросил:
- С чем пришел, молодой человек?
Я достал из кармана бумажки, протянул ему:
- Вот!
Мужчина развернул мои документы, посмотрел, видимо, читая, что там написано, потом посмотрел на меня и как-то озабоченно спросил:
- Сколько же тебе лет?
- С октября пошел семнадцатый, - ответил я.
- Как же ты решил ехать к нам? Мы принимаем только с восемнадцати лет. Что же с тобой теперь делать? - задумался, потом встал, забрал мои бумажки и ушел, сказав мне, чтобы подождал в коридоре.
Когда я вышел, тот парень, что втолкнул меня в кабинет, спросил:
- Ну, что? Что сказали?
Я пожал плечами.
Когда мужчина вернулся в свой кабинет, я не заметил, только голос его услышал:
- Москвин, зайдите!
Я повернулся, увидел его в дверях и пошел на его зов, еле передвигая сразу онемевшие ноги. Он подал мне мои бумажки, сказав:
- Принять не можем. Езжай домой. Подрастешь - приедешь.
Меня как обухом ударили. В голове мелькнуло: "Что же делать?", но, не сказав ни слова, взял документы и вышел. Когда дверь закрылась, я не сдержался, заплакал как-то навзрыд. Ребята меня окружили, начали успокаивать. Когда отошел немного, рассказал им о себе, о своей трудной дороге в Томск. Уже собрался уходить, чтобы вернуться домой, как вдруг Буйленко - тот, широкоскулый - взял меня за руку и заявил:
- Пойдем.
Я последовал за ним. По дороге он рассказал, что уже зачислен на курс, и ребята тоже, что все получили койки в общежитии, а потом вдруг спросил:
- Ты что-нибудь ел?
- Нет, - признался я.
- А деньги-то у тебя есть?
- Есть.
- Тогда идем сначала в столовую.
Когда я снял с себя пиджачок с заячьей оторочкой и достал деньги из кармана, он спросил:
- Сколько же ты денег имеешь?
Я разжал кулак, показал два измятых рубля:
- Вот.
Буйленко посмотрел на мой капитал и сказал:
- Спрячь.
В это время официантка принесла и поставила на стол две тарелки вкусно пахнущего супа, две порции пшенной каши и четыре кусочка черного хлеба. Я с жадностью начал есть. По всему организму разлилась успокаивающая волна не то радости, не то томления. После обеда Буйленко повел меня в общежитие, которое находилось на этой же улице, недалеко от столовой. Когда мы с ним появились в общежитии, его друг Коля Стрельцов принес откуда-то койку, поставил ее в прихожей, сказал:
- Здесь будешь спать.
В большой комнате, где разместились мои покровители, стояли десять заправленных коек. Ночь я провел на голой сетке, не раздеваясь, положив под голову пачку газет из подшивки "Советской Сибири". На другой день, покушав в столовой, мы втроем пошли в училище, которое стояло на Горшковской. Холод стоял сильный, улицы города заполнились морозным туманом. Училище находилось от общежития примерно в километре. Надо было подняться на гору, пройти по голой сопке под натиском холодных ветров. В первый день занятия сидел я за задней партой, не снимая своего пальтишка, и все ждал, что на меня преподаватели обратят внимание и попросят освободить класс. Но никто из преподавателей меня не замечал. Так и проучился декабрь, хотя в списках не значился, а с нового года меня уже включили в список и стали выдавать стипендию - десять рублей, а в общежитии я получил матрац, подушку, одеяло и простыню. Спал на той же койке, там же учил уроки. В марте 1931 все ушли - кто в кино, кто в театр, а кто просто погулять по городу. Я в общежитии оставался один. Пользуясь отсутствием людей, снял рубаху, подаренную мне Колей Стрельцовым и стал уничтожать вшей. Моя-то красненькая, в полосочку, рубаха была изорвана крысами. Каждый вечер, ложась спать, я снимал ее и складывал под койку, чтобы спать было спокойнее. И вот однажды крысы затянули ее в нору. Протащить не смогли, а изорвать изорвали в клочья. Коля посмотрел на мое горе, достал из чемодана серенькую хлопчатобумажную рубашку, подал мне:
- Носи!
Вот сижу я на своей койке, занимаюсь волшебством. Вдруг слышу стук в дверь. Отбросил рубашку, насторожился. Стук повторился, и затем дверь открылась. В комнату вошли две девушки, спросили:
- Москвин живет здесь?
- Я Москвин, - отвечаю.
Одна из них подала мне коробку и говорит:
- В училище для вас пришла посылка. И открытка.
Ей, видимо, хорошо было известно содержимое коробки, девушка стала вытаскивать из нее вещи.
Я не знал, что мне делать с отброшенной рубашкой, своими босыми ногами и искусанной и поцарапанной грудью, находясь в каком-то шоковом состоянии.
Девушки посмотрели на меня. Чернявенькая сказала:
- Это тебе прислали из райпотребсоюза Тогучинского района.
Только теперь до меня дошло! Я отвернулся и, не стыдясь их, неожиданно для себя заплакал навзрыд.
 |
Москвин И.У. (в центре) на курсах киномехаников в Томске, 1931 год. |
Когда и как они ушли, не помню. А пришел в себя - невольно стал всматриваться в разложенные на подоконнике вещи, боясь к ним притронуться. Вскоре вернулись Буйленко со Стрельцовым, остановились у окна, разглядывая вещи. Спросили, обращаясь ко мне:
- Что это?
- Девушки принесли, сказали, что из нашего райпотребсоюза прислали мне, - ответил я.
- Вот как! - заговорил Буйленко, - Ну, коли так - пошли в баню. Я быстро собрался, снял простыню, наволочку, сложил их в одеяло, а Буйленко взял мое белье, костюм, Стрельцов - пальто и ботинки.
В бане всю одежду и постельное белье сдали в жаровую камеру. Друзья остались в коридоре, а я ушел в парную.
Из бани мы шли втроем. Я нес только постельное белье, а все мое добро попросил сжечь в топке.
Наступившую ночь я спал спокойно - и физически, и морально. Через два дня пришел перевод на десять рублей от отца - это была вторая неожиданная радость. Наконец-то я почувствовал себя равным со всеми!
Прошло шестьдесят восемь лет, а я не могу забыть Буйленко и Стрельцова, и эту радость тех лет, и горе тех лет, и нужду тех лет.
Я - КИНОМЕХАНИК
В апреле 1931 года, закончив учебу, я получил удостоверение киномеханика и поехал домой. На этот раз ехал в вагоне поезда, как пассажир - с билетом в кармане, имея немного деньжат и продукты, закупленные мною в магазине "Смычка". Никто меня не боялся, и я никого не боялся, в общем - был на равных со всеми.
На станцию Ояш поезд прибыл в середине дня. С вокзала, если можно было назвать эту сараюшку вокзалом, я тронулся в путь в надежде, что кто-нибудь подберет меня по дороге. Машины в ту пору были редкостью, в основном - гужевой транспорт. Дорогу до Тогучина я знал, вернее, запомнил, когда ехали в Ояш с дядей Яшей. Снег почти весь сошел, но погода была прохладная. Земля и лужи подмерзли. Я шел быстро и легко. До первой небольшой деревушки добрался, не встретив ни одной подводы. Солнце скрылось за горизонтом, начало темнеть. Вошел в одну небогатую хату без стука, остановился в дверях, поздоровался, но никто мне не ответил. Спросил:
- Есть кто дома?
- Есть! Проходи! - послышался женский голос, и из соседней комнаты вышла девушка лет восемнадцати. Увидев незнакомца, она попятилась, потом, хоть и растерянно, все же пригласила меня пройти в комнату. Войдя, увидел: за накрытым столом сидят старушка и мальчик лет пяти.
- Можно ли у вас переночевать?
Старушка спросила кто я, и после короткого пояснения разрешила располагаться. Она еще долго меня расспрашивала, а после забралась на полати и затихла.
Я спал крепко, но проснулся рано. Солнце еще не взошло. Встал, умылся, стал собираться, но хозяйка усадила меня за стол, предложила чай с пирожками. Покушав, я подал Матрене Ивановне (так она себя назвала) деньги за ночлег и завтрак.
- Что ты, что ты! - замахала она руками, - Какие деньги?! Иди с Богом, пусть тебе счастье встретится на пути!
И я ушел, благодарный этой доброй сибирской старушке.
До села Гутово дорога была пуста. Воздух с повышением солнца потеплел. Земля покрылась скользкой, как клей, массой. Идти стало труднее, пришлось часто останавливаться, выбирая место посуше. Тем не менее, до Гутова дошел благополучно.
Солнце стояло еще высоко, усталости не было, и я решил идти к Тогучину с намерением засветло добраться до села Кудрино.
В конце деревни меня догнал молодой парень на кауром коне, запряженном в ходок. Поравнявшись со мной, он остановил коня, крикнул:
- Садись, паренек!
Я быстро вскочил к нему в ходок. Ехали не скоро, разговаривали. Когда он узнал, что я добираюсь в Тогучин за назначением, он пристально посмотрел на меня и сказал:
- Просись, парень, к нам, в Гутово, мы давно не видели кино. Клуб у нас есть, принят будешь хорошо. Оказалось, что этот молодой человек лет тридцати был председателем местного колхоза "Вперед", и звали его Федором Ильичом. За время пути обо многом мы с ним говорили. На место приехали уже под вечер. Он спросил:
- Где ночевать-то будешь?
- У знакомых, - соврал я. Поблагодарив его, пошел по улице. Вскоре встретил какую-то женщину, спросил у нее, где райпотребсоюз.
- Вон там! - показала она рукой вдоль улицы, - на углу, с голубыми наличниками. Да там написано, - пояснила она. - Только сейчас никого нет, один сторож.
Знакомых у меня в Тогучине не было, и я отправился в райпотребсоюз. Сторож-старик был добрым человеком, после расспросов оставил меня в сторожке, да еще и накормил. Утром начальство, проверив документы, отправило меня в кинопрокат, а вечером я уже вернулся в Гутово, познакомился с клубом, осмотрел аппаратуру и пошел к председателю.
 |
Федор Ильич встретил хорошо, поставил на квартиру к пожилым людям недалеко от клуба. На другой день я получил лошадь и поехал в Тогучин за кинолентой. Это была картина "Кастусь Калиновский" о герое польского крестьянства. Вечером - продажа билетов, подбор охотников крутить динамо, постановка семи частей кино. Первая самостоятельная демонстрация фильма прошла удачно, мой ГОЗовский аппарат работал нормально, был полный клуб людей. Когда закончился фильм, в зале загорелись фитили красноватых ламп, я убрал аппарат, коробки с лентами, вышел из клуба. У порога ждали ребята. Каждый лез с расспросами: как это сделано, что люди бегают? Я пояснял, как мог. Так началась работа и дружба с деревенскими ребятами и девчатами.
КИБИТКА КИНОМЕХАНИКА
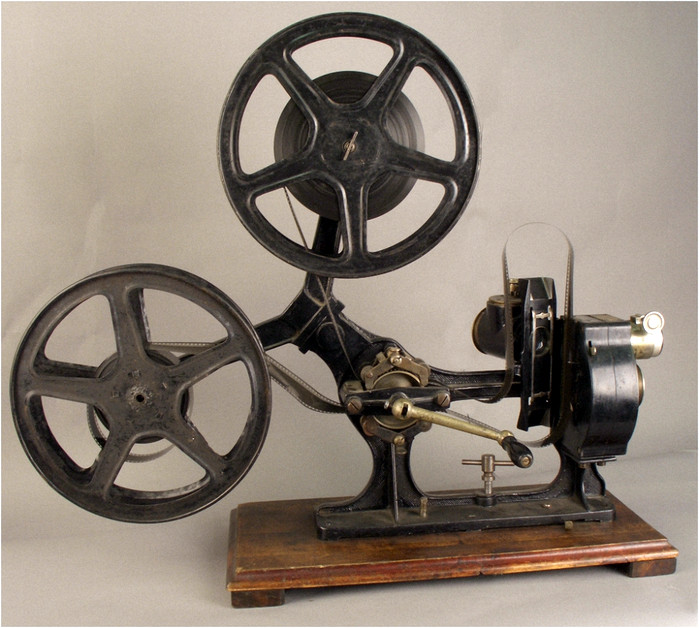 |
Тот самый, "ГОЗовский киноаппарат, кинопередвижка тех лет |
В мае меня вызвали из Гутова в Тогучин. Начальник, лет сорока пяти мужчина с рыжими бровями и рыжим ершиком коротко стриженой шевелюры, усадив меня, сказал:
- Ну что, Москвин, освоил ГОЗовский аппарат?
- Освоил, - ответил я.
- Мы решили поручить тебе работу разъездного киномеханика. Парень ты бойкий, с лошадьми обращаться можешь. Деревня ждет кино с нетерпением! Надеемся, оправдаешь наше доверие, - и, немного помолчав, спросил - Ну как, согласен?
- По каким селам надо будет ездить? - уточнил я после недолгого раздумья.
- Вассино, Караульное, Галан, Чертенкино, Озерная Нечаевка, коммуна имени Буденного, - перечислил он, - В твоем распоряжении будут лошадь, фургон, вся аппаратура, коробки с кинолентами, билеты. Билеты станешь продавать по двадцать копеек. Если в какой-то деревне будет много зрителей, останься на второй день, продемонстрируй вторую ленту. Отчитываться будешь в конце месяца.
- А как с кормом для лошади?
- Сейчас уже подрастает травка. Корми ее на лугах при переезде из одного села в другое, - ответил он.
 | 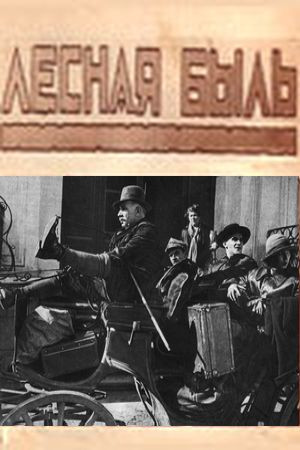 |
Киноафиши. Конец 20-х - начало 30-х годов. | |
- А ночью чем кормить? Или я должен, окончив кино, ехать в другое село и по дороге искать зеленую травку? Ведь это будет уже ночь!
- На ночь попроси сено у жителей, а где есть колхоз, то у колхоза.
На следующий день я запряг в свой фургон карюю истощавшую кобылку. Добрался до Нечаевки днем, поставил свою кибитку возле избы-читальни. Выпряг лошадь, отвел ее на лужайку между огородами, спутал и оставил пастись. Развесил афиши, нашел избача, внес в избу-читальню аппаратуру и киноленту, и стал ждать зрителей. К вечеру начали подходить люди. Мне нужно было семь подростков - по числу частей - для приведения динамо в действие. Все они должны смотреть кино бесплатно. Эта изба-читальня была маленькой и вмещала всего около двадцати человек - сидящих на скамейках, на полу, стоящих. Да еще нужно было и мне место для аппарата и крутящегося динамо. В этот день здесь мне пришлось сделать два сеанса с перекручиванием киноленты. Первая моя выручка составила пять рублей шестьдесят копеек. Деревенские ребятишки принесли мне корм для лошади и пригласили на ужин. В общем, начало было удачным.
Утром я выехал в коммуну имени Буденного, и через час был уже там. Все люди работали в поле, в домах оставались только дети да старухи. Управившись со своими делами, пошел в контору к Ефимову. Он с радостью встретил меня и, обнимая, спросил:
- Что, кино привез?
- Привез, - ответил я.
- Молодец, - сказал он, хлопая меня по плечу, - ставить кино будешь в столовой после ужина. А какая картина-то?
- У меня три ленты: "Алим", "Лесная быль" и "Тарас Трясило".
- А какая интереснее?
Я рассказал содержание фильмов. Председатель, немного подумав, сказал:
- Давай "Лесную быль".
Лошадь мою увели в конюшню, и я был спокоен. Конюх Иван Фомич Кудрин пообещал накормить и напоить ее. К вечеру стали подъезжать с поля люди. Санька, как увидел меня, закричал и бросился навстречу. Не менее был рад и я. Вскоре оказался в кругу ребят и девчат. Как хорошо встречаться с теми, с кем долгое время жил вместе! Охотников крутить динамо было много. Билеты я не продавал: коммуна заплатила за все три картины двенадцать рублей, и я демонстрировал их в течение двух вечеров. Вернув Саньке долг, который он мне давал при отъезде на учебу, я поехал в Вассино. Все время пребывания в коммуне Санька был со мной, спали вместе, и сейчас он проводил меня до Еденеков - маленькой речки, играющей в весеннюю путину, а летом спящей под ветками елового кустарника.
В Вассино я ставил кино в избе-читальне - тоже знакомом для меня месте. Людей было много и мне пришлось пробыть здесь три дня. Жил у отца, который принял меня с радостью. Я был окружен вниманием, за лошадью ходил сам отец. Он сильно постарел, похудел, хотя было ему в ту пору едва за пятьдесят. В эти дни он не ложился спать, ожидая, когда я окончу работу и свое гулянье с молодежью. А это было очень поздно.
- Ну что, сынок, устал? Поди, голодный? Вот тут что-то есть, тащи на стол все, - как-то умоляюще просил он. - Поешь!
Выручка была хорошей, и через три дня я поехал на своей Карюхе в деревню Караульная.
До конца месяца объехал все деревни, принося радость людям и увеличивая выручку. В конце месяца из Горевки я возвращался в Тогучин. Не дойдя трех километров до города, моя Карюха как-то странно зашаталась и прямо в упряжи легла. Через несколько минут, пока я освобождал ее от упряжи, она, пошатываясь, встала, вновь упала, вытянула шею, громко простонала и затихла.
Посмотрев на нее с грустью, я закрыл свою будку и пошел к начальству. В конторе встретил председателя РПС, рассказал о случившемся. Он пригласил ветврача, и мы поехали на ГАЗ АА к месту. Врач осмотрел лошадь, объявил, что она заболела менингитом, и спросил, по какому маршруту ехали. Я подробно рассказал свой путь: где кормил Карюху, где она могла соприкасаться с другими лошадьми. Провели дезинфекцию, сожгли лошадь, сбрую, обработали мою одежду, забрали повозку и отвезли со всем содержимым в РПС. Я сдал аппаратуру, билеты, деньги, коробки с картинами и стал ждать нового назначения. Получил зарплату - тридцать четыре рубля, неделю проболтался без дела и уехал в Вассино к отцу. Там вступил в колхоз "Сибгигант" на разные работы. В 1933 году получил направление на курсы полеводов, которые были организованы в селе Гутово. Учеба моя шла интересно, увлекательно.
В декабре узнал, что сильно болеет младший братишка Павка. В тот же день я, отпросившись, пошел пешком домой. Расстояние от Гутово до Вассино где-то около сорока пяти километров, если идти через Тогучин (основной путь). Ориентируясь по местности, я решил сократить расстояние и идти по прямой через лес. Шел долго. Сначала - по дорожке до стога сена, там дорога обрывалась и, надеясь выйти к главной дороге, я пошел через лес по бездорожью по глубокому снегу. Наступили сумерки, стало темнеть, а дороги - нет. Я стал уставать, остановился около вырубленной полянки, присел на пенек, чтобы немного отдохнуть, и незаметно уснул.
Проснулся от удара лицом о снег, почувствовал, что начинаю замерзать. Поднялся, стал соображать: куда же идти? Двинулся в направлении, в котором не был уверен, но все же шел и вскоре вышел на дорогу. Только тут понял, что ночь прошла, наступило утро. Зимой утро темное, но восток поголубел. В какую сторону идти, я не знал. Ориентируясь по голубевшему небу, решил, что идти нужно направо, а куда приведет меня эта слабо наезженная дорога, не знал.
Приняв решение, я быстро пошел. Снег затих, в небе снова мерно поблескивала луна. Не пройдя и километра, услышал сзади лошадиный храп. Меня догоняла подвода, в розвальнях которой сидел закутанный человек. Я посторонился, а когда подвода подъехала ближе, спросил:
- Дяденька! Куда ведет эта дорога?
Возница придержал лошадь, спросил:
- А тебе куда нужно?
Я сказал, что иду в Вассино.
- Э, милый, Вассино тебе не видать, если идешь по этой дороге. Садись-ка, довезу тебя до Кудрявского, а оттуда доберешься до Вассино. Я вскочил в розвальни, и мы поехали.
Возница был очень любопытный человек и завидный говорун. Так, в разговорах, мы доехали до деревни незаметно. Не могу забыть его голос, манеру речи даже через пятьдесят шесть лет. Это настоящий, простой и очень симпатичный мужичок лет сорока, а вот имя забыл. Вскоре мы приехали в село. Он сказал просто:
- Иди в хату. Я отведу лошадь, приду скоро, - и крикнул, - Маша! Принимай гостя! - Сам свалился в розвальни и укатил.
Вскоре мужичок вернулся, хозяйка уже успела изготовить завтрак. После еды она, видя мою усталость, бросила подушку на скамейку и сказала:
- Ложись, парень, отдохни.
Подумав, я лег и быстро уснул. Проснулся от толчка хозяина, открыл глаза.
- Вставай, парень, тут мой знакомый едет в Вассино, подвезет.
Я не заставил себя уговаривать.
Вышли за ворота, там стояла подвода. Парень примерно моих лет крикнул:
- Садись, дружок, прокачу!
В пути познакомились Парень, звали его Федей, был очень говорлив. Вся дорогу говорил только он, а я слушал. О чем только он за дорогу не рассказывал: разные были и небылицы, а в конце пути поинтересовался:
- Что-то ты, Ваньша, молчишь? Где живешь-то?
Я, наконец, смог спросить, куда он едет. Когда услышал ответ, попросил остановиться у конторы колхоза.
- Тут и расстанемся.
Поблагодарив его, как близкого товарища, пошел домой. Застал я Павлика в очень тяжелом состоянии. Он лежал красный - горел. В доме никого не было. Брат на мои вопросы не отвечал. Только откроет глаза и снова закроет, дышит часто и глубоко.
Посидев несколько минут, я побежал к лельке Авдотье, попросил ее, чтобы пошла к Павлику, что-либо сделала, чтобы облегчить его болезнь. Спросил, где отец, и отправился в контору. Вагин, председатель колхоза, выслушав меня, сказал:
- В деревне находится врач, привезенный к Михаилу Кукарцеву, сходи. Может, он не уехал?
В дверях навстречу мне шагнул человек с бородкой. Я его пропустил и вышел из конторы. Не успел оказаться на улице, слышу стук в окно: Вагин манит меня вернуться.
- Иван, вот врач. Покажи ему больного.
И мы пошли. Врач осмотрел Павлика, смерил температуру, покачал головой, написал рецепт, дал какие-то таблетки и сказал:
- Я сейчас еду в Тогучин. Поедешь со мной. В аптеке по этому рецепту купишь лекарство и с этой же подводой - обратно.
Я так и сделал.
Когда вернулся домой, возле брата хлопотала тетка Дуня. Она пыталась сбить жар, укладывая ему на голову мокрую холодную тряпку. Павлик горел. Температура, видимо, была очень высокой. Тетя, увидев меня, со слезами на глазах бросилась навстречу.
- Ванюшка, милый! Павлика надо везти в Тогучин, умрет парнишка!
- Я только от врача, - показал ей порошки, - будем поить братишку этим лекарством.
Павлик беспрестанно шептал:
- Пить!
Тетя развела порошок, поднесла его ко рту больного подростка:
- Пей, милый, пей! - шептала лелька. Он выпил все до дна. То ли лекарство подействовало, то ли выпитая вода, но Павлик затих и уснул. Поздно вечером приехал отец. Я сидел у изголовья Павки.
 |
Увар Константинович Москвин. Фотография начала 30-х годов.
|
Отец спросил:
- Что, как Паша?
Я ему все рассказал.
- Ты меня не суди, Иван, что оставил Пашу одного. Муки нет, ездил на мельницу. Думал, быстро обернусь, но вышло - видишь, как.
К утру Павке стало лучше. Он открыл глаза, увидел меня и простонал:
- А-а-а, Иван...
Я снова развел порошок в стакане и дал ему. Он с жадностью выпил. Температура у него, видимо, падала, и он стал оживленнее. Около Павки я пробыл до обеда, а когда убедился, что ему стало легче, дал домашним указания по лечению брата и вернулся в Гутово на учебу. Вскоре получил от отца письмо: Павка уже ходит.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
В апреле 1934 года, окончив курсы полеводов, я вернулся в свой колхоз "Сибгигант". Меня сразу же назначили бригадиром полеводческой бригады, что на другой стороне речки. Людей в бригаде, особенно молодежи, было немало. Со многими я был знаком, однако большинство пожилых людей меня не знали и отнеслись моему назначению с недоверием, но со временем привыкли и работали старательно, организованно. Время шло к весенне-полевым работам. Я с головой ушел в подготовку к этому периоду, проверяя инвентарь: конные плуги, бороны, сеялки. Хотя все было почти полностью готово, но не хватало лемехов к плугам и зубьев для борон. Кузнец Кудрин Иван Федорович от зари до зари гремел в кузнице. В помощь ему я выделил Богомолова и Бологанских, достал кое-какое железо для кузницы. Не менее важным было позаботиться о лошадях и сбруе. Мы определили в пар лошадей, на которых должны были пахать землю, поставили их на откорм. На правлении колхоза были определены для засева пшеница и овес, из расчета семь пудов на десятину, и количество культур для посева.
В поле снег почти сошел, и едва ли не каждый день я ездил верхом на ржаное поле: беспокоило состояние озимой ржи. Время шло, а я, молодой парень, не находил вечера пойти на гульбище. 26 апреля мы выехали в поле на вспашку под яровые культуры. В бригаде были одиннадцать плугов, одиннадцать борон, одна конная сеялка с захватом 150 см и пять человек сеятелей с лукошком, а засеять надо было двести восемьдесят пять гектар. Сеять предстояло под Единеками - есть такое место в пяти километрах от Вассино - где моим предшественником Кукарцевым М.С. был организован стан на базе бывшего кулака Привалова. С посевной кампанией мы справились до 12 мая, благо после посева прошли хорошие дожди и всходы были дружные. За весенними полевыми работами наступили работы по прополке, сенокос и как-то незаметно подошло время уборки хлебов. Комбайнов в колхозе не было, в моей бригаде числились две лобогрейки, одна сноповязалка, одна тракторная молотилка. От МТС выдели мне трактор "Кейс". За лобогрейками по полям работали вязальщицы, они же ставили снопы в суслоны. В общем, работа в бригаде кипела. Наряжать никого не надо было: все накануне знали, что должны будут делать, работали с энтузиазмом, весело и споро.
В деревне я бывал очень редко, и вот однажды увидел на соседской качели девушку. Ее энергия, веселый нрав привлекли внимание. Стал присматриваться к ней и увлекся. Мне все в ней нравилось больше и больше. Я почувствовал, что уже не могу не видеть ее, и однажды решил к ней подойти. Произошло это во время гуляния молодежи - у нас каждый день молодежь собиралась возле правления колхоза, а инициатива принадлежала гармонисту Володе Кукарцеву.
Он обычно возьмет гармонь, заиграет любимую всеми плясовую сибирскую, и молодежь валом идет на ее зов. Возле конторы на простой, никем не оборудованной площадке возникают как-то сами собой пляски, песни. Потом всей гурьбой идем вдоль деревни и поем под гармошку. Молодежи было много и обычно все шло без скандалов, если не считать редких дебошей, провоцируемых Пашкой Смирнягиным - любителем создавать конфликтные ситуации.
Я хорошо пел и плясал, но местные девушки не обращали на меня никакого внимания, да и у меня не было увлечениям ими. А вот когда увидел Валю на вечере - бросил свое веселье и подошел к ней, предложил пройтись по улице. Она меня не оттолкнула. С этого вечера началась моя к ней любовь. Я уже не мог спокойно, как прежде, жить и работать, тянуло в деревню каждый вечер с полевого стана. Закончив работу, а работали мы до захода солнца, я мчался домой, навстречу любимой.
Она, видимо меня ждала, и мы гуляли с ней каждый раз почти до самой утренней зари. Я любил целовать ее прекрасные губы, мягкие, розовые. С каждым вечером наша любовь крепла. Работая в колхозе от зари до зари, я провожал ее в конце ночи домой, а сам бежал на полевой стан и уже к восходу солнца бывал на месте. Направив людей на работы, я забирался в свой уголок и, предупредив повара Прасковью Игнатьевну о том, чтобы разбудила через час, засыпал. Женщина добросовестно исполняла мой наказ.
Осенью 1934 года, когда снопы уложили в кладь на току, а большая часть урожая была уже обмолочена, я решил поехать на курсы шоферов в Черепаново. Валя, окончив семилетку, поехала на курсы учителей, после окончания которых стала работать учителем в начальной школе. Встречи наши прекратились, но любовь бурлила во мне до боли в сердце. Когда я вернулся домой после окончания курсов, Вали в деревне не было. Вся ее семья уехала в Челябинскую область, и наша связь прекратилась.
О, как тяжело я пережил этот разрыв! Меня ничто не могло увлечь, я думал только о ней и ждал чуда.
 |
Валентина Ефимовна Голубкова, та самая Валя, |
Я СТАЛ ШОФЕРОМ
Объявления о наборе молодежи на курсы шоферов я прочитал в октябре 1934 г. В тот же день написал и отправил по адресу, указанному в газете "Советская Сибирь", свое заявление, две фотокарточки, справку от колхоза. Через десять дней получил извещение о приеме и должен был немедленно выезжать к месту учебы. Колхоз меня не задержал, хотя я и был бригадиром и членом правления колхоза. В течение дня сдал все дела вновь назначенному бригадиру, восемнадцатого октября отбыл из Вассино и в тот же день прибыл в совхоз "Черепановский". До Новосибирска ехал на попутной машине совхоза "Политотделец", а от Новосибирска - поездом.
Девятнадцатого октября утром я впервые вошел в класс, где проходило знакомство курсантов с коллективом преподавателей и распорядком дня. Каждого курсанта обеспечили в общежитии койкой, матрасом и постельным бельем. А в общежитии нас было тридцать человек из разных мест западносибирского края, разных по опыту жизни, по состоянию.
На следующий день начались занятия: изучали устройство автомобиля по плакату. Я внимательно слушал, старался записать незнакомые слова - такие, как "карбюратор", "реле", "магнето", "ротор", "трамблер" и другие. После занятий шел в гараж к шоферам, чтобы они на машине показали все эти приборы: где они стоят, какую функцию выполняют. Вечерами старался записать в свой блокнот все, что видел и слышал от шоферов. Особенно охотно рассказывал все один, уже пожилой, шофер. Жаль, что забыл, как его звать, да теперь он, наверное, уже умер, а таким, как он, надо бы жить бесконечно.
Шли дни. Выходных я для себя не делал. Очень хотелось знать автомобиль от "а" до "я". Со временем учеба продолжалась непосредственно у автомобилей. Курсантам рассказывали и показывали все, что нужно делать шоферу. Примерно через месяц, после упражнений на стенде, мы стали ездить за рулем под присмотром инструктора, сидевшего рядом. Благодаря тому пожилому человеку, о котором сказано выше, к практической езде я уже почти был готов. Он учил меня не только управлению автомобилем, но и правилам подготовки машины к работе.
Когда я впервые сел за руль ГАЗ АА с инструктором, тот спросил:
- Ты что, работал когда-то на автомобиле?
Я рассказал о своем добровольно наставнике, назовем его Петровым. Сделали мы круг с переключением с низшей скорости на высшую, инструктор сделал вывод:
- Всё, Москвин! Ездить можешь, - задал несколько вопросов и отпустил.
Правила уличного движения учили и в классе и во время вождения. За период учебы мы сдружились с сокурсниками. Никто из ребят не стоял в стороне от дела, всем хотелось больше знать, уметь делать то, чему нас учили. В апреле 1935 года, во время экзаменов, я справился с заданиями хорошо, получил права - настоящие, не стажерские! - и выехал домой.
В совхоз "Политотделец" прибыл в последней декаде апреля. Предъявил свое водительское удостоверение зав. гаражом Николаю Михайловичу Беляеву. Ознакомившись со мной и моими документами, он сказал:
- Приходи завтра с утра, - спросил, - Где живешь?
- В Вассино, около Курундусского моста, - ответил я.
Была распутица, возле Цыганской Согоры шло по балке большое половодье. Курундус шумел, лед хоть и прошел, но напор воды быль большой. Николай Михайлович, зная это, сказал:
- Ладно, не ходи, за тобой заедет Володя Болдин. Ты у него несколько дней постажируешься. А вообще тебе надо устроиться здесь, в совхозе, пока не спадет вода.
Утром я был готов к встрече с Болдиным, он не заставил себя долго ждать. В начале девятого часа я сел за руль, он - рядом, и я спокойно, как заправский шофер, повел ГАЗ АА. Володя только показывал дорогу. Так мы доехали до Тогучина, где машину поставили под загрузку мукой. Наставник ушел оформлять документы. На обратном пути я вновь вел автомобиль самостоятельно, Володя не вмешивался. В "Политотдельце" машину поставили под разгрузку около пекарни, потом еще раз сгоняли в Тогучин. Володя к рулю не прикасался, только травил анекдоты, были и небылицы из шоферской жизни.
 |
ГАЗ-АА. На такой машине работал в то время Москвин И.У. |
Вечером, загнав машину под сарай, я почувствовал такую усталость - видимо, от напряжения и непривычки, что хоть тут же ложись. Володя сошел раньше, сказав:
- Поставишь машину - приходи в столовую, поужинаем.
Собравшись с силами, побрел на ужин, а после - к Володе в общежитие, тут и ночевал. Утром, после завтрака, нас в гараже встретил Николай Михайлович:
- Ну, как?
Володя понял вопрос, ответил:
- Можно доверять машину, водит хорошо.
Зав. гаражом подвел меня к ГАЗ АА, стоящему возле забора:
- Вот твой автомобиль, только сначала надо его отремонтировать. Машину загоним на яму - на неделю, не больше. Успеешь все сделать, чтоб машина ходила - твое счастье, не успеешь - будешь делать на улице. Инструмент получишь в инструменталке. Какие надо будет детали, помощь - не стесняйся, обращайся ко мне.
- Все ясно, - ответил я. - Первый вопрос: можем его сегодня поставить на яму?
- Сейчас мы это организуем.
Когда моя просьба была выполнена, Николай Михайлович сказал:
- Подготовь мотор к снятию. Отсоедини коробку передач, кардан, сними радиатор, сними кардан - все, что может помешать снятию двигателя, а завтра решим все остальное.
Я взял необходимый инструмент и приступил к работе. Возился долго, заржавевшие болты трудно поддавались. Пришлось применять зубило, но сделал все.
На дворе шел мелкий тихий дождь. Надвигалась очень темная ночь. Нужно шагать домой, в Вассино. Чувствовалась сильная усталость. В животе пусто. Я постоял в дверях гаража, посмотрел на эту черноту и решил пойти к Володе в общежитие. Володя не спал, читал книгу "На сопках Манчжурии" (Далецкий П.Л.На сопках Манчжурии. - М,1933. – О.Л.) В комнате он был один, хозяева двух других коек ушли на гулянку и вот-вот должны были подойти. Володя отложил книгу:
- Пойди, умойся. Жрать хочешь?
Я умылся, попил чаю, приготовленного моим приятелем, бросил на лавку свое пальтишко, Володину куртку под голову, лег и быстро уснул. Утром проснулся рано, умылся и пошел в столовую. Ребята еще спали.
Зав. гаражом уже сидел в своей конурке. Увидев меня, крикнул:
- А, это ты. Проходи, садись. Сейчас придут люди, снимем двигатель. Вместе с Сорокиным будете его ремонтировать. Хорошо присматривайся, что он станет делать. Это тебе в будущем сильно пригодится.
Пришли шоферы, моторист Сорокин - уже пожилой, грузный, с рыжими бровями человек, и Кудрявцев – авто-слесарь небольшого роста, житель Вассино. Я его знал, но близко с ним знаком не был. Когда сняли и поставили на стол двигатель, Сорокин сказал мне:
- Начинай разбирать, а я пойду за деталями.
Он долго не приходил. К его возвращению я снял с двигателя все оборудование, головку блока. Перевернул двигатель и уже снимал картер. Моторист посмотрел на мою работу, молча помог мне с картером, а затем сказал:
- Снимай шатуны с поршнями и коленчатый вал, - и опять ушел.
У меня мелькнула мысль: "Сорокин специально не участвует в разборке двигателя, чтобы дать мне возможность приобрести практический опыт в этом деле". Вернулся он тогда, когда я уже все сделал и осматривал цилиндры.
- Что смотришь в утроб? - спросил он.
- Просто так. Смотрю, чтоб не было царапин на цилиндрах, - ответил я.
Он взял индикатор, проверил цилиндр: нет ли эллипса, показал, как надо разъединить шатун с поршнем. Вместе мы перенесли блок под сверлильный станок. Моторист занялся шлифовкой цилиндров, а я - разборкой шатунов. Так целый день сообща ремонтировали двигатель, пока не собрали его полностью. Сорокин показал мне, как заливать коренные и шатунные подшипники, как их подшебаршивать, как притирать клапаны, как регулировать их. Причем, работу выполнял я, а он показывал серьезно и деловито, как будто готовил себе замену.
Я до сих пор вспоминаю Андрея Алексеевича Сорокина, как дорогого мне наставника. Всю остальную работу над машиной я делал сам, иногда прибегая за советом к Николаю Михайловичу, завгару. С Кудрявцевым за все время, пока я ремонтировал газик, связи так и не было: он ко мне не подходил, и я его не приглашал. Через неделю автомобиль был готов для обкатки. Запустить двигатель вручную не удалось: вал туго проворачивался. Пришлось обкатывать мотор при помощи буксира, что и делали в течение двух часов вхолодную. Потом завели двигатель, и он работал еще два часа на средних оборотах. Еще день прошел в покраске, а на следующий я впервые самостоятельно выехал в рейс. Лето почти не стоял на ремонте и работал с утра до ночи. Что только я ни возил - внутри колхоза и района, и даже несколько раз ездил в Новосибирск.
И вот однажды я возил зерно в Тогучин, на элеватор. Разгрузившись, поехал домой, а через пять километров почувствовал, что мотор плохо тянет. Остановился, открыл капот и пришел в ужас. Мотор принял какой-то бордовый цвет, пахло гарью. Я схватил рукоятку и стал старательно проворачивать коленчатый вал, но усилия мои были бесполезными… Когда двигатель остыл, я спустился вниз к ручью, набрал воды, стал заливать ее в радиатор, а она потекла через краник. Тут я понял, куда делась вода из радиатора, и что стало причиной перегрева двигателя. Но как это произошло? Ни разу не было, чтобы вода уходила. Я закрыл краник и стал заводить двигатель, но вал вращался, как шарманка. Никакой компрессии! Значит, залегли кольца. Бросив бесполезное занятие, я сел в кабину и ушел в размышления: кому надо было подложить мне свинью, и с какой целью?
Вскоре подъехал ко мне Володя и, высунувшись из кабины, крикнул:
- Что стоишь, Ванюха?
Я вышел из кабины:
- Володя, возьми меня на буксир, мотор вышел из строя.
Приехали в гараж во второй половине дня. Сорокин сразу, как только увидел меня, подошел:
- Ты что, Ванюха, на привязи пожаловал?
Я знал, что меня ожидает тяжелый разговор с Николаем Михайловичем, но понимал, что последствия случившегося - еще хуже. У нас было мало машин, а спрос на них - большой. И когда зав. гаражом узнал о происшедшем, он подошел к машине, взял рукоятку, крутнул коленчатый вал, качнул головой, посмотрел на меня строгим взглядом и сказал:
- Ставь на яму! Готовь двигатель к снятию, - и ушел.
Я постоял некоторое время в раздумье, взял ключи и приступил к работе. Подошел Сорокин:
- Обожди. Не надо мотор снимать. Сними картер и головку блока. Посмотрим.
Я спустился в яму, слил масло. Вместе с Андреем Алексеевичем мы сняли все необходимое. Сняли и шатуны с поршнями. Сорокин, осмотрев их, сделал вывод:
- Подшипники в норме, а кольца в поршнях залегли, и затерло их алюминием. Придется менять поршни, зачищать цилиндры. Так мы и решили.
Подошел Николай Михайлович. Он был очень расстроен и на меня смотрел недружелюбно. Спросил у Сорокина:
- Ну что, здорово напакостил этот? - мотнув головой в мою сторону.
Моторист ответил, как есть.
- Так, - оживился Николай Михайлович, - значит, двигатель снимать не надо. Проверьте коренные. Поршни и кольца должны быть у тебя. Посмотрите эти кольца, может быть можно использовать, попробуйте их извлечь из канавок, - и ушел.
До вечера мы все это выполнили, на другой день собрали двигатель, я его завел и выехал с ямы. Зав. гаражом пригласил меня к себе в коморку, подвинул ко мне лист акта и сказал:
- Читай и подписывай.
Я взял ручку, обмакнул перо в чернильницу и поставил свою подпись пониже подписей Николая Михайловича и Сорокина.
Прошло дней десять. Выдавали зарплату. Приехав из рейса, я поставил газик на стоянку и отправился в контору. В кассе мне сказали, чтобы зашел в бухгалтерию. Главный бухгалтер Южаков достал акт, который я подписывал, и еще какой-то лист с цифрами, видимо, подсчет убытков, нанесенных мной:
- С вас, товарищ Москвин, взыскивается четыреста рублей за простой машины, за ремонт, за запасные части в пятикратном размере. Вот приказ. Прочтите и подпишите.
Я прочитал приказ директора, подписал и спросил:
- А за прошлое я могу получить?
- Идите в кассу, вам выдадут пятьдесят процентов вашей зарплаты. Так будете получать до конца взыскания полной суммы.
Через два дня Николай Михайлович утром пригласил меня к себе:
- Знаешь, Москвин, я решил посадить тебя на АМО-3. На ней ты сможешь быстрее рассчитаться с долгом.
 |
Тот самый АМО-3, о котором речь идёт в этой части |
На этой машине работал пожилой опытный водитель Яков Ильич Семенов. Он жил тут же, в поселке центральной усадьбы, имел семью четыре человека - кроме него и, видимо, не изъявлял желания ехать в командировку. Поэтому Николай Михайлович принял решение его машину отдать мне, а мою - ему. В тот же день мы поменялись, впридачу мне досталось командировочное удостоверение в Сибавтотранс города Новосибирска. На другой день рано утром я выехал в рейс, попутно загруженный металлоломом.
Время ноябрьское, дорогу покрыл первый в том году небольшой слой снега. Погода была пасмурная, но без осадков. Стоял слабый морозец. Через три часа я находился на разгрузке, на территории небольшого завода. Разгрузили быстро, выдали документ, и я поехал в контору автопредприятия. Механик проверил мою машину и распорядился поставить ее в ремонт у сварочного цеха. Главный инженер, уже пожилой человек небольшого роста, с копной седых волос и такими же седыми усами, подошел к моей машине, спросил - давно ли я работаю шофером, где окончил курсы, задал еще много вопросов, касающихся моей опытности и состояния автомобиля. Потом прошли мы с ним к мастеру по ремонту, и старик сказал тому, чтобы машину подготовили для работы в особых условиях.
- Закончить работу нужно завтра к концу дня.
Целый день мы готовили машину: проверили и отрегулировали тормоза, закрепили двухметровый металлический горный упор из толстого стержня, с концом, заостренным в виде вилки, и шарнирной проушиной для крепления к фаркопу. В это же день я заправил машину горючим и маслом, проверил и долил нигрол в коробку передач и задний мост.
Утром следующего дня колонна из двенадцати машин выехала для погрузки оборудования на станцию железной дороги. Мне погрузили станок, запечатанный в деревянный ящик. Путь лежал в Монголию через "Долину смерти", как ее называли шоферы, уже ездившие этой дорогой, далее по Чуйскому тракту через горные перевалы. Когда я впервые ехал через эту долину, представил себе, что остался здесь один. Стало даже жутко: ни одного дерева, только кустики травы перекати-поле, да сильный ветер и необозримый простор…
Перед перевалом колонна остановилась, мы опустили горные упоры и тронулись в путь с дистанцией сто пятьдесят-двести метров. Подъем не так крут, но он шел почти на всем протяжении вдоль реки Чуя, которая с высоты казалась ниточкой. Три рейса я по этому тракту сделал.
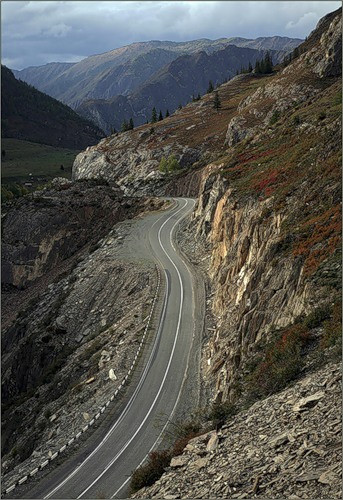 |
Чуйский тракт. Ездил Москвин И.У. по нему ещё до того, |
В декабре вернулся домой, заработав больше четырехсот рублей, но на руки получил всего семьдесят пять, остальные пошли в погашение начета за аварию.
После ремонта снова гонял свой АМО по дорогам района.
Однажды в солнечный день я вез из Тогучина ящики с водкой - полный кузов для Вассинского сельпо. Перед выездом из базы райторга хорошо увязал груз и двинулся. Оставалось проехать не так уж много. Вот бугор, за которым мост, а дальше - уже недалеко. Поднявшись на бугор, увидел, что на мосту стоит повозка, окруженная людьми, а рядом лежит лошадь. Я нажал на тормоза - они не действуют. Поставил ручной тормоз на торможение, но скорость возрастала. Пытался переключить скорость с высшей на нижнюю, чтоб затормозить мотором, но не сумел, да и расстояние от меня до моста было угрожающе близким. Направил автомобиль на столбики, стоявшие вдоль дороги, но столбики не задержали, и вместе с машиной я полетел с насыпи под откос. Машина перевернулась, качнулась и встала на колеса. Я вылез из кабины, увидел, как навстречу бегут люди от моста. Подбежав, один парень тронул меня за плечо, спросил:
- Цел?
Я был, видимо, в шоковом состоянии, смотрел вперед и вниз с обрыва, и молчал. Он тряхнул меня за плечи, повторил вопрос. Я поглядел на него с досадой:
- Цел! - и пошел вокруг машины, заглядывая в кузов и осматриваясь по сторонам.
Машина стояла в двух метрах от обрыва. Подошли мужики, предложили помочь выехать, но прежде, чем выезжать, надо было убрать глубокий снег с пути. Сначала я подумал, что это снег не дал автомобилю скатиться в пропасть, а когда машину откопали, увидел, что погнуты передняя балка и рулевая поперечная тяга. Понял, что без исправления дефекта мне не выбраться даже с помощью другой тяги. Посоветовавшись с людьми, пошел в деревню. Нашел кузнеца, уговорил их с молотобойцем за два литра водки помочь снять ось, выправить и поставить на место. Когда машина была сделана, с помощью трактора "Харпер" и той же водки - в качестве платы трактористу - я выбрался из этой ловушки на ровное место и осмотрел машину, чтобы понять, почему не сработали тормоза. Оказалось, оборвана продольная тормозная тяга.
Домой приехал поздно, в сельпо никого не было. Я угнал автомобиль в гараж, ночевал в кабине, а утром поставил машину в сельпо под разгрузку. К счастью, все бутылки были целы. Не хватало четырех литров, пошедших в уплату за труды. Я погасил их стоимость с посудой и вернулся в гараж. О случившемся никому ничего не сказал, но вскоре об этом деле стало известно через районную газету. Кто-то описал это событие в точности от начала до конца. Я продолжал ездить, как обычно, а Николай Михайлович однажды придирчиво осмотрел мою машину и спросил, улыбаясь:
- Что же это ты молчал? Боялся?
- А что рассказывать? Для смеха, что ли? - ответил я.
- Но смех-то плохой, ведь ты был на грани гибели. Разве это смех?
На том и закончился наш с ним разговор, и я работал на АМО до марта 1936 года без приключений.
АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА. ПРИЗЫВ
Первого марта 1936 года я вернулся из рейса, поставил АМО-3 на стоянку около гаража (теплой стоянки у нас не было) и зашел к диспетчеру, чтобы сдать путевку. Она встретила меня возгласом:
- Ванечка! А тебе повестка в райвоенкомат!
Ванечкой она меня всегда звала. Взял у женщины повестку, стал читать. В ней сообщалось, чтобы я второго марта к десяти часам явился в Тогучинский райвоенкомат, к начальнику первой части. Николай Михайлович не предложил мне сдать машину и получить расчет, да я и сам думал: не возьмут же меня сразу в армию, дадут какое-то время, как всем призывникам, которые уходили до меня.
С этой уверенностью я встал утром рано, слабенько покушал, оделся обыденно, сел в попутную машину, шофер которой был мне хорошим товарищем, и мы поехали. Всю дорогу вели веселый разговор - обо всем, что в прошлом, что будет дальше. Сеня, так звали шофера, намекнул, чтобы я его не забыл, пригласил на проводы. Сам он отслужил год назад, много рассказывал об армии хорошего и как будто радовался, что я ухожу служить. Я тоже ждал призыва, ждал с каким-то трепетом и нетерпением. Хотелось скорее надеть форму красноармейца. Полюбилась она мне с того момента, когда я впервые, во время своего похода в Томск, встретился с красноармейцами, охранявшими мост через реку Томь.
Приехали в Тогучин рано. Сеня высадил меня возле райвоенкомата, а сам отправился на погрузку. В здании РВК толпилось много молодежи со всего района. Военных званий я не знал, поэтому у окошечка дежурного командира спросил просто:
- Товарищ, я из совхоза "Политотделец". По повестке. Москвин моя фамилия.
Он порылся в журнале.
- Идите в третий кабинет.
Около кабинета людей не было. Я открыл дверь, спросил:
- Можно?
- Входите! - долетел от стола из-за спин стоящих допризывников повелительный голос.
Встал в очередь, ожидая, когда начальник пригласит меня к столу. Когда все ушли, начальник взял мою повестку, прочитал и сказал сидящей за другим столом девушке:
- Отведи допризывника в приемную комиссию.
Я поднялся и пошагал за девушкой. Она вошла комнату, где заседала комиссия, оставив меня у двери. Через две-три минуты появилась, пригласила войти.
- Хочешь в армию? - спросил пожилой мужчина в белом халате.
- Не возражаю, - ответил я.
По лицам медиков промелькнули улыбки. Женщина-врач предложила раздеться по пояс. Я снял рубашку (майки мы не носили). Она осмотрела меня, послушала через трубочку, задала несколько вопросов: не болен ли, не болел ли какими болезнями, и сказала:
- Одевайтесь!
Медики посовещались. Мужчина в белом халате сказал:
- Идите в зал! Ждите, вас вызовут.
Ждал я долго, наконец, услышал свою фамилию. Меня повели в комнату, там остригли, через час погрузили в вагон и отправили в Новосибирск. Остальные допризывники поехали по домам.
В Новосибирске я был уже вечером, нашел нужный адрес, вошел в помещение. Там толпились постриженные, такие же, как я, допризывники - видимо, городские. Я поздоровался, спросил стоящего рядом:
- Чего ждем?
- Ты откуда? - услышал в ответ.
- Из Тогучина.
- Один?
- Один.
- Тогда вливайся в нашу компанию. Скоро двинемся в путь. Шофер?
- Шофер, - ответил я.
- Значит, в одну часть. Будем знакомы - Писарев, - назвался сосед, подавая мне руку.
- Москвин, - ответил я, пожимая ее.
Часов в десять вечера, под руководством старшины с четырьмя треугольниками в петлицах, мы погрузились в пассажирский вагон поезда и тронулись в путь. Вот так, не сдав машину, не получив зарплату, без денег и продуктов я оказался в поезде среди будущих моих однополчан.
Писарев понял мое бедственное положение сразу же, как мы сели в вагон. Он не оставил меня в беде. Открыл чемоданчик и стал угощать, положив начало нашей дружбе на все время совместной службы в автороте.
МИТЯ ОРЛОВ. АВИАЦИЯ
Приехали в Омск седьмого марта. Старшина привел нас в крепость, сдал старшему лейтенанту - командиру карантинной команды. Переночевали мы на голых нарах, а утром, сходив в столовую, отправились в баню. Было нас в бане - будущих солдат - тридцать два человека. После помывки нам выдали белье, обмундирование, ботинки, обмотки. Там же, в бане, дали первый урок - как надо пользоваться этими обмотками.. Все мы сильно возмущались такой обувкой, а еще больше - стыдились идти по городу в своем, одинаковом по форме, но разнобойном строю. Держали нас в карантине две недели. Каждый день поднимали в шесть часов утра, тренировали в скорости наматывания обмоток, затем вели в одних гимнастерках на площадку для зарядки. Умывание, одевание, завтрак были всегда строго ограничены по времени. После завтрака - два часа строевая подготовка, потом изучение дисциплинарного, внутреннего, караульного уставов. После обеда - тихий час, затем повторение занятий до ужина. Отбой в двадцать два часа. Старший лейтенант не жалел себя и нас. Все время он был с нами, неутомимо готовил нас для нормальной службы. Турник, брусья, конь, гиря двухпудовая были нашими занятиями не только во время учебного дня, но и в свободное от занятий время. Я хорошо работал на турнике и с гирей, но брусья и конь для меня были новинкой и трудно давались.
Через две недели нас всех повезли в Куломзино, в расположение авиабригады. По приезду построили перед казармой и снова, как в карантине, стали спрашивать, у кого какая специальность. Всех шоферов, а таких было семь человек, старшина-блондин Орлов повел в казарму автороты. Там ознакомились с нашими документами - водительскими правами. Спросили, на каких машинах работали в гражданской жизни, где и на каких маршрутах, после чего каждого прикрепили к машине для прохождения службы. Мне достался автомобиль ЯЗ-6, водомаслозаправщик. Дружка моего Писарева посадили на бензовоз ЗИС-5, которыми в то время заменяли автомобиль АМО-3. Остальных новобранцев определили на разные транспортные машины.
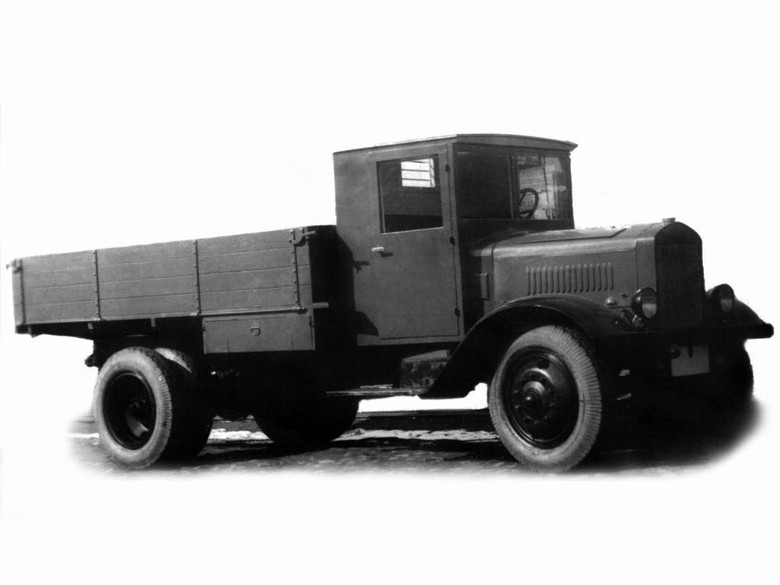 |
Грузовик Ярославского завода ЯГ-6. ЯЗ-6, о котором идёт речь в воспоминаниях, это, судя по всему, аэродромный заправщик, на базе ЯГ-6, точнее его удлиненном автобусном шасси |
 |
Вот как раз аэродромная машина на базе Я-6, правда, не заправщик |
На ЯЗ-6 до меня работал Олег Кондратьев. Он заканчивал службу и уже носил пышную прическу, каждый раз, по возможности, поправляя ее расческой. Его шевелюра вызывала общее восхищение, и он очень гордился ею. Веселый нрав и большое чувство товарищества делало его своим человеком не только в роте, но и среди летного состава бригады. Мне он говорил, чтобы я не показывал своей грусти, досады и тоски, чтоб везде старался быть веселым, чтоб чаще улыбался, а если есть голос, то и подпевал.
- Улыбка, смех и песня - это спутники шоферской жизни!
С Олегом мы работали на водомаслозаправщике сначала вместе, каждый день выезжали на аэродром для заправки самолетов, а когда я освоился и с машиной, и с заправкой самолетов маслом, стали работать попеременно, так как наступила пора тактических учений штурмовой авиации, и нас часто поднимали по ночам.
Осенью Олег окончил срочную службу, и мы его проводили домой. Проводы были оживленными, дружественными. А моим напарником стал Ваня Снегирев, с ним мы работали до января 1937 года. В январе меня забрали в школу младших авиаспециалистов ШМАС. Жил я в казарме автороты, а службу нес в школе. После окончания учебы в марте меня назначили в обеспечение к экипажу штурмовика Р-5, к летчику Игорю Сафронову. В школе нас учили не только обслуживанию, но и материальной части самолета, и парашютному делу. В мае тридцать седьмого стали готовить к парашютным прыжкам. Накануне первого мая мы должны были уже иметь опыт прыжков с самолета У-2. Я, как и другие, прошел медкомиссию, сам, под руководством мастера парашютного дела, свернул и уложил в рюкзак парашют. И вот настал момент совершить прыжок.
День стоял теплый, солнечный, ветра почти совсем не было. Я забрался в кабину самолета и уселся позади летчика. Со мной на пару сел мой однокурсник Ильин. Взревел мотор, самолет пробежал по дорожке и стал набирать высоту. Я был спокоен, но в разговор с Ильиным не вступал. Мысль была одна: чтоб не потерять самообладания. Когда самолет набрал нужную высоту - 400 метров, летчик подал команду сбавить обороты двигателя. Ильин поднялся, вышел на плоскость крыла и исчез. За ним прыгнул и я. Был ли у меня страх? Был! Только желание сделать то, что делают другие, заставило меня перейти рубеж страха, и со словами: "Будь, что будет!" я вышел на крыло и прыгнул, не показав своей робости. Как открылся парашют, я не осознал. Сильно качнуло. Чтобы не потух парашют, и не захлестнулись стропы, начал их регулировать, пытаясь остановить качку, и мне это удалось. Приземлялся тихо. Передо мной открылась прелесть пространства, которую никогда не видел так объемно, и больше уже до конца жизни не увижу. Полет в самолете любой марки и на любой высоте не дает того наслаждения, которое испытывает человек под куполом парашюта. А какое было ликование после приземления! Я был весь в гордом торжестве за совершенное.
После прыжка я снова попал в лапы врачей, и они не обнаружили изменений в организме. Врач похлопал меня по плечу, сказал:
- Все хорошо. Молодец!
Прошла неделя. Предстоял второй прыжок. Я, как и в первый раз, прошел медосмотр и в конце апреля, в воскресенье, около десяти вечера мы вышли из казармы комендантской роты, направились на аэродром. Два самолета с работающими моторами стояли на взлетной дорожке. Шли мы строем по два человека, экипированные в синие комбинезоны, с парашютными ранцами на спинах.
Моим напарником в строю вновь был Ильин. Молчали. Каждый думал о своем.
Наша очередь на вылет намечалась второй. Мы сели тут же на полянке, а вместе с нами - еще восемь человек. Курить запретили еще в казарме и, чтобы чем-то заняться, мы вели тихий, не оживленный разговор, изредка прерываемый взрывами смеха. Вскоре в небе появились купола парашютов, и самолеты пошли на посадку. Пришла наша пора подниматься в воздух, а через несколько минут прыгать из самолета в пустоту. Меня охватила какая-то робость, перешедшая в дрожь. Старался успокоить себя, но что-то навязчиво вводило меня в волнение, неприятное и пугающее. Я напрягал память: не допустил ли ошибку, когда укладывал парашют. Время текло. Я не заметил, как летчик сбавил обороты и как поднялся Ильин. Дверка открылась, в кабину ворвалась струя свежего воздуха. Ильин вышел из кабины на плоскость крыла, крикнул:
- Пошел! - и скрылся внизу.
Я двинулся за ним с думой: "Эх, два раза не умирать!", и тоже свалился в бездну. Хлопок раскрывшегося парашюта привел меня в чувство. Ветер тянул мой парашют к Иртышу. Это было опасно. Стал управлять стропами, чтобы увеличить скорость спуска, хотя это и не предвещало ничего хорошего. Но все обошлось, хотя парашют удалось потушить уже почти у самого берега, причем, с участием прибежавших солдат скорой помощи. Только после этого случая врачи обнаружили у меня порок сердца и к дальнейшим прыжкам не допустили - списали, как выражались тогда парашютисты. До летних учений я продолжал обслуживать самолет Сафронова: готовить в полет, встречать из полета.
Настали июньские боевые учения, отрабатывалась тактика штурмовой авиации на бреющем полете. По несчастливой случайности самолет Сафронова натолкнулся на копну сена и перевернулся. Летчик и стрелок-радист (не помню его имени), погибли. Самолет Р-5 разрушился, но не сгорел.
Этот случай стал для меня роковым. Я был отстранен от подготовки самолетов, а помпотех эскадрильи - арестован. 1937 год - это год страшных репрессий.
Так закончилась моя карьера в авиации.
ПИСЬМО ВАЛИ
Был ясный тихий день июля. Я запустил двигатель своего ЯЗ-6, полез в кабину и услышал голос Вани Снегирева:
- Пляши! Тебе письмо! - крикнул он.
Я редко получал письма от сестры Тони, еще реже - от отца, хотя каждый раз ждал и радовался весточкам. Но это письмо было не от родных. Я распечатал его, прочитал, прыгнул из кабины, обнял Снегирева и, "терзая", закричал:
- Ваня! Какое письмо! Какую радость ты принес мне!
Снегирев с интересом ждал, когда я немного успокоюсь и расскажу содержание письма и назову его автора.
- Друг! - сказал я, немного успокоившись, - я все тебе расскажу там, в казарме, - быстро вскочил в кабину машины, посвистывая и улыбаясь, поехал на аэродром, охваченный неуемной радостью, повторяя: "Валя! Валя!"
Моя любимая Валя все же дала о себе знать через четыре года.
 |
Валя (Валентина Ефимовна |
Дальше воспоминания прерываются, и возобновляются через полтора года. За это время произошло два важных события: отец женился и стал офицером.
ЭЛЬМАР ЛАРЕНС
После окончания курсов младших лейтенантов меня направили для прохождения службы в 404-й артиллерийский полк. Он располагался в крепости города Омска. Построена крепость была еще до революции. Крепостные стены высотой в два с половиной метра и толщиной в метр были сложены из красного кирпича. С южной стороны крепости - ворота, сделанные из металла, закреплены на массивных кирпичных столбах. Внутри крепости выстроены казармы, помещение для офицерских семей, конюшни, церковь, перестроенная в клуб, и большой плац для строевой подготовки.
 |
Омская крепость |
Получив назначение, я в тот же день прибыл в эту крепость. День был солнечный, снег почти полностью сошел. Талые воды сбегали тонкими струйками от крепости в речку Омку. Грачи, галки, воробьи вели шумную, хлопотливую жизнь. У ворот меня остановил часовой, вызвал дежурного. Дежурный - старший лейтенант - взял у меня направление, вошел в караульное помещение, через несколько минут вернулся, отдал мне направление и указал на одноэтажное длинное строение, где располагался штаб полка.
Лейтенант, сидевший за столом, встал:
- По какому делу?
- Прибыл в полк для прохождения службы.
Лейтенант, посмотрев мое направление, указал на дверь начальника штаба и предупредил, чтобы я постучал прежде, чем войти.
- Капитан очень строгий, любит порядок.
Сам придирчиво осмотрел меня и легонько подтолкнул к двери. Начальник штаба капитан Сорокин, как только я вошел, отодвинул от себя какую-то бумагу. Я хотел доложить, как советовал лейтенант, но капитан предупреждающе поднял руку:
- Знаю!
Прочитав мое направление, он встал:
- Подождите у дежурного по части, вызовем через полчаса.
Я вышел, как положено. Вдоль коридора стоял рядок пустующих стульев, придвинутых к стенке. Там и стал ждать. Дежурный лейтенант - невысокого роста, плотно сложенный, аккуратный, подтянутый подошел ко мне, спросил:
- Что, младшой, так быстро? Не принял, что ли?
Его белые брови приподнялись, губы в улыбке натянулись, оголив ровный строй белых зубов.
- Будем знакомиться, - протягивая мне руку, произнес он, - Ларенс, - и тут же поправился, - Эльмар Ларенс.
Его баритонный голос произносил слова с незнакомым мне акцентом. Я встал, пожал его протянутую руку, назвал себя. Сев рядом со мной, он вдруг быстро поднялся и произнес:
- Пойдемте к столу дежурного - могут позвонить. Или выйдет начальство.
Знакомство наше продолжалось. Эльмар, поблескивая своими голубыми глазами, расхваливал полк, штаб и, особенно, свою штабную батарею.
- У меня три взвода: взвод топографистов - им командует хороший парень, Помазкин; взвод разведчиков - командир Барков, а вот комендантский взвод пока без командира. Может, пойдешь? Я подскажу капитану.
Мне было все равно, где служить:
- Знаете, товарищ лейтенант, не будем торопиться. Вдруг я еще не подойду для службы в данном полку. Я ведь окончил пехотные курсы, а тут артиллерия.
- Э, браток, ты не будешь командовать артиллерией. У тебя будут такие же стрелки, как и в пехоте. Соглашайся! Я дам знать капитану.
Нашу беседу прервал голос вошедшего капитана Сорокина. Пригласив меня войти, начальник штаба скрылся за дверью. Я встал, одернул гимнастерку, вошел в кабинет, по-уставному встал по стойке смирно. Капитан посмотрел на меня испытующим взглядом:
- Младший лейтенант Москвин, Вы направляетесь командиром комендантского взвода в штабную батарею, в распоряжение лейтенанта Ларенса. Приказ о Вашем назначении подписан командиром полка. Поняли, младший лейтенант?
- Понял, товарищ капитан.
Он встал, подал мне руку и, пожимая, сказал:
- Идите, Ваш командир сейчас дежурит по части, но скоро освободится. Офицер он добрый, но требовательный. Когда познакомитесь, убедитесь в этом сами.
- А мы уже знакомы, - ответил я.
- Да? Тем лучше.
Я вышел. Ларенс ждал меня. Подойдя к нему, я доложил:
- Назначен командиром комендантского взвода в Ваше подчинение.
- Вот и хорошо! Вот и хорошо! - заговорил он, - где живете?
Я ответил, он продолжал:
- Отправляйтесь домой, а завтра к восьми часам утра приезжайте. Батарея располагается в том же здании, что и штаб, только с другой стороны.
Я поспешил к жене с хорошей вестью. На следующий день в нужное время был на месте, встретился с командиром батареи. Он вызвал через дневального зам. командира взвода - ст. сержанта Пономарева, приказал построить людей по линейке около казармы. Когда взвод был построен, мы с Ларенсом вышли к строю. Выслушав Пономарева, и дав команду "вольно", Ларенс произнес:
- Товарищи бойцы! С сегодняшнего дня вашим командиром будет младший лейтенант Москвин. Надеюсь, что вы найдете с ним общий язык, и достигнете высоких показателей в боевой и политической подготовке. Затем Ларенс повернулся ко мне:
- Вручаю Вам, младший лейтенант, взвод, как знамя! Бойцы в этом взводе хорошие. Сделайте все, чтобы они были еще лучше во всех отношениях. Оставляю Вас наедине со взводом, знакомьтесь, - добавил он, пожимая мне руку.
Я прошел вдоль строя, стараясь посмотреть в глаза каждому. Отметил с удовлетворением: никто из бойцов взгляд не отвел. Закончив знакомство и осмотр людей, я приказал Пономареву продолжать занятия по расписанию, а сам пошел к командиру батареи.
- Ну, как? Познакомились? - спросил он, как только я вошел в его маленький кабинет.
- Познакомился. Люди, вроде, неплохие. Взгляд не отворачивают.
- Не то слово! Люди хорошие! Садись, будем чай пить.
Пока он возился с чайником и стаканами, накрывая столик, я осмотрел его кабинет. В этой девятиметровой комнате - к правой стенке от двери стояла аккуратно заправленная одноместная железная кровать. Над ней закреплена небольшая полочка для книг, прикрытых голубой занавеской, возле полки приколот небольшой портрет молодой особы. Рядом с койкой у окна - маленький столик, за которым мы собирались пить чай. В углу за столиком - табурет с примусом. Вешалка для одежды устроена при входе, справа за койкой. В комнате очень чисто.
Присаживаясь к столу, я спросил Эльмара:
- Вы здесь и живете? Не женаты еще?
Он хитро посмотрел на меня, улыбнулся, заговорил тихо, медленно.
- Женился. Только жена не едет сюда. Говорит - получишь квартиру, тогда и расстанусь с общежитием. Заметив мой вопросительный взгляд, он продолжал:
- Жена учится в медицинском институте, живет в общежитии. Говорит, что ей в общежитии лучше готовиться к экзаменам. Женились мы месяц тому назад. Договорились, что я ей не буду мешать, пока не закончит учебу, а заканчивает она через месяц. Вот так и живем пока.
- Значит, медовый месяц идет наперекосяк?
- Да, почти так. Но ничего! Мы свое наверстаем! Не сюда же ее потащишь. Живу пока здесь. Да и удобно мне. Каждый день на месте, с бойцами встаю, делаю зарядку, да и бойцы - народ веселый, остроумный, с ними до слез нахохочешься. И все это с раннего утра. Хорошим настроением заряжаешься на целый день. Я с ними - как хороший друг. Они не скрывают от меня свои радости и горести, и мне от этого только польза. Вечерами вместе с бойцами делаю прогулку перед сном. Они очень хорошо поют строевую песню, хотя, что я говорю - сам убедишься! Я пытаюсь с ними петь - слова-то знаю. И голос есть, а вот музыкального слуха нет. А ты поешь?
- Пою, - ответил я.
- Тогда у тебя с бойцами будет лад. Песня сближает людей.
Мы пили чай медленно. Он все говорил, а я слушал.
- Младшой, знаешь, о чем я хотел поговорить с тобой сейчас? Мне хочется, чтобы во всех взводах нашей батареи научились хорошо ходить в строю, стрелять метко, умело действовать в штыковом бою, маскироваться, отражать внезапные нападения противника. Хочется воспитать в людях злость к врагу, выносливость в походах, а все это можно достичь только тренировкой. В этом деле не надо жалеть времени самого бойца. Надо бойцу внушить, что во время занятий он не просто занимается, а ведет бой с врагом. Когда будут персональные занятия с каждым, особенно с теми, кому туго дается методический способ боя, или он дрожит во время стрельбы по мишеням, тут батенька мой, не жалей себя, своего времени, и настойчиво и постоянно натаскивай такого бойца. Он в будущем тебе спасибо скажет. Войны нам не миновать, и она не за горами. Враг стоит у наших границ на западе и на востоке. Нам надо быть готовым к суровым испытаниям войной. Так-то вот, товарищ младший лейтенант.
Ларенс ознакомил меня с распорядком, а вечером назначил встречу с командирами взводов для знакомства. Я внимательно выслушал его наставления, поблагодарил за чай, беседу и ушел к взводу, с которым в ленинской комнате занимался мл. политрук батареи Степанов. Заходить на занятие не стал, а прошел к дневальному. Спросил у него месторасположение комендантского взвода. Во взводной комнате осмотрел койки, пирамиду с винтовками, заглянул в тумбочки и, довольный, вышел в коридор. Вскоре занятие окончилось, я отправился в ленинскую комнату и встретился с политруком.
С успеваемостью бойцов меня познакомил по вводному журналу оценок старший сержант Пономарев. Увиденное меня не удовлетворило, но я промолчал и начал обдумывать меры, которые помогут совершенствовать обучение в соответствии с указанием командира батареи.
Меня не устраивало специализированное направление боевой подготовки во взводе, и я пошел с предложением к Ларенсу. Он выслушал и одобрил:
- Думаешь правильно. Действуй!
За размышлениями не заметил, как прошел день. Вечером Ларенс познакомил меня с командирами взводов Помазкиным, Барковым и Степановым. Знакомство прошло в дружественной, веселой обстановке, а после командир разрешил мне ехать домой. Мы с женой жили в Кировском районе - на левом берегу Иртыша. Добираться надо было только поездом - паромы уже не ходили, Иртыш поднял лед и кучами гнал его на своей спине на север. Добрался поздно. Дома я еще обдумывал план занятий. Переговорили с Валей насчет переезда в город. Утром я встал рано, наскоро покушал и поехал на службу.
Ларенс встретил меня словами:
- Младшой, пиши заявление на квартиру в крепости. Есть такая возможность. И тебе, и мне неудобно жить далеко. Сегодня обращусь к командиру полка с твоим заявлением.
Заявление я написал и пошел к взводу. Бойцы только что пришли из столовой и собирались на занятия по специальности, которые должны были проводить командиры отделений. Но я построил взвод и объявил, что сегодня начнем заниматься по новому плану.
- А как - по новому?
Я не ответил, так как план должен был быть согласован с командиром батареи и штабом полка. Этого требовала дисциплина. Командиры отделений под контролем Пономарева увели своих подчиненных на занятия, а я пошел к Эльмару. Мой план Ларенс одобрил и заверил, что согласует его со штабом полка. Я предполагал учить всех людей в составе взвода по трем программам, а именно - несение караула, регулирование движения колонны на марше и выполнение службы связи. Причем, основное внимание уделял огневой подготовке, знанию всех видов оружия, которым вооружались пехотные подразделения: винтовка, автоматическая винтовка, пистолет, ручной и станковый, пулемет, ручные гранаты. Я полагал важным не только изучить устройство этого вооружения, причины неисправностей, способы устранения неисправностей, но и выполнить приведение к бою, и провести стрельбу по цели из автоматического оружия, и метание гранат хотя бы раз каждым бойцом. Нужным считал и научить каждого бойца преодолевать препятствия, маскироваться и вести штыковой бой. Для выполнения моей программы положенного времени, отведенного на занятия, не хватало. Надо было увеличивать количеств учебных часов за счет строевой подготовки. Строевую я планировал проводить во время учебных прогулок, движения на основные занятия, в столовую и из столовой.
План был утвержден штабом полка, и вскоре я приступил к его выполнению. Получил разрешение израсходовать на обучение каждого бойца по пять винтовочных патронов, по одному пистолетному патрону и одной гранате-лимонке, но только после изучения материальной части видов оружия. Через несколько дней я приступил к занятиям - серьезно и кропотливо. За теми, кто не справлялся с заданием, закреплял тех, кто хорошо усваивал материал, и не разрешал останавливать тренировки. С командирами отделений занимался особенно упорно, используя каждую свободную минуту. Через две недели все бойцы четко отвечали по вопросам об устройстве, неисправностях и устранении неисправностей оружия.
На третий день после вступления в должность командира взвода я был вызван к командиру полка майору Андрееву. День был в разгаре. Над городом нависли тучи, закрыв все небо, но дождя не было. Я решил, что сделал что-то неладное и шел с ощущением непонятной вины. Постучав, вошел в кабинет комполка и, как положено по уставу, доложил:
- По Вашему приказанию младший лейтенант, командир комендантского взвода прибыл, - и резко опустил руку.
За столом - несколько в сторонке - сидели комиссар полка Колпаков и начальник штаба Сорокин. Майор Андреев указал на стул:
- Садитесь, младший лейтенант!
Сел, разглядывая их в ожидании ОВ - очередной взбучки. Встретился я с ними впервые, и робел.
- Где Вы живете, - спросил Колпаков
- В Куломзино.
- О, это далеко. Женат?
- Женат, имею дочь.- Где служил?
- В авиабригаде. Сначала шофером, потом зав. делопроизводством автороты, а с октября по апрель учился на курсах младших лейтенантов по 117 стрелковому полку в Омске.
- Партийность?
- Кандидат ВКП(б) с 1938 года.
Мы слышали, что Вы обучаете бойцов по новому плану. Так это?
- Так, товарищ майор!
- Как Вы справляетесь? Живете далеко, времени-то не хватает?
- Что сделаешь. Из дома выезжаю рано, домой возвращаюсь поздно. Но жена пока не сердится.
- Хорошо, - сказал командир полка, - у нас тут освободилась одна комната в крепости. Хотели ее отдать Вашему командиру батареи лейтенанту Ларенсу, но он отказался, просил в ней поселить Вас с семьей. Устроит Вас такой вариант?
- Спасибо, товарищ майор, но как-то неудобно занимать комнату, предназначенную моему командиру. У него тоже есть жена.
- Все улажено. Завтра обратитесь к майору Сандлеру, ему такое распоряжение уже дано. Вопросов нет? Можете быть свободным.
 |
Иван Уварович Москвин и Валентина Ефимовна Голубкова (Москвина) |
Я круто повернулся, стараясь быть спокойным, и вышел из штаба. Внутри клокотало. Я был счастлив до бесконечности. Теперь я мог с бойцами быть с подъема до отбоя, тем более что люди обходились со мной просто, многие весело шутили. При моем появлении взвод становился по-деловому оживленным. Это льстило, я чувствовал, как поднимается настроение. Каждый человек взвода для нового командира - это страничка не читанной еще интересной книги. Я каждый раз шел к своим бойцам в ожидании чего-то нового, интересного, и это вызывало нетерпение, ускоряло шаг. Много мы проводили занятий, бесед, я водил взвод в цирк, драмтеатр. Вместе мы слушали симфонический оркестр в клубе СТС.
В начале июня меня вызвал начальник штаба капитан Сорокин и сообщил, что командование решило перевести меня в парковую батарею командиром автотранспортного взвода. Спросил, согласен ли. Я не знал, что ответить. Жаль было расставаться с этими замечательными ребятами из моего взвода, в то же время тянуло ближе к автомобилям. Сказал, что надо подумать. Комиссар подал мне лист бумаги, где был напечатан приказ командира полка о моем перемещении, и добавил:
- Вы - бывший шофер, Вам и служить при автотехнике, а на должность командира комендантского взвода прибыл младший лейтенант Афанасьев, - и уже серьезно, по-военному приказал, - Сегодня передайте взвод Афанасьеву в торжественной обстановке. Командир батареи Ларенс знает об этом. Афанасьев сейчас у него.
Вышел я от капитана Сорокина в глубоком раздумье, как будто меня только что здорово отстегали, и побрел в роту. Ларенс сидел с Афанасьевым. Они о чем-то разговаривали, но при моем появлении замолчали. Афанасьев встал, подал мне руку и, слегка улыбаясь, представился. То же самое сделал я. Ларенс сидел молча и смотрел на нас. Познакомившись с новым командиром взвода, я подал приказ Ларенсу и сел. Он долго читал бумажку, почему-то вертел ее и, наконец, сказал:
- Жаль, конечно, но колесо истории не повернется, - и, не глядя на нас, добавил, - Идите, передавайте взвод. Постройте с полной боевой, я выйду.
В тот же день я был уже у командира парковой батареи Помозова. Он встретил меня сухо. Разговор состоялся сугубо официальный, но я был спокоен, так как слышал, что Помозов по натуре малообщительный, но знающий командир. Он окончил военно-техническое училище и, как командир, был на своем месте. Правда, несколько грубоват, но работать с ним можно.
Знакомство с водителями прошло не так, как с комендантским взводом. Я обошел все машины парка, познакомился с каждым водителем, не вдаваясь в подробности, а вечером построил взвод, сообщил, что отныне - я их командир. Внимательно осмотрел с ног до головы каждого бойца. Стало как-то не по себе. Видно было, что это не бойцы, а шоферы, одетые в военную форму. С гражданской дисциплиной, хотя в армии прослужили уже больше года. На другой день я прибыл в казарму рано, еще до подъема. Дневального на месте не оказалось, но вскоре он появился, одернул гимнастерку и просто сказал:
- Дневальный Черемных.
Я сделал ему короткое замечание на отсутствие, на расстегнутый ворот гимнастерки, нечищеные сапоги и дал команду "подъем" - эта команда подавалась звонком. Спящие бойцы не отреагировали. Была подана повторная команда - голосом:
- Подъем!
Люди зашевелились, но продолжали лежать. Это для меня была неожиданная неприятность. Я громко и строго дал команду:
- Тревога!
Люди быстро вскочили, начали одеваться. Едва они успели надеть брюки и сапоги, я приказал строиться. В это время зашел командир батареи. Выслушав рапорт дневального, он прошел вдоль строя, почему-то не посмотрев в мою сторону, и дал команду быстро умываться и одеться. Появившемуся старшине приказал:
- После завтрака - людей в парк, - и ушел.
Я был озадачен. Подошел к старшине и попросил его построить отдельно бойцов автотранспортного взвода. Старшина Крюков приказ выполнил. Я снял с себя гимнастерку, подал команду:
- За мной!
Вышел из казармы и побежал по кругу, бойцы потянулись следом. Пробежав три круга, построил бойцов в две шеренги и начал с ними зарядку, говоря:
- Делай, как я.
Сначала они делали упражнения неуклюже, но все же делали. Видно было, что зарядкой с ними никто не занимался. Так поступал я каждое утро в течение недели, а вечером - прогулка и строевой шаг. Через неделю увидел в казарме старшину Крюкова. Когда я вошел, он встал, поприветствовал меня и подал команду "подъем", а потом сказал:
- Я сам поведу всю батарею на зарядку.
Что ж, веди, а я понаблюдаю. С этого дня батарея стала настоящим воинском подразделением, а Помозов как-то заметно подобрел ко мне. Часто проводил я с бойцами всей батареи политзанятия, а политинформации - каждый день. В середине июня к нам прибыл политрук Скобелев. Имени не помню, а отчество Кузьмич. Мы его так по отчеству и называли.
Это был добрейший человек, политически грамотный, мобилизованный гражданский из города Иваново. С прибытием Кузьмича я освободился от политзанятий, но политинформации продолжал вести, присутствовал на всех занятиях, которые проводил Кузьмич. Это было очень интересно. Он не читал лекций, а говорил, беседовал, периодически - и к месту - вворачивая короткие юмористические рассказы. Бойцы слушали его, разинув рты, и взрывались смехом после каждого такого рассказа, какой-либо смешной короткой истории. Он много знал, а может, тут же сочинял их в процессе занятий, и умел смешно и интересно преподнести нужную информацию. Таков был наш политрук Кузьмич.
В середине июня мы выехали с полком в летние лагеря Черемушки, поселились в палатках. Меня почему-то все время тянуло к Ларенсу, и я устроился в одной палатке с ним. Помозов, Кузьмич и командир взвода мл. лейтенант Яковлев, только что прибывший из отпуска, жили в другой палатке в расположении батареи.
Такая жизнь продолжалась у меня до 20 июня 1939 года.
ДАЛЕКИЙ ПУТЬ
2 апреля 1939 года. Город Омск.
Сегодня мы после теоретических занятий были на стрельбище. Майор Кашаев уж очень просил нас стрелять из винтовок не торопясь, стараясь не мазать.
- Это может скоро понадобиться - как для вас самих, так и для ваших подчиненных.
20 июня. Мы находимся в лагерях Черемушки. Ночь наступила тихая, лунная. В три часа на восточном небосклоне из-за березовой рощи видны отблески начинающегося рассвета. Небо постепенно розовеет, словно художник накладывает краски по серо-голубому полотну.
Где-то в лесу слышен гудок сирены - протяжный, подвывающий. Тишина леса огласилась урчанием моторов, криками людей.
- Что это? - спросил меня, проснувшись, физрук Греков.
- Тревога, - ответил я, быстро одеваясь.
Греков, как обожженный, вскочил с постели, и энергичными движениями привел себя в боевой порядок.
Крупными шагами, переходя на бег, мы стремительно отправились в свои подразделения. Я - к командиру парковой батареи, он - в штаб полка.
Командир батареи лейтенант Помозов был уже в подразделении. Из палаток один за другим выскакивали бойцы, становились в строй. По приказу лейтенанта мы повзводно двинулись в парк готовить машины для загрузки боеприпасов, вещевого и продовольственного имущества.
Прошло немного времени. В пятом часу начали выдвигаться на дорогу сначала артдивизионы на тракторной тяге (были у нас два таких - НАТИ-5), а затем третий дивизион на конной тяге. Мы замыкали колонну.
Когда полк вытянулся на дороге, командир полка майор Андреев собрал командный состав, поставил задачу и отдал приказ на марш. Двигались в среднем темпе, конный дивизион - легкой рысцой.
- Куда едем, товарищ младший лейтенант? - спросил меня водитель Аржанников.
- Коль поехали - куда-нибудь приедем, - ответил я неопределенно.
Вскоре мы увидели окраину Омска. Проезжая город на малой скорости, мы стали встречать идущих по улице людей. Они останавливались, смотрели нам вслед. Пройдя восточную часть города, мы вышли к железной дороге, остановились. Командир первого дивизиона 152-миллиметровых гаубиц капитан Белый - высокий, стройный, очень строгий - собрал командиров батарей и отдал приказ грузить трактора и орудия на поданные платформы. Стало ясно, в каком направлении мы едем, а куда приедем в эшелоне - покажет семафор.
Погрузочная площадка длинная - почти на весь эшелон. Одновременно стали грузиться дивизионы Белого и Гусева. Через два часа эшелон с загруженными платформами отошел от площадки и скрылся за поворотом. Вместо него подали смешанный эшелон - с платформами и крытыми вагонами. В него грузили третий дивизион на конной тяге, штаб и парковую батарею: орудия и автомобили - на платформы, лошадей, сено, фураж - в крытые вагоны. К двенадцати часам дня погрузка закончилась. Я, спросив разрешения у командира батареи, быстро помчался к жене. Собрались и поехали на вокзал: нужно было успеть отправить ее к родне в Челябинскую область. Как на грех, случилась беда. В трамвае я потерял гомонок с деньгами. Там было четыреста рублей. Пришлось достать из чемодана костюм и отправиться на базар. К счастью, покупатель сразу нашелся. Продав костюм и отправив жену, я вернулся к месту погрузки. Вскоре наш эшелон тронулся в путь. Едем час, другой, вот уже и ночь, а паровоз мчит нас все дальше на восток, почти без остановок. Теперь уже никто не спрашивал, куда и зачем мы едем. На восток, значит, на Халхин-Гол. Там шли бои Красной Армии с японскими самураями. Спать не хотелось, но под утро сон все-таки свалил меня.
21 ИЮНЯ 1939 ГОДА
Спал недолго, но когда проснулся, показалось, будто я что-то потерял. Быстро поднялся, взял полотенце, пошел умываться. Кто-то из бойцов сидел у дверей, тихо переговариваясь, кто-то еще лежал, но не спал, бодрствовал.
- Где едем? - спросил я, обращаясь к сидевшим у двери.
- Проехали Чулым, - ответил за всех Рыженко.
Чулым я помнил. Когда служил в Омской авиабригаде, однажды в лётные дни мы проводили там учения авиаторов по отработке бомбометаний и обстрелов условного противника штурмовиками Р-5. Я пожалел, что проспал эти места. Мне нравилась Чулымская долина с множеством озер и далеким, покрытым дымкой, горизонтом.
Через несколько часов наш эшелон, замедлив ход, приблизился к Новосибирску. Я еще издали узнал его. И родился недалеко от Новосибирска, и часто посещал его в юности, когда работал шофером, да и призывался в армию в марте 1935 года в Новосибирске. Что-то родное поднимало мои чувства при виде этого сибирского города, хотя был-то я в нем всегда проездом. Стояли мы здесь около часа. Батарейцы напоили лошадей, люди позавтракали. Завтрак был очень поздним: что-то повара наши задержались или расписание движения поезда было нарушено. Мы ведь ехали в срочном порядке, так требовала обстановка на Халхин-голе. Управившись со всеми делами, наш эшелон тронулся в путь - на Красноярск. Проезжая станцию Аяш, вспомнил 1930 год. Мне было тогда шестнадцать лет. Здесь я впервые сел в пульман, чтобы доехать до станции Тайга. Проезжая через девять лет вновь знакомой дорогой, я был молчалив, находясь в воспоминаниях этого самого тяжелого испытания моей жизни.
Остановки нашего эшелона были редкими и короткими. Подъезжая к очередной станции, поезд замедлял ход. Ждем остановки. А он, пройдя станцию, увеличивал скорость. Первая и короткая остановка была на станции Тайга, а потом - на ст. Марининск: здесь был обед.
Вновь двинулись вечером. Начались горы и лес. Сплошной лес и горы. Невероятно красивое зрелище, особенно на закате солнца!
Ехали мы в крытых вагонах, двери с той и другой стороны открыты. В дверях сидят бойцы, ведут оживленную беседу, посмеиваются, вглядываются в плывущую навстречу природу. Время от времени раздается оживленный крик: это кто-то, или все сразу, увидят совсем близко медведя или какого другого зверя.
Разные интересы у людей, и у каждого - свои думы. Но в любой компании и любой остановке всегда находились люди, которые умели поднять настроение, отвлечь от собственных мыслей. Так и в нашем вагоне. Был у нас боец Мишин. Срок службы его подходил к концу. Человек незаурядных способностей, рассказчик, каких мало, Мишин никогда не садился в центр группы - присаживался с краешку или стоя начинал рассказывать какой-нибудь анекдот, а то и короткие истории из своей жизни, часто выдуманные. Сверкая своими черненькими бегающими глазками, поглаживая изрядно отрощенную шевелюру, он обычно произносил:
- В некотором царстве, сказочном государстве было...
И начинается рассказ один смешнее другого. Бойцы, не переставая, громко смеются каким-то взрывающимся смехом. А то вдруг среди бурного смеха он запоет своим высоким баритоном песню "Три танкиста" или "Пшеница золотая". Тут же ее подхватывают все, даже те, кто еще не успел освободиться от смеха. И гремит песня так широко и вольно. Хорошо, когда в компании есть веселый человек. Скуки в таком обществе не бывает.
А природа действительно неповторима, да еще в летнее время. Сколько зверья разного и птиц мы встретили, и все казалось, что они специально выходят нам навстречу из дремучей тайги, с гор и из ущелий.
Одна картина сменялась другой, и я не мог удержаться от соблазна написать несколько стихотворных строчек:
Лишь неведомый мне край
Доселе был для нас в тумане.
Теперь давай-ка, открывай
Свои все тайны перед нами.
И ты открыл леса густые,
Поля, луга, хребты крутые,
И синеву далеких гор,
И шум лесной, и птичий хор.
Ночь наступала медленно, но смех и песни в вагоне не затихали. Лишь, когда уже стемнело, я подал команду "отбой".
 |
На фотографии Москвин И.У. периода службы |
Красноярск проехали на рассвете 22 июня. Жизнь в вагоне началась и повторилась, как накануне, лишь с той разницей, что в этот день надвинулась туча, поднялся ветер, в небе загрохотало, пошел сильный дождь. Целый день было пасмурно, дождь периодически повторялся. Жара в вагоне спала. Такая погода сопровождала нас до Канска.
В Канске обед, получасовая остановка, и снова в путь. Жизнь шла однообразно, веселье сменялось тишиной - такой тишиной, как будто вагон опустел. День сменялся ночью. За время пути я успел прочитать книгу В.Гюго "Жан Вальжан".
25-го утром мы были в Иркутске. Поезд медленно двигался вперед, и остановился, проехав вокзал. Стояли недолго, вскоре тронулись. Ехали между составами, поэтому вокзал не пришлось увидеть. На таких больших остановках, как Иркутск, в наш вагон приносили газеты, и все с жадностью брались за чтение.
Целый день мы вновь любовались природой. Проезжаем по линии, проложенной по краю Байкала, а справа громоздятся огромные скалы. А вода-то какая в Байкале! Чистая, прозрачная, блестит почти под вагоном. Цвет воды похож на цвет дна. Кажется, дно рядом, а попробуй достать его - уйдешь далеко с головой. Железнодорожное полотно местами проложено у самого берега, настолько близко, что смотришь, и кажется - едем не по рельсам, а плывем по воде. В этот день я был дежурным дозорным на площадке впереди паровоза. Только вечером, перед Читой сменился и вернулся в свой вагон на небольшой станции Забайкальск. Так что скалистые стены, нависшие над путями, и спокойный, тихий Байкал удалось хорошо разглядеть.
Придя в вагон, я лег на свою соломенную постель и вскоре уснул так крепко, что не слышал, как проехали Читу. Проснувшись от шума, ощутил, что поезд стоит. Возле вагонов ходят командир батареи лейтенант Помозов и зам. командира полка по тылу майор Сандлер.
- Приехали, - сказал Рыженко, обращаясь ко мне.
Выпрыгнул я из вагона и направился к Помозову. Солнце только начинало всходить. Поезд стоял между сопок. Вокруг не было видно никакого жилья.
Уточнил у Помозова:
- Что, приехали?
- Приехали, - сухо ответил он.
Через полчаса наш эшелон подали на разгрузочную площадку - маленькую, наспех сколоченную из шпал. Разгружаться на ней могли не больше двух платформ одновременно, тем не менее, работа шла быстро. Паровоз методично протягивал состав вперед, как только с платформы сходило орудие или машина. Разгрузившись, мы двинулись к месту сосредоточения полка.
Из-за сопок показался маленький городок в несколько двухэтажных домов. Здесь располагался кавалерийский полк. Правда, самого полка уже не было, он ушел в Монголию, в район Харанора еще в начале конфликта, а в городке остались семьи офицерского состава. Гарнизон представлял собой небольшое подразделение.
Пройдя городок, мы раскинули палатки между сопками на открытом месте. Кругом ни одного кустика, да и трава какая-то жухлая, слегка пожелтевшая. На сопках видны редкие кустики перекати-поля. Скучная природа. Хорошо, что погода была сухая, теплая и тихая.
28 ИЮНЯ 1939 г. ХАРАНОР
Накануне день был пасмурный, с мелким, в виде тумана, периодически моросящим дождиком. Тяжелый и трудный день кончился поздно вечером. На тактические учения бойцов подняли рано, еще затемно. Я был тогда командиром автотранспортного взвода. В задачу взвода входил подвоз продовольствия, фуража, боеприпасов в соответствующие части полка. Мне было указано на карте месторасположение тылов полка и огневых позиций батареи. Сверив карту с местностью, я наметил маршрут движения. Погрузившись, мы тронулись в путь. Ехали по глубокой балке километров десять, затем повернули вправо, въехали в мелкий лес (по-нашему - кустарник), и, преодолев гору, угадали как раз на КП командира полка, куда и стремились. Отъехав от КП метров двести, остановились в узком ущелье.
Тактические учения у нас были часто, и это благоприятно сказывалось на выносливости личного состава, готовности в любое время сесть за руль своего автомобиля и выполнить любое задание. Вернувшись с учений, бойцы наскоро поужинали, залезли в палатки и уснули крепким сном.
Новый день наступил, солнечный, теплый. Еще утром чувствовалось, что он будет жарким. В воздухе и на поверхности земли рябило испарение редким прозрачным туманом - волнами, поднимающимся от земли.
Мой сосед по палатке Иван Михайлович Иванов, командир пулеметного взвода, с трудом расставался со своим сном. Повалявшись, он вдруг быстро вскочил и, что-то бурча, побежал из палатки к умывальнику.
Другой мой сосед - командир штабной батареи лейтенант Эльмар Ларенс. По национальности эстонец, не в меру шутливый, но внимательный и заботливый, как хороший хозяин. Ларенс - строгий в службе, требовательный к себе и подчиненным - был всегда первым на ногах во всех случаях.
(по данным сайта "ОДБ-Мемориал" Ларенс Эльмар Исакович, 1913 года рождения, погиб 20 августа 1944 г. в бою под селом Раскаецы Кишиневской области. Отец до конца жизни ничего не знал о судьбе лучшего друга, которому в его дневнике посвящена отдельная глава "Эльмар Ларенс". О.Л.)
3 АВГУСТА 1939 г. ХАРАНОР. ТРЕВОГА
Шла нормальная боевая учеба. День был солнечный, жаркий. Легкий ветерок не охлаждал, а скрыться от палящего солнца было нельзя. Не потому, что требовала дисциплина и воинский долг, а потому что не было такой тени среди сопок и балок. Вблизи не было ни леса, ни кустарников, вообще никакой растительности. Небольшие рощи мелколесья росли в балках и на сопках вдали от нашего лагеря, расположенного в лощине между сопок - километрах в десяти-пятнадцати, и были нам неподручны.
Бойцы установили палатки для солдат, штаба, столовой и офицерского состава. Я устроился в палатке вместе с бойцами. Орудия и техника стояли в линию, причем орудия были прицеплены к тракторам НАТИ-5 и закрыты маскировочной сетью. День подходил к обеду, и вдруг воздух рассек гудок сирены. Он с каждой минутой нарастал. Это был сигнал тревоги, подаваемый из Харанора. Тревога подняла весь полк на ноги.
Я дал команду заводить моторы автомобилей, и быть готовыми рассредоточиться по балке.
Командир взвода зенитных пулеметчиков мл. лейтенант Иванов И.М. вывел из-под маскировочной сети свои газики, на которых были установлены пулеметы "Максим", соединенные по четыре, и выехал в сторону самолета, приближавшегося со стороны манчжурской границы. Самолет шел на большой высоте. Его белый серебристый контур хорошо было видно нам невооруженным глазом. Издали стала доноситься стрельба зенитных орудий, а около самолета начали возникать пучки взрывов. Самолет развернулся, и пошел в сторону Монголии. Пулеметы Иванова так и не вступили в бой с самолетом из-за недостижимости цели. Впервые я увидел врага - хоть далеко, но увидел и почувствовал опасность. Вскоре был дан отбой. Мы приступили к прерванным занятиям.
Вечером был созван весь офицерский состав полка - от командира взвода и старше. Майор Андреев похвалил действия Иванова, пожурил некоторых офицеров за пассивность в принятии мер предосторожности, приказал рассредоточиться подивизионно вдоль балки на расстоянии трехсот метров один от другого, усилить патрулирование по сопкам, окружающим место, где был расположен полк, и выделить посты ВНОС для наблюдения за воздухом.
В свободное время мы не расставались, отдыхали в одной палатке и сдружились.
После завтрака полк подивизионно был построен на линейке по случаю Указа Президиума Верховного Совета СССР о создании 57-го Особого Корпуса для укрепления дальневосточных границ. Указ читал секретарь партбюро старший политрук Чекалин. Читал он с остановками, с выражением, делая ударение на отдельных словах, что придавало его голосу возвышенные и страстные интонации. Последние его слова потонули в буре аплодисментов.
В то время - перед войной, да и в войну - ораторы были пламенные, не то, что теперь. Говорили без бумажки, от сердца. Слушая, нельзя было не волноваться. Мы находились на пороге больших испытаний - боев с японскими самураями. После аплодисментов среди бойцов раздались голоса - сначала одиночные, затем площадь загудела, требуя скорее повести нас на бой с врагом. Глядя на выражение лиц бойцов и командиров, можно было утверждать, что с такими людьми в бой идти не страшно.
На митинге выступил комиссар полка - батальонный комиссар Колпаков. Говорил он вдохновенно, призывая бойцов и командиров лучше овладевать техникой и оружием, снайперским ведением огня из всех видов оружия. После митинга весь офицерский состав был собран в одной из балок на совещание.
Командир полка майор Андреев и комиссар Колпаков поставили перед нами задачу подготовить себя, бойцов, технику и вооружение на чрезвычайный случай. Мы каждый день ждали сигнала о выступлении, так как на Халхин-Голе бои были в разгаре. Расходились в приподнятом настроении с решимостью оправдать надежды командира.
14 АВГУСТА 1939 г. ХАРАНОР
Вечером прямо в поле смотрели фильм "Трактористы". Вечер тихий, теплый, легкий ветерок пошевеливает волос, как будто ласково гладит тебя по голове.
Много сделала эта картина хорошего в душе человека. И во мне она как-будто разбудила то, что хотело проснуться, но не могло в постоянной тревоге и беспокойствах. После фильма песню "Три танкиста, три веселых друга" запели - пока только мелодию, а через три дня уже пели эту песню в строю, со словами. Идет строем в столовую третья батарея первого дивизиона. Боец Раковский запевает, батарея подхватывает, и льется песня согласно, величественно. Сбоку идут командир батареи лейтенант Горянский и политрук Архипов, гордо улыбаются, говоря своей улыбкой: вот мы какие, батарейцы!
Вскоре "Три танкиста" начали греметь на всех подразделениях полка. Батарея Горянского была инициатором многих начинаний. Это бойцы Горянского в полном составе разыгрывали инсценировку "На сопке Заозерной", мастерски исполнив роли защитников Родины.
И.И.ПОМАЗКИН
Иван Помазкин был командиром топографического взвода. Высокий среднего телосложения молодой младший лейтенант. В быту и службе был скромен, мало разговорчив, трудолюбив. С его лица не сходила улыбка, а карие большие глаза излучали добро и уважение к собеседнику. В его адрес слагалось много разных небылиц, и все их он принимал без обиды, просто, со смешком - дурачьтесь, дескать, веселитесь в моем присутствии, мне приятно. Но однажды он загрустил, стал какой-то злой, и не дай бог кому-то было пошутить над ним в это время. Его сильные руки так сожмут насмешника, что у того даже слезы из глаз польются. Взгляд его стал колюч и строг.
В чем дело? Что с ним случилось? Многие были озадачены, но лейтенант ушел целиком в себя, и видно было, как он что-то очень тяжело переживает. Со мной одним он был откровенным и обычно посвящал меня в свои тайны, но на этот раз он и со мной не разговаривал, и так же колюче смотрел, как на всех. У него исчез аппетит, сон, покой. Я не мог смотреть на него без участия и начал его тревожить своими вопросами. Как-то раз, это было вечером, на заходе солнца, я пригласил его погулять по сопкам - просто так, чтобы развеяться. Некоторое время шли молча. Наконец, я спросил:
- О чем ты все думаешь, Иван?
Он глянул на меня своими большими карими глазами, улыбнулся и ответил коротко:
- Да так.
Я потребовал:
- Давай, выкладывай, что у тебя на душе!
Он остановился, посмотрел куда-то вдаль, затем присел на зеленый кустик перекати-поля. Присел и я. Иван всматривался в мои глаза, как бы изучая, можно ли довериться, и сказал, наконец:
- Говорю только тебе, поклянись, что никому ни слова не передашь из того, что услышишь сейчас от меня.
Я совершенно серьезно поклялся, как мог искреннее. Помолчав некоторое время, Иван сказал:
- В Омске живет девушка, Тамара Петровна Дорофеева. Она учится в педагогическом институте на вечернем отделении, - помолчав, продолжил: - Люблю я ее, души в ней не чаю, люблю сильно и нежно. Когда вспоминаю ее, сна лишаюсь. Стоит только ее представить - она на миг покажется в воображении и тут же исчезнет. Вот видать - часто вижу, а голоса не слышу, - и замолчал, повесив голову.
Иван сорвал веточку перекати-поля, пожевал ее, хотел что-то сказать, взглянул на меня, тяжело вздохнул и отвернулся, бледнея. Чтобы вывести друга из этого состояния, я спросил
- Жил ты с ней, как с женой?
- Нет. Мы были только друзьями в течение двух лет. Эти два года я любовался ею, а всех остальных, кто меня окружал, не замечал. Она очень добрая девушка.
Он достал из нагрудного кармана гимнастерки письмо и подал мне, сказал
- Читай!
"Милый Ваня, - писала она, - Я очень скучаю после того дня, как проводила тебя, стоя в сторонке, у телеграфного столба, недалеко от того места, где вы грузились в вагоны. Смотрела, стараясь поймать тебя в поле зрения. Видела, как ты стоял на площадке вагона всех выше и что-то говорил красноармейцам. Я долго ждала, пока ты посмотришь в мою сторону, а позвать тебя не посмела. Видела, как ты сел в теплушку, как тронулся поезд, увозя тебя далеко от меня, наверное, навсегда. Как только твой поезд пошел, я машинально оторвалась от столба и начала махать тебе платком, но ты, видимо, не заметил меня, не посмотрел в мою сторону. О, как я радовалась, получив твое письмо!" Дальше было несколько строк зачеркнуто, а потом "Ваня, не надо мне писать, а деньги, что ты мне прислал, возвращаю тебе обратно. Они мне не нужны, я достаточно обеспечена и не нуждаюсь в чьей-то помощи". Я перевернул листок, продолжения не было.
Все знали, он посылал деньги какой-то девушке в Омск. Как-то однажды Иван сказал об этом командиру взвода Афанасьеву, а тот возьми, да и передай другим. Казалось бы, что тут смешного? Но Афанасьев так преподнес эту новость, что все стали над Иваном подтрунивать, а Калугин подошел к нему, сделал жалкое лицо и тихо проговорил:
- Ваня, у меня в Новосибирске есть девушка, нуждается в деньгах. Не пошлешь ли ей рубликов сто?
- А ты что ж? Пропился или на тарбоганок израсходовался, что обнищал? Плохой ты кавалер, коль девушке не в силах помочь. Дай адрес, я напишу ей, чтобы парня получше подобрала, не такого как ты - недоноска.
Все, кто находился рядом, насторожились, ожидая события нелицеприятного.
Тамара, действительно, нуждалась в материальной помощи, но не просила об этом Ивана, считала для себя недостойным просить. Он же, наоборот, хорошо знал ее нужду и, желая сделать ей приятное, отправил девушке двести рублей. Проходят десять, пятнадцать дней, месяц, а ответа нет. Забеспокоился Иван: что же она молчит? Написал девушке письмо, Тамара опять молчит. Еще одно письмо, и снова ответа нет. Загрустил парень, это заметили сослуживцы, начали посмеиваться. Особенно выделялся своим зубоскальством тот самый Афанасьев, которому Иван сообщил свой секрет с переводом. Его серые глаза навыкате, как у больного зобом, всегда смеющиеся, были какими-то прозрачными и наглыми, словно не глаза, а дождевые пузыри в луже.
24 сентября 1939 года около нашего барака, в который многие, в том числе и мы с Валей и дочерью Женей, поселились, стояла группа офицеров. Иван шел от штаба, видимо, к своим бойцам. Младший лейтенант Матушкин окликнул его, и Иван подошел к компании, даря всем свою дружелюбную улыбку. Видя, что и офицеры загадочно улыбаются, Помазкин догадался, что разговор вновь шел о нем. Иван посерьезнел и сказал:
- Внимание, дорогие друзья!
Все затихли, ожидая, что нового он скажет, чтоб повеселиться вволю.
- Были мы друзьями. Много я доставил вам удовольствия посмеяться надо мной, но теперь хватит! Я убедился, что вы не можете быть мне друзьями. Посмейтесь теперь над кем-нибудь другим! С этого дня, если кто-то попытается оскорбить мою честь, посмеяться над добром и любовью, у того отпадет охота это делать.
А уж, если Иван что-то сказал, так он исполнит это, не задумываясь. Об этом хорошо знали все, но Афанасьев попытался осмеять эту угрозу и тут же поплатился. Мы не смогли помешать Ивану, так как все произошло неожиданно быстро. В руках Ивана болтались обрывки портупеи, а Афанасьев валялся на полу, сплевывая сукровицу. Иван зол был на предательства Афанасьева и не сдержался. Бросив в лицо противнику обрывки портупеи, Помазкин круто повернулся и прямой, высокий, пошел широким шагом в сторону Харанора. Два дня после занятий с бойцами он куда-то исчезал, но на службу приходил, как всегда, вовремя, собранным и аккуратным.
Узнав о случившемся, командир полка привлек его к суду офицерской чести. Суд проходил в только что отстроенном красном уголке. На суд пришли все офицеры полка. Секретарь партбюро Чекалин зачитал приказ о составе членов суда, предложил участникам занять места. Иван был посажен на скамейку перед судом. В зале воцарилась тишина.
Афанасьев встал, вышел в проход между рядами, подошел к скамье, на которой сидел Иван, и, усаживаясь рядом, проговорил:
- Судите и меня. Я виноват. Помазкин не виновен.
Зал зааплодировал. Такой поворот дела суду и командованию понравился. Помазкин и Афанасьев пожали друг другу руки. На том суд окончился. С тех пор слух об этом случае ярко жил во всей части, и над Помазкиным больше никто не смеялся, но разговаривали с ним, как с товарищем - серьезно, по-деловому. Сам же Иван ушел в себя, много занимался разной литературой, ни с кем не вступал в задушевные разговоры. Это длилось до весны 1940-го.
Я не мог забыть про злополучное письмо Тамары, и однажды спросил его:
- Вернула она тебе деньги?
- Нет, - ответил он.
- И писем нет?
- Нет!
- Подумав, я сказал ему, положив руку на плечо товарища:
- Езжай-ка, Ваня, к ней. Она ждет тебя, не денег и письма. Бери отпуск и езжай,
Помазкин как бы проснулся, пожал мне руку и сказал:
- Еду!
Вскоре он взял отпуск, уехал, а рано утром 14 мая постучал в дверь нашей комнаты.
- Пускай в гости, друг! - заговорил он, широко улыбаясь.
Я понял его.
- Одну минуту!
Разбудил Валю. Одевшись, мы пригласили Ваню с Тамарой к нам. Квартирка у нас была небольшая, около восьми метров. Жили мы в ней втроем с дочерью Женей.
Тамара оказалась девушкой среднего роста, черноглазой брюнеткой лет двадцати двух. Она показалась мне застенчивой, но, едва освоившись, Тамара уже вела разговор с Валей, как давняя знакомая. Ее тихий голос мне до сих пор помнится.
Поместили молодую семью в комнате, расположенной рядом с нашей. Дружили мы семьями до конца мирной жизни.
 |
На довоенном фото - Москвин И.У. с товарищем |
УРАГАН 1 МАЯ 1941 ГОДА. СТ. ХАРАНОР
Копай-город - это наш военный городок 404-го артиллерийско-гаубичного полка. Городок располагался в сопках, в пятистах метрах к югу от станции Харанор. В нашем городке не было каких-либо наземных строений. Всё - казармы, клуб, склад, жилье офицерских семей, даже кузница и караульное помещение с гауптвахтой - было врыто в сопки с небольшими окнами под потолком. Внутри помещения были обиты досками и побелены. Все это делалось руками личного состава полка.
Барак, в котором мы жили, был построен на южной окраине городка и имел внутри двенадцать комнат: шесть - с одной стороны, шесть - с другой. Комнаты разделял длинный коридор шириной в два метра, в конце коридора - небольшое окно под потолком. Площадь каждой комнаты была размером десять-двенадцать метров. Перегородки между комнатами дощатые. Когда штукатурка на перегородках высыхала, на ней образовывались большие щели, поэтому стенки приходилось оклеивать газетами или бумагой - кто что применит. В каждой комнате были установлены чугунные печи-буржуйки с чугунными же трубами. Освещение было электрическое, и под потолком в каждой комнате - по одному окну размером 60 на 120 см. Электричество давала полковая электростанция, воду привозили дважды в сутки - утром и вечером. Кушать готовили на буржуйках и примусах. Мы с Валей считали эти условия роскошью.
Все, что говорилось и делалось в соседней комнате, было отчетливо слышно, поэтому приходилось быть очень осторожными в разговорах и в делах. За год с лишним мы настолько привыкли говорить шепотом, что, когда переехали в другие условия - в дома на станции Харанор, мы продолжали шептаться. Шептались даже на улице. Хозяевами в нашем бараке были клопы. Они не давали нам покоя. Сколько мы с ними ни боролись, их казалось, становилось только больше. Да и борьба была не активная, так как одни травили, а другие терпели. Клоп - насекомое хитрое. Почуяв неладное, уходит к соседу, а через день возвращается. В этой роскоши мы и жили. Да и люди здесь были собраны неодинаковые во взглядах на жизнь, на труд, на гигиену. Одни из кожи лезли, чтобы уничтожить клопов, создать уют, занять себя какой-то работой, другие стремились поспать, погулять, мирились с клопами, грязью. недостатками быта. Так мы прожили зиму 1939-1940 гг. С нетерпением ждали лета, чтобы навести порядок и по-настоящему устроить свою жизнь. Потом пережили еще одну зиму. Зимы здесь холодные, ветренные. Ветер меняет направление два-три раза в день.
Наступила весна 1941 года. Апрель был теплый, солнечный и почти тихий, безветренный. Лучи солнца растопили снег, в горах отшумели ручьи, на поверхности сопок появились островки зеленой травы и не распустившиеся, на тонких ножках, бутоны желтеньких цветочков. Дыхание весны набирало силу.
Тридцатого апреля стояла тихая теплая, солнечная погода. Мы в новеньких гимнастерках маршировали на плацу, готовясь к первомайскому параду, который должен был пройти на харанорской площади вблизи казарм кавалерийской дивизии. 30 апреля в клубе намечалось торжественное собрание и концерт. Мы с Валей принарядились, взяли с собой Женю и пошли в клуб. С докладом выступил комиссар полка Колпаков, затем посмотрели выступление читинских артистов, послушали их песни, и в хорошем настроении пошли домой. Когда вышли из клуба, на дворе стояла тихая, но до того темная ночь, что идущего человека даже вблизи невозможно было рассмотреть. Ощупью мы дошли до своего барака, освещая путь огоньком горящей спички.
Утром первого мая меня разбудил шум в коридоре и завывание в трубе, похожее на вой стаи волков. Я открыл глаза - в комнате темно. Валя возится возле Жени. Увидев, что я проснулся, она сказала:
- Мы спим, а люди уже ходят по коридору. Что-то случилось, вставай!
Часы показывали семь утра. Я потянулся к выключателю, жена предупредила:
- Света нет.
На маленьком столике стояла свеча, зажженная Валей. Глянув в окно, я понял, откуда такая темнота: окно завалено снегом. Одевшись, вышел в коридор. Около двери, ведущей на улицу, стоял Раханов, командир батареи. Он посмотрел в мою сторону:
- Запломбировала буря нас, надо действовать. И вправду, наверху бушевала снежная буря, но насколько она сильна, я не мог предположить. Мы с Рахановым попытались открыть дверь. Она поддалась на несколько сантиметров, а дальше наших сил уже не хватило. Вскоре весь коридор заполнили офицеры и их жены, и началось оживленное обсуждение ситуации. Темноту освещали свечами. Посовещавшись, мы решили сделать вылазку на поверхность через окно коридора и попытаться откопать входную дверь. Открыли окно. В коридор влетел сноп снега, обдав нас снежной пылью. Поняли, что на дворе ураган, что вылезать из барака без страховки страшно. Нашли бельевую веревку. Я обвязал себя одним концом, как ремнем, и полез в окно, разгребая руками снег. Как только оказался в снежном вихре, меня вдруг подхватило и покатило вниз. Веревка натянулась, я ухватился за нее, повернулся лицом к ветру и пополз к окну. С помощью товарищей и веревки вернулся в коридор, весь запорошенный снегом, с сосульками на бровях. Мне показалось, что с ураганом наступил сильный мороз. В этот день мы больше не пытались выйти. Заботливо делились питанием, водой, топливом, хотя в бараке холод не чувствовался, но туалетное неудобство испытать все же пришлось.
Дети были не у всех - лишь в четырех семьях. Почему-то не помню детей у пожилых офицеров Раханова, Кокшарова, Цуканова. Барак заселяли молодыми офицерами, преимущественно командирами взводов: Конурин, Помазкин, Краснокутский, Майборода, Матушкин, я, Сафронов, Барков. Беспокойно вела себя жена Кокшарова. Она часто подходила к двери, все время упрашивала своего мужа открыть дверь и отнести поросенку корм.
- Жив ли он? - охала она, ломая пальцы рук до хруста.
Утром второго мая ураган еще не утих. В коридоре чувствовался неприятный запах. Мы решили повторить вылазку, открыть дверь, связаться со штабом, казармами, столовой. Обвязавшись веревками, соединенными между собой, я, Краснокутский, Кокшаров и Майборода стали выходить в бушующую вьюгу через окно коридора. Ползком добрались до дверей барака, ориентируясь по печным трубам. Буря была сильная, но слабее, чем вчера, зато метель стала непроглядной. С трудом открыли дверь, вынесли нечистоты и пошли, вернее, даже не пошли, а поплыли по снегу, ориентируясь по времени и компасу. Вскоре нашли столовую. Командир полка майор Андреев и комиссар Колпаков сидели в столовой, мокрые. Столовая работала, кормили солдат. Когда мы, такие же мокрые, вошли в столовую, Колпаков встал нам навстречу, некоторое время смотрел в упор, потом сказал:
- Вы хорошо сделали, что пришли. Как выбрались? Как у вас с отоплением и питанием?
Мы рассказали о наших делах и собрались идти, когда майор Андреев, не поднимая головы (видимо, устал. Он был уже в больших годах), сказал:
- Идите в барак, к семьям. Проследите, чтобы никто из женщин не выходил в одиночку до конца урагана.
Возвращаясь к себе, мы зашли в казарму третьего дивизиона. Около дверей стояли солдаты с лопатами, постоянно отбрасывая снег от дверей. Ни одного офицера не было. Командир дивизиона Гусев жил в Хараноре, добраться, конечно, не мог, но в казарме был полный порядок. Краснокутский и Майборода остались с солдатами, а мы с Кокшаровым пошли в свой барак. Преодолевая снежные сугробы и слепящую метель, мы наткнулись на одинокую трубу - это была труба одиночной землянки уполномоченного особого отдела Жукова. Я крикнул в трубу:
- Есть кто живой?
- Есть! Есть! - послышался глухой ответ Жукова. - Откопайте мою дверь, я голоден и замерзаю.
Он не любил держать у себя запасов питания и топлива - ел в столовой, а, так как апрель был очень теплый, топливом не запасся. Мы откопали его и увели в свой барак. Когда вернулись к себе, нам сказали, что ушла жена Чернышова в туалет и что-то долго не идет, не заблудилась ли? Не раздеваясь, мы отправились на поиски. К нам присоединились и остальные офицеры. Метель яростно сопротивлялась. Двигались сначала на восток, туда, где стояли туалеты развернутой шеренгой в пяти-шести метрах друг от друга. Осмотрели их - женщины там не оказалось. От туалетов двинулись группами, одна - в сторону городка, другая - вдоль балки на север. Я шел в северной группе. Продвинулись вперед метров на двести и, никого не найдя, вернулись обратно. Обошли свой барак кругом в надежде встретить заблудившуюся женщину, но удачи не было. Вернулись в барак, надеясь, что она уже дома, но нет. Вскоре возвратилась и другая партия, и тоже без результата.
Я сильно проголодался. Вошел в комнату. Валя встала мне навстречу с покрасневшим лицом:
- Где же ты пропадаешь, голодный? А смотри, какой мокрый! Снимай скорее одежду, да садись, кушай.
Ел с аппетитом, а сам думал, куда же девалась женщина. Поев, я собрался снова искать ее. Валя меня не удерживала. Вышел в коридор. Там стояли уже переодетые в сухое офицеры. Часы показывали шестнадцать. Посоветовавшись, мы снова окунулись в пургу. До позднего вечера обшарили весь городок и вернулись ни с чем.
Третьего мая ураган стих, небо прояснилось, и мы снова с раннего утра двинулись на поиски. Теперь нам не пришлось искать ее долго. Шедший с нами Помазкин увидел черную точку и быстро стал пробираться к ней.
- Нашел! - крикнул он.
Мы быстро развернулись и поползли по глубокому снегу вслед за ним. Женщина лежала, заметенная порошей. Только рука, державшая прядь длинных черных волос, как бы висела над сугробом.
Чернышов, как только добрался до места гибели своей молодой жены, с которой прожил всего месяц, упал на нее, быстро-быстро отгребая снег от своей любимой, будто надеясь ее еще согреть, вернуть к жизни. Мы подняли его жену и понесли к бараку, где уже ждала толпа женщин и солдат. Тихо стоявшие до этого женщины, вдруг заголосили, да так громко, что нам пришлось на них зацыкать.
Впервые мы потеряли человека в Хараноре, а среди дня узнали, что этот ураган унес еще несколько жизней.
После обеда наступила жара, с гор в балки потекли ручьи, а четвертого мая утром с вершин обрушился поток огромного скопления воды, и понесло вниз не только материалы, но и плохо закрепленные машины. Размыло стенки нашей кузницы, остались только наковальня да кувалда. Около казармы и других бараков дежурили солдаты, преграждая воде путь внутрь помещений. Пушки и машины, установленные на козлики, были сняты потоком воды, а забор, огораживавший парк, сметен и унесен к линии железной дороги. Третьего мая в двух километрах от Харанора была найдена М-1 - машина командира дивизии, забитая снегом, а его жена, ехавшая в этой машине с ребенком, была мертва. В пятидесяти метрах от машины нашли и замерзшего шофера. Ребенок чудом остался жив. В полках, в том числе, и в нашем, были найдены погибшими солдаты из службы охраны.
Читинский обком обратился к воинским частям с просьбой выступить на спасение овец, попавших под ураган в степи. Всем полком - пешком, на тракторах, на лошадях - мы двинулись выполнять эту задачу. Вскоре огромное стадо, забившееся в ущелье и занесенное снегом, было найдено. Уцелела только половина овец.
Таков итог урагана 1-2 мая 1941 года.
 |
На фото - Москвина Валентина |
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В ХАРАНОРЕ
Еще в мае нам было известно, что на нашей западной границе не спокойно. О Германии мы говорили, как об опасном и коварном враге, не верили в долговечность наших с ним договоренностей. Во всей нашей пропаганде среди бойцов главным врагом обозначалась Германия, как страна агрессии, цель которой - война. Мы старались дать понять бойцам, что немецкий фашизм - опасный и злой враг нашего народа. Вскоре нам стало совершенно
ясно, что войны с Германией не миновать, и мы открыто об этом говорили своим бойцам, готовили их к неминуемым боям в каком-то, а, может, в скором времени.
20 мая моя Валя уехала в Читинскую больницу с дочкой Нелинькой. При мне осталась двухлетняя дочь Женя. Все то время, пока Валя с младшенькой лежали в больнице, я пережил много трудностей. Каждый день надо было одеть, накормить, как-то устроить ребенка, а потом идти на службу в свое подразделение. Частенько мне приходилось брать ее с собой. Это создавало большие неудобства. Иногда оставлял дочку у Кашаевых. Жена
Кашаева была из крестьян, очень трудолюбивая и добрая женщина в годах. В подразделении мою дочку знали все бойцы не только взвода, но и батареи. К ней относились ласково, внимательно и заботливо. В конце мая в части пошли слухи об отъезде полка. Люди перешептывались между собой. Одни говорили, что полк переходит в летние лагеря ближе к Чите, за Борзю, в Соловьевск, а другие - что нас перебросят на запад, поближе к западной границе. Я не мог, не хотел верить слухам, но чем дальше, тем больше слухи росли. Некоторые офицеры начали отправлять семьи вглубь страны. Обстановка на восточной границе в то время была тревожной, опасно было оставлять семьи на месте в случае нашего отъезда, да еще в тех условиях, в которых мы жили.
Тревожась за семью, я первого июня дал телеграмму Вале, чтобы немедленно возвращалась домой. Вернулись они третьего июня, а четвертого перед утром, около четырех часов, нас подняли по тревоге. Со мной вместе встала и Валя. Дети спали. Я бесшумно, но быстро оделся, поцеловал детей и жену, вышел из своей комнаты, но уйти не мог: что-то необычное происходило в моей душе. Вернулся. Внимательно посмотрел на всех - на девочек, на Валю. Задержал взгляд на Неле - этой маленькой крошке, личико которой почти полностью очистилось от диатезных корост. Еще раз всех поцеловал и пошел. В дверях Валя остановила меня, прильнула к плечу, спросила:
- Скажи правду! Далеко и надолго уезжаете?
- Не знаю, - ответил я, легонько отстранил ее и ушел, не оглядываясь. Сам же думал обо всем: и о том, что едем далеко и надолго, и о том, что, может быть, никогда не вернемся. Заскочил в казарму, где размещался мой взвод. Все бойцы были уже на ногах, часть из них выносили матрасы и подушки, вытряхивали солому недалеко от казармы в одну кучу.
Командир батареи Помозов спросил меня:
- Жена приехала?
- Приехала, - вторил я.
- Это хорошо, - глухо проговорил он, - Надо было бы отправить их на родину, да поздно теперь. Но ничего, всех, кто еще остался, вскоре отправят. Едем мы, Ванюша, далеко и навсегда отсюда.
Это слово - "Ванюша", вылетевшее из уст Помозова, удивило: такой сухой человек, и вдруг в трудную минуту моей жизни обращается со мной ласково, с чувством заботы. Видимо, почти двухлетняя совместная служба сделала его мягче. Это вызвало во мне теплое волнение. Теперь я окончательно убедился, что сборы наши - серьезные, и поездка предстоит далекая. Помозов, немного подумав, добавил:
- Даю тебе час времени. Бери полуторку, грузи свою семью и пожитки. Вези в Харанор, в квартиры офицеров кавдивизии. Они свободны, занимай любую из них. Многие семьи уже поехали туда.
 |
Станция Харанор |
Я взял машину, поехал к своему бараку, вошел в комнату. Валя стояла над кроваткой, где спали дети. Когда я вошел, она, вздрогнув, спросила:
- Что, ложная тревога?
- Нет, - сказал я, - Давай по-быстрому собирайся, поедем в Харанор. Там пустуют квартиры, там пока и поселишься. А здесь городок опустеет совсем.
Погрузили мы свое барахлишко, взяли спящих детей и поехали. В двухэтажных домах кавдивизии шло заселение полным ходом. Я обошел пустующие комнаты, облюбовал одну из них, мы внесли детей, вещи. Вскоре в соседнюю комнату заселилась Кашаева, хорошо нам знакомая женщина. Простившись с семьей еще раз, я вернулся в парк, где шла погрузка боеприпасов, вещевого имущества, продовольствия. Все это увозилось и грузилось в вагоны, стоявшие в тупике станции Харанор. Артиллерийские дивизионы давно снялись и ушли в сторону ст. Отпор. После того, как все имущество было перевезено из складов в вагоны, в восемь утра мы колонной двинулись в расположение погрузочной площадки. Погрузку орудий на платформы было видно издали. Грузился третий дивизион. Площадка длиной в двести метров, с которой шла погрузка, была изготовлена на скорую руку из шпал. Она, хоть и скрипела, но держалась твердо. К нашему прибытию дивизионы уже погрузились, и мы начали грузить на платформы машины и крепить их. Спешили, времени нам отпускалось мало. Вскоре наш эшелон тронулся.
Я стоял у раскрытых дверей вагона, всматривался вдаль, в приближавшуюся станцию Харанор, в толпу женщин и детей, вышедших проводить нас. Многие успели проститься со своими мужьями и отцами, но не уходили. Когда наш вагон поравнялся с толпой, я увидел и своих. Валя с детьми были несколько в стороне. Она, видимо, меня заметила первой. В толпе стоял гул. Кричали, прощаясь, из вагонов. Я не смог услышать, что пыталась крикнуть мне жена, только видел, как она что-то кричит, машет платком. Видел, как Женечка тоже махала мне ручкой и что-то кричала. Я, может, потому и не слышал ее, что сам тоже кричал, чтобы берегла детей, что к сентябрю вернусь. Я был в этом уверен. Многие не предполагали, да и я не думал, что уезжаем из Харанора навсегда.
ПУТЬ НА ЧИТУ
Эшелон шел медленно, часто останавливался в поле и подолгу стоял. Поначалу мы прыгали из вагонов, рвали цветы, падали в ковер молодой травы и всматривались в голубизну неба. После гнетущего молчания первых минут прощания, в вагонах где-то тихо заиграл баян, где-то зазвучали песни про пшеницу золотую, про трех танкистов. В нашем вагоне было больше смеха, чем в других. Боец Серебряков мастерски рассказывал анекдоты, и запас их у него был неисчерпаем. Он мог говорить часами, дополняя речь мимикой и жестами. Каждый его анекдот вызывал взрыв смеха. Незаметно подошла ночь. С ее наступлением в вагонах стало затихать, и вскоре все утихло, слышен был только перестук колес.
Проснулся я утром рано, солнце еще только медленно поднималось из-за горизонта. Поезд стоял. Открыв дверь вагона, я отправил дневального спать. Наш состав остановился в лесу. Слышно было, как пыхтит паровоз, как стучит дятел, вмешиваясь в перезвон птичьих голосов. Где-то в глубине леса ухает филин. В небе еще виднелись звезды, но утро наступало быстро, и звезды постепенно теряли свой блеск.
Я был поглощен раздумьями обо всех событиях последнего времени. О чем только ни думал, но все время возвращался в мыслях к семье - к жене, к детям. Как-то они там? Мне говорили, что нет никакой у человека души, но никто не сказал, что же тогда тревожит тебя? Что вызывает в тебе и радость, и даже слезы? Вот в таком состоянии я сидел, и не заметил, как тронулся поезд. В вагоне стоял храп, спящих не разбудило и начавшееся движение поезда, набиравшего скорость. Сон был крепким, потому что уж очень долго не засыпали вечером, бормоча и посмеиваясь.
Жар наступил рано, и духота в вагоне становилась сильнее. Я открыл противоположную дверь, чтобы проветрить вагон. Постепенно бойцы начали просыпаться, и вагон стал наполняться шумом. В семь часов утра все были на ногах. Примерно через час поезд пришел на станцию Дарасун и сразу отправился в тупик. Была дана команда выслать к вагону-кухне бойцов с термосами - за завтраком. Я послал за пищей Черепанова, Рыженко, Зайцева, а сам пошел к штабному вагону, хотя меня никто и не вызывал. Штабной вагон был пуст: офицеры штаба, командир и комиссар полка ушли по эшелону с проверкой. Стояли мы в тупике около часа. 5 июня в 10 часов утра наш состав прибыл в Читу. На станции постоянно шло движение поездов - одни приходили, другие уходили. Наш эшелон был поставлен на четвертый путь. Нам разрешили сходить на вокзал, купить газеты, журналы, книги. От нашего вагона пошли Алексеев, имеющий среднее образование (что тогда было редкостью) и помкомвзвода Никитин. Стояли мы на этом пути очень долго, успели пообедать, прочитать газетные новости. В наш вагон тогда же провели радиоточку. Теперь репродуктор мы выключали только на ночь! В шестнадцать часов тронулся и наш эшелон - в сторону Иркутска.
ИРКУТСК. ИЮНЬ 1941 года
До Иркутска мы ехали долго, около трех суток. Жизнь на колесах, в границах одного вагона, в стесненных условиях была, понятно, скучноватой, хотя мы и все делали, чтобы заполнить свободное время чем-либо полезным. С утра, после завтрака я проводил обычно занятия по изучению оружия и тактики ведения ближнего боя, знакомил людей с международным положением. Вся необходимая литература у меня была, были и плакаты, и карта мира. Частенько к нам в вагон заглядывал политрук Скобелев - Кузьмич.
Вагон был оборудован нарами, пирамидой для оружия, умывальником, баком с питьевой водой. Не было туалета, и это осложняло наш быт. Каждый боец имел матрац, подушку, простыни, одеяло. Шинели были закручены в скатки и висели в головах нар. В нашем вагоне были шахматы, шашки, домино и гармошка. Даже гитара была - у Зайцева. Он привез ее из дома, когда призывался в армию. За всю дорогу от Читы до Иркутска мне только однажды пришлось дежурить ночь в голове паровоза. На барьере площадки был закреплен телефон для связи с машинистом и дежурным по эшелону.
Сказочное зрелище представлялось взору. Быстро надвигающаяся тебе навстречу, освещенная мощным прожектором паровоза, местность и нити рельсов в полном блеске. Задачей дежурного было обнаруживать повреждения пути и давать сигнал машинисту на остановку поезда. Проехали мы за мое дежурство мало, больше стояли на станциях. В Иркутск прибыли седьмого июня под вечер. Поставили нас опять на четвертый путь, вокзал был закрыт от нас грузовыми поездами. Делали это, видимо, для того, чтобы прятать эшелон от любопытных глаз. Здесь же конники выводили лошадей на прогулку и водопой. Стояли ночь, а утром была подана команда побатарейно идти в баню. На каждую батарею отводилось в бане по тридцать минут, так что за три часа все помылись, посвежели, сменили белье, портянки. Завтрак прошел в спокойной обстановке.
В полдень 8 июня наш эшелон двинулся в Красноярск, но город мы увидели только издали, да и то - окраины.
НОВОСИБИРСК. ИЮНЬ 1941 года
В Новосибирск прибыли 13 июня. В пути почему-то нас долго держали на станциях. В Новосибирске стояли недолго, где-то не более часа. Путь наш лежал в сторону Семипалатинска - это я определил, когда мы проезжали станцию Черепаново, и был озадачен тем, что нас везут на юг, задавался вопросом: куда? Вскоре все поняли, что нас, видимо, направляют в Туркестанский военный округ. Мы прислушивались к сообщениям по радио, вчитывались в газетные статьи, ища причину нашего перемещения к югу. Командование молчало: тоже, видимо, не знали. Так, в догадках, жили мы до 16 июня, когда нас направили на северо-запад, в сторону Туркестана. Проехали Джамбул, Чимкент, а после станции Арысь вдруг наш путь пошел строго на север.
Что хорошо запомнилось?
Когда проехали Арысь, примерно километров через десять линию железной дороги переходило огромное количество лягушек. Вся степь и полотно железной дороги были покрыты лягушками. Наш эшелон остановился. Почему? Мы не знали. То ли паровоз забуксовал, то ли машинисты специально остановили поезд? Мы смотрели на это поразительное зрелище с каким-то брезгливым отвращением, но и с любопытством. Кто-то в вагоне сказал:
- Плохая примета.
И начались суждения. Зайцев, не расстававшийся с гитарой, проговорил:
- Мой отец рассказывал, как много было крыс перед войной, просто нашествие везде: в амбарах, в подполье, даже лезли в дом. Не перед войной ли идут эти лягушки? - закончил он.
Да и люди сразу как-то примолкли. Я развернул карту, стали смотреть наш путь. Дорога шла через Кзыл-Орду на Актюбинск - Уральск - Саратов. Стало понятно, что нас везут на запад окольными путями.
22 июня рано утром мы прибыли в Саратов, стояли долго, сделали выводку лошадей, позавтракали, и я побежал в вокзал. При самом входе в здание вдруг услышал в репродукторе тревожный голос диктора:
- Внимание! Внимание! Говорит Москва! У микрофона - министр иностранных дел Молотов.
Я замер, и все, кто шел сзади меня, кто шел навстречу - остановились, прислушиваясь. Репродуктор прохрипел и раздался голос Молотова. Он говорил спокойно, но с тревогой. Говорил о том, что на нас вероломно напали немецкие фашисты, что началась война на всей западной границе. Я не стал слушать дальше, выбрался из толпы и бегом побежал к своему вагону.
В вагоне гремел репродуктор. Все уже знали, что началась война. Многие задавали вопрос, один и тот же:
- Почему нас так долго возили по дорогам? Почему не везли прямо на запад, и побыстрей?
Ответ получили уже в пути. Комиссар полка Колпаков выступил по местному радио, разъясняя, что так надо было, таков был приказ правительства. Но мы не понимали такого приказа.
БЕРДИЧЕВ. 24 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Когда тронулись из Саратова, нас провожали толпы людей - почти по всему пути, пока проезжали города и села. Бойцы, я, да и все, кто раньше ехал в крытых вагонах, перебрались на платформы с машинами и орудиями. Нам из толпы бросали букеты, в которых мы находили короткие записки с пожеланием победы. Весь первый день войны нас встречали и провожали. Когда проезжали поля, крестьяне бросали работу, бежали к нашим вагонам, кричали свои напутствия, желая скорой победы, многие плакали.
Только к ночи на стоянках мы вернулись в свои вагоны. Сон покинул нас. Я не мог успокоиться за свою жену и дочерей, оставшихся в Хараноре - недалеко от монгольской границы. Японцы были в союзе с Германией, и это создавало опасность нападения на нашу Родину с манчжурской границы. Там у них была мощная военная группировка. Ночь мне показалась длинной и беспокойной.
С утра двадцать третьего всё повторилось, нас так же встречали и провожали, так же бросали на платформы цветы, а поезд шел быстро, делая остановки лишь на больших станциях. Из Саратова - на Сталинград, дальше на Донбасс через Дебальцево, Горловку, Черкассы, Белую Церковь - на Бердичев. Этот путь мы преодолели меньше, чем за двое суток.
В Бердичев прибыли ночью. Я вышел из вагона. Ночь была такая тихая! Полная луна при ясном небе освещала всё вокруг. Поезд стоял у площадки в молодом смешанном лесу. К разгрузке приступили все, и вскоре опустели платформы и вагоны с лошадьми. Быстро батареи покинули площадку, ушли вглубь леса. Мы продолжали разгружать продовольствие, фураж, боеприпасы, и всё грузили на машины. Разгрузка шла сразу из всех вагонов.
Утро надвигалось быстро. Когда уже совсем рассвело, и солнце еще только появилось из-за горизонта, послышался рокот мотора. Над эшелоном пролетел со свистом Мессершмидт-109, а вскоре появилась группа бомбардировщиков Ю-88. Дружно открыли огонь по самолетам из счетверенных пулеметов зенитчики взвода Иванова Ивана Михайловича. Мощный огонь из четырех установок поджег один Ю-88. Самолет резко накренился, развернулся, полыхая огнем, пошел в сторону Полонной, и где-то вдали прогремели несколько взрывов, а потом из-за леса поднялся черный столб дыма. Остальные самолеты отклонились от цели, набрали высоту и снова пошли на эшелон, но огонь пулеметов, видимо, навел страх. Сбросив бомбы и не причинив нам вреда, юнкерсы улетели. Так что уже 24-го июня зенитчики и мы приняли первый бой с фашистами.
Вскоре разгрузка закончилась, порожняк ушел в сторону Белой Церкви. Мы перевезли весь груз в сосновый лес западнее Бердичева, где сосредоточивался полк, но в лесу стояли недолго. В середине дня нам объявили о необходимости сдать чемоданы со всем содержимым и указали пункт сбора вещей. Многие пошли к назначенному месту, писали адреса назначения, а я посмотрел на свой чемодачик, подумал: куда его посылать? Дойдет ли он к адресату? Подержал его в руках, размахнулся и бросил в кусты. Повернулся и пошел, не оглядываясь, к машинам взвода, где шла подготовка к маршу.
С наступлением темноты полк тронулся в направлении Шепетовки. На марше нас никто не беспокоил. Рано утром 25 июня полк прошел пункт назначения и расположился на отдых и выяснение обстановки за Шепетовкой, в сосновом лесу справа от дороги.
ПОЛК В БОЮ 26 ИЮНЯ [1941 ГОДА]
В Шепетовском лесу расположились части 199-й мех. дивизии, входящей в состав 5-го мех. корпуса 6-й армии. Сосредоточение происходило ночью. Наш полк пришел рано утром. Высланная в сторону Острога разведка встретила отходящую часть наших. Их приняли за немцев, обстреляли, завязался бой. По лесу поднялся шум, треск. Заработали пулеметы, засвистели пули в нашем расположении, но вскоре все выяснилось, и бой прекратился. Плохо сработали разведчики, и это привело к гибели с обеих сторон.
В ночь с 25 на 26 июня наш полк прошел Славуту, занял огневые позиции и открыл огонь из всех орудий по врагу, наступавшему на Острог. Песчаная местность, где были наши позиции, не давала возможности подготовить хорошие укрытия. Роешь щель, а стенки осыпаются, и получается не щель, а яма.
Немцы, наткнувшись на стойкое сопротивление, обрушили на нас большие группы бомбардировщиков Ю-88. В течение всего дня они просто висели над нами, бомбили и обстреливали из пулеметов наши огневые позиции, боевые порядки стрелковых частей, тылы и пути снабжения. Так продолжалось до 29 июня.
В одну из бомбежек меня вызвали на КП командира полка. День был солнечный, стояла жара, наши орудия вели интенсивный огонь. Мы с Помазкиным И.И. сидели под раскидистой, густой одинокой сосной. Он наносил на карту данные разведки о расположении противника для командира полка. Я, ожидая приглашения комполка, подсел к нему. Помазкин был моим хорошим другом, соседом по квартире в Хараноре. Мы не слышали, как появились самолеты. Они шли на малой высоте - как бы вынырнули из-за верхушек сосен и сходу начали обстрел, а затем бомбежку. Мы вскочили, укрылись в такой щели-яме, и вдруг между нами с каким-то воющим свистом врезалась, вспучив песок, бомба. И не разорвалась! Это было какое-то чудо. Переглянувшись, мы выпрыгнули из этой ямы, как будто кто-то нас выбросил из нее. А немцы бомбили и стреляли. Мы быстро перебежали и плюхнулись в неглубокую яму - воронку от бомбы. Видимо, в этот день нам суждено было жить.
Я, когда немного оправился от шока, посмотрел на Помазкина. Он выглядел бледным, руки тряслись. Дрожащими руками он то складывал карту, то вновь ее разворачивал. Глянул и на свои руки: они были тоже неспокойны, веки глаз дергал тик. Вроде, я что-то жевал или казалось, что жую. Впервые в жизни мы встретились с такой опасностью лицом к лицу и, видимо, это вызвало такое сильное волнение.
Ожесточенные бои шли до 29 июня. Все это время я почти не вылезал из кабины машин - перевозили из Шепетовки на огневые позиции батарей снаряды - и настолько устал, что уснул, свалившись у полевой кухни, где обедал, и не слышал, как отходили к Шепетовке, как меня грузили в машину, как бомбили колонну. Пройдя Славуту, часть расположилась в густом сосновом лесу, батареи заняли огневые позиции. Проснулся я, когда солнце поднялось уже высоко. Спрыгнул с машины и не понял, где мы находимся. Осматриваясь, увидел группу бойцов. Они сидели на корточках и что-то с любопытством разглядывали. Я подошел к ним. В руках у одного бойца-связиста увидел игрушку, похожую на голубя, понял, что это - немецкая противопехотная мина, и крикнул, чтобы бойцы разошлись, а связисту приказал бросить мину дальше в лес. Но мина, видимо, была уже готова взорваться, и взорвалась в руках у бойца в тот момент, когда он собирался бросить ее. Боец погиб. Я приказал обозначить вешками опасное место, сообщили саперам. На расстоянии двухсот метров по ту и другую сторону от дороги были обезврежены двадцать две мины.
Здесь мы держались еще три дня, до первого июля. Затем вынуждены были сняться и отступить к Шепетовке. Когда мы прибыли из Бердичева в Шепетовку, Помозова уже почему-то не было, командиром парковой батареи назначили меня. В Шепетовке я первым делом расположил батарею. Бензовозы, которые только что заправили трактора и машины горючим, и пополнились на шепетовской нефтебазе, я поставил в березовой роще на удалении от батареи - примерно в 200 метрах.
Полк переходил на новые позиции, и я был вызван к командиру. Когда враг проник юго-восточнее Шепетовки и стал угрожать нам окружением, майор Сандлер поднял батарею и выехал с ней в сторону Полонной. Нашел я его примерно в пяти километрах от Шепетовки.
- Где бензовозы?
Я задал ему встречный вопрос:
- А Вы разве не сообщили им о передвижении?
Не ожидая его распоряжения, я побежал к той роще, где стояли бензовозы, быстро нашел их. Шоферы спали в тени, ничего не ведая о том, что враг обошел Шепетовку с юго-восточной стороны. Было это третьего июля уже близко к вечеру. Подняв водителей, я сел в бензовоз, которым управлял боец Кравченко, и выехал из рощи в близлежащий лес северо-западнее Шепетовки. Водитель второго бензовоза следовал за нами. Из леса мы выехали на опушку. Впереди простиралась большая поляна, через которую шла дорога на Полонное. Остановив машину, я вылез из кабины и минут десять всматривался вдаль - в поле и в дорогу, чтобы что-нибудь увидеть, но и поле, и дорога были пустыми, а юго-восточнее Шепетовки, примерно в двух-двух с половиной километрах, шел бой, и слышны были разрывы снарядов нашей артиллерии.
Вернувшись в кабину, я приказал гнать машины как можно быстрее к дороге - в направлении возвышенности, поросшей молодым сосновым лесом. Машины двинулись с места и, набирая скорость, помчались в выбранном направлении. Я знал, что за холмом дорога круто сворачивала влево. Путь нам перерезал ручей, правда, не широкий, но засесть в нем мы могли. Дал команду Кравченко включить третью скорость и пройти ручей, не останавливаясь. Когда бензовоз уже зацепился колесами за твердый грунт, я выпрыгнул из кабины, приказав Кравченко гнать к намеченной цели, а сам, махая рукой, стал показывать путь проезда через ручей второму бензовозу. Прошла и эта машина. Я на ходу вскочил на подножку, торопя водителя гнать, как можно быстрее. Передняя машина была уже далеко, а на нашем пути стали рваться снаряды врага, но все обошлось благополучно. Мы успели выехать на дорогу и скрыться за поворотом. Бензовозы были спасены. Когда мы отходили от Шепетовки, я видел наш аэродром, на котором стояло много сгоревших самолетов, видимо, разбитых в начале войны немецкой авиацией: Шепетовка была совсем недалеко от границы. Тут я понял, почему нас не защищали наши самолеты от столь нахальных юнкерсов.
Мы отступали, но отступали медленно, с боями. Наши дивизионы отходили не одновременно: один, заняв огневые позиции, ведет огонь по врагу, другие отходят, укрепляясь в новых местах. Боеприпасы к орудиям мы доставляли бесперебойно, и артиллеристы не испытывали недостатка в них. Часто мы подвергались массированной бомбардировке авиацией врага.
Особенно сильная бомбардировка и обстрел с воздуха был в районе местечка Полонное. Мы ехали по дороге от Полонной в сторону Бердичева. Было солнечно, тихо, жарко. В небе ни облачка, и вдруг из-за леса на колонну надвинулась тень большой группы Ю-88. Шли они низко, метров на 200-250 от земли. Началась бомбежка. Колонна остановилась, бойцы бросились в сторону от дороги, но скрыться было невозможно, потому что на огромном поле не было ни траншей, ни лесной растительности. Люди падали на землю и лежали, рассчитывая на судьбу. Лежал и я на этом поле. Лежал на спине и смотрел, как от самолета, который, казалось, летит прямо на меня, отделилась бомба и с воем летит к земле. Она упала, пролетев меня метров на двадцать и подняв столб земли и дыма. Я вскочил и быстрыми прыжками достиг еще дымящейся воронки, спрыгнул и прижался к ее дну. Машины с грузом и прицепленными орудиями враг почему-то не бомбил, видимо, надеясь, что все они станут трофеями. Самолеты улетели, мы побежали к машинам. Кое-где послышалось:
- Несите раненых!
Раненых оказалось четыре человека - из числа орудийных расчетов. Все они лежали в одном месте, недалеко от воронки. У одного из них была разорвана одежда на животе, из-под нее сочилась кровь. Бойцы отнесли его к машине быстрым шагом. Вскоре колонна тронулась в путь. Была дана команда двигаться с дистанцией в тридцать метров. Проехав от Полонной, дивизион капитана Белого занял огневые позиции, а моя батарея, не останавливаясь, двигалась в сторону Бердичева. Было это пятого июля в середине дня.
Отныне на всем пути, с утра до вечера, немцы бомбили нас, и всякий раз колонну не трогали. В очередную бомбежку, в конце следующего дня, я не вышел из машины, удержал и водителя, надеясь, что в машине безопаснее. Но на этот раз досталось именно колонне. Бомбы начали рваться на дороге. Одна из них взорвалась недалеко от нашей машины. Я увидел, как впереди - метрах в десяти - сверкнул огненный столб, подняв вверх черный сноп земли, а через несколько секунд на капот мотора нашего газика упал крупный камень. Машина вышла из строя. Еще несколько наших машин было разбито, и дорога в нескольких местах была разрушена. Оставив на месте несколько машин, мы колонной двинулись на Бердичев. Всю ночь мы ехали, а утром полк по тревоге пошел на Бердичев форсированным маршем. На одной короткой остановке майор Сандлер вызвал меня к своей машине. Прибыв, я увидел: вместе с майором стоят капитан Гирин - зам. командира полка по тех. части и старший техник лейтенант Лосиченко. Майор пригласил меня к карте, указал на населенный пункт, расположенный в пяти-шести километрах от Бердичева по дороге на Белую Церковь.
- Поведешь колонну батареи к этому населенному пункту и, не въезжая в него, остановишься в лесу, в этом месте, - он указал пальцем точку на карте, - Будешь ждать моего распоряжения или распоряжения капитана Гирина о дальнейших действиях.
Я повторил приказ, пошел к себе, собрал шоферов и дал команду двигаться за мной на дистанции 30 метров; при налете авиации не останавливаться, прибавить скорость, не скучиваться; останавливаться только по моему сигналу. Замыкающий - сержант Черемных на "летучке". В случае выхода какой-то машины из строя - брать на буксир.
Когда мы тронулись, "заговорили" наши пушки, начался бой за Бердичев. Бой был, видимо, сильный, весь день не умолкал его гул. В небе кружились немецкие юнкерсы-88 и мессершмидты-109. Нас вражеская авиация не тревожила - как на марше, так и на стоянке. Вечером был дан приказ отступить на Белую Церковь.
До Белой Церкви наш полк отходил перекатами, медленно - с 7 по 14 июля мы отступили примерно на 120 километров с непрерывными боями. Когда подошли к Белой Церкви, полк занял огневые позиции, и мы выехали на восточную окраину города. Почти сходу я въехал в армейский склад, находившийся в лесу около населенного пункта Ольшаница. Навстречу нам, в сторону передовой линии, шли груженые машины. Загрузившись снарядами, мы развезли их по батареям. На линии фронта стояла тишина, мы впервые за много суток смогли спокойно покушать.
Через сутки был дан приказ отходить на город Канев. Я не понимал, почему нужно уходить с места, где почти двое суток не было даже простой перестрелки. Причину понял уже потом, в Каневе: за время боев наш полк понес большие потери, почти 50% орудий, стоявших на тракторах, были разбиты вражеской авиацией. В Каневе полк занял оборону 16 июля 41г. Город постоянно бомбили немцы. На улицах лежали убитые лошади, перевернутые повозки. Улицы в Каневе узкие, с крутыми поворотами, только одна улица, ведущая к мосту через Днепр, прямая, но с уклоном в 20 градусов. Справа, на самом высоком месте стоит величественный памятник Тарасу Шевченко, обращенный лицом к Днепру. Правый берег реки - высокий, изрезан оврагами и покрыт сплошным лесом лиственных пород. Огневые позиции батареи были рассредоточены по всей западной окраине города. КП командира полка находился в овраге сразу за городским кладбищем. Моя парковая батарея разместилась в тылу полка - в большом сосновом парке восточнее города. Столетние деревья защищали нас от снарядов противника, долетавших и сюда, укрывали от авиации немцев.
18 июля наш полк сняли с обороны и, переправив через Днепр, отвели в Золотоношу на отдых и пополнение. Командование приняло такое решение, поскольку противник в это время не вел в районе Канева активных действий. Переход проходил ночью. Утром мы вошли в густой сосновый лес западнее города. 2 июля командование полка собрало офицерский состав. Зачитали приказ Сталина о предании Суду военного трибунала генерала Павлова - командующего Западным фронтом, и двух или трех генералов его штаба, якобы за предательство.
24 июля около часу дня на небольшой поляне был выстроен личный состав полка, а вскоре привели двух человек, осужденных военным трибуналом. Один худощавый, высокий, лет тридцати пяти, а второй - пожилой, полный, лет пятидесяти. Поставили их перед строем на краю болота, зачитали приговор. Из строя вышли семь солдат с винтовками и лейтенант, приготовились для расстрела. Тот, что постарше, опустив голову, стоял молча, а второй сильно просил оставить его в живых, клялся, что он искупит свою вину кровью в бою. Но грянул залп. Полный мужчина мгновенно упал, а второй продолжал стоять, пошатываясь. Раздался второй залп - уже по нему. Человек упал, но поднял руку кверху и пытался подняться, продолжая что-то говорить, прося пощады. Лейтенант, руководивший расстрелом, подошел к нему и выстрелом в голову закончил церемонию. Расстрелянных забросили в болото, и полк побатарейно ушел в места расположения.
СНОВА КАНЕВ. АВГУСТ 1941-ГО
Второго августа, приехав из города Лубны, я узнал, что политрук нашей батареи Скобелев - Кузьмич (Прим. О.Л: подробнее о Кузьмиче - в главе "Эльмар Ларенс"), как мы его называли - умер от какой-то гнояшки на щеке. Похоронили его на кладбище с почестями, поставили простенький памятник с красной звездой, сделали надпись.
После похорон Кузьмича 3 августа около 15 часов зам. командира полка майор Сандлер и капитан Гирин поставили перед нами задачу погрузить все имущество в машины, бензовозы загрузить на местной нефтебазе и быть готовыми к маршу на Канев. Погода была облачная, периодически накрапывал дождь, что вызывало у нас благоприятное настроение. С наступлением сумерек лес ожил голосами птиц и шумом моторов. На дорогу стали выходить и вытягиваться в колонну артиллерийские батареи. Командир первого дивизиона капитан Белый, высокий стройный офицер, стоял на краю опушки леса в том месте, где дорога выходила на главную магистраль, и зорко следил за порядком. Он, как был в мирное время человеком высокой требовательности к себе, так и теперь не терял своего внешнего и внутреннего вида, только, может быть, стал более сдержанным.
Полк ушел, а мы еще находились в этом лесу. Стояла тишина, я разрешил еще с вечера водителям машин вздремнуть. Сам позволить такого себе не мог, постоянно ожидая сигнала. Около двух часов ночи от Сандлера поступил приказ на марш. Вскоре мы покинули Золотоношу, а через два часа проехали мост через Днепр и заняли тот же парк, где размещались прежде. На передовой шла артиллерийско-пулеметная перестрелка. Не успели мы укрыть машины, как я срочно был вызван на КП полка, находившийся в овраге за кладбищем.
Командир полка майор Андреев - среднего роста человек - уже в годах, с сединой в голове, офицер старшего поколения - был не один. Присутствовавшие что-то рассматривали на карте. Я подошел к ним, доложил о своем прибытии. Командир обернулся, быстро подошел ко мне, и сказал тихо, спокойно:
- Вот что, дружок! У нас шесть батарей, бери шесть полуторок и дуй в Черкассы. Три машины загрузи снарядами 122 мм и три - 152 мм. Боеприпасы доставь прямо на батареи не позднее четырех часов ночи. К этому времени вас будут встречать проводники от каждой батареи. Я повторил приказ, выскочил из оврага и пустился бегом к машинам.
Бои ожесточались. Немцы подбросили новые силы. Часто и сильно атаковали передний край стрелковых частей 199-й дивизии. Было установлено, что 5 августа немцы перейдут в наступление крупными силами.
В этот день, 4 августа, мне не удалось отдохнуть. Мы выехали в Черкассы по нижней дороге. Дорога была мне знакома, и я побаивался, что, не дай бог, нагрянет дождь. Тогда, считай, все пропало. Эта дорога иногда круто поднимается в гору, покрытую лесом, в котором почти не бывает солнца, а значит, путь развезет. По верхней дороге ехать было нельзя: она почти по всей длине простреливалась противником из артиллерии. Но погода нам благоприятствовала, и авиация не тревожила, так что до склада мы доехали благополучно. Около двух часов ночи вернулись с грузом в расположение полка. Проводники увели машины к своим батареям, быстро разгрузили снаряды.
Майор Сандлер вновь подошел ко мне и сказал:
- Хоть и устали вы, но надо повторить рейс. Дело в том, что артсклад перебазируется из Черкасс на левый берег Днепра, а где будет располагаться - мы пока не знаем. Поэтому через любые усталости надо ехать, застать склад и взять тот же груз.
Я хорошо понимал, что, если мы не привезем снаряды из Черкасс, мы не сможем их взять с другого места, т.к. 4 августа был совершен крупный налет авиации противника на мосты через Днепр, в результате наша связь с левым берегом прекратилась. Сандлер не приказывал, а просил, и мы, покушав, выехали.
Когда прибыли на склад, там шла работа по погрузке боеприпасов на машины. Нашему приезду были рады и сразу же, безо всяких бумажных оформлений, начали загружать нас. В погрузке участвовали и мы. В обратный путь выехали уже очень уставшими, но останавливаться не имели права, а дремать за рулем - тем более: когда грузились - слышали гул сильного боя южнее города. Враг подошел к Днепру во многих местах, но нижняя дорога была нашей, а Канев защищался стойко. Вечером мы прибыли в полк. Не разгружаясь, поставили машины в укрытие. Майор Сандлер встретил нас, сияя:
- Кушайте и отдыхайте до утра, если все будет нормально.
С 5 по 11 августа, после неудавшегося наступления немцев, на фронте установилось затишье. Лишь изредка где-то прогремит пулеметная очередь, ухнет мина или снаряд - и опять тихо. Бои за Днепр не прекратились, а переместились к югу, к Черкассам.
С 11 августа немцы вновь начали с воздуха наносить бомбовые удары по Каневу, усилился артобстрел переднего края и огневых батарей наших войск. Все чаще стали прилетать снаряды и к нам. Один снаряд попал в двухэтажный деревянный дом, стоявший на краю оврага. Он использовался в качестве КП полка, там размещались Сандлер, Гирин, Ласученко, начальники ОВС и ПФС - (их фамилии я забыл). Дом сгорел дотла, никто даже не пытался тушить пожар.
В небе развернулись воздушные бои, ожесточенно дрались и на земле. Снарядов на батареях оставалось мало. Я снова получил приказ, и на трех газиках отправился в Черкассы. На складе к нам присоединился мл. политрук, и мы отправились к Днепру, где паром переправлял машины. Я сообщил о своем приказе подполковнику, руководившему переправой. Он, почти не глядя на меня, сказал:
- Поздно, лейтенант. Ничем помочь не можем. Возвращайтесь быстрее в полк. Канев наши войска скоро оставят.
ПЕРЕПРАВА
Когда мы возвращались в свой полк, путь нам преградил седьмой авиадесантный корпус, шедший на переправу по понтонному мосту, установленному недалеко от Канева. Мы вынуждены были остановиться, и в течение часа медленно продвигались в хвосте колонны. Меня это очень беспокоило и заставляло искать выход.
Ночь вошла в свои права, а в лесу это очень заметно. Вскоре я нашел проселочную дорогу, идущую куда-то вверх от Днепра. Дорога была узкая, но хорошо накатанная. Медленно поднимаясь в гору по этой лесной дороге, мы выехали в открытое поле. Дорога шла в сторону города, изредка ее прикрывал небольшой лес (позднее выяснилось, что это была верхняя дорога). На фронте стояла тишина, только изредка ухнет разрыв снаряда, протрещит пулемет, да в небо взлетит осветительная ракета, и опять тихо.
Подъехали к Каневу, я остановил колонну, вышел из машины, прислушался. В городе была подозрительная тишина. Поставив машины в вишневый сад, дал распоряжение Санникову осторожно пройти на КП командира полка. Ждать пришлось недолго, но минуты ожидания были очень напряженными. Вернувшись, Санников доложил, что на КП никого нет, и что слышал в городе немецкую речь.
Я не мог ответить себе на возникший вопрос: как поступить, но, размышляя, решил вернуться обратно километров на пять-шесть к большому оврагу, который мы только что проезжали, спустить машины под овраг, а самим продвигаться через лес к Днепру в надежде найти ту переправу, по которой отходили части седьмого авиадесантного корпуса. Когда мы спустились к Днепру и прошли по берегу километров пять, обнаружили, что переправы нет, понтоны сняты. Вдали, вверх по течению, стояли останки разрушенного железнодорожного моста. Вскоре мы увидели немецкие танки, идущие с северо-восточной стороны.
Наступил жаркий августовский день, солнце только что поднималось из-за горизонта, а воздух уже дышал зноем. Я понимал, что оставить машины врагу нельзя, а переправиться с ними через реку невозможно. Значит, надо их сжечь. Укрывшись в овраге, поросшем кустарником, мы устроили совет. Каждый предлагал свое решение, я молчал, обдумывая создавшуюся ситуацию. В середине Днепра напротив нас тянулся небольшой островок, поросший лесом. Раньше я хорошо плавал и мог бы спокойно переплыть к нему, но переплывут ли мои люди - этот вопрос не выходил у меня из головы. Чтобы предложить свой вариант, я должен был его хорошо обдумать. За островком была достаточно широкая водная преграда, да еще и с быстрым течением. Время шло, но я так и не мог принять решения. Федя Москвин, мой однофамилец, ковыряя веткой землю и не поднимая головы, сказал:
- Разрешите, товарищ лейтенант, я пойду, поищу лодку.
У меня отлегло от сердца. Думаю, правда, чем черт не шутит, были же рыбаки в Каневе, может, и правда, стоит поискать.
- Иди, Федя, только будь осторожен, не нарвись на немцев.
Федя ушел, а я думал, как бы до вечера враг не решил занять остров. Время тянулось долго, солнце скрылось за высоким берегом Днепра. Меня начала беспокоить тревога за Федю и за нас всех. Оружия у нас - только карабины с двумя обоймами у солдат, и пистолет с двумя обоймами у меня - против автоматов. Да и кустарник не будет защитой. Я уже потерял надежду на Федю, как вдруг Нифонтов схватил меня за рукав:
- Кто-то идет.
Прислушались. И в самом деле, кто-то пробирается. Я вынул пистолет, загнал патрон в канал ствола, заклацали затворы карабинов.
С крутого берега оврага скатился Федя.
- Вот и я, - сказал он, - а там, наверху - дед с лодкой. Правда, маленькая, всех не поднимет, но человека 2-3 возьмет.
Мы поднялись на верх оврага, и я увидел, как тогда казалось, старика лет шестидесяти.
- Ще, сынки? Зляхались? Наступит ничь - усих переправлю. Бачите чевн? Хоть маненький, да справный.
Я увидел лодку, которую может перенести один человек, но был рад бесконечно. С наступлением ночи старик куда-то ушел, а вскоре вернулся с девушкой лет 18-20, сказал:
- Пора!
Мы пошли к реке, спустили лодку на воду. За девушкой в лодку сели шоферы Нифонтов и Храмов. Они отплыли от берега и скоро скрылись в темноте. Минут через сорок девушка вернулась. Над Днепром тихо, только шелестят слабые волны. В этот раз пассажирами отправились Санников и Федя Москвин, и снова лодка ушла в темноту. Не прошло и пятнадцати минут, как над Днепром повисла одна, затем другая ракета. С вершины высокого берега ударил пулемет, а ракеты - одна за другой - виснут над рекой. Из-за острова нам не видно было лодки, и нас - уже двоих со стариком - охватила тревога за людей. Успеют ли? - мучил один вопрос. Но время шло, а лодка не возвращалась. Старик не выдержал, заплакал. Я, чувствуя перед ним вину, старался его успокоить, а сам соображал, что должен предпринять, и решил:
- Что ж, батя, война! Прости меня. Может, твоя дочь еще вернется, а мне пора. Останусь жив - отомщу. Тебе большое спасибо за помощь. Как хоть тебя звать-то?
Он посмотрел на меня своими заплаканными глазами, долго смотрел из-под густых бровей, а потом сказал:
- Кравченко я. Ефим Кравченко, сынок.
Я разделся до трусов, уложил брюки, гимнастерку, пистолет без кобуры. Из сумки вынул карту, уложил ее в гимнастерку, свернул все каточком. Ефим помог мне одеть поклажу на спину. Я притянул узел своим походным ремнем, попрощался со стариком и вошел в воду. Течение в этом рукаве небыстрое, и я вскоре достиг берега острова. Перешел остров и увидел, что второй рукав - с быстрым течением. По острову поднялся вверх по течению, посидел на берегу и вновь поплыл.
На этот раз с каждым метром становилось все тяжелее и тяжелее, а почти перед самым берегом попал в воронку. Меня закрутило и, напрягая силы, я впервые испугался: а вдруг закрутит до дна? Я и так был уставший, а тут препятствие. Очень опасное препятствие! Вспомнил жену, детей, и они как будто крикнули мне: "Крепись! Собери силы! Не поддавайся нелепой смерти!" Когда меня повернуло по ходу течения к берегу, я собрал последние силы, и отчаянными толчками рук и ног выплыл за орбиту воронки. Пологий берег был близко, я подумал, что берег рядом, опустил ноги, но дна не достал. Мой намокший багаж тянул меня вниз, а силы были уже на исходе. Стараясь держаться на плаву, я отстегнул узел, принял положение пловца, сделал несколько движений и руками зацепил дно.
Какое было мучительное горе! Сам спасся, а документы, оружие, одежда остались в воде. Я был голый, только трусики прикрывали мое грешное место.
Посидел на холодном песке, обдумывая, что предпринять. Встал и пошел через кустарник к дороге Канев-Золотоноша. По пути - на проселочной дороге увидел стоящую подводу, а возле - убитую лошадь. Она так и лежала на животе в упряжке, словно кто-то подрубил ей ноги. Вторая лошадь спокойно стояла рядом, опустив голову. В трех шагах от подводы лежал боец и смотрел открытыми глазами в розовеющее небо. Он был мертв. Я осмотрел бричку, обнаружил в мешке синий комбинезон, быстро одел его на себя и снова стал рыться в мешке в надежде найти какую-нибудь обувь, но поиски не оправдали мои надежды. Погрузив бойца на спину лошади, я медленно пошел с поклажей дальше.
Рассвет наступал медленно, но когда я вышел на дорогу, восток горел заревом восходящего солнца. Не прошел и километра по этой дороге, как меня обогнала полуторка с будкой и остановилась. Из машины вышел капитан, подождал, когда я подойду, спросил:
- Кто такой? Предъяви документы!
Хотел рассказать ему о своем приключении, но он и слушать не стал, приказал сесть в машину. Туда же забросили труп бойца, и полуторка тронулась.
ТРУХИН, ВЫРУЧАЙ!
Привезли меня в Золотоношу. Капитан скомандовал:
- Слезай!
Я выпрыгнул из кузова на что-то твердое, подошву правой ступни как-будто обожгло, но виду я не подал, пошел за капитаном в дом, чуть прихрамывая. За столом сидел другой капитан, в очках. Его светлые густые волосы, зачесанные в правую сторону, свисали на глаза. Сидя в стороне на деревянной табуретке, я ждал, когда этот капитан обратит на меня внимание. Он что-то сосредоточенно писал, а когда закончил - поднял голову и в упор впился в меня острым взглядом своих голубых глаз.
- Ваша фамилия?
Я ответил, он записал.
- В какой части служили?
- Я не служил, а служу в 404 артиллерийском полку 109 мехдивизии.
Он встал, подошел ко мне вплотную, сказал:
- В таком виде Вы служите? Кто Ваш командир полка?
- Майор Андреев, - ответил я.
- Где Ваш полк, знаете?
- Должен быть где-то здесь.
- Так вот, дружок, названных Вами частей здесь не было, и нет! Когда Вы дезертировали из части? Где Ваше обмундирование? Кто Вы были в армии?
Я пояснил, как отстал от полка, как переправлялся через Днепр, как наткнулся на подводу. Капитан сел за стол, записывая мой короткий рассказ. Когда закончил, велел прочесть и подписать. Я взял лист, внимательно прочитал его, затем подписал.
- А теперь идите!
Я открыл дверь, через которую входил, и встретил сержанта. Он, преградив мне путь, указал молча на другую дверь - в смежную комнату - и закрыл ее за мною на ключ. В комнате были два человека. Мужчина лет пятидесяти, невысокого роста немного полноватый брюнет, сидел на полу, уткнувшись головой в колени. Второй - высокий ростом, слегка рыжеватый, с большими открытыми глазами сидел в стороне на скамеечке. Когда я вошел, он вдруг оживился, приблизился ко мне, спросил:
- Где попал?
Я посмотрел на него, ответил:
- Сам вышел на них, в часть свою шел.
Всю ночь нас по очереди вызывали в капитанскую комнату, допрашивали, уговаривали чистосердечно признаться в намерении не служить в армии в силу то трусости, то религиозных предрассудков, то в нежелании защищать Родину от фашизма по своим политическим убеждениям. Я всякий раз отрицал любые их мотивы, стоял на своем: я жертва недоразумения и постигшего меня несчастья. Но капитан был неумолим. В конце каждого допроса он давал мне лист бумаги и требовал написать все о себе. Перед утром меня снова вызвали. За столом сидел майор. Он не допрашивал, а подал мне чистый лист бумаги и сказал:
- Пиши! Пиши обо всем: где родился, где служил, где кем работал, женат ли, есть ли дети. В общем, пиши все!
Я примостился на уголке стола и все подробно, уже в четвертый раз за сутки, написал о себе. Окончив писанину, подал ему лист. Майор посмотрел на него с той и с другой стороны, затем на меня, и жестко сказал:
- Под трибунал, дружок, пойдешь! Составишь троицу своим дружкам. Иди!
Возвращаясь к этим "дружкам", я подумал: неужели это они оклеветали меня? Какой я им дружок? Но, войдя в комнату, промолчал, пристально наблюдая за обоими. Мучил меня вопрос: как доказать, что я не дезертир? Неужели полк ушел куда-то далеко? И еще вспомнил тех солдат, которых расстреляли перед нашим строем, как дезертиров. Может, и с ними произошло то же, что со мной? Я стоял у окна в глубоком раздумье, вдруг увидел машину М-1 и шофера Трухина. Не раздумывая, я ударил локтем по стеклу, крикнул:
- Трухин, выручайте!
Трухин обернулся на крик и звон стекла, запрыгнул в машину. В это же время в комнату заскочили два бойца и тот капитан, который привез меня в это заведение. Они подлетели ко мне, схватили и поволокли в сторону от окна, заломив мне руки назад до страшной боли. Я не сопротивлялся, только думал: понял ли Трухин? Вскоре меня вызвали в комнату допросов. Входя, увидел там помощника начштаба нашего полка ст. лейтенанта Теплова. Он разговаривал с майором, потом обернулся, улыбнулся мне и, пожимая мою дрожащую руку, сказал:
- Поехали!
Я не помню, как вышел, как сел в машину. Не верилось, что освободился! Ст. лейтенант Теплов привез меня к начальнику ОВС и передал распоряжение майора Сандлера выделить обмундирование. Получив все положенное, я доложил начальнику штаба Чистякову о прибытии, о переправе, об уничтожении машин и о приключении. Тот выслушал меня, написал записку начальнику боепитания о выдаче мне оружия. В штабе получил карту. Следом зашел к секретарю парторганизации ст. политруку Чекалину и сообщил об утере партбилета при переправе. По пути к начальнику боепитания встретил Санникова, Москвина, Нифонтова и Храмова. Когда я увидел их, живых и невредимых, радости не было конца! Мне казалось, что Москвин и Санников погибли вместе с девушкой и лодкой. Я не выдержал, спросил - жива ли девушка?
- Не знаем, - ответил Санников, - Когда мы подплыли к берегу, вдруг небо осветила ракета. Мы выпрыгнули из воды, а Настя круто развернула лодку и быстро стала уходить вниз по течению. А вот добралась ли она до того берега - не знаем. Может, добралась. Дивчина она бойкая, да и лодкой управляет, как заправский моряк.
Мы долго сидели под раскидистой сосной в окружении бойцов нашего подразделения, оживленно рассказывая о переправе. День прошел спокойно, если не считать налета немецких бомбардировщиков на Золотоношу. Все бойцы успели помыться в палаточной бане - первой после Иркутска. Это событие преобразило всех людей в военной форме. Мы не только помылись, но и сменили белье, портянки. Бойцы безо всякой команды стирали свои просоленные рубашки, брюки, чистили изрядно потрепанную обувь. В батареях царили шутки, смех. В эти минуты мы как бы забыли о войне, хотя бой шел недалеко, и его эхо доходило до нас.
Лес, в котором расположился полк, был густой. Ветви мощных сосен висели над нами сплошной кровлей. 10 сентября в 4 часа утра всех подняли по тревоге, и полк быстро выступил в сторону г. Лубны. Кончился наш двухнедельный отдых. За это время батареи пополнились новыми гаубицами 122 мм и 76-мм пушками, лошадьми. У нас появилось достаточно снарядов разного калибра. Но вместо девяти ожидаемых тягачей мы получили шесть. В это время полк обладал мощной огневой силой.
Утром 11 сентября дивизион Гусева занял оборону в районе с. Оболонь, а дивизион капитана Белого - на ж/д станции Семеновка. Я со своей батареей остановился в роще, недалеко от с. Оржица. Дивизионы Белого и Гусева вступили в бой без подготовки, и шел этот бой сутки. Затем полк отступил в район Мироновки и Оболони. Здесь бои продолжались до 20 сентября, когда немцы заняли Лубны, соединились с другими немецкими частями и отрезали нам путь отхода на восток. Наш полк оказался в окружении вместе со многими другими частями Юго-Западного фронта. Это было крупное поражение наших войск.
О том, что мы - в окружении, сообщил ст. техник-лейтенант Лосученко, прибежавший к нам на батарею, а вскоре мы увидели движущиеся в нашу сторону немецкие танки. Поскольку наша батарея занималась только доставкой топлива и боеприпасов дивизионам, мы были почти безоружны, и о том, чтобы прорываться с боем, речи даже не могло быть. Быстро согнав машины в кучу, бензовозы поставив в середину, мы запалили их. Мощный взрыв и образовавшаяся туча черного дыма покрыли все вокруг. Прикрываясь дымовой завесой, мы спустились в плавни реки Оржица, ушли в камыши. С этого дня началась наша трудная жизнь в тылу врага.
Просидев в камышах до ночи, мы вышли к скирдам соломы, немного обогрелись в них, предварительно отжав обмундирование от влаги. Затем двинулись в путь, в сторону Миргорода. Пройдя километров пятнадцать, наткнулись на водную преграду - реку Сула, стали искать средства переправы. Помог нам в этом пасечник, у которого была лодка. Он, не колеблясь, перевез нас всех на другой берег, да еще накормил медом досыта. Теперь наш путь лежал по пересеченной местности, почти без единого кустика, лишь изредка встречались сосновые лесопосадки.
В ТЫЛУ ВРАГА
От Оржицы до Староверовки расстояние 350 километров. Но это по прямой, а мы шли по тылам врага, не по прямой, используя, в основном, леса и, как правило, ночью. Лишь изредка, с предварительной разведкой, заходили в хутора и села. С первого дня я поставил перед собой и бойцами моего отряда задачу не вступать в соприкосновение с врагом, выйти из окружения без потерь и как можно быстрее.
В первый день нас было тридцать три человека, но на второй день от группы откололся ст. техник лейтенант Лосученко. Вся забота о людях легла на мои плечи. Остальные бойцы были полны решимости выйти из окружения в расположение наших войск.
Но гладкого пути у нас не было. Были отдельные встречи с немцами - как у меня, так и у небольшой части бойцов, ходивших в разведку в населенные пункты. Многие из нас были одеты в гражданскую одежду, в том числе и я.
_____
ПРИМЕЧАНИЕ О.Л.: Здесь я должны добавить то, чего нет в дневнике отца, но что он не однажды рассказывал много лет назад мне, тогда еще девчонке. Поняв, что в военной форме по тылу врага им не пройти, отец и его товарищи зашли в первое попавшееся село - это была Остаповка Полтавской области - надеясь разжиться гражданской одеждой. По их наблюдениям, немцев в селе не было. Но стоило им войти - в конце деревенской улицы показались немецкие мотоциклисты. Наши бойцы укрылись в близлежащих домах. Дом, в который заскочил мой отец, принадлежал многодетной молодой женщине (из отцовского письма военного времени я узнала имя этой женщины - Анна Никифоровна Иванченко). Она не растерялась, тут же принесла пиджак и брюки мужа, служившего в Красной Армии, а отцовскую военную форму спрятала в русской печке, заложив ее дровами. Надо ли говорить о том, что эта женщина очень сильно рисковала и собой, и детьми, которых у нее было шесть или семь - мал мала меньше. Младший - грудничок.
_____
Только офицерские хромовые сапоги, которые я не смог сменить, могли выдать меня врагам, но, как правило, я забывал об этом. Много раз один или в паре с бойцом я заходил в село, чтобы оценить обстановку, узнать, могут ли нам помочь с едой. Надо отдать украинцам должное - люди не жалели для нас продуктов, часто сами несли нам хлеб и молоко, что касается овощей, то их нам хватало в избытке.
_____
ПРИМЕЧАНИЕ О.Л.: Несмотря на то, что почти все мирное население оккупированных сел и деревень было настроено к окруженцам благожелательно, один предатель из местных, по словам отца, им все же встретился. Жил он в доме, расположенном на самой окраине села, сам пригласил в дом отца и его бойцов, приказал жене накрыть щедрый стол с выпивкой, а сам ушел. Потом оказалось, что хозяин запряг лошадь и поехал за немцами в соседнее село. Тут уж отцовскому отряду пришлось туго, но они успели уйти в лес, не потеряв ни одного человека.
_____
Однажды я увидел, как по дороге из села шел пожилой мужчина. Я вышел к нему из леса, спросил:
- Вы из села идете?
- Да.
- Вы там живете?
- Ни, я був у родственников.
- Немцы в селе есть?
- Не бачив.
- Красная Армия была в селе и когда?
Он пожал плечами:
- Не бачив. Мабуть были, тай ушли.
Я вернулся в лес, отдал распоряжение двигаться по лесу подальше от села, дежурному ждать меня на опушке в километре от околицы. Оставил за себя сержанта Радченко, передал ему планшет с картой.
Когда вышел на дорогу, ко мне пристал пожилой мужчина, тоже вышедший со стороны леса. Мы шли по извилистой дороге, тихо разговаривая, и вдруг неожиданно оказались у крайних домов села. Мой спутник, заметив, видимо, раньше меня немецких солдат, быстро качнулся в сторону и скрылся в густых зарослях.
Когда я увидел этих немцев, было поздно уже принимать решение на избежание встречи, и я сконцентрировал всю свою силу внимания, взял себя в руки, изображая простого крестьянина. Шел навстречу судьбе, не изменяя темпа. Шел, а сам думал: что ж, если мне здесь конец, то жизнь отдам, как можно дороже. За какое-то короткое время, пока я проходил этот путь в стане врага, в памяти пролетела вся жизнь, все близкие, родные, мои бойцы, которые продвигаются сейчас по лесу к намеченному мной рубежу сосредоточения.
Чем дальше я шел вглубь села, тем больше видел солдат в зеленой форме. Тогда принял решение зайти в ближний домик. Отворил калитку, поднялся на крылечко, шагнул в хату и увидел: слева на скамейках сидят четыре молодых, примерно моих лет, немецких офицера, а справа, за печкой, мужчина лет шестидесяти, пожилая женщина и парень 15-16 лет. Они кушали за столом.
_____
ПРИМЕЧАНИЕ О.Л.: Отец, рассказывая об этом случае, говорил: "Я понял, что спасти меня может только одно и, внимательно глядя на стариков, наблюдая за их реакцией, шагнул к ним за стол".
_____
Я направился к ним, как старый знакомый, перебросил ногу через скамейку, показал легким движением пальца: мол, принимайте за своего. Женщина соскочила с места, налила миску щей, подала мне и проговорила:
- Кушай!
Взял ложку, хлебнул раз, другой. Постепенно стало приходить спокойствие. Сказал так тихо, чтобы только они могли слышать, но твердо.
- Мне надо выйти из этого села. Я иду к нашим. Если можете помочь - помогите.
Старик сразу же согласился:
- Кушай плотнее. Сын тебя проводит.
После трапезы мы с парнем - звали его Миколой - вышли из хаты. Шли по деревне медленно, говорили для вида. Я задавал вопросы, он отвечал. Так и дошли до конца улицы. Остановились у крайней хаты, я попросил его организовать сбор продуктов и сегодня принести на опушку леса, что в километре от села, положить под какое-либо отдельно стоящее дерево.
- А как вы узнаете место, где мы положим продукты, и сколько надо этих продуктов?
- За вами будет наблюдать наш человек. Нужны молоко, с ведро вареного картофеля, яиц штук 30-40, хлеба пять-шесть буханок.
Парень выслушал, сказал:
- Сделаем!
Пожимая ему руку, я от всей души поблагодарил его, передал благодарность его родителям, предупредил о необходимости быть осторожным, чтобы немцы ничего не заподозрили, и мы расстались. Он пошел обратно в деревню, а я, обогнув огород и двигаясь по кукурузе, вышел к лесу. В нем оказалось довольно темно - лес был густой, рослый, в основном смешанный - сосны, дуб, береза, ива. Шел по лесу долго, наконец, стало светлеть. Шел и думал: добрались ли мои люди до назначенного места? Но мое сомнение вскоре развеялось - из-за кустов появился сержант Черемных. Оказалось, отряд сделал остановку не в лесу, а в небольшом колке, расположенном среди кукурузного поля. Встретившись с бойцами, я поведал о своем приключении, и о том, что вечером должны принести продукты.
- Черемных! - позвал я, - Тебе придется идти на встречу с пацанами. Это должно быть примерно в том месте, где мы с тобой встретились. Они будут посвистывать изредка, когда станут подходить. Но будь осторожным. Наблюдай за ними, а сам не показывайся: мало ли, вдруг приведут за собой хвост - ребята-то молоденькие, неопытные.
Черемных ушел. Я записал в свой дневник все, что видел в селе, сунул дневник за голенище, и только сейчас обратил внимание на сапоги - и заволновался. Сапоги на мне были военные - офицерские, хромовые. Как я раньше не подумал об этом! И как это немцы не обратили внимания на мою обувь? Хотя голенища были спрятаны под брюки моего костюма, а головки-то на виду! Я впервые себя ругал за эту оплошность, да так, как, наверное, никого не ругал в жизни.
Вечером, когда солнце село за горизонт, посланные на помощь Черемных бойцы вошли в колок с продуктами. Тут была вареная картошка, еще теплая, правда, в мундире - около двух ведер! Куски сала, 12 бутылок молока, семь буханок хлеба. За ужином я сообщил бойцам, что наши войска прошли через это село позавчера, то есть 23 сентября.
Когда стемнело, мы, не выходя на дорогу, полем двинулись в сторону Краснограда. Этой же ночью подошли к реке Ворскла севернее Полтавы примерно в 15-ти километрах. До наступления темноты остановились в прибрежном густом кустарнике. В течение дня посланные мною люди определили, где можно переправиться, договорились с местными жителями о средствах переправы, принесли продукты питания, и с наступлением темноты переправились на другой берег. Пересекли большак Харьков-Полтава и опять полем двинулись дальше. Шли быстро, иногда приседая на короткий привал, прислушиваясь к тишине.
_____
ПРИМЕЧАНИЕ О.Л.: В дневнике отец не упомянул о цыганском таборе, с которым встретился его отряд в окружении, и о котором не однажды рассказывал нам, детям. Отец говорил, что цыганки стали гадать бойцам, каждому предсказывая судьбу. Кому что говорили, а отцу цыганка нагадала долгую жизнь. "Войны не бойся, - сказала она, - пулям не кланяйся. Жив останешься, доживешь до шестидесяти лет".
_____
Рано утром 6 октября мы подошли к Первомайскому. Наши разведчики сообщили, что в селе немцев нет. Мы узнали, что наши войска только что оставили этот населенный пункт, всего лишь часа за 2-3 часа до нашего появления, и заняли оборону на левом берегу небольшой речки Березка-Берестовенька. Не успели мы войти в село, как вдруг увидели большую колонну мотоциклистов и машин с пехотой, на полном ходу занимающую этот населенный пункт.
Мы залегли в небольшом колке пшеничного поля, которое уже было сжато. Пшеница была связана в снопы и составлена в суслоны. Мы хорошо слышали бой совсем рядом, установили наблюдение и определили место прорыва. За день нам удалось хорошо рассмотреть, где располагаются немцы, и где их нет. Примерно к 12 часам ночи мы сосредоточились на берегу, в кустах терновника. Когда бой прекратился, мы тихо переправились на другой берег и вошли в мелкую, примерно пятилетнюю лесопосадку. Я направил в сторону наших позиций Егорова, чтобы он предупредил своих о нашем переходе. Стали ждать сигнала, ожидали около двух часов, когда, наконец, в небо - строго вертикально - взвилась красная ракета. Это был сигнал для нас. Мы вскочили, помчались вперед и вскоре достигли наших окопов.
Утром 7 октября меня вызвали в Особый отдел. Капитан внимательно посмотрел на меня, спросил:
- Оружие есть?
- Есть, - ответил я.
- Какое?
- Пистолет ТТ и гранаты.
Не глядя, он сказал:
- Положите на стол.
Я выполнил приказ. Он тут же сложил пистолет к себе в сумку.
- Почему не в форме?
Я ответил:
- Так надо было.
- Удостоверение личности и, если есть, партийные документы?
Я ответил, что ни того, ни другого у меня нет, и хотел объяснить - почему. Но он прервал:
- Ваш планшет?
Я подал ему. Капитан извлек карту, бросил планшет в угол и сказал, подавая мне лист бумаги и химический карандаш:
- Садитесь, пишите: где, когда, при каких обстоятельствах попали в окружение? Кем вы были до окружения? Какую должность занимали? Кто по званию? Где оружие, техника? В какой части служили? Где эта часть? и т.д.
Хоть и был я сильно уставший, но сел и, борясь со сном, написал все. Подал ему исписанный с двух сторон лист и карандаш. Он громко кого-то позвал, вышел боец с винтовкой.
- Отведите этого! - капитан не назвал меня по фамилии.
Я встал и пошел к дверям.
- Руки назад! - услышал из-за спины голос капитана.
Заложив руки назад, я вышел. Шли недолго до какого-то сарая.
- Заходи! - сказал боец. В сарае сидели на ржаном зерне человек двенадцать разных по возрасту людей в гражданской одежде. Отыскав свободное место, я лег и уснул. Проснулся от толчка. На дворе стояла ночь. Тот, что разбудил меня, сказал:
- Пошли!
Мы вошли в помещение, похожее на школу. За столом в классной комнате сидел старший лейтенант. Он заставил меня писать все заново. Мои слова о том, что все уже написал и отдал капитану, что я голоден вторые сутки, старший лейтенант, как будто, не слышал, и вновь повторил:
- Пиши!
Опять я повторил все, что уже написал утром, передал свой дневник, который вел в окружении. Он взял мое объяснение, некоторое время читал его, потом принялся за дневник, полистал его и сказал:
- Идите!
Хотел выйти, но вспомнил:
- Что с моими бойцами? Где они? Они ведь не пехотинцы. Все - шоферы и автотранспортные слесаря, есть мастера-оружейники. Я прошу учесть это и не разъединять нас. Они - кадровые бойцы, с которыми я служил еще в мирное время на Дальнем Востоке. Побеседуйте с ними.
- Сейчас, браток, не до бесед. В частях дорог каждый человек, а Ваши люди - тем более. Идите!
Меня отправили опять в тот же сарай. Возле сарая стояла кухня, кормили нашего брата-окруженца. Счастье привалило - я хорошо покушал, а через час нас направили в населенный пункт Петровское - вначале пешим порядком, а потом догнала нас полуторка, мы поехали в кузове. Один из нас, пожилой, видно - не простой человек, спросил шофера:
- Какая же нужда заставила оказать нам такую честь - подвезти на машине?
Шофер ответил:
- Немцы поджимают. Можете опять оказаться в окружении.
Больше разговоров у нас не было, только посматривали на небо, прислушиваясь.
В Петровском мы пробыли недолго, вскоре нас погрузили в машины и повезли в Изюм. Здесь кончились наши беды. Мы получили белье, обмундирование, пошли в настоящую баню с парилкой и губкой. Три раза я ходил в парилку, пока не вывел всех вшей с тела и одежды. Сколько я ни пытался за месяц нахождения в с. Боровое Изюмского района, в резерве отдела кадров 6-й армии, найти свой полк, узнать о судьбе моих ребят - ничего не получилось. Через месяц, в ноябре 1941-го меня направили в 582-й арт. полк АРГК на должность начальника ВТС.
 |
И.У. Москвин. Фотография, предположительно, |
В НОВОЙ ЧАСТИ. 1941 г.
После месячного пребывания в резерве комсостава 6-й армии в селе Кабанье 25 ноября 41-го я прибыл в 582-й артполк АРГК Юго-западного фронта. Полк находился в расположении обороны наших войск в районе Балаклеи. Встретил меня зам. командира полка по технической части капитан Алексеев - уже пожилой, за 50 лет мужчина, высокий, сутуловатый, с непричесанной копной седых волос. Вид у него был какой-то неряшливый. Капитан производил впечатление нездорового человека. При разговоре от него исходил сильный запах денатурата.
Я хотел доложить ему о прибытии по всей форме. Он поднял руку, останавливая:
- Ладно. Я все знаю. Садись за стол, покушай.
Это оказалось кстати. Я был голоден. Он помолчал, глядя на меня, и скомандовал:
- Буш! Дай-ка нам покушать, да не забудь фляжку и все остальное.
Буш, его непосредственный водитель, видимо, хорошо изучил своего хозяина. Быстро принес и поставил на стол фляжку, две небольших алюминиевых кружки, банку мясной тушёнки, нож, краюху черного хлеба - и ушел. Капитан налил в кружки спирт, предложил выпить за знакомство.
Отодвинув предназначенную мне кружку со спиртом, я сказал, что должен явиться к начальнику штаба полка с направлением ОК армии. Капитан удивленно посмотрел на меня и приказным тоном велел:
- Пей! Или не появляйся ко мне.
Я поднялся из-за стола, встал, как положено и сказал:
- Любой Ваш приказ, как старшего по званию, выполню, если он будет иметь боевой оттенок, но этот выполнить не могу.
Надел пилотку и вышел, так и не поев, хотя есть очень хотелось.
Штаб полка располагался в селе Боровое.
Пешком я добрался к начальнику штаба через час. Капитан Науменко встретил меня просто, как будто мы с ним были давно знакомы. Он усадил меня напротив, стал расспрашивать, где проходил службу, имеется ли семья, где живу, и почему-то спросил, есть ли у меня медальон. Я ответил на все его вопросы, а потом он спросил вновь:
- У Алексеева был?
- Был.
Он поднял брови, пристально посмотрел на меня, проговорил как-то растянуто:
- Та-а-а-к.
В конце беседы он подал мне листок с приказом по полку о моем назначении:
- Отдашь Алексееву.
Получив разрешение идти, я вышел из штаба и направился в батареи для ознакомления с состоянием тягачей, знакомством с трактористами-водителями, наличием горючего и запасных частей. Хотя я старался как можно быстрее осматривать хозяйство, все же в этот день мне не удалось побывать во многих батареях из-за разбросанности их по фронту. В третьей батарее мне удалось впервые за этот день покушать. Вернулся в свои тылы поздно вечером. Алексеев был пьян, спал. Я вызвал автомеханика, старшего сержанта.
- Науменко! - представился он
- Лейтенант Москвин. Бензовоз есть?
- Есть.
- Прошу Вас сейчас отправиться в расположение дивизионов, заправить горючим баки тягачей.
Науменко, выслушав мое распоряжение, ответил:
- Я подчиняюсь только капитану Алексееву, а с Вами я не знаком, - он повернулся, хотел уйти, но я его остановил и резко потребовал немедленного выполнения моих распоряжений. Он немного постоял, козырнул, повторил приказ, получил разрешение и ушел.
"Вот черт! - подумал я, - видать кадровый, дисциплину знает. Разболтался при попустительстве Алексеева". Капитана я будить не стал, но утром был у нас с ним крупный разговор. После собрали личный состав нашего тыла, Алексеев представил меня:
- Лейтенант Москвин приказом командира полка назначен к нам начальником ВТС. Прошу выполнять его распоряжения, как мои.
Затем стал говорить я:
- Мы находимся на войне с таким коварным и сильным врагом, как фашистская армия, и не можем быть беспечными. Не исполнение требований, которые диктует война, ведет к гибели каждого, кто причастен к боевым действиям.
Затем спросил водителя бензовоза рядового Кравца, сколько заправлено машин в дивизионах, есть ли горючее в бензовозе.
Кравец ответил:
- Заправлены машины первого и третьего дивизионов, а второй дивизион ушел в сторону Барвинково и мы его не нашли, да и горючего в бензовозе осталось не больше 200 литров.
Так, подумал я и спросил, знает ли Кравец, где находится армейский склад ГСМ. Получив утвердительный ответ, приказал немедленно отправляться за горючим, хотя в небе то и дело появлялись немецкие самолеты. Кравец, поглядывая в небо, пошел к бензовозу, стоявшему под высокими соснами бора.
- Езжай через Боровое! - крикнул я ему. Этот путь был немного дольше, зато безопаснее.
Когда Кравец уехал, я спросил механика Науменко:
- Вы были в батареях?
- Был.
- Знакомились с техническим состоянием тягачей?
- Неисправных нет, - ответил он, - Да и водители не сидят сложа руки, устраняют мелкие дефекты.
- Хорошо, отдыхайте, - и мы со старшим слесарем пошли к "летучке".
Так началась моя новая служба в 582 апртполку. Вскоре капитан Алексеев заболел и был отправлен в тыл на лечение. Я временно замещал его, и эта "временность" продолжалась до расформирования полка в районе г. Туапсе в октябре 1942 года.
РАЗГРОМ. 1942 г.
До января 1942 года наш полк занимал оборону в районе Балаклеи. Активных действий не проявляли - как та, так и другая сторона.
ДОПОЛНЕНИЕ: ОТРЫВКИ ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ ОТЦА:
"1 января 42-го. Полк не участвует в боях. Стоим в селе Гороховатка. Я приготовился к проведению праздника. Имею спирт - 45 литров и два литра водки, выданные зам. командира полка майором Красновым. Хозяйка готовит закуску из принесенных мной продуктов, но неожиданно меня настигает крупная неприятность. По собственной оплошности и недогляду я поставил на угловой столик с зеркалом бутыль в пять литров спирта и два литра водки в пол-литровых бутылках. Столик долго держался в покое и вдруг как-то неожиданно рухнул. Ну, и итог: бутыль, пол-литры и зеркало разбились. Друзья - Краснов, Алексеев, Филонов, Дымуховский должны были с минуты на минуту подойти. Я был крайне огорчен".
В январе поступил приказ командира 293-й дивизии, которую наш полк поддерживал огнем артиллерии. Дивизия перешла в наступление, и после огневой подготовки атаковала передний край врага, начала стремительно продвигаться на Харьков, не заботясь о правом фланге.
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ:
"10 января - срочный приказ: идем в наступление в направлении с. Кунье-Савинцы. Машины идут хорошо. Ночь звездная, дорога ровная и чистая. Мы пересекли свои рубежи. Впереди взломанная оборона немцев. За ночь взяли с. Кунье, вошли в г. Савинцы. Наше наступление продолжается. Враг сопротивляется слабо. На сердце что-то неспокойно. Не ловушку ли нам готовит враг? Справа идут упорные бои, слева - слабее. Мы далеко вклинились в оборону немцев. И радостно, и что-то гнетуще. Отправили документы на повышение меня в звании.
18 января. Прошли Чепель. Волобуевку и дошли до Михайловки. Я достаю легковую машину командиру полка - немецкий опель-кадет - в хуторе Зеленый. Мне помогает шофер Буш. При входе в хутор я чуть ли не оказался в лапах немцев. Помогла только поднявшаяся среди врага паника. Мы успели вовремя ускользнуть в укрытие незамеченными. Враг спешно покидал этот хутор и вскоре мы были свободны в своих действиях. Правда, остерегались, но напрасно. Нас никто не встречал, не провожал, хутор как будто вымер: ни одного человека. Куда делись? Наверное, враг их вывез. Опель стоял во дворе дома - видимо, колхозной конторы. Без мотора, в дверях и капоте имел какие-то клочки бумаги. Несмело мы подошли к машине. Я осторожно вынул бумажку из прикрытой двери, там было написано "Машина исправна мотор и все оборудование в дому ремонт мотору кончен Илья". Буш побежал в Михайловку за полуторкой. Я остался. Через несколько часов пришел ГазАА на гусеницах. В Михайловку мы прибыли поздно вечером. Не успел обогреться - меня вызвали к командиру полка. Через полчаса я, майор Голобоков и уполномоченный Особого отдела выехали на ГазАА на передовую севернее Михайловки. На обратном пути нас прихватила вьюга, машина с трудом пробиралась по заснеженной уже дороге.
22 января. с. Горохватка. Буря, холод, страшно выходить на улицу. Наступление остановилось. Полное бездорожье. Со мной четыре машины с боеприпасами. Приезжает майор Краснов на лошади, перегружаем боеприпасы на сани. Еду в Михайловку вместе с Красновым. Буря на поле особенно свирепствует. Мы все в снегу, потные, уставшие. К вечеру въехали в село. Оказалось, что мы где-то свернули в сторону другой дороги и оказались совсем в другом селе - далеко вправо от Михайловки".
За двадцать дней наступления части 6-й армии продвинулись вперед на 100 километров. В начале февраля 42-го враг оказал серьезное сопротивление в районе Чугуева, Змеевки, Славянска и Краснограда. Наше наступление на Харьков заглохло, и части 6-й армии перенесли свои действия на врага, занимавшего выступ в районе Балаклеи.
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ:
"17 февраля. Мне присвоено звание лейтенанта приказом ЮЗФ № 0044. Звание нужно обмыть. Боев нет. Спирт есть. Инженер Алексеев рад случаю выпить. Поздравления, наказы, зависть - все вместе - а я горд, немного застенчив, как-то притих. Второй квадрат нет-нет, да и коснется своим холодком моей щеки".
Бои за Балаклею шли безуспешно весь февраль. В нашем полку от действий авиации врага было много выведено из строя тракторов НАТИ-5, и пополнения не было. В марте мы были сняты с боевых действий в районе Балаклеи и без боевой техники выехали в г. Острогожск для формирования полка личным составом, техникой и артиллерией, т.к. пушки и расчеты остались в расположении действующей армии.
В Острогожск мы прибыли в первых числах апреля и через два я с 23-мя водителями выехал на автомобиле ЗИС-5 в г. Орджоникидзе получать американские машины. До Ростова двигались машиной, от Ростова до Нальчика - поездом, а от Нальчика до Орджоникидзе на перекладных - попутным транспортом. Шесть суток в пути, и вот - Орджоникидзе.
Обратился к начальнику склада с письмом. Майор послал меня оформлять документы в контору, где толпились несколько военных в звании от старшины до капитана. За столом сидел техник-лейтенант, с кем-то говорил по телефону, потом, положив трубку, крикнул:
- Кто от 6-й армии?
Сначала не понял, что он имеет в виду меня, подошел к столу, сказал, что прибыл за автомобилями для 582-го артполка.
- Какой армии? - спросил он.
- Шестой.
Он порылся в книге, и снова спросил:
- Водители есть?
- Двадцать три человека, я двадцать четвертый.
- Хорошо. Где люди?
- Ожидают.
Техник-лейтенант встал, и мы пошли к шоферам. Он спросил всех, знакомы ли мы с американской техникой. Мы ответили отрицательно. Тогда он подвел нас к студебеккеру и стал рассказывать подробно об особенностях машин. Мы приняли 24 студебеккера, два джиэмси и один шевролет, и целый день знакомились с машинами, пробовали их на ходу, а через день заправились горючим, прицепили джиэмси на короткие жесткие буксиры, шевролет погрузили на один студебеккер, и в середине дня тронулись в путь.
Вел колонну на студебеккере я, а старший сержант Науменко замыкал колонну. В горах, на подъемах и спусках двигались осторожно, скорость не превышала 20 км. в час. Через пять суток мы прибыли в Острогожск и почти сразу машины были распределены по дивизионам. Джиэмси и шевролет были оставлены для парковой батареи.
В конце апреля мы покинули Острогожск и двинулись в район Красного Лимана своим ходом. Готовилось наше наступление с плацдарма на Харьков. Прибыли к месту, дивизионы распределили свои батареи на фронте юго-западнее Красного Лимана вдоль реки Северный Донец. Студебеккеры были укрыты в большом сосновом лесу. По берегу Донца занимала оборону морская бригада - моряки.
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ:
"5 мая. Впервые увидел маршала Тимошенко. За апрель очень много войск вошло в этот "мешок", который проделали мы в январе-феврале. Встречаются новые виды военной техники, особенно артиллерии. Смотря на все это, я пришел к убеждению, что наступил перелом войны. Мы выходим в составе полка в тыл на формирование.
11 мая. Ст. Савинцы. Мы гоним автомобили и трактора через Донец по мосту. Вдруг вижу: на берегу побежали военные и гражданские в укрытия. Выглянул из кабины, увидел, как, блеснув крыльями в синеве неба, Ю-87 стал быстро скользить к земле. За ним второй, третий, еще, еще. Стервятники пикируют на мост. Я даю полный ход трактору НАТИ-5. На мосту много машин других подразделений. Самолет, кажется, идет прямо на меня. Дергаю Назарова - тракториста и кричу, чтоб гнал еще сильнее. Вот вижу: бомбы черными каплями отделились от самолета, и самолет, опять блеснув на солнце, пошел на Савинцы. Бомбы падают в воду. Вдруг треск, мост закачался, впереди столб дыма. Трактор встал, а самолеты все валятся и валятся с неба. Я лежу у перил вверх лицом - так как-то спокойнее. В небесном океане тысячи пучков дыма. Кажется, что небо горит. По сторонам - грохот. Но мост порван в одном месте - через один от нас пролет (это последний пролет к берегу).
Неожиданно во время переправы встретился с подполковником Сандлером (бывший пом. командира 404-го артполка, с которым отец служил с Харанора до окружения в сентябре 41-го. О.Л.), когда двигались навстречу друг другу. Встреча была радостной, т.к. мы расстались под Оржицей, и судьбу Сандлера я не знал. В короткой беседе выяснилось, что он отступал вместе со штабом полка и избежал окружения. Судьба трех дивизионов ему неизвестна. Я коротко рассказал ему, как и где мы с людьми, без машин, прошли 400 км тылом врага, и под Староверовской перешли фронт. Он мне сообщил, что дивизия, в которой я служил прежде, находится севернее Балаклеи в составе 57-й армии. Меня потянуло к своим однополчанам.
Наступила тишина. По Донцу плывет белобрюхая рыба. Саперы исправляют мост. Я, кажется, постарел.
Работы шли несколько часов, за это время трижды пришлось ложиться на мост и смотреть в небо, как оттуда падали серебристые Ю-87. И трижды авиация в цель не попадала. На закате солнца въехал в Савинцы.
12 мая. День теплый, ясный. Машины и трактора погружены. Поезд тронулся. Еду на Изюм и дальше на Воронеж. Кругом тихо, как будто нет войны. По черному необозримому полю движутся люди и, изредка, лошади, тянущие бороны. Наступил перелом, от которого мы уже отвыкли. Кажется, истории колесо повернулось обратно и скоро обернется той стороной, где люди обрабатывали землю мотыгой".
До середины мая обстановка была почти нормальной. Затем наш участок фронта активизировался, участились полеты вражеских самолетов-разведчиков. 19 мая был нанесен бомбовый удар по обороне моряков и нашим арт. батареям.
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ:
"19 мая. Сдал машины и вернулся в Острогожск, где дислоцировался наш полк на формировании. Получив задание командира полка, я вместе с инженером Алексеевым приступил к укомплектованию полка техникой.
21 мая. Услышал о прорыве нашей обороны между Изюмом и Барвинково. Немец сильным ударом стал завязывать узел нашего мешка. От Изюма почти до Харькова идут ожесточенные бои. Положение на фронте, видимо, не из приятных. Нас стали торопить, но тракторов все еще нет. Я сфотографировался несколько дней тому назад. Сейчас получил фотографии на себя и Михайлюка. Пишу письмо жене и высылаю фотокарточки. Ответов на мои письма нет. Обидно: скоро смена места, бои. Неужели не получу письма?
22 мая. Острогожск. Встретился с Лосученко. Он бросился мне навстречу, но, зная его предательство, я не расположен дружески. В трудную минуту он и Гирин покинули мое подразделение и ушли. Это было около села Вороново вблизи г. Лубны. Правда, я был даже рад, что они ушли, ибо своей трусостью мешали мне в действиях. Я сухо поздоровался с ним и, повернувшись, ушел".
Усилилась активность артиллерии противника, часто стала накрывать наши батареи, и 25 мая на рассвете полк срочно снялся с огневой позиции и форсированно двинулся сначала в сторону Изияка, но, не дойдя до с. Боровое, повернул к Ворошиловграду.
 |
Возможно, это та самая фотография, о которой речь идёт в тексте дневника от 21 мая 1942 г. ( "...Я сфотографировался несколько дней тому назад. Сейчас получил фотографии на себя и Михайлюка. Пишу письмо жене и высылаю фотокарточки..."). Справа - И.У. Москвин, уже в звании капитана.
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ:
"26 мая. ст. Кременная. Разгружаемся в сосновом бору. Позднее на несколько часов прибыл эшелон с тракторами НАТИ-5. Машины новые, на душе весело. Я пишу письмо жене. Ответа так и нет.
28 мая. г. Красный Лиман. Только что прибыли. Полк занял оборону по Донцу в сосновом лесу. Я с тылами расположился в городе. В нашем районе нет особенных боев.
28 июня. Мы отходим. Оставили Красный Лиман. Расположились западнее города на возвышенности. Батареи ведут бешеный огонь по наступающему противнику. С темнотой мы идем на село Александровка. У двух тракторов разбиты поддоны. Спешно ремонтируем.
8 июля. Бои за Александровку. Мы отходим на село Новоастраханское. Положение не завидное. Враг не дает нам остановиться, жмет со всех сторон. Снимаемся и форсированно - на восток.
10 июля. Четвертая батарея, сдерживающая наступление врага, попала в окружение немецких танков, но победно выходит, разбив несколько танков, потеряв несколько человек и одно орудие. Снарядом разбит трактор. Идем в направлении Миллерово. Я еду навстречу с керосином для тракторов. С трудом нашел 3-ю и 4-ю батареи. Рады все - и мы, и батарейцы.
11 июля. Добрался до Полка (? О.Л.). Какой-то конезавод, говорят, №60. Здесь я похоронил тракториста Пархоменко. Вчера его трактор был разбит снарядом. Осколком трактористу вырвало живот. В 13.00 нам пришлось снова отступать. В походную рем. летучку, на которой я ездил, сел майор Шумаков и приказал водителю ехать быстрее.
12,13,14,15 июля дни были ясные и теплые. Я был удивлен, глядя на поведение Шумакова. Он куда-то спешил, бросил полк и теперь гнал нашу машину, как угорелый. На остановках пил водку и убеждал нас, что мы можем попасть в окружение. Мы, потерявшие полк, ехали одиноко, обгоняя колонны эвакуирующихся. Вот уже Миллерово, ст. Глубокое, а мы мчим и мчим к Дону. Я, терпевший прежде, потерял терпение и приказал водителю без моего приказа не трогаться. Как подло, как низко он, майор, ведет себя. Мой приказ ошеломил майора, и мы схватились оба за оружие. Наконец, разняв нас, солдаты и офицеры втянули его в кузов. Я сел в кабину. Он, потерявший авторитет среди нас, теперь слушал наш Военный Совет. Делать теперь было нечего - нужно было ехать к Дону, искать свой полк или ждать его. Я наводил справки и уже в г. Каменске удалось встретить бойца нашего полка. Он был оставлен для связи с рассеявшимися полковыми подразделениями. Вечером 15 июля мы приехали в станицу Константиновка-на-Дону. Там была одна, только что подошедшая, батарея, с ней штаб и командир полка.
17 июля. Противник, сидевший на плечах наших отступающих войск, подошел к Дону".
Я со своими тылами оказался оторван от полка, потерял с ним связь. Двигался, по сути дела, параллельно движению полка, а от Ворошиловграда мы ехали без остановки до Константиновки-на-Дону. Здесь встретились с батареями второго дивизиона, при котором двигался штаб полка. Первый дивизион так и не появился до конца отступления.
Переправившись через Дон, часть полка, и мы, стали отходить в сторону Краснодара через Тихорецк, Кропоткин, Майкоп, Белореченскую, Апшеронск, Хадыжи, Шаумян, Туапсе. Отступая, полк вел непрерывные бои, хотя ни одного дня не стоял на занятых огневых позициях. Отходили только ночами, стараясь оторваться от наседавшего врага. Днем отходить было невозможно. В небе постоянно появлялись немецкие самолеты, подвергая колонну бомбовым ударам и обстрелам. Особенно свирепствовали мессершмидты, летая на низких высотах. Противовоздушная оборона полка состояла только из карабинов и винтовок, у нас не было даже ручных пулеметов. Эффективность такой обороны была ничтожна и поэтому для передвижения использовали ночное время. Полк за ночь делал марш по 40-50 километров.
АТАКА СТЕРВЯТНИКА. [1942 год]
В районе Белореченской меня вызвал командир полка, приказал любой ценой найти и подвезти горючее для машин полка. Я взял автомобиль ГАЗ-АА с шофером, фамилию которого не помню, но хорошо помню его внешний вид, манеры поведения. Характер человека на фронте, в боевой обстановке, определяется его действиями, так что не надо долго присматриваться к человеку, изучать его характер. Достаточно увидеть его в экстремальной ситуации, чтобы сказать - трус он, паникер или хладнокровный, собранный, решительный, готовый встретить опасность и вступить в единоборство. Вот таким решительным и находчивым и был мой водитель, с которым я выехал в неизвестность за бензином. Кратко его внешность: рост 165-168 см; возраст - 24-25 лет; немного рыжеват; глаза серые, нормальные; нос прямой с горбинкой; лицо широкое, нижняя челюсть на подбородке как бы раздвоена; лоб крутой; брови густые, рыжеватые, дугообразные. Нрава веселого, очень разговорчив. Всю дорогу он что-нибудь рассказывал и, энергично вращая головой, весело смеялся.
После того, как мы подъехали к нефтебазе одного колхоза, шофер быстро начал обнюхивать стоящие цистерны и вскоре закричал:
- Товарищ лейтенант! Есть! Бензин марки 66 нужен?
- Пойдет! - ответил я, спускаясь с другой цистерны, которую в это время осматривал.
Подкатили бочки к цистерне и стали заливать в них бензин. Вскоре четыре бочки погрузили по покатам в кузов газика и тронулись в обратный путь. Километров через пять-шесть вдруг я увидел, как навстречу нам на небольшой высоте летит немецкий самолет мессершмитт-110, и сказал:
- Жми, соколик, на всю катушку, - а сам невольно уперся ногами в дно кабины и начал двигаться энергично взад-вперед, как будто мог помочь ускорению движения. Самолет пролетел над нами, но ни стрельбы, ни разрыва снарядов не было слышно.
- Пронесло, - сказал водитель, не снижая скорости.
Я открыл кабину, чтобы посмотреть, не вернулся ли самолет. К моему ужасу, он зашел на повторную атаку. У меня невольно вырвалось:
- Стой!
Шофер нажал на тормоз, машина резко снизила скорость, бочки в кузове с силой ударили в передний борт. Пули вспахали дорогу впереди, подняв струйки пыли. Только самолет поравнялся с нами, мой шофер, уже без команды, начал набирать скорость, будто не желая отстать от самолета. Летчик, видимо, все же решил уничтожить нас, снова развернувшись, пошел в атаку. Впереди, метрах в 400-500 лес, слева - овраг, справа - чистое поле. Шофер вел машину на максимальной скорости, а лес, казалось, отступал, хотя хорошо уже просматривались ветви. Ох, как хотелось, чтобы что-то случилось со стервятником! До леса, в который уходит наша дорога, рукой подать, но по верху кабины что-то ударило. Выглянув наружу, я увидел черный густой хвост дыма, тянувшийся за нашей машиной.
- Стой, соколик! - крикнул я, - Мы горим! - и быстро выскочив из кабины, бросился в сторону. Но, не пробежав и двадцати метров, увидел, как самолет идет в новую атаку. Мне казалось - идет только на меня: машина-то горела. Вдруг рядом очередь пуль вспахала землю. Самолет пролетел, я вскочил и бросился в овраг, где укрылся водитель. Когда все кончилось, я стал осматриваться, ища водителя. Вскоре почувствовал: мокро в левом рукаве гимнастерки. Только затем ощутил боль. Подошел водитель, увидел кровь, вскрикнул:
- Вы ранены, товарищ лейтенант?
Мы перевязали рану - к счастью она была легкой - и пошли пешком к тому месту, откуда выезжали за горючим. Произошло это где-то в середине августа 1942 года.
МОРЯК НА КОНЕ
Шли, в основном, по опушке лесопосадки, затем свернули на кукурузное поле. По нему вышли на возвышенность. Перед нами расстилалась чистая, широкая равнина, за которой виднелся темный лес. Мы стояли на краю зарослей кукурузы, всматриваясь вдаль.
Вдруг справа от нас послышался тихий разговор. Прислушавшись, поняли, что говорят по-русски. Я вынул пистолет, загнал патрон в патронник, и мы осторожно стали продвигаться к разговаривающим. Я негромко спросил:
- Кто прячется? - мы быстро присели. В ответ послышалось:
- Свои!
Мы пошли на сближение и вскоре встретились. Невысокий, но коренастый старшина держал в руках перископ, два других бойца - под стать старшине - с винтовками в руках стояли сзади. В перископ старшина стал наблюдать обширную равнину и вдруг сказал:
- Строй солдат у леса, но кто такие - понять не могу, - он обратился ко мне, подавая перископ, - Смотри, лейтенант, может разберешь.
И вправду, около леса шел строй наших солдат.
Свои! - сказал я, возвращая ему прибор, - пошли!
Мы вышли из кукурузы и быстро двинулись в ту сторону, где только что прошли солдаты. До леса оставалось метров 500-600, справа от нас рос не то тростник, не то другое какое-то растение в виде высокого камыша. Мы шли быстро, посматривая по сторонам, и вдруг увидели, как на нас мчится всадник на белом коне. Одетый в морскую форму всадник, подъезжая к нам и не задерживаясь, крикнул:
- Братцы, бегите в укрытие! Немцы!
Мы переглянулись, бросились в этот тростник. Одновременно услышали гул танкового мотора и пулеметную очередь. Гул нарастал, участились и пулеметные очереди. Я добежал до тростника, увидел глубокую борозду, упал в нее и вжался в землю. Танк с каждой секундой приближался, а меня прошиб холодный пот. Твердил: только бы не через меня прошел. Танкист, будто бы слышал мою мольбу, прошел от меня в метре и стал продвигаться вглубь тростника, сбавив скорость. Я вскочил и почти вплотную бросился за ним, наблюдая за люком, в полной решимости, если кто-то из танкистов появится в люке, всадить ему пулю. Но никто не появился, а когда танк повернул влево и пошел к лесу, я бросился в сторону и притаился. Посидев так минут пять, пошел наугад. Вскоре услышал говор и увидел колебание тростника, позвал и получил ответ:
- Иди сюда!
Все уцелели, никто не пострадал. Посоветовавшись, мы пошли по направлению к лесу, вскоре выбрались к посадке, вдоль которой шла накатанная дорога. В небе стало темнеть. За посадкой горело поле, видны были множество огней. Дождавшись, когда хорошо стемнеет, мы стали продвигаться к лесу и удачно вошли в его объятья. Дубовый лес вперемешку с карагачем и кустарником обнадежил нас, и мы смелее пошли вперед.
Вскоре набрели на какую-то часть. Я подошел к капитану интендантской службы, спросил:
- Не видели ли где артиллеристов?
- А вот только что прошла артиллерия туда, - капитан показал рукой вперед.
Мы с шофером ускорили шаг, вышли на берег быстрой неширокой реки и увидели, как влево метрах в ста вброд идут на другой берег студебеккеры с пушками. Мы бросились бегом и вскоре оказались среди своих людей. Так начался и закончился один августовский день.
КАВКАЗ. [1942-1943 гг.]
Переправившись через бурную реку Белую, и развернувшись подивизионно, полк занял оборону на автомобильной и железной дорогах, ведущих в Апшеронск, и по берегу реки Белой, чтобы препятствовать продвижению немцев в этом районе.
Опасаясь окружения немцами, прорвавшимися в районе Майкопа, наш полк стал отходить с боями от Апшеронска на Хадыжи, Шаумян направлением на Туапсе. Немецкие самолеты постоянно бомбили огневые позиции и тылы полка на всем пути нашего отступления. Но лес и горная местность спасали нас от поражения, хотя потери были, особенно в материальной части. В результате, в районе горы Индюк в полку осталось неполных две батареи. Здесь нас сменила новая пехотная часть со средствами усиления.
Под Шаумяном наш полк был расформирован, остатки его вошли в состав 18-й армии, а офицеры направлены в ОК Черноморской группы Северо-Кавказского фронта, который размещался в районе Мацесты. Здесь мне пришлось выполнять отдельные поручения связи со штабом 18-й армии, находящимся на Михайловском перевале, и 46-й армии, оборонявший горный хребет в районе Индюка. Произошло это в сентябре, а в ноябре меня вместе с группой младшего офицерского состава отправили в Бакуриани на курсы подготовки командиров горнолыжных подразделений, где я учился до февраля 1943-го. Мы набирали опыт хождения на лыжах по ровным, лесным, горным местам, умению вести меткий огонь сходу, учились прыжкам с естественного трамплина, спуску с гор в лес, слалому. Занимались по 10-12 часов в день. Часто нас поднимали ночью. Совершали марши по 30 и более километров по горной местности. Сильно уставали, но каждый стремился овладеть лыжным делом в совершенстве, т.к. нам предстояло водить подразделения в тыл врага или совершать обходные маневры и, несомненно, вести бои. После разгрома немцев под Сталинградом войска Черноморской группы перешли в наступление в конце января 1943 года силами 46-й и 18-й армий с рубежей горных перевалов Михайловский, Два брата и Гойтхский, и во второй половине февраля освободили Краснодар. Наступление наших войск проходило в исключительно тяжелых условиях. Начавшиеся еще в январе дожди не прекращались, превратив дороги в практически непроходимые для колесных машин. Наши курсы в феврале были расформированы, а мы, курсанты, переданы в действующие войска. Я с группой офицеров был направлен в отдел кадров 46-й армии, находившийся в Туапсе. Добирались с приключениями: сначала до Тбилиси по узкоколейной железной дороге, затем на площадке товарняка до Туапсе через Зугдиди и Сухуми. Было тепло, но нас поливали сильные короткие ливни. Прибыли в Туапсе - оказалось, что штаб Черноморской группы перебазировался в Краснодар, и мы отправились по дороге Туапсе-Армянск-Хадыжи-Апшеронская-Белореченская-Краснодар - где пешком, где на попутных машинах и повозках. Очень тяжелый путь был от Белореченской до Краснодара. Дороги и поля справа и слева от дороги были забиты немецкой техникой, застрявшей в грязи. Стояло в грязи много и нашей транспортной техники.
В Краснодар мы прибыли 20 февраля. Я сразу же отправился в отдел кадров 46-й армии, получил направление в 236 стрелковую дивизию командиром автовзвода под начало командира роты капитана Шумилова.
[ВНОВЬ НА УКРАИНЕ. 1943 год]
Дивизия была выведена из боя и убыла в резерв фронта в район Миллерово. В частях шла боевая подготовка. Мы, траспортники, занимались перевозкой грузов, ремонтом автомобилей.
В середине февраля 1943-го года немецкие войска перешли в наступление на ослабевшую 6-ю армию с двух направлений - со стороны Краснограда и Красноармейска, прорвали оборону, 20 февраля окружили часть наших войск в районе Павлограда и стали быстро продвигаться к Харькову с юга, заняли г. Мерефа. Встретив здесь упорное сопротивление 3-й танковой армии, немцы, перегруппировав силы, 4 марта снова пошли в наступление. Наша 236-я дивизия в срочном порядке была переброшена в состав 6-й армии и к 4 марта заняла оборону в районе г. Змеев (ныне г. Готвальд), преградив путь врагу. Больше недели шли упорные бои. Дивизия не пропустила врага вглубь нашей обороны. Немецкая авиация имела господствующее положение в воздухе, и мы часто попадали под бомбежки, но, к счастью, всегда выходили из переделок невредимыми.
Я в это время командовал автотранспортным взводом и занимался перевозкой раненых в армейский госпиталь, а на обратном пути доставлял из армейских складов боеприпасы и продовольствие на пункт б/питания дивизии. Бои шли в котловине, окруженной возвышенностью и поросшей лесом. В это время я находился с подразделением автороты в лесу на высотке, и нам хорошо было видно поле боя. Над окопами врага кольцом кружило звено наших ИЛов, они бомбили и обстреливали врага. Пехота одновременно шла на сближение с немцами. Мне не пришлось досмотреть, что было дальше. Командир роты Шумилов приказал освободить машины от груза и выехать на перевозку раненых со сборного пункта в армейский госпиталь в с. Тарановка. Раненых было очень много. Весь оставшийся день и следующую ночь мы перевозили их, предварительно набросав в кузова машин солому, траву - всё, что попадало под руки, чтобы выстелить кузов как можно мягче. Ершов где-то нашел косу и яро косил буйную траву. Санитар, уже пожилой мужчина с черными буденовскими усами, хлопотливо носил эту траву в машины. Погрузка раненых шла быстро. Легких грузили вместе с тяжелыми. В этой работе участвовали все, в том числе я и водители машин принимали самое активное участие. Погрузившись, машины сразу уходили в рейс. Дороги были труднопроходимые, машины часто буксовали, а порой, чтобы не останавливаться, водители преодолевали опасные места на большом газу, что вело к сильной тряске, приносящей боль раненым. Я ехал в последнем грузовике, придерживая тяжело раненого в голову ст. лейтенанта. Он вел себя сильно беспокойно, громко бредил, отборно матерился, пытался встать, и мне приходилось его удерживать.
Как сейчас вижу всю картину работы санитарного батальона. Кому-то оказана необходимая медицинская помощь, и мы отправляем их в армейский госпиталь. Вместо отправленных мы приносим вновь привезенных раненых. Ранеными были заняты все помещения, какие только возможно. Мы разгружали своих раненых в какое-то большое помещение с выбитыми окнами, похожее на сарай. В нем приторно пахло кровью, йодом и лекарствами, стоял гул стонов.
Из кузова машины Шишмонадзе сняли два трупа. Раненый в живот солдат, с гримасой на лице, громко и неистово всех материл избранными словами, даже вызывал улыбки раненых более легко. Я спросил его:
- Как звать тебя, молодец?
- Зовите просто - Селезень.
Пишу без домысла - так, как написано у меня в дневнике военного периода.
Бои здесь шли около недели. В конце июля поступила команда "вперед".
После разгрома врага на Орловско-Курской дуге наша дивизия перешла в наступление и к 25 сентября подошла к Днепру севернее Днепродзержинска. В ночь с 25-го на 26-е сентября группа автоматчиков нашей дивизии начала переправу через Днепр, а перед этим мы собирали по селам подручные средства переправы: лодки, пустые бочки, доски, бревна, и везли с собой на машинах. Вечером 25-го сентября мы всё это стали подвозить ближе к Днепру, т.к. левый берег реки - пологий и мог хорошо просматриваться врагом с правого - высокого и крутого берега. Не доезжая до Днепра 3-4 километра, мы сгружали и переносили к Днепру на руках уже сделанные плоты и детали плотов. С наступлением сумерек над Днепром стал нависать густой туман, и вот настало время спустить наши сооружения на воду. Стояла тишина, вскоре подошла рота автоматчиков во главе со ст. лейтенантом Шаповским С.П. От берега на лодках отчалили десантники и вскоре скрылись в тумане. Мы стояли на берегу, прислушиваясь к тишине. С правого берега немцы изредка пускали осветительные ракеты. Время шло, мы в напряжении ждали. А на плотах одна за другой отправлялись новые партии бойцов. И вот - долгожданный сигнал. Одновременно начался бой передовой группы за захват плацдарма. Всю ночь шла переправа, и бой растекался вдоль берега и вглубь территории за Днепром. К утру плацдарм был захвачен до шести километров по фронту и до двух километров вглубь. Утром, с восходом солнца, враг бросил на десантников танки и большое число пехоты. Начался неравный бой. Артиллерия немцев обрушила шквал огня на место переправы. В небе появились немецкие самолеты и наши истребители. Завязался воздушный бой. Я впервые видел большое воздушное сражение. По огневым позициям врага и по танкам вела огонь наша артиллерия и "Катюши". Целый день шел бой на плацдарме, а к вечеру установилась такая тишина, как будто войны нет. Ночью был наведен понтонный мост, и по нему на правый берег переправились наши танки и артиллерия. К утру за Днепром была уже вся наша дивизия, кроме тылов, которые усиленно работали на подвозе боеприпасов и продовольствия к переправе. [За участие в этом сражении отец был награжден медалью "За отвагу". О.Л.]
Почти месяц плацдарм закреплялся, расширялся, накапливались войска всех родов, и 23 октября наша 46-я армия под командованием генерала Глаголева перешла в наступление на Днепропетровск и Днепродзержинск, а 25-го октября эти города были освобождены. Всем участникам операции объявили благодарность, а нашей дивизии присвоили звание Днепропетровской. Девятнадцати тем самым - первым десантникам были присвоены звания Героя Советского Союза, двоим из них - посмертно.
Очень тяжелым был путь от Днепра до Кривого Рога: весенняя распутица, сплошная непролазная грязь. Машины ГАЗ-АА не могли преодолеть ее, нам приходилось тянуть их на себе, организовывать переброску боеприпасов и продовольствия на плечах местных жителей и бойцов попутных маршевых рот. Снабжение бойцов питанием было остро необходимым, так как подножного корма для войск не было. Население, по сути, голодовало в этих местах. Мы сутками не спали, да и негде было отдыхать: населенные пункты были сожжены. К тому же еще часто лили дожди.
ПИСЬМА, ОТПРАВЛЕННЫЕ [ОТЦОМ] РОДИТЕЛЯМ ВОИНОВ:
"17 ноября 1943 г. Челябинская область, Нязепетровский район, г. Нязепетровск, Проскуряковская, №3, Пономареву Тимофею Павловичу.
Дорогой Тимофей Павлович, поздравляю Вас с награждением Вашего сына Николая медалью "За отвагу". Таким образом, грудь Вашего сына украшают уже две медали - "За отвагу" и "За боевые заслуги". Я, мои боевые товарищи по оружию, вся Красная Армия и наш народ шлем Вам и Вашей супруге наше революционное спасибо за то, что Вы сумели воспитать и дать для Красной Армии настоящего бойца-революционера.
Имею честь заверить Вас, родителей человека-орла, что и впредь Вы можете быть спокойными за своего сына, гордиться и любоваться им. Там, где Ваш сын, там мы уверены в выполнении наших приказов.
Желаем вам долгой жизни и труда на благо Родины, и встречи с Вашим сыном - замечательным патриотом Родины.
Жму Ваши руки, лейтенант И.Москвин".
Аналогичного содержания письма посланы по адресам:
1. Новосибирская область, Кыштовский район, М.Красноярск, Борковой Е.И. по поводу награждения Боркова Николая Васильевича медалью "За отвагу".
2. г. Баку, поселок Разина, ул. Кирова, дом 77/4, кв.8, Широкой Вере Федоровне.
Содержание письма Широкой В.Ф.:
"Многоуважаемая Вера Федоровна, поздравляю Вас с награждением Вашего мужа Широкова И.А. медалью "За отвагу". Я очень доволен тем, что Вы имеете мужа - настоящего солдата Великой Отечественной войны. В нашей среде его называют "Батя". Это прозвище вполне к нему подходит. В каждое его действие - будь то выполнение сложных задач или бытовые вопросы нашей военной будничной жизни - везде он рассуждает как мудрый и отзывчивый товарищ.
Ваш муж - не только замечательный товарищ, но и искренний человек. Как водитель, как агитатор и организатор - он редкий человек. Всем своим существом я желаю Вашей с ним встречи после победы.
Горячо жму Вашу руку, лейтенант Москвин".
[1944 год]
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ
"1 января. День теплый, на деревьях густой куржак. Село Васильевка. Совинформбюро сообщило о взятии г. Житомира вторично. Праздник провел невесело, долго беседовал с Николаем Николаевичем Пекинским. Он до войны был актером Бакинского драмтеатра. В обед получил письмо от жены. Она поздравляет меня и моих боевых товарищей с Новым, 1944 годом. Дома все здоровы, и на душе повеселело. Вторая половина дня - бодрая.
3.01. Вечереет. В саманных хатах зажигают огни. Ершов передает мне подарок из Днепропетровска - портсигар от Землянской Гали, кисет с табаком от Нелочки и от них же поздравительное письмо. Это девочки-третьеклассницы.
7.01. Выехал в Александро-Белово. Село с редкими хатами расположено в балке. Ночевать негде, приходится сделать остановку для ночлега в кабинах. Кухня работает на дворе, кушаем тоже на свежем воздухе. Температура воздуха 10-12 ниже нуля. Осадков нет. Тихо.
8.01. Прибыл с Голевым в село Александро-Белово вечером. Нашел чердак, поселил там взвод солдат. Сравнительно тепло. Во дворе много детей. Дурел с ними. Лег спать на чердаке поздно вечером.
9.01. Проснувшись, почувствовал, что померзли ноги. Люди разжигают костры. Борьба, прыжки. Греются, смеются. Молодцы - не унывают. День прошел спокойно, если не считать налета авиации. Ю-88 - десять штук - прилетели, сбросили бомбы и улетели, не причинив вреда. Был сильный зенитный огонь, наша авиация действовала слабо.
10.01. 8 утра. Артподготовка началась залпами "Катюши". Орудийный гул нарастал с космической скоростью. Уже через несколько минут стоял общий мощный гул и грохот. Земля вздрагивала и тряслась мелкой дрожью. Среди этого гула были слышны мощные вздохи нашей "Катюши".
9.00. Над нами появились первые звенья ИЛов. Они плыли на высоте 300-400 метров. Мощные, черные, грозные. Их моторы заглушали канонаду артиллерии. Вскоре поднялись полки, и пошли в атаку. Вот наши уже перевалили первую линию обороны, но что это? Сильный огонь противника положил наших стрелков. Атака захлебнулась по флангам, и впереди нас идет жестокий бой.
Результаты наступления плохие. Враг обманул. Наша разведка сработала плохо. Ах, как жаль! Сколько жертв! Сколько крови!..
По приказу Шумакова я выехал на перевозку раненых. Люди, выполняя эту работу, действовали быстро, внимательно, организованно, приятно смотреть. Я старался не отстать от других. Раненых очень много и медлить нельзя. На своей спине я перенес 17 человек, прибыв в госпиталь. Снимая сильно раненых, я просил врачей оказать им немедленную помощь. Один раненый в звании лейтенанта был сильно пьян. Ранение в руку, а вел себя просто невозможно дурно, нанося оскорбления людям, от которых зависит его здоровье и жизнь.
11.01. Под сильным нажимом враг не выдержал и покинул свои позиции. Мы продвигаемся вперед. Фронт немцев дрогнул. Наша авиация преследует врага день и ночь. На душе весело, а в сердце гнев. Каждый шаг вперед падает в пепел и развалины.
12.01. Наши войска взяли г. Сарны. В этот день мы переехали в Екатериновку. Небо гудит от нашей авиации. Откуда-то с большой высоты один самолет врага бомбил Александро-Белово и поселок безымянный. Саманные хаты Екатериновки разбиты, так же, как и в Васильевке.
18.01. Стоим шестые сутки. Дни морозные. С фронтов хорошего нет ничего, кроме удовлетворительного. Был на полевой почте, от жены получил два письма. Какая радость, все живы-здоровы! Был в политотделе насчет своей партийности. В 4-м отделе личного дела нет.
19.01. Поздравил Григоращенко с орденом Красной Звезды. Выпивали. Он по состоянию здоровья не пил, обидно. В период с 12 по 19 получил письма от родителей Пономарева, Баркова, Скляра и Мирошниченко. Был тронут ими, хорошая связь.
21.01. День холоднее вчерашнего. С утра лазит над передовой противника наш самолет-разведчик.
Войска Ленинградского фронта, 14.01 прорвав фронт врага в районе Пулково и Ораниенбаума, 20.01 соединились, освободив 800 кв.км. Взяты трофеи: орудий 265, самолетов 85, минометов 159, пулеметов 274, танков 30, складов 18. Войска Волховского фронта тоже с большими трофеями, освобождены 1800 кв. км, в т.ч. Новгород.
Вечером в направлении с. Отруби стояло огромное зарево пожара.
22.01. Войска Ленинградского фронта освободили г. Мга.
День тихий, теплый, слякоть. Я пишу наградные листы на бойцов. Беседовал с Ершовым. Хороший парень - смелый, деловой, но пьяница и самовольщик. Хочу сделать из него человека. Мои откровенные с ним беседы всегда вызывают поддержку бойцов.
24.01. На дворе оттепель, снег почти полностью растаял, на дорогах грязь. Настроение подавлено. Густой туман. Взяты города Пушкин, Павлово, Слуцк.
Союзники высадили десант южнее Рима и ведут успешные бои.
Ожидаю изменения обстановки.
25.01. Ездил в автоотдел 46-й армии. День прошел хорошо. Встретил Лебедева Петьку, долго беседовали. Он понижен в должности. Характер-то у него больно самовольный, крутой, а он не изменился. Все такой же буян. Вспомнили Бакуриани, Тбилиси, Сухуми, Сочи, Туапсе, Краснодар, товарищей - Штукатурова Ваню, Аверкина, Степанова Кольку, Артемченко, Степурко, Худякова и других. Капитана Колокольникова. Замечательный капитан! Я хотел уйти с должности командира взвода, а он посоветовал не рыпаться, и я не пошел в отдел кадров.
29.01. Рано утром началось наступление наших войск на Кривой Рог. Наступлению предшествовал сильный артиллерийский минометный огонь и обработка фронта авиационным ударом.
Противник не выдержал натиска, отступает. Погода теплая, грязь увеличилась, затрудняет движение. Противник бросает машины, вооружение и снаряжение.
6.02. Нашим фронтом освобождено Апостолово, окружена Никопольская группировка немцев.
На дорогах сильная грязь. Автомобили наши стоят без движения в разных местах дороги. Горлов, Пономарев, Севастьянов, Будемиров, Ершов, Смертин стоят на дороге, жуют сухари. Я мечусь, чтобы облегчить их положение, и боеприпасы нужно доставить к передовой. Основная масса тыловых работников ушли приводить в боевой порядок трофеи - автомобили, танки, трактора.
7.02. Вечером написал письмо школьнице - 5-й кл. 2-й школы, ст. Нижнеднепровск. Письмо как копию оставил у себя в альбоме.
Глазков привез мне плащ-палатку. Спал ночь очень хорошо в хате на спинке сидения.
15.02. Село Александровка. Три автомобиля остались в Благодатной без горючего. На участке от Д до Кривого Рога вся дорога была забита военной техникой отступающих немецких войск. Вот это здорово!
16.02. По приказу Шумакова я выехал в Константиновку и Екатериновку. Забрал с собой раненых. Дорога грязная. Пришлось в ряде мест буксовать. К вечеру началась пурга. В деревне Д у нашей машины кончился бензин. Пришлось пешком идти в Константиновку. Сильная метель затрудняет движение. Очень устал. Хочется спать, но долг побеждает усталость.
Освободив Кривой Рог в феврале 1944-го года, наши части подтянулись и шли вперед, не останавливаясь. Достигли Днестра, и в районе южнее Тирасполя в апреле форсировали реку. Здесь остановились до августа 44-го. Здесь я был переведен начальником ВТС 814-го СП 236-й СД".
Уничтожение Яссо-Кишиневской группировки войск [Яссо-Кишиневская операция была проведена 20-29.08.44. О.Л.] дало возможность нашей 46-й армии перейти в наступление. За несколько дней наши войска форсировали Дунай в районе г. Тульча , Галац. Заняли эти города и быстро стали продвигаться на Бухарест. Погода была солнечная, сухая. Ничто не задерживало наше движение. Противник почти не оказывал сопротивления, и вскоре наш полк вошел в Констанцу - главный порт Румынии. С этого направления в начале сентября нашу дивизию форсированным маршем направили через Бухарест на Болгарские горы, Плевну, а затем на Заечар. Здесь, на югославской территории, в конце сентября-начале октября 1944 г. мы влились в состав 68-го стрелкового корпуса (57-й армии), который вел бои за город Заечар. Сломив сопротивление врага, наши части, в том числе и мы, пошли наступать на Белград по единственной дороге Заечар-Белград через Рготину, Бор, Жагубицу, Ешко-Полонку, Полонку, Младеново.
Особенно запомнился момент перехода главного горного хребта в районе Жагубицы. Высоко в горах густой туман. За пять метров ничего не видно. Дорога, как змея, вьется вверх. Впереди идет человек, а уже за ним движется машина на 1 скорости. Целые сутки потребовались, чтобы пройти этот перевал. Наши танковые части 73-го корпуса Жданова, захватив переправу через реку Морава, и соединившись с дивизией 1-го пролетарского корпуса Югославии, стремительно пошли вперед. Не отставала и наша 236-я СД. Уже 13 октября 1944 года мы подошли к Белграду. За Белград шли ожесточенные бои в течение нескольких дней. 18 октября части вошли в город, завязались уличные бои. Мы подвозили боеприпасы в батальонные пункты снабжения. Однажды мы поехали с боеприпасами на машине ГазАА не в ту улицу и напоролись на немцев. Немцы, находившиеся возле орудия, среагировали плохо на наше вторжение с тыла, не успели нас накрыть из своей пушки, похожей на нашу сорокапятку. Они вдруг выпрямились и смотрят на нас, как бы говоря: "Куда вас черт несет?" Но этот черт вынес нас из явной смерти: к счастью, по соседству оказался проулок, никем не занятый. Только своевременно обнаружив ошибку, водитель Саша Зайцев вовремя свернул в проулок, который вывел нас к войскам соседнего полка. Все это произошло так неожиданно и так быстро, что мы даже не успели испугаться. Смышленый Саша! Не зря я любил с ним ездить.
Белград был взят 20 октября. Мост через реку Дунай был захвачен танкистами 73-го корпуса с взводом разведчиков (нашего полка) под командованием Вани Снегирева. Разгромив врага в Белграде и захватив переправу через Дунай, наши войска быстро стали продвигаться на запад. Шли сильные дожди, дороги раскисли, были непроходимы, часто на дорогах машины наезжали на мины, рвались, но в нашем распоряжении были уже совсем другие машины, не то, что под Кривым Рогом. Мы располагали автомобилями типа "студебеккер" с тремя ведущими мостами, - замечательная машина!, "додж" 3/4, "клокнер" немецкий с двумя ведущими мостами. В это время мы входили в состав 75-го корпуса 57-й армии.
18 ноября 1944г. мы подошли к Дунаю в районе г. Апатин и сходу начали форсировать реку. В этом месте Дунай окружен широкими болотами с низкими берегами, поросшими камышом и кустарником. Правый берег Дуная обрамляет мощный хвойный лес с примесью дуба и березы.
Сколько противник ни сопротивлялся, ему пришлось поспешно отступить вглубь Венгрии под проливным дождем, бросая технику и тяжелое оружие.
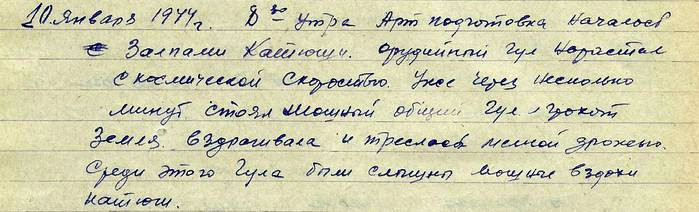 |
Страница из дневника за 1944 год |
[1945 год]
После занятия нашими войсками нефтяного района южнее озера Балатон, нашу дивизию перебросили под Шиофок и Энинг (Eniyng. О.Л.), а в ходе битвы у Балатона дивизию вновь перебросили - в район Калоз и Шарвиз в состав 26-й армии к месту прорыва врага. Это было 8 марта 1945 года. К тому моменту в этом районе было сосредоточено 22 артиллерийских и минометных полка с 520-ю орудиями и минометами. Как ни пытался враг, бросивший на нас 250 танков и самоходок, пробить нашу оборону в течение нескольких суток, успеха не имел. Наши войска севернее Секешфехервара нанесли мощный удар и погнали врага, вернее, остатки разгромленной группировки немецких войск.
В этих боях - я не помню - спали ли мы, т.к. бои шли почти круглосуточно. Мне в этих боях приходилось постоянно быть в поездках за боеприпасами, а боеприпасов всё не хватало. Таким огромным расход был, и все это происходило под непрерывным налетом авиации врага. Особенно - в первый период боев, с 6 по 10-марта. В последующие сутки налеты стали реже. И больше - на бреющих полетах вдоль путей снабжения. Наша авиация во время второй половины боев полностью завоевала господство в воздухе.
После разгрома врага в районе озера Балатон наши войска беспрепятственно пошли по следам наших танковых подразделений.
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ
12 апреля. Умер демократ, очень умный человек, ярый противник фашизма Франклин Рузвельт. Эта весть захватила меня в австрийском городе Пинкафельд. Мои боевые товарищи, в том числе и я, очень долго обсуждали, почему он так неожиданно умер? Не есть ли в этом приложение рук неофашистских элементов, поскольку война очень быстро пошла к концу. Что будет в Америке? Кто станет на пост президента? Какую политику поведет новое правительство США? Вставали в упор перед нами эти вопросы.
Мы сходу занимали города Веспрем, Папа, Шапрон, и 20 апреля подошли к австрийскому городу Винер Нейштадт. Заняв его, наша дивизия в составе 27-й армии получила задание наступать на г. Брук и дальше на г. Леобен. Дивизия наступала при поддержке танков в горных условиях по единственной в ущелье дороге. Высокие горы, поросшие хвойным и лиственным лесом, прощупывались нашими стрелковыми подразделениями. Это давало возможность без особых осложнений двигаться тылам по вьющимся дорогам к намеченной цели. Заняв Леобен, наши танковые части встретились с американскими войсками.
На всем пути от Винер Нейштадта до Леобена на обочинах дорог стояли брошенные немецкий танки, автомобили, пушки, повозки, валялись трупы немецких солдат и лошадей. Только в одном местечке Варава недалеко от Леобена нашим тылам пришлось вести бой с немцами в течение семи часов. Начался бой неожиданно около 11 вечера и продолжался до утра. Только утром была снята с фронта и направлена к нам одна рота нашего полка, которая помогла отразить атаку врага. В этом бою погибло несколько наших товарищей. Я был легко ранен в левую руку выше локтя.
Закончил войну в районе г. Леобен, в местечке Киндберг.
 |
На фото Москвин И.У. в лагере Киндберг, Австрия. 1945 год |
Конец войны был и радостным, и трагичным. 8 мая вечером нам сообщили, что немец капитулировал по всему фронту и наши войска обязывались прекратить огонь. Ночь прошла спокойно, а утром, когда стало известно, что кончилась война, и гражданское население вышло на улицы местечка, бурно выражая радость по поводу конца войны, немцы открыли по городу беглый огонь из всех видов артиллерии. На улицах начали рваться снаряды и мины. Люди бросились в укрытие, а многие остались лежать на улицах городка. Мы с бойцами в это время были в помещении, и когда услышали залпы ружейно-пулеметного салюта и крики людей на улице: "Конец войне", открыли окна, и кто из чего смог, начали салютовать. Я крикнул бойцам: "Бежим на улицу!" и все бросились из комнаты со второго этажа дома бывшего старого генерала австрийской армии. Еще не успели выскочить на улицу, как в доме раздался сильный взрыв и возник пожар. Мы тут же вернулись. Там, где мы находились всего 2-3 минуты назад, все было разрушено, бушевал огонь. В борьбе с огнем мы провели этот вечер.
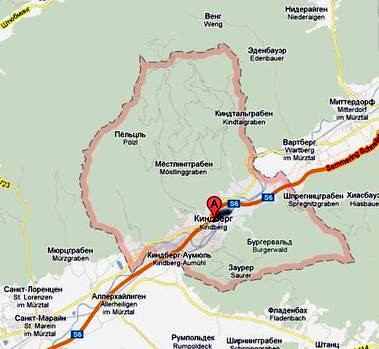 |
Австрия. Город Киндберг |
ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ:
8 мая. Весть: конец войне! Восторг, радость неописуемы. Я сейчас сижу за этой книгой [отец писал последние фронтовые записи в трофейном немецком блокноте. О.Л.] и не могу свободно дышать. Сердцу узка грудь. Кровь к жилам проходит с невероятной быстротой. Я жив! Ура событию! Нет! Я не могу писать! На улицу! Туда, где каждый по себе и группами салютуют кто из чего может. Ведь конец войны! Ведь победа! Победа нашего народа! Как тут не ликовать!
Но вместе с торжеством у меня закрадывается мысль. А все ли это? Не ждет ли нас сюрприз разочарования? Что-то уж больно рьяно ведет себя Англия. Фасонят, паразиты. Ну, посмотрим, что будет дальше.
9 мая. Победа! Официально праздник победы. Ну, что говорить? Просто теряюсь. Вывесить флаги на каждой машине? Обязательно вывесить!
Коростелев: "Да что ты, как бешеный?! Да брось, хватит. Дай же и я тебя!" Так мы целовались.
Читаю речь Сталина по поводу победы. Противник сдает вооружение Англии и Америке. Ах, сволочи! Ничего, догоним. 60 км вперед покрыли пехотинцы за день. У каждого на устах: догнать.
10 мая. В погоне за врагом. Враг бежит в леса. Колонна пленных. Худые, с поникшей головой. Многие посмеиваются. Рады, гады, концу войны.
 |
Фрагмент трофейной немецкой карты с местами, о которых идет речь в двух последних частях воспоминаний |
ИЗ ПОСЛЕВОЕННОГО ДНЕВНИКА:
17 мая. Я выехал к англичанам. На дороге везде валяется боевая техника врага: как бы униженно отступила передо мной к обочине. Вижу наши артиллерийские орудия: гордо тянутся ввысь. Машина идет, и, кажется, - мотор необыкновенно чисто работает.
Домой вернулся 18 мая. Квартира в хотеле г. Киндберг.
19 мая. Английский маршал Александер обвинил маршала Тито в присутствии югославских войск в приморской Словении и Истрии. Расценил это как враждебный акт Англии, которая предлагает выбросить Югославию с этих мест. Врешь, Александер, Югославия не за тем страдает, чтобы вы хозяйничали там. Рано поднимаешь голову. Смотри, чтоб тебе ее не отрубили.
20 мая. Сегодня в Берлине со здания рейхстага было снято знамя победы и поднято новое. Снятое знамя торжественно и бережно было отправлено в Москву. Как все это эмоционально!
23 мая. Старое польское правительство организует в Англии армию. Готовит войну против новой Польши и Советского Союза. Англия-проститутка активно помогает беглецам. Пусть попробуют. Не опозорим нашу славу. Мы еще злы. Огонь борьбы в нас еще не погас.
Англия пленных немцев, которых они имеют около 4 миллионов, пустит на нас. Пускай. Немцы знают, и если Англия не знает - мы ее научим.
26 мая. Черчилль подал в отставку. С отставкой Черчилля кладется конец национальному правительству. Может, это к лучшему. Скорей придет конец нашим врагам. Мы ведь такие люди. Так - так, а не так - по морде. Чтоб голова закружилась.
Я приступил к работе начальника курсов шоферов. Не хотелось, но что поделаешь, приказ. Новое место - новый порядок. Хорошо, что по специальности, будем работать, как можно лучше - таков у меня характер.
5.6.45. Покинули г. Киндберг. В 15.00 сосредоточилась колонна автомашин, украшенная цветами, флагами, лозунгами и портретами Сталина. Австрийцы с. Миттердорф собрались провожать. Многие высказывали сожаление по поводу нашего отъезда. Да, мы покидали Киндберг. Навсегда!
 |  |
На обеих фотографиях - Москвин И.У. (слева), Довгань, Леонид Краснов в местечке Леов (Австрия) | |
6.6.45. Мы находимся в г. Кирхбург. Я направил опель-блитц под кухню. Нового ничего нет.
8.6.45. Тронулась колонна на Хоричон. Через три часа мы окончательно покинули горы Австрии, вышли на равнину. Лето в разгаре. Впервые в этом году начали кушать черешню и смородину. Я поссорился с Яковлевым. А кто с ним не ссорился?
9.6.45. Рано утром я и начфин Нещерет выехали в Вену с попутными машинами автороты. в 7.00 проехали Шопрон. Город сильно разбит. Все напоминает ужас войны. В 10.00 въехали в Вену, которая также пострадала сильно. Некоторые улицы и до сих пор завалены руинами зданий. Мы с Иваном Васильевичем успели за 4 часа обойти немного, но были в здании парламента, во дворце Франца Иосифа, в соборе святого Стефана, в здании губернаторства, в художественном и драматическом театрах, в природном и геологическом музеях. В институте музыки видели памятник Гайдну и Штраусу - в городском парке. Проехали один пролет в метро, были на братской могиле наших воинов и вернулись на главную площадь, где условились встретиться с нашими машинами. Их еще не было, и я пригласил И.В. зайти в одну из квартир, выпить вассер-воды. Там встретились с интересными дамами и подозрительным мужчиной. Были прилашены по всем правилам культуры. Там было пианино, я сыграл на нем, что мог. Говорить по-австрийски не умею, поэтому мне было нечего делать. И.В. их язык знает, и свободно с ними говорил. Через 15-20 минут в квартиру вошли представители полиции и арестовали этого мужчину - блондина лет 45-48 с идиотским взглядом. Но так как арест проходил с применением оружия, дамы разбежались, да и мы покинули квартиру. И это было нашим счастьем, так как на улице нас уже ждали машины и могли уехать без нас, если бы мы не вышли еще несколько минут. В часть прибыли в 23.00.
Вывод: в городе голод. Продажи почти не существует. Население редкое. Никакие мелкие мастерские вроде сапожных, часовых, столярных, слесарных и т.д. не работают. Народ ходит грустный. За марки и шиллинги купить ничего нельзя.
12.6.45. Колонна машин двинулась внутрь. Я выхожу со своими машинами из общей колонны (по разрешению) и двигаюсь со своим полком. Хоричон покинули. Остановка в Капуваре. Мы уже в Венгрии. Видна торговля. Венгрия живет богаче, чем Австрия. Черешни сколько хочешь, клубники тоже. На полях и в садах изумительный урожай.
13.6.45. Покидаем Капувар. Проехали г. Чорна. Хороший, чистый городок. Следы войны незначительные. Остальное все идет по-старому.
14.6.45. Проезжаем г. Дьёр. Город мало имеет зелени. Похож на обыкновенные провинциальные города. Жизнь кипит бурно. Мне почему-то вспомнилась семья. Так хочется взять жену и детей, пройти по городу, отдохнуть. Я впервые почувствовал здесь, что войны уже нет. Люди живут мирной жизнью. Много молодежи, но мужского пола на 70% меньше, вернее, 70% населения составляют женщины. Я отремонтировал часы, предназначенные жене. Идут хорошо.
В этом городе был 15-16-17.6.45.
18.6.45. Покинули г. Дьёр, путь на Будапешт. Проезжаю комаром [? О.Л.]. В этот день я вернулся опять к Дунаю. Ничего особого нет.
20.6.45. Проезжаю с. Сень. Остановка на 2 дня. С 16 часов взяла малярия. Сильно истрепало. Температура была до 41 градуса.
22.6.45. Ровно исполнилось 4 года с того дня, как наша страна была ввергнута в войну с фашизмом. Случайно мне удалось отметить-таки этот день при движении на Будапешт в с. Дорог. Нащупал ресторан, и мы с Костей - начальником ОВС, пользуясь случаем, "дали дрозда".
23.6.45. Мы стоим в с. Леонивар. Костя спит, а я не могу уснуть. Берет тоска. Сегодня решил: как встречусь с семьей, день встречи сделаю для себя ежегодным праздником.
Встретил чехословаков. Их разговор я ясно понимал и свободно сам с ними говорил. Их разговор схож с разговором югословенцев. В 6.00 будем выезжать на Будапешт. Нам осталось всего 32 километра.
24.6.45. День прошел обыкновенно. Вечером с подполковником Островским выехали в г. Естергом. Прибыли в 8 вечера. Город хороший, молодежи много, абсолютное большинство женского пола. Женщины отличаются своей красотой. Много вольных дам. Ночью повторил с ним же поездку в этот город. Машиной управлял сам, пассажир мне не понравился.
25.6.45. Прибыл из Естергома в 6 утра. До двух спал. После обеда я, Костя Силютин, Воронин, Гринберг и Мария выехали с Островским в Буду. Город сильно разбит. Еще бы! Воевали Иваны. Хорошо поработали, молодцы! В пивной выпили по стопке водки. На обратной дороге ведущий не понравился. Чувствовали себя скованно. Вечером будет кино "Кутузов".
Мне кино посмотреть не удалось, зато удалось изрядно выпить и поблажить.
26.6.45. Посетил г. Буду, хотелось поехать в Пешт, но не представился случай. Буда изрядно побита, но торговля существует. Можно купить все, были бы деньги. Мы с Костей выпили изрядно. Со мной ездили Островский, Костя, Саша Синютин, Гринберг и другие.
27.6.45. Получили маршрут. В 17.00 проезжаем Буду, через Дунай. В Пеште остановка не разрешена. Город красивый. Жаль, не удалось походить по нему. Вечером неудача с Костей, драпаем.
28.6.45. День ездим по Будапешту с Островским и Нещерет. Буда разрушен, как полагается. Мосты все взорваны. В Буде на одном здании центральной улицы и до сих пор висит немецкий самолет, похоже, Ю-87. Как интересно он влип: мотор и половина крыльев врезались в крышу здания, а весь фюзеляж висит в воздухе. Были у крепости, проходили большой туннель, что ведет на главный мост; во дворце императора, у зданий министерств. Дворцы и здания архитектурно богатые, но побитые. Вечером выпили и закусили, а, придя на свою квартиру, мы с И.В.Нещерет изрядно и смешно погуляли.
29.6.45. Проезжали г. Цеглед. На площади построены памятники нашим воинам - красивые и величественные, с эмблемами родов войск. Вечером объехали весь город. Костя, И.В. и Саша Силютин. Ночевали в ресторане. Сколько шуток и смеха! Выпивка, закуска.
30.6.45. Рано утром прибыли домой. Я почти не остановился, проехал в автороту. Люди встречали меня шутками, приветствиями. Приятное ощущение на душе. Сейчас сижу за составлением отчета.
ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ МОЕЙ ЖЕНЫ В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1943-1945.
 |
Фотография, предположительно конца 1941 или самого начала 1942 года. Снимались специально для отправки мужьям на фронт. На фотографии - женщины из маминой семьи. Стоит слева - моя мама, рядом - жена маминого брата. Снимаясь, она еще не знала, что ее муж, Степан, погиб в конце сентября 41-го. Дети - это мои сестры Неля (младшая) и Женя (старшая). Внизу, слева - мамина двоюродная сестра Клавдия накануне ухода на фронт. А с другой стороны внизу - мамина младшая сестренка.
от 2.9. (1943)
"Наша семья будет счастливой, не знающей ни ссор, ни ревности".
Это дорогого стоит.
от 2.10. (1943.)
"Когда я получаю от тебя письма, то бываю особенно добрая, даже прощаю ошибки".
Это может говорить человек - великий друг.
от 11.10. (1943)
"На мне темных пятен нет. Уж не стыдно будет смотреть тебе в глаза".
Я верю всем этим словам, ибо я не верю лжи, ибо я не способен лгать.
22.11.43г.
"Сообщаю, что мы немного ожили. Вчера отелилась корова, так у взрослых радости не меньше, чем у детей. Женя ухаживает за теленком, а Неля боится, говорит: "Боюсь потому, что она бестолковая, ничего не понимает". Неля тебя видит и слышит везде, кто запоет, она: "Это папочка мой поет, что Неле туфельки привезу". Ждет тебя непременно с туфельками, пальто, конфетами, платьем. Ничего не поделаешь, таково требование дочерей".
18.12.43г.
"Хлеба мне и отцу дают по 300 гр., а на иждивенцев - по 200 гр. Семьей съедаем один пуд картошки в день. Хлеб на рынке 120-150 руб.1 кг. Женя, Неля ждут папу с нетерпением. Между собой очень интересно беседуют. Неля кушает все, Женя - нет".
28.01.1944г. Письмо сохранить. Но где же оно? Ах, как жаль! Куда же оно делось?
5.02.44г.
"Спасибо, не забываешь юбилейные дни наших милых детей, и сегодня, 5 февраля исполнилось шесть лет нашего бракосочетания с тобой.
Ничего, жду терпеливо конца войны, работаю, не покладая рук, делаю все, что в моих силах, чтоб скорей приблизить час разгрома врага".
Без даты.
"Вчера ходили с Нелей навещать Женечку. Сколько у них было радостей! Женя прыгает и кричит:"Нелька!", а Неля прыгает и кричит: "Женя!". У обеих блестят глазенки. Женя не знает, к кому кинуться, но вот кидается ко мне и виснет у меня на шее: "Мамочка, напиши папе, чтоб он прислал мне открытку". Когда мы уходили, то она отойдет и снова кидается мне на шею. Так повторялось несколько раз".
8.3.44г.
"Был вечер самодеятельности. Я играла роль жены в пьесе "Муж и жена". Сыграла хорошо. Зал весь смеялся. Все поздравляют меня с успехом и шутили, представляли меня в роли жены. После был вечер для жен офицерского состава. Был баян. Много танцевали. После такого вечера - да под крылышко к мужу бы! Правда, неплохо?"
11.3.44г.
"Ты сам знаешь по себе: когда долго нет писем, то черт его знает, что полезет в голову. Все рисуется в мрачных красках.
8 марта на вечере жен офицеров была одна жена майора с кавалером, с которым она живет. Он ее моложе на 9 лет (она очень интересная). Был произнесен тост за то, чтобы 8 марта 1945 г. встретить вместе с мужьями, а тут из женщин кем-то добавлено: "Только со своими, а не с чужими". Ей было неудобно, она не знала, куда деть глаза, а когда выпила, то повесилась на спутника и вела себя безобразно. Ей 33 года, а спешит жить.
Разве ты можешь прожить без женщины три года? Чтобы привлечь к себе женщину, нужно ее заинтересовать, а заинтересовать можно только обещанием жениться. Ну, и начинается история о жене. Как начну представлять так - даже на тебя обозлюсь.
Неля говорит: "Папочки приедет. Я ей расскажу, как ждала папочку". Я так смеялась! Она думает, что папа - это женского пола. О папе у них понятие отвлеченное. Я так хочу, чтобы они увидели папу настоящего!"
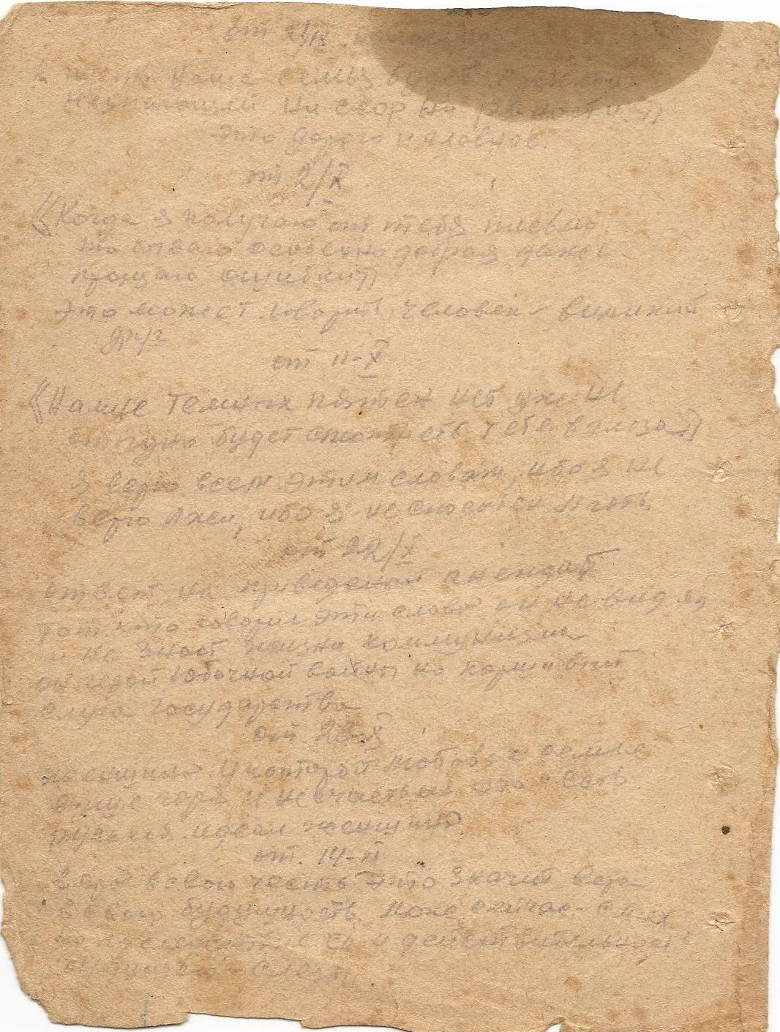 |
Страница с выдержками из маминых писем |
1.7.44г.
"Я Женю устроила в детский оздоровительный санаторий на месяц. Когда повела ее туда, она мне наказала: "Мама, ты мне носи ягод, а если папочка приедет, так приди за мной!"
февраль 45г.
"Дети растут. Я часто смотрю на них, и мне не верится, что эти дети - мои. Что это те же крошки, которых мы с тобой когда-то нянчили. Ты помнишь, какая была Неля? А сейчас девочке пятый год. Бегает, напевая песенки. Прыгает с ножки на ножку. Уж если мне не верится, то тебе - тем более. Но такие же неженки! И в этом виновата бабушка Лена. Она на них и дунуть не дает. Все для них и только для них".
10.7.45г.
"Что мне сказать о себе? Похудела, подурнела. Но семья для меня осталась самым дорогим в жизни, хотя для семьи я уделяю мало времени. Все время отнимает работа, а не работать никак не могу. Мне кажется, что я теперь вообще не способна жить без работы, и с презрением отношусь к бездельницам (хотя бывают такие отчаянные минуты, что бросила бы всех и ушла из этого мира)".
21.9.45г. "Нет слов описать ту радость, какую испытала Женя, получив твою открытку. Глазки заблестели, сама запрыгала, закричала: "Папа прислал!" Эту сцену видела девочка той женщины, о которой я тебе писала, и надо иметь железные нервы, чтоб не плакать, глядя на нее".
Нужно было все письмо сохранить. И хранил же я его. Но где оно? Вот беда!
_________
После возвращения из Европы в 1946 году, отец еще несколько лет служил в армии - на Северном Кавказе, куда он забрал семью. Потом был комиссован по состоянию здоровья. В 1953 году, уже с тремя детьми, семья переехала на Урал, в Камышлов, где через год родилась я. Ниже – фотографии этого периода [О.Л.].
 |
Апшеронск. До апреля 1953 г. Слева направо - папа, Женя, Неля, мама. |
 |
Мой отец на Кавказе в самом начале 50-х годов, |
 |
Апшеронск. Конец 40-х – начало 50-х гг. Мои родители и старшие сестры с бабушкой |
 |
Снимок сделан в Камышлове, предположительно, в 1955 году. |
ИЗ ПОСЛЕВОЕННОГО ДНЕВНИКА. 1956 ГОД:
19 ЯНВАРЯ.
Прочитал письмо, полученное от моего дяди, Москвина Феофана Константиновича. У нас с ним была как-то глупо прервана связь. Я потерял адрес и не нашел путей восстановить ее. И вот - получаю письмо. Сколько горя, переживания надвинулось на меня в этот день. А радости - и конца нет! Я расскажу ему всю правду: почему не нашел времени посетить их, или хотя бы написать. Причины всему этому были.
1. Исключительно тяжелое материальное состояние семьи в связи со стройкой своего дома, хотя этот дом строится не от желания, а от необходимости. Жактовских квартир нет, а у частников жить - душа не переносит их эгоистических пережитков.
2. Тяжелый и упорный труд. Ведь я приехал в Камышлов, имея при себе 18 рублей и 6 человек семьи. Стараюсь своими руками на свою зарплату, вот и судите. Материал приобретаю за счет питания и одежды, а строю за счет своего отдыха от труда на производстве, и так - третий год.
Сегодня же пишу ему письмо, отложив свое занятие по русскому языку. Передо мной радиорепродуктор. Говорит Москва. Вспоминают Тогучинский район. Я прислушиваюсь! Это моя родина. Упоминают доярку колхоза им. Молотова Климову Ольгу, как знатную доярку. Знаю ее - такая чернявая, с быстро бегающими черными глазами, в юности когда-то носила черные тяжелые косы с заческой в прямой ряд.
Вспоминают Бусыгина Ивана Афанасьевича - бывшего секретаря райкома. Почему бывший? Его я тоже знаю. Он был мой товарищ детства. Мы вместе с ним учились, рядом жили, вместе щук и налимов в реке Курундус глушили по тонкому прозрачному осеннему льду. Учился он плохо, но был задават, имел гармошку. Был из семьи средних крестьян, водил дружбу с богатыми и средними одногодками. Отец его был пимокатом. Мать - добрая, кроткая женщина. И вот - парень вырос, стал уже секретарем райкома. Но кто же он теперь? Неужели не справился с "возом"? Неужели пошел на низ? А, может быть, пошел вверх? Если так - горжусь.
25 ЯНВАРЯ.
Покинул Камышлов. Через два часа прибыл в Талицу, в командировку. Первым делом ознакомился с населенным пунктом. Выйдя с перрона, я без остановки прошел вокзал. Уже на улице остановился в размышлении: куда держать путь. Как всегда, намечаю план действий. С чемоданом и сумкой (с тормозной жидкостью) направился в дом приезжих. Это, прежде всего, ибо дом приезжих и гостиница - это жилье! Потом разыскал контору. Но, что странно, в этой конторе меня стали водить взад и вперед, вроде челнока ткацкого станка. И я был бы, конечно, челнок, если бы не имел своеобразный характер. Вот подхожу к секретарю (пожилая женщина и, наверное, несчастная. Жилистая, худая, но, как ни странно, кажется - бюрократическая) и она мне говорит: "Пойдите туда, пойдите сюда". Я и правда, как ни смешно, ходил, потом надоело. Попросил не мучить меня, дать время отдохнуть. Спасибо, удовлетворила мое желание! А я недоволен. Но все, что нужно было - нашел.
Вечером я т. Рейтусу выразил свое решение, что он должен выбросить из головы попытки неподчинения. Он заикался и очень трудно произносил слова, но было понятно, что ему роднее анархия, чем подчинение. Характер его я знаю. Это тяжелый человек - в работе, но легкий - в жульничестве. Я не могу с ним работать. Наступал кульминационный момент: или я его окончательно пойму, как человека, или мы расстанемся. Специалист он относительный, а разлагатель первостепенный, и поэтому я им не дорожил. В нашем разговоре я подал ему руку союза, он не взял. Н.П.Часник подталкивала его к согласию, но он отказался, потому что хорошо знал мой характер, а быть верным обещанию он не мог быть по двум причинам: привык действовать вольно, эгоистически и, если идти ко мне, он должен был работать, а не говорить о своих заслугах, т.к. я никогда не признавал и не признаю прошлых заслуг. Мне нужен настоящий деятельный труд. Мы разъехались втихую. Не знаю, как он, и зла на него не имею.
27 ЯНВАРЯ.
Нервничаю. Времени нет для занятия. Сегодня взял в библиотеке произведения Ломоносова. Но где заниматься? Пришла неожиданная мысль заниматься в кабинете нач. строительства. Я собрал все необходимое и пошел туда. Будь проклят и его кабинет, и его подчиненные, и он сам! В результате в ночное время наскочил на доску с гвоздями, пропорол себе ногу. Тяну гвоздь из ноги, а, кажется, что тяну из себя жилы, но все же, при помощи силы воли и второй ноги, я вытащил этот гвоздь. Валенок смочен кровью. Дошел до проходной, там оказали помощь. В ноге беспощадная боль, но боль - ерунда, желание заниматься - выше. Когда у тебя есть желание - нет усталости. Нога страшно болит. Стиснув зубы, читаю произведение Ломоносова. Боль - временное явление. Труды Ломоносова - моя жизнь.
28 ЯНВАРЯ.
16.00. Раздается звонок телефона. Беру трубку. Говорит ст. лейтенант милиции Мудров.
- Ваша машина 96-91 стоит в милиции. Шофер Путинцев задержан. Задавил человека. Приезжайте.
Слушал я эти слова в трубку - волосы становились дыбом. Час тому назад Путинцев был у меня, машина исправная. Шофер трезв. Что за причина? - терялся я в догадках. Через час с Климентьевым выехал в Талицу. Захожу к дежурному. На лавке сидят два человека - свидетели этой трагедии. Они рассказали мне причину несчастья. Оба - шоферы Балаирского ЛПХ. Они были выпивши, и вели себя развязно, вызывающе - особенно один, симпатичный молодой парень. В присутствии работников милиции он говорил слова, оскорбляющие достоинство органов милиции:
- Нужно всю милицию передавить!
Говорил, что это не люди, а образы людские, что, якобы, у них нет ни сердца, ни души, что они самые последние подлецы. Видя, что словами работников милиции не проймешь, они начали проявлять своеволие, отказались подчиняться, выходить во двор, требовали, чтобы к ним не прикасались. Дело дошло до того, что этого молодого человека силой втолкнули в клетку и пообещали изолировать, если будет продолжать безобразничать.
Позднее из больницы прибыл Путинцев и документы, подтверждающие, что он трезв. Принесли акт, что машина исправна. В 19 часов его отпустили, и мы с ним поехали в Поклевскую. Молчали, лишь изредка я поглядывал на него. По лицу было видно, что в нем идет какая-то борьба. Глаза то широко откроются, то нависнут брови: переживает парень. Нет-нет, да и стукнет он по своим коленям, кряхтит, скрипит зубами, но молчит.
Идет снег, и снежинки при свете фар блестят серебром. Они не падают отвесно, а, как бабочки, порхают впереди нас, крутятся и теряются где-то сзади или садятся на верх машины, сдуваемые ветром.
30 ЯНВАРЯ.
Понедельник. Сильный мороз. Машины застыли. Костры горят под каждой. Хожу, как на иголках, вокруг этих машин, но все благополучно. Нога болит легче.
31 ЯНВАРЯ.
Холод, 32 градуса. То же, что и вчера. Я упорно занимаюсь. Пробую свое мужество - бросаю курить. День прошел - не курил. Хорошо, дышать легко.
Встретил недружелюбный взгляд и ехидную реплику диспетчера Частник. Но я ей внушительно бросил комплимент, от которого ее покоробило, и она замолчала: как это так - я ей первым дал бой и одержал победу. Я знаю: она коварна и злорадна, она будет подстерегать мой простой и незлобный характер.
2 ФЕВРАЛЯ.
Опять небольшая стычка с Частник, и опять она "бита" и молчит. В своем предположении не ошибся. Для меня теперь совсем ясно, что причина ее придирок ко мне то, что она лишилась материальной выгоды, которую получала за счет эксплуатации машины забулдыги и пьяницы Козлова и его бесчестных проделок. А я отправил Козлова в Камышлов. Думаю, что не ошибаюсь, зная совесть Частник. Буду внимательно следить, главное - за своими действиями.
День стоял теплый. Ночью шел снег и повеивала метель. Утром я предложил не посылать машины, предполагая "отсутствие" дорог. Частник не послушала меня, направила - и пожала плоды, пустые для дела. Зато много сил затрачено водителями, сожжено горючее и потрепаны машины.
Вечером смотрел кино "Красное и черное". Затрудняюсь оценить. Нужно посмотреть вторую серию.
10 ФЕВРАЛЯ.
Я с шофером Захаровым ехал из Талицы в Поклевскую. День стоял морозный. Дул северный ветерок. Проехав Балаир, мы увидели на дороге трех женщин. Одна, раскинув руки, лежала и вся тряслась, а две других хлопотали беспокойно около нее. Мы остановились. Я выпрыгнул из машины и бросился к ним.
- В чем дело? - подходя, спрашиваю их.
Одна, с задорными глазами блондинка, лет двадцати девушка, сообщила:
- Схватки у нее.
Я обратил внимание на лежащую и трясущуюся (тоже лет двадцати) девушку. Бросилось в глаза, что живота у нее не было видно. Я подумал "родила, бедняга", но крика ребенка тоже не было слышно. Думаю - значит, мертвенький, и говорю девушкам:
- Так она что, уже родила, что скорчилась и трясется?
На страдальческом личике лежащей девушки отразилось чуть заметное подобие улыбки. Черная прядь волос выбилась из-под платка. Глаза закрыты, прямой нос поблескивает бледноватостью.
- Не знаем, не знаем! - заголосили испуганные подружки.
- Давайте в машину! - крикнул я. Открыли борт. Мы втроем легко и просто положили девушку на пол в кузов, туда же запрыгнули ее подружки. Я вскочил в кабину, шофер дал газу - и пошли кустики мелькать, а сердце тревожно бьется в груди. Всю дорогу я думал: "Вот женская доля! Жить природа требует, а мучений сколько!" Мы гнали к больнице, но вдруг на подъезде к столовой девушки застучали по крыше кабины. Я выскочил, чтобы узнать, в чем дело. И что же? Девушки, все трое, прыгали из кузова и лихо хохотали. Сквозь смех они поблагодарили нас, что подвезли, а сами чуть не падают от смеха над нами. Я понял их хитрый замысел и тоже начал улыбаться, а когда они мне все рассказали - мы также - вместе с Захаровым - посмеялись вдоволь. Дело в том, что они шли с птичника. Денег у них было - только пообедать. Если ехать на автобусе - нужно было платить, значит - остаться без обеда. Они пытались останавливать грузовые машины, но шоферы только газ прибавляли. Вот, они и пошли на хитрость - и доехали, и деньги на обед сэкономили.
4 ИЮЛЯ.
Сегодня, в 5.45 утра я проводил в самостоятельный жизненный путь свою старшую дочь. Ей 17 лет и шесть месяцев. Она комсомолка, с аттестатом зрелости. Впереди - двери института, если не дневного, то вечернего. Перед ней - трудовая деятельность. Выросли крылья дочери и она, кажется, спокойно делает взлет. А что же волноваться, бояться за свою судьбу в нашей Отчизне?
В добрый путь, милая дочь! Помни, что землю освещает солнце, а человека - знания. Так сказал я ей в своем напутственном слове. Она покинула Камышлов, а завтра ее встречает Челябинск. Я не безразличен, скорее, взволнован: как-то она выйдет на хорошую, правильную, светлую дорогу жизни. Первые шаги Жени в самостоятельной жизни, мне кажется, тоже не уверенны. Так же не смелы, как первые шаги 16 лет назад. За это я немножечко волнуюсь, но думаю, что если будут какие-либо неожиданные для меня и горькие моменты в ее вторжении в самостоятельную жизнь, - это даже, на мой взгляд, должно быть к лучшему. Пусть закаляется. В таком "горне" куется характер человека, нужный нашему обществу.
[БЕЗ ДАТЫ].
Политическая жизнь нашего народа после смерти Сталина в корне изменилась. Постепенно проясняется, и дышать становится, как будто, легче.
В этом году я кончаю свою стройку. Будущее свободно от тяжелого труда, впереди видны контуры облегченной жизни. Но меня до крайности смущает отсутствие продуктов в магазинах. Этот вопрос я задаю смелее, чем мог бы задавать несколько лет тому назад.
Сегодня прочитал постановление ЦК КПСС о ликвидации культа личности и его последствий в нашей стране. У меня, как и у сотен других людей, возникает вопрос: почему же этой политической болезни дали возможность так разрастись? Правда, ответ есть, но я скажу - ответ не совсем ясный.
Больше дневников отец не писал [О.Л.].
Воспоминания прислала Ольга Лукичева