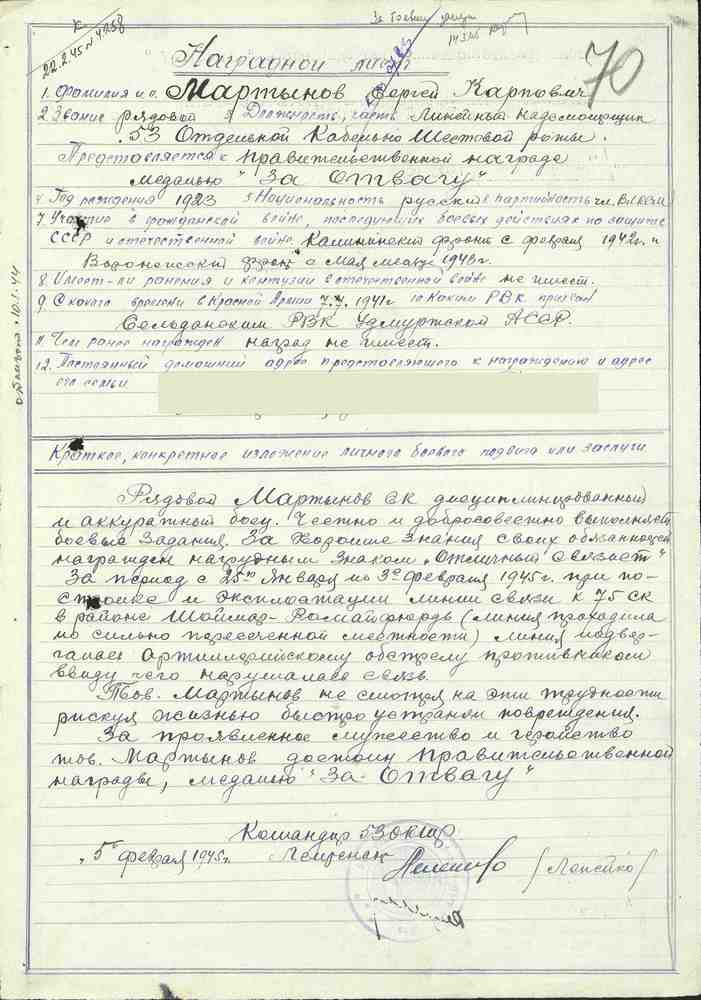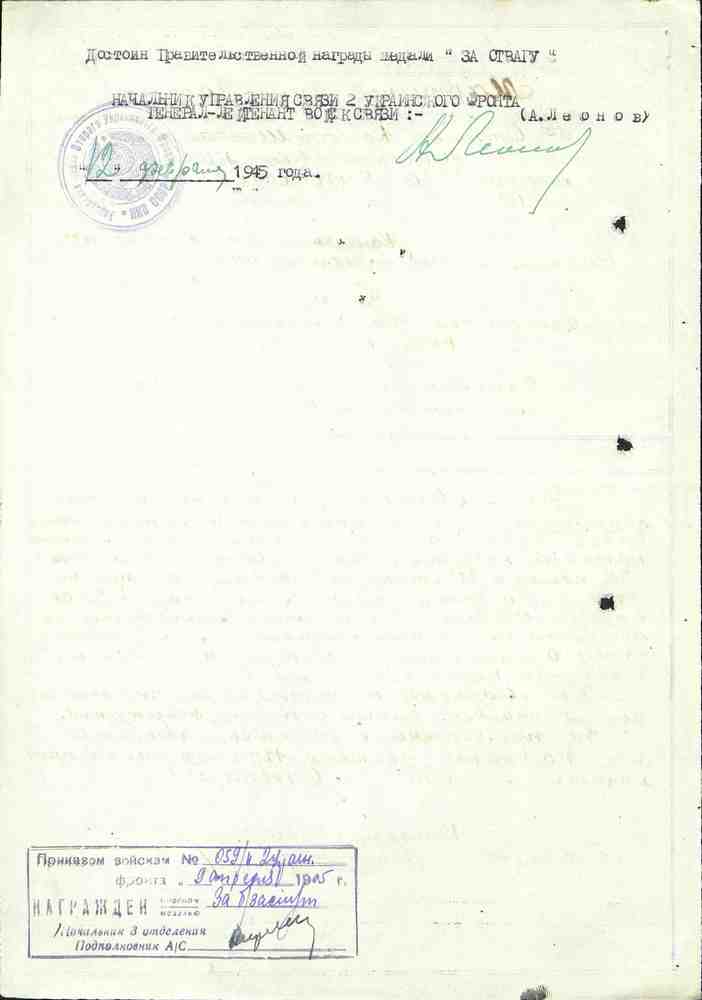С.М. Когда мне сообщили о том, что вы придете ко мне, я долго ломал голову: а какими все-таки словами вас лучше встретить, здравствуйте, товарищ или здравствуйте, господин? Скажу откровенно: для меня лучше говорить — здравствуйте, товарищ. Вы с этим согласны? Тогда я вам скажу, что мне очень приятно беседовать с вами о войне как товарищу со своим товарищем. Для меня это очень важно. Почему-то у нас в России забыли старое доброе русское слово «товарищ». Вообще-то говоря, жизненная дорога у меня была довольно запутанная и сложная. Мне часто приходиться выступать перед молодежью. Так вот, многие из тех, с кем я говорю, не раз мне советовали (особенно в последнее время): «Про тебя надо написать книгу, потому что у тебя интересная биография!» Правда, обо мне уже кое-что написано. Есть строчки в книге «Сын России», в газетах было опубликовано немало статей, посвященных моему фронтовому пути. Кроме того, по случаю моего 90-летия президент России Владимир Путин прислал мне поздравительную телеграмму. Но я, наверное, начну свой рассказ не с войны, а с довоенного времени.
Родился я 22-го сентября 1923-го года (сейчас, как видите, мне идет 92-й год, - интервью записывалось весной 2015 года, - Примечание И.В.) в городе Гжатске, который находится на Смоленщине, но сейчас называется Гагариным. Так что получается, что с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным мы с одного города. Я посмотрел его биографию в энциклопедии. Оказывается, он всего на 11 лет меня моложе. Жизнь моя с самого начала складывалось как-то неудачно. Но дело в том, что в старые времена жизнь в Центральной России вообще была очень тяжелой. Когда мне исполнилось два года, погиб мой родной отец, которого я даже не помню. Как мне рассказывали, он обкатывал первый в деревне трактор (он его водил с подростками). Сломался мостик, он перевернулся и погиб. Когда мне пошел восьмой год, умерла наша мама. В то время мы жили в ужасных условиях. Нас было в семье трое человек: я и две девочки. С матерью жил отчим. От него я взял отчество. На самом деле я по отчеству Александрович. Но раз однажды меня записали Карповичем, то так и стали писать во всех документах.
Мать умерла от чахотки. Это произошло в голодные 30-е годы. Пока отчим сидел два года в тюрьме, мы ничего не имели. Раньше он работал директором дома инвалидов в городе Гжатске. Но его судили за какую-то денежную растрату. Когда он вернулся из заключения с Урала, он превратился в совершенно другого человека. Он никак не мог себе найти место работы. Мы дожили до того, что потеряли времянку, в которой жили в детские годы вместе с матерью. Мать работала то уборщицей, то прачкой. Поэтому о том, что для меня значит понятие «господа», можно написать целую страницу. А при советской власти, как бы тяжело ни жилось нам из-за отчима, было хорошо. Я помню, как мы в деревне встретили первый трактор, а потом первую машину, которая появилась в Гжатске. Потом я видел первый раз в жизни двукрылый самолет. Это происходило в тех местах, где родился Юрий Гагарин — в 180 километрах от Москвы и 40 километрах от Бородинского поля.
Короче говоря, у нас не было ни квартиры, ни дома. Жили как придется. Дело доходило до того, что я ходил побираться и искал себе кусок хлеба. Когда мама умерла, у нее шла изо рта кровь и мы не могли даже ее на прощание поцеловать. Четверо мужчин положили ее на телегу, покрыли брезентом и увезли. Это была настоящая русская женщина! Оставшись один, я ушел из дома. Документов у меня никаких не было. Я в то время окончил только один класс школы. После этого бродил по детским домам, беспризорничал. Был, к примеру, в Смоленском детском доме.
И.В. А как получилось, что вы туда попали?
С.К. Это произошло вскоре после того, как умерла моя мать. Я спросил отца: «Где ты похоронил мать?» Ведь я только и видел, что ее увезли четверо мужиков на бричке. Отчим сказал: «Не твое это дело, ты для этого не дорос еще». Я хоть и маленький был, но очень сильно на него разозлился и все ему высказал: «Это ты во всем виноват. Ты же довел ее тем, что так живешь. Ты нигде не работаешь, подворовываешь в посадке (мы жили тогда в посадке — так называлось место под городом Орша; к тому времени он увез нас в Белоруссию). Я побираюсь. Мать, понимаете, умерла от туберкулеза, от недоедания. Трое ребятишек плачут и не могут поцеловать на похоронах мать».
Отчим тогда был что-то пьяный. Вместе с ним находились четыре его собутыльника. После этих слов он избил меня так, что я всю ночь валялся в шалаше и плакал. Он был ершистый. Я все никак не мог привыкнуть к его фамилии — Кравцов. Но я знал об этом лишь совсем немного, вскользь, потому что по существу с ним не жил. Сам он был родом из Белоруссии. У него там жили братья и сестры. Он с ними что-то не ладил. Был такой своеобразный человек.
На следующее утро я поцеловал своих сестренок Нину и Наташу, которые носили его фамилию (одной тогда было что-то пять лет, а другой — три года), взял первые попавшиеся документы и ушел из дома. Я тогда даже не знал о том, что такое метрическое свидетельство о рождении. Ведь я только проучился один год в школе. В школу я пошел без своего отчима. Учился хорошо. За это мою мать наградили специальной грамотой, где говорилось: «Награждается Мартынова Ольга Николаевна за хорошее воспитание сына». Этой грамотой она хвалилась перед своими знакомыми, говорила: «Вот это — за моего сынишку. Он, понимаете ли, решает задачки даже за третий класс. Он такой любознательный! Он букварь справа налево читает. Всю эту грамоту изучает».
На попутном автобусе я доехал до детского приемника в городе Орша. Мне нужно было проехать на нем 10 километров. Когда пришел в приемник, меня там спросили: «Твоя фамилия?» Я сказал: «Мартынов Сергей, а отчества не знаю (Вероятно, имя своего настоящего отца Сергей Карпович Мартынов узнал позднее. - Примечание И.В.) Отца я не помню. Мне было два года, когда его не стало». «Но кто-то тебя воспитывал?» - спросили меня. А моего отчима звали Карп Власович Кравцов. А Карп, Влас, Афанасий — это же были очень распространенные в Белоруссии имена. Я сказал: «Карп!» Мне сказала: «Значит, так и запишем: Сергей Карпович!»
Из Орши нас перевезли в детский дом в Смоленск. Причем ехали не в самом пассажирском поезде, а под ним. Нас было двое мальчишек. Один из активистов решил сэкономить на наших поездках (видно, не смог достать билет или решил получить за нас какие-то деньги). Перед этим он к нам подходит, спрашивает: «Смелые вы, парни?» Отвечаем: «Смелые». «Мне только один билет дали, - сказал он. - Давайте, когда мы поедем, вы садитесь под поезд. Шесть остановок вы нигде не выглядывайте. А потом поезд остановится, станет свистеть и я вас оттуда вытащу». А дело в том, что внизу под вагоном были привязаны цепями коробки, в которых находились аккумуляторы, слесарные инструменты и прочее. Так вот, я в один такой ящик заскочил, а мой товарищ — в другой. Они размещались с разных сторон. Потом он нас вытащил. Нас привели в детский дом, которым командовал какой-то военный. Он нам определил место жительства. И все бы хорошо... Но тут вдруг он нам объявляет: «Ребята, сейчас детский дом будут ремонтировать. А нам надо на зиму заготовить картошку, капусту и прочее. Поехали в сельскую местность».
Нам подали грузовик и мы на нем поехали. В сельской местности накопали морковки, картошки, потом начали рубить капусту. Дело было в августе месяце. Саму капусту рубили мужики. Мы же, дети, отрезали у кочанов кочерыжки. Когда стали возвращаться, наша машина прямо на дороге застряла. Дороги были все-таки плохие. Сутки мы там простояли, вытаскивали машину из грязи, но все никак не могли ее вытащить. Втроем мы с ребятами решили пойти побираться. Машина потом ушла. А я внезапно от этих кочерыжек схватил дизентерию. В то время я даже не знал о том, что существует такая болезнь. Спали мы с мальчишками в стогах сена. Днем ходили попрошайничать. Бывало, нам дадут хлеба или какую-нибудь картошину. Вечером все опять спали в соломе. Однажды днем мальчишки ушли на рынок. К тому времени я ослаб настолько, что совсем не мог никуда идти. В своем жалком пальтишке я свалился в какую-то лужу около забора и потерял сознание. Шел дождь. Кругом была грязь.
Какая-то добрая старушка обратила на меня внимание. Она подняла меня и привела к себе домой. Очнулся я только у нее дома (до этого находился без сознания). Я до сей поры ее помню. У нее кипит чайник, она нагревает в нем воду, заваривает траву и начинает меня поить. Она вымывает мне всю одежду. После этого я вновь теряю сознание. Снова очнулся я уже в больнице. Не знаю, в какой именно больнице я оказался, но было это, как мне показалось, в какой-то праздник, потому что когда я пришел в себя, мне принесли яичко и тарелку каши. Я несколько ложек поел. Находясь в детских домах, яиц я почти в глаза не видел. Поэтому это меня очень удивило. Я еще тогда спросил: «А что — яичко? Сегодня праздник что ли какой?» Утром мне дали еще яичко. А оказывается, мне давали яичко еще и потому, что оно помогает очень от дизентерии — укрепляет желудок и прочее.
В общем, меня вылечили и отправили в детский дом, но не в Смоленский, так как до него было далеко ехать даже на машине, а в тот, который находился рядом. Как сейчас помню, очутился я на цементном полу метров на двадцать, в подвальном помещении. Там горел фонарь или лампа. Видите, какая у меня хорошая память? Я и сам ей удивляюсь. Ведь я помню даже пофамильно всех директоров детских домов, в которых жил до войны. Нам положили в этом подвале матрасики, разложили брезент и сказали: «Ложитесь спать!» А на дворе стоял октябрь-ноябрь месяц. Находясь на краю этого сооружения в подвале, мы сильно замерзли. Мы, ребята, решили: «Давай сбежим отсюда!» После этого опять покатили под поезд. Наше путешествие продолжалось до тех пор, пока мы не очутились в Москве. Там располагалась Даниловская детская колония. Кто туда попадал, жил в двух бараках под колючей проволокой. Нас, малышей восьми лет или примерно этого возраста, поместили от них отдельно. Нашу территорию называли актовая часть. Здесь мы пробыли пять месяцев. Я запомнил, что мы делали пуговицы, машинки, самолетики, что-то резиновое.
Потом нас перевели в город Гжатск, на родину. Нас встретил какой-то старичок. До этого мы не знали, что такое нижнее белье. Вид у нас был неважный: одна рубашка, головы не стрижены, на многих из нас - лишаи. Встретивший нас старичок нас обмыл. Потом мы узнали, что попали в образцовый детский дом имени Надежды Константиновны Крупской. Нам очень повезло, что мы там оказались. Через какое-то время к нам прибыл на должность директора Михаил Михайлович Дикин. Таким, как он, людям, я считаю, нужно ставить памятники. Он сразу, как только к нам пришел, сказал: «Нас, двести коммунистов, послали работать по детским домам. Но я пришел к вам сюда не только для того, понимаете, чтобы вас одеть, обуть и кормить, но чтобы еще и показать, что вы принадлежите к великому народу, что вы являетесь его сынами и дочерьми».
В этом детском доме я находился четыре или пять лет. Как он нас воспитывал! Если это подробно описать, это могло бы послужить примером для подрастающей молодежи. Везде у нас висел лозунг: «Не пищать!» Каждое утро он приходил к нам и о чем-нибудь рассказывал. Один раз приходит и говорит: «Ребятки! Наш летчик Бабушкин долетел до Северного полюса. Кто из вас желает быть таким, как он, летчиком?» (Советский полярный летчик Михаил Сергеевич Бабушкин совершил посадку на Северный полюс 21 мая 1937 года. - Примечание И.В.) Мы подымаем обе руки. Получается - лес рук. На следующий раз у нас появился известный шахматист, гроссмейстер СССР Михаил Моисеевич Ботвинник, который обыграл очень многих своих «коллег» и сделался чемпионом мира. Директор задает вопрос: «Кто хочет быть, как он? Кто желает стать таким же, как Ботвинник или Алехин?» Мы снова подымаем руки. Тогда Дикин говорит: «Вы не так голосуете. Не нужно обе руки подумать. Так сдаются. Надо подавать только левую руку, сжатую в кулачке». Все подняли руки. А то до этого получался лес рук. Иногда директор задавал вопрос: «Кто желает быть трактористом?» Все подымали руки, кричали: «я», «я», «я».
Так дружно нас всех в этом детском доме воспитывали. Причем воспитатели встречались самые разные. Помню, один старичок водил нас в лес и показывал, где какое дерево, как оно называется («вот это — дуб, а это — осина»), как найти бруснику и прочее. Когда я ходил уже во второй или третий класс, к нам пришла учительница-старушка и сказала: «Ребятки! Сейчас я вас буду обучать знанию карты». После этого она кладет конфетку-леденец и начинает с нами занятие. Мы, 40 человек мальчишек, ее раскрывши рот слушаем. «А где Волга? - спрашивала она нас. - Где Дон?» Мы эту карту быстро освоили. Потом она стала усложнять свои занятия с нами, принесла политическую карту мира. Спрашивает: «А где остров Пасха? А где мыс Горн? А где Мраморное море?» Помню, я тогда настолько развил знание географии, что получил за это благодарность.
В детском доме я пробыл до 14 лет. Раньше в детских домах детей, как правило, держали до четырнадцати лет. Девочки жили и воспитывались от нас отдельно (рядом, но в отдельном помещении). За это время мы научились многому. Нас, например, учили делать к валенкам подошвы. А в то время у нас же не было металлических гвоздей. Поэтому шили зубчиками. Бывает, бьешь их молотком и прибиваешь. Иглы не было. Вместо нее использовалась щетинка от поросенка или кабана. Все это прививалось к суровой нитке. Надо было уметь все присоединить, смазать варом и потом пришить подошвы. Все это делали мы, мальчики, а девочки занимались всякими тряпками и вышиванием. Впрочем, мы почти о них ничего не знали. Вернее, знали, но только тогда, когда ходили в школу. Учились мы в общей железнодорожной школе. Если у нас кто-то трогал девочку, которая была детдомовкой, мы подымались в ее защиту и шли на весь класс обидчиков гурьбой, по пятьдесят человек, грудь - нараспашку. Это уже потом приходили их старшие братья и сестры и нас отгоняли. А гроссмейстер Ботвинник, про которого я вам уже рассказывал, однажды принес к нам в детдом пять шахматных досок, показал, как надо в них играть, и начал турнир. Мы встали в очередь на эти шахматы. Так из-за этого у нас такой поднялся энтузиазм, что наш детский дом всегда занимал в школе первое место по шахматам. Больше того, нас посылали на соревнования по ним между школами.
Когда я заканчивал шестой класс, со мной произошел случай, который я почему-то на всю жизнь запомнил. Я сидел с одной девочкой. Она была очень строгой, с двумя косичками. А перед этим я попробовал покурить папиросу. Она это заметила и сказала: «Сережка, от тебя идет запах табака. Если ты будешь сидеть еще, я ухожу отсюда и больше ты меня не увидишь».
Между прочим, когда война окончилась, я заезжал в город Гжатск и заходил в свой детский дом. Мне тогда там нужно было обновлять свидетельство о рождении. Ведь я, когда на фронте тонул с вещевым мешком в реке (один вещевой мешок я оставил на Днепре ниже Кременчуга, а другой на реке Дунай под Веной), потерял все свои документы. А что значило для бывшего беспризорного мальчишки потерять документы? Это была катастрофа. Ведь там у меня находились не только документы, но и переписка, и даже стихи, которые я в свое время писал.
Хотя в детском доме держали до 14 лет, нас после этого просто так не выбрасывали, а присоединяли к какому-нибудь предприятию. Кроме того, выделяли место в рабочем общежитии, помогали достать одежду, кормили, а также давали путевки в дом отдыха. Короче говоря, за нами, своими бывшими отпрысками, следили как за малышами. Меня из детского дома отправили в ФЗО связи, которое располагалось в городе Духовщина под Смоленском. Туда принимали, вообще-то говоря, ребят с семиклассным образованием. Но поскольку я был детдомовцем, меня приняли с шестью классами. Там я учился на связиста. Причем на связиста такого, я бы сказал, примитивного типа. Там мы изучали аппараты в железных коробках, которые работали на батарейках, типа «Эриксон» и «Красная Заря». Ничего другого у нас больше не было. Учили нас также натягивать и чистить провода.
Между прочим, поступление в школу ФЗО связи сыграло в моей жизни роковую роль. В качестве связиста я прошел всю войну. Мой фронтовой путь начинался в городе Юхнов Смоленской области, когда я был еще гражданским связистом, но вместе с военными участвовал в боевых действиях. За это меня наградили медалью «За оборону Москвы». На фронт я уходил добровольцем. В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин прислал мне медаль - «70 лет битвы за Москву». Вместе с этой медалью ко мне пришла карта Московской битвы. Там есть и Смоленск, где мы два месяца держали оборону, и Ржев, и Вязьма, и Юхнов. И есть там город Гжатск, где я родился. Так что эту карту я очень сильно берегу. Но самое главное, что меня «тронул» Собянин не столько этим, сколько тем, что в своем поздравлении он пишет такие слова, как «советский народ» и «советские войска». С тех пор я стал его очень глубоко уважать. А ведь сегодня не часто такое встретишь, чтобы кто-либо из наших высших руководителей использовал в своей речи слово «Советская Армия». Сейчас таких вещей почему-то стыдятся. Помню, не так давно я пришел в воинскую часть, в которой я когда-то служил. Она оказалась очень большой. Там насчитывалось, может быть, сотни человек. Мы сели за столы, я — вместе с офицерами. Считается, что сегодня остался единственный участник Великой Отечественной войны с этого соединения, и этот человек — я. Я им немного рассказал про их историю. Рядом со мной сидели генералы. Потом я встал и сказал: «Я поднимаю тост: за советский народ!» И все меня поддержали.
Но я немного оторвался от своего рассказа. Помню, когда нас только приняли в школу ФЗО, то дали сразу отпуск. Вернее, это был не отпуск. Просто нам предоставили возможность немного отдохнуть. Нас привезли в город Красный под Смоленском, где проходила знаменитая Соловьева переправа. Там нам сказали: «Ребята, посмотрите, все дороги с запада идут через Смоленск. Здесь проходила и Грюнвальдская битва, и поляки город Смоленск два раза сжигали вместе с жителями. И Наполеон здесь был. И Барклай де Толли на этом месте воссоединился с Багратионом». А потом это место прославилось еще тем, что здесь два месяца продолжалось жесточайшее сражение с немцами. Вообще-то говоря, на Смоленщине живет удивительный народ. Помню, уже после войны среди населения считалось позором, если в годы военного лихолетья кто-то не был на фронте или в партизанах. Уже потом, когда я воевал за границей (а я в составе 2-го Украинского фронта прошел семь государств мира), я часто вспоминал Смоленщину и вообще Россию: родное ржаное поле, льняное поле, голубой цвет маки по краям, жаворонков и птиц, которые рядом летали, речушку метра два небольшой глубины, в которой было видно, как прошли пескарь или плотвичка, красные и желтые кувшинки. Все это — моя родина.
Потом я несколько лет учился в школе ФЗО. Обучаясь своей профессии, я выходил на дежурства и помогал освещать радиостанцию. При этом в самой радиостанции не понимал ничего (это потом я в этом деле освоился). Как говориться, лишь бы щетки не искрились. Сам мастер в это время отдыхал. За такую активность мне выдали комсомольский билет и профсоюзный билет, которые были красного цвета. А после того, как это училище я окончил, стал работать линейным надсмотрщиком в конторе связи города Юхнов Смоленской области. На этой работе я научился многому, в том числе и тому, как пускать радиоузел. В этой конторе я проработал два года, когда вдруг совсем внезапно нагрянула война.
Кстати говоря, на этой работе меня даже судили. Сначала я даже не обратил на это внимание. Я и предположить не мог, что это мне так аукнется.
И.В. Расскажите об этом суде подробнее.
С.М. Получилось это так. Вызывает меня директор нашей конторы связи и говорит: «Сережка, ты завтра выходишь с отпуска. Пусти радиоузел. И помни: в шесть часов обязательно должны передаваться известия». В то время все приемники были изъяты. Поэтому вместо них существовал черный радиорупор, по которому передавались важные сообщения. Потом, правда, появился новый радиоприемник «Минск», он работал на лампах. В то время я жил на квартире у старушки, на Посаде, как называлась окраина города Юхново. Я подошел к своей хозяйке и сказал: «Слушай, бабушка, ты меня завтра разбуди во столько-то. Мне надо будет радиоузел пускать» «Хорошо, сынок!» - сказала она. А сама забыла и проспала. Просыпаюсь — уже идет седьмой час. Так я бегом через весь город побежал устанавливать радиоузел. Но как я ни старался, все равно опоздал на 32 минуты. А в то время как раз вышел указ правительства о том, что все, кто уклоняется от службы, избегает работы и опаздывает на нее больше чем на 20 минут, должны наказываться вплоть до суда. С этим указом на руках ко мне и пришел мой директор. «Слушай, - сказал он мне. - Меня райком уже два раза ночью подымал и спрашивал: почему у тебя не работает радио, почему? Ведь народ ждет известий и слушает их. Во Франции что-то такое разворачивается. Немцы берут Польшу. А радио не работает. По новому правительственному указу тебя следует привлечь к суду. Ведь в этой бумаге в конце написано: те, кто не предпринимает мер против нарушителей, тоже привлекается к судебной ответственности». Суд проходил в воскресенье в каком-то клубе. Как сейчас помню, за столом сидят два заседателя. Тут же сидит директор. Потом обвинитель объявляет: рассматривается дело Мартынова Сергея Карповича, который опоздал больше чем на 23 минуты на работу. Я рассказал о том, как это получилось. Они это поняли. Но все равно наказали. Ведь им нужно было дать отчет в райком о том, что меры приняты и виноватые отданы по суд. Мне присудили три месяца высчитывать по 15 процентов зарплаты. Когда я узнал о вынесенном мне решении, я не обратил на него даже и внимания. Решил: «Подумаешь, буду получать на одну буханку хлеба. Ничего страшного, переживу».
После этого проходит какое-то время, как вдруг меня вызывают в райком комсомола. А у нас в конторе связи работало трое комсомольцев, которые были прикреплены к райкому комсомола. «Ты комсомолец?» - спрашивают меня. Говорю: «Комсомолец!» «Комсомольский билет — на стол». Я подаю им свой билет. Они говорят: «Ты был отдан под суд. А у нас так считается: раз человек попал под суд, значит, он не может быть комсомольцем. Считай, что ты уже больше не комсомолец!» После этого этот главный положил мой билет члена ВЛКСМ в стол. Я вышел из здания райкома комсомола и заплакал. Господи! Ведь я даже и подумать не мог, что из рядов комсомола, оказывается, могут исключать людей.
И.В. Войну вы предчувствовали?
С.М. Предчувствовали. Вы знаете, любой народ, когда он чувствует, что на него надвигается какая-то внезапная угроза, немного спаивается и объединяется. В нем укрепляется дух и старание. Это становится очень заметно. Все эти процессы происходили и у нас в предвоенный период. Ведь когда я впервые попал в детский дом, мы не знали ни того, что такое советская власть, ни того, что такое большевики. Но я помню, что потом к нам приходили старики, первые строители в советской стране, и обо всем рассказывали. Сейчас период становления советской власти у нас сознательно пытаются представить страшным временем. Говорят о том, будто после революции большевики согнали всю интеллигенцию, посадили на пароход и отправили за границу, что Гражданскую войну, опять же, никто иной, как они, развязали. А ведь это было совсем не так.
Когда к нам приходили в детский дом старики, встречи с ними у нас назывались «Беседа с опытными людьми об окружающем мире». У нас появлялись старые большевики, которые что-то в своей жизни испытали, и вели с нами такие разговоры: «Вы, ребята, живете в Советском Союзе. Наша страна, в которой вы находитесь, подняла три революции для того, чтобы свергнуть царизм. Почему она это сделала? Потому что предшествующие правительства и царь проиграли японскую войну, проиграли империалистическую войну, а потом их последователи проиграли и Гражданскую войну. Но все это привело к тому, что мы сейчас находимся в капиталистическом окружении». Вот это слово - «капиталистическое окружение» - как предупреждение об угрозе нас всегда как-то сплачивало. Мы все время говорили о том, что в Англии и Америке люди выбрасывают в океан молоко и жрут пшеницу, чтобы как-то поддержать этот капиталистический мир, в то время как мы недоедаем и не знаем, что такое молоко. Но приходившие к нам на такие беседы люди говорили: «Надо держаться, надо крепиться. Но мы это сейчас и делаем: деремся и крепимся». Короче говоря, все мы чувствовали приближение опасности.
К сожалению, за последние 25 лет у нас сильно изменились понятия фактически обо всем. За годы «перестройки» мы наломали столько дров, что мне это время бывает порой даже стыдно вспоминать. Все эти горбачевисты и ельцинисты, а также многие другие, отпихивались от собственной истории, поливали ее грязью, а по поводу своей причастности к развалу страны говорили: мы не виноваты и прочее-прочее. И что же получилось в итоге? Когда начались проблемы с Польшей и Украиной, у нас сразу же переменилось отношение к истории: сразу же вспомнили про то, что у нас была советская власть, что во время Второй мировой войны мы спасли мир и понесли за это много жертв, про то, что нам американцы навязали эту «холодную войну». Но у нас появилось ядерное оружие. Мы добились того, чтобы каждый самолет, который летает восточнее, был российским. Все эти проблемы, если вы заметили, нас сегодня как-то сплачивают. Иногда, когда я выступаю как ветеран войны перед школьниками, я им этот вопрос задаю: почему? И они задают мне этот вопрос: почему? Я привожу им пример: «Когда в Южной Корее умер Ким Ир Сен, на площади собралось полмиллиона человек и начали плакать. Почему они это делали? Их что, дубинками заставляли это делать? А все дело в том, что в Южной Корее живут в два или три раза лучше, чем у нас. Сменилось пять правительств, а никакой разноликости не ощущается». Также хотелось отметить, что в своем сплачивании во время войны мы достигли того, что нас, в отличие от других заграничных армий, когда мы шли по Европе, никто нас не называл оккупантами. А сейчас что творится? С этими словами - «оккупанты» - в Харькове сломали памятник Ленину, сделанный самими украинцами. Сейчас все исторические события перевернули с ног на голову, в том числе и все то, что касается Гражданской войны. Ведь не большевики, а белогвардейцы организовали на территории нашей страны иностранное вмешательство. Миллер пригласил оказать помощь в борьбе с большевиками англичан, Юденич — немцев (под Псковом и Нарвой). Немцы доходили почти до Ростова. Под Новороссийском и в Крыму был французский флот. В Сибири свирепствовали американцы. Это что, мы, большевики, их к себе позвали? Наоборот, мы изгнали их с территории своей страны.
Так что войну мы, конечно, предчувствовали. Всех нас сплачивала угроза капиталистического окружения. Об этой опасности нам, между прочим, говорил в детском доме наш директор Михаил Михаилович Дикин. Кстати говоря, я с ним единственный раз в своей жизни поссорился. И поссорился как раз из-за этого самого капиталистического окружения. Он принес нам красивый журнал и стал его нам показывать. На нем были изображены несколько стоящих в шляпах, шарфах, безрукавках и клетчатых шортах ребят. На шорты мы тогда не обратили внимание, а про журнал сказали: «А, это в капиталистическом мире есть такие вещи». На самом деле на фотографии были скауты.
После этого прошло какое-то время. Из-за того, что в детском доме вскоре начался ремонт, мы переехали на время в город Малоярославец, который расположен в 110 километрах от Москвы. Так вот, наш директор нашел для нас, своих воспитанников, рубашечки-безрукавочки, галстучки и клетчатые шорты. Когда он стал их на нас одевать, я сказал: «А я их не одену!» «Почему?» - спрашивал меня директор «Потому что их носит наш противник!» Помню, когда мы на ту фотографию смотрели, то обращали внимание не на шорты, а на то, какие у них мускулы, так как мы считали, что в скором времени нам придется с ними сражаться. Я отказался надевать эти шорты и подговорил на это дело нескольких ребят. А в чем мы были одеты? Фактически у нас ничего не было. Ни нижнего белья, ни чего другого. Одна домотканая одежда, кушак и обрезанные штанишки. Он начал нам доказывать обратное. Тогда я ему сказал: «Сейчас сыму с тебя старые штанишки». Он стал с нами ругаться. А там стояла плита с конфорками. Я подхватил одну из конфорок, бросил в него и сбежал.
Директор меня, конечно, очень сильно любил. Я был хоть и упрямый, но в то же самое время очень хорошо развитый. Поэтому, повторюсь, перед войной мы очень остро чувствовали угрозу нападения на нас. Понимание этого вопроса как-то весь наш народ сплачивало. Вы возьмите такой пример. В период Империалистической войны национальный вопрос очень сильно сплачивал поляков. Ведь даже в то время, когда у нас шла Гражданская война, Польши как таковой не было. Почему? Потому что Данцыг и Гдыня находились в руках немцев, другая часть страны — такие города, как Варшава и Гродно — относились к России. Это их сплотило в ненависти к немцам и к нам, к русским, мы чувствовали их неприязнь, хотя они являются братскими нам народами. Так что мы чувствовали приближение войны.
И.В. Чем вам запомнилось само начало войны?
С.М. Сразу после того, как 22-го июня 1941-го года на нас напали немцы, в нашей местности появилось очень много добровольцев. Все они шли с заявлениями в райкомы комсомола и профсоюзные комитеты. Но так как меня к тому времени исключили из рядов ВЛКСМ, я не мог идти вместе с ними. Я не подходил никуда. Тогда я пошел в военкомат и написал заявление, где были слова: «прошу меня послать на фронт». В то время мне не исполнилось еще и 18 лет. Ведь я родился в сентябре 1923-го года. Помню, я тогда написал стихотворение, в котором были такие строчки:
Но мне было восемнадцать,
Когда нас в бой Россия позвала
Одним словом, я написал заявление о том, чтобы меня послали на фронт. Но мне, как говорят, ни ответа, ни привета. А так как я хорошо знал военкома (потому что часто исправлял линию связи на этом направлении), то пришел к нему и в лоб задал свой вопрос: «Почему меня не отправляют на фронт, почему?» «Ты же связист, - сказал он мне. - Сколько вас осталось работать в конторе связи молодых?» Я сказал: «Двое: он да я. Все остальные старички». «Выйдем на улицу», - сказал мне военком. Мы вышли. «Вот этот столб видишь?» - спросил он меня и указал на столб. А там как раз стояли деревянные столбы. Самый большой из них был вольтстолб. На нем нужно было чистить изоляторы, менять связки. Такой столб считался знаком достоинства у нас, связистов. Я всегда порывался лезть на самый высокий столб. «А кто эти столбы положил?» - не унимался военком. Я ответил: «Их поставили на линии военные». «Так вот, - продолжал военком, - если ты сейчас возьмешь винтовку и уйдешь отсюда, знаешь, какая жизнь ожидает тебя впереди? Ты каждую ночь и чуть свет будешь подыматься. Ведь утром и ночью немцы будут вас бомбить. Немцы пока еще далеко от нас. А провода эти тебе натянули не даром. Почему? Потому что Москва должна знать, что на фронте произошли такие-то и такие-то события, что такие-то и такие-то бои идут под Смоленском и Минском. И здесь ты приносишь больше пользы, чем если тебе дадут винтовку и ты будешь по немцам стрелять. Ведь ты там двадцать-тридцать патронов израсходуешь или сто, и на этом война для тебя закончится. Сейчас ты находишься на спецучете. Как только немцы сюда подойдут, уйдешь на фронт».
Тем временем война подступала к нам все ближе и ближе. После того, как пал Смоленск, немцы взяли поворот и на Юхновское шоссе, дошли до поворота на Ельню, потом взяли город Рославль (Немцы вошли в город 3 августа 1941 года. - Примечание И.В.) В этих местах, которые я знал как свои пять пальцев, в то время шли ожесточенные бои. Первоначально они проходили около Соловьевы переправы (город Красный). Там наши дрались и держались два месяца. От нас близко находились города Спас-Демянск и Мосальск. Там тоже разворачивались осенние сражения. За это время я успел написать два заявления в военкомат. Но меня по-прежнему не призывали. Некоторые мои ровесники, которые попали на осенний призыв, в то время уже воевали. Но, как известно, в армии существует два призыва: весенний и осенний. Некоторые ребята 1923 года рождения, не достигшие совершеннолетия, но имевшие высшее образование, такому призыву принадлежали. Например, к такой категории относились будущие Маршалы Советского Союза Ахромеев и Язов (Тут Сергей Маркович немного ошибается: Д.Т.Язов попал на фронт лишь в 1942 году, - Примечание И.В.) Мы же, вторая смена, по всем законам должны были призываться в феврале месяце 1942 года. Поэтому в 1941 году нас в армию еще не брали.
Так получилось, что через какое-то время немцы стали к нам прорываться. Почему-то о боях за Юхнов в 1941-м году сейчас очень мало пишут. У меня, например, есть книга про бои в 1941-м году. Так там Юхнову уделено всего лишь четыре страницы. Причем, когда немцы взяли город, в Москве ничего об этом не знали. И Москва, конечно, была очень сильно обеспокоена этим вопросом: как это так получилось, что немецкие танки оказались в городе Юхнов? Они шли через Варшавское шоссе, через Спас-Демянск и Мосальск, который находился в 40 километрах от нас. Потом у нас прервалась связь с Мосальском. Оказалось, что немецкие танки уже вошли туда. Через какое-то время к нам в контору связи ворвался какой-то генерал. В то время в Красной Армии не было офицеров. Это понятие ввели лишь только в 1943 году, после введения в армии погон. А вот генералы уже были. Они носили на петлицах большие звезды. Вместе с генералом вошли еще несколько человек военных. Они развернули связь — поставили прибор ВЧ — и начали разговаривать с Москвой. Кому-то в Москве этот генерал, как сейчас помню, докладывал: «Не могу прикрыть город. Почему? Потому что не хватает сил и помощи. Если не будет помощи, город придется сдать без боя. Прошу помощи!»
Стоит отметить, что в то время в стране существовало такое правило: в случае войны каждое предприятие по сигналу гражданской обороны должно увести свои семьи, в первую очередь стариков и детей, в загородную зону. Таким образом, всех работников нашей организации начали вывозить. В конторе связи остался я один. Помню, перед тем, как уехать, директор конторы мне сказал: «Теперь ты будешь считаться как дежурный инженер». Я не удивился тому, что мне дали такое поручение. Ведь к тому времени я неплохо знал аппаратуру радиоузла связи. Мне выделили в помощь взвод солдат-связистов. Потом к нам присоединили еще нескольких человек. Так, из Ельни от немцев сбежал один старик-коммунист, а с ним — парень чуть поменьше меня. Нас в конторе стало работать пять человек. В то время управление связи фронта находилось в Гжатске. Мы знали об этом, так как в то время каким-то образом были с ним связаны. Туда позвонили наши военные связисты. Они говорили: «Разрешите нам эвакуироваться из города, потому что немцы уже вот-вот подойдут. Сейчас они находятся на подступах к городу». В ответ им прозвучало: «Чего поднимаете хай? Немцы от вас в 90 километрах. Не подымайте панику и прочие вещи».
Мы, конечно, понимали обстановку происходящего, так как выходили на линию связи, но сказать им так ничего и не могли. Такое было положение. А так, конечно, можно было бы сообщить: «Вам же передавали о том, что немец находится на ближних подступах и город, возможно, сдадут без боя». В то время командующим 33-й армией был Ефремов. Когда образовался вяземский котел, он застрелился. А причиной всему стала неразбериха. Сказать же всех этих вещей ни у кого из нас не было возможности. Почему? Потому что по ВЧ говорили зашифровано. Если бы я вмешался в разговор с открытым текстом, это явилось бы нарушением, выдачей государственной военной тайны. Одним словом, мы, работники конторы связи, промолчали.
Когда немцы взяли город Мосальск (город Мосальск был оккупирован немцами 6 октября 1941 года. - Примечание И.В.), наши военные послали туда машину связистов. К несчастью, она попала под огонь фашистов и все связисты погибли. После этого связисты стали спрашивать: «Кто теперь поведет нас на линию?» «Я поведу, - сказал я им, - а вы пока езжайте». Затем я позвонил директору. Говорю: «Нам сообщают, что немцы находятся на подступах к городу. Мы отправили в город машину связистов. Так оттуда вернулся только один живой. Все остальные попали под огонь немцев и были убиты. Нам точно известно, что они погибли. Разрешите покинуть город». Немного поколебавшись, директор сказал: «Ну хорошо, давайте покидайте город. Но перед этим уничтожьте то, что может быть использовано немцами. Выведете это из строя». Я его спросил: «А что выводить?» «Как это так, ты не знаешь, что и как? - завелся он. - Бери топор и руби направо и налево все вещи». Я списал хороший двойной коммутатор, который хорошо знал, снял с него две гарнитуры, дроссели и предохранители. Уничтожать не стал, было жалко. Также там были два аппарата механического типа, работавшие на азбуке морзе. Их мы положили в большой ящик и вместе с солдатами погрузили. Кроме того, у нас оставались радиолампа с радиоузла «Минск — Москва», 10-ваттный усилитель. Все это я разобрал. Тоже пожалел, не стал рубить. Еще, как сейчас помню, у нас стоял ртутный выпрямитель в виде трубы. На конце там была ртуть. Там шло преобразование из переменного в постоянный ток. Я его тоже пожалел. Подумал: «А вдруг вернемся назад? Ведь тогда придется пол снимать». Поэтому вместо уничтожения закопал его где-то за лесом. Какое-то время мы находились в блиндаже. В то время у нас каждая контора имела в качестве укрытия от воздушного противника свой блиндаж. Туда мы сносили все документы, которые представляли ценность для директора. Потом мы их положили в ящик и вместе с солдатами зарыли в саду, прикрыв листвой.
Уже на следующий день в 5 часов утра мы видели, как немецкие танки ворвались в наш город. Нас в то время собралось около 50-60 мужчин. Рядом с нами находилось футбольное поле. Мы через него поскакали в лес. В это время в этот район въехали на мотоциклах немецкие автоматчики. Потом немцы открыли пулеметный огонь. Начался грохот. Кругом все блестело от выстрелов. Такого страшного грохота, как в этот день, я еще не видел. Я тогда уходил как самый последний. Рядом со мной находился командир роты связи. Он отстреливался винтовкой. Как я понял, он отступал от фашистов с самой границы. Они постоянно перемешались. Какое-то время они вели бою под Брянском. Смотрю: он встает на колени и с ружья бьет в сторону огня немцев. Я еще тогда подумал: «Это как в таком грохоте еще можно воевать?» Потом я схватил у нашего убитого винтовку. Помню, на моем мундире с пуговицами висели значки связиста и «Ворошиловский стрелок». Поэтому с мелкокалиберки я нормально мог стрелять. И вот, прорываясь лесами вместе со своими товарищами, я поднял винтовку и начал с нее стрелять. Но я не знал, что она стоит на предохранителе. Ведь если винтовка стоит не предохранителе, ее нужно сначала тянуть от себя, а уж только потом повернуть куда следует. Смотрю: она не стреляет. Тогда я кое-как его отвернул и сделал несколько выстрелов по немцам. После этого у меня закончились патроны. «Господи, там же лежат убитые! - подумал я. - Можно у них найти патроны». Но потом пошел снова грохот.
Немцы стояли по другую сторону от шоссе. Рядом проходила река Угра, мост через которую они очень берегли. Наши солдаты заняли оборону на этом мосту (Оборону у моста на реке Угра держал сводный отряд десантников под командованием майора Старчака. - Примечание И.В.). Правее же него проходили наши провода. Связь нарушалась почти каждый день. Бывало, только натянешь через реку связь, как немецкая авиация нас бомбит и все опять нарушается. В то время у немцев было очень сильное превосходство в воздухе по сравнению с нами. Через какое-то время мы выскочили в лес и пошли по нему, пока, наконец, не нашли место нахождения нашего директора. К тому времени он вывез всех детей сотрудников. Он нам сказал: «Теперь мы будем считаться как партизаны!» А все дело в том, что во время войны существовал такой порядок. Прежде, чем покинуть город, должно состоятся заседание райкома партии, перед которым первый секретарь райкома уже заранее назначается командиром партизанского отряда, а местом явки объявляется первый узел обороны (???). Не так давно я перечитывал интересную книгу - «Москва — 1941-й». Так вот, там говорится о том, что только в одной Смоленской области в этот период действовало 200 партизанских отрядов.
Но я не захотел идти в партизанский отряд. Сказал: «Нет, я хочу смотреть в лицо немцам». Потом начали искать машину. Спрашивали: «Куда девали машину-полуторку?» Но со временем все прояснилось. С этой машиной получилась вот какая штука. Водителем этой машины, на которой к нам в контору связи привезли связистов, был боевой парень, участвовавший в Финской войне и имевший медаль «За отвагу». Когда началась вся эта неразбериха, он мне и говорит: «Сережка, тебе сейчас терять нечего, а у меня семья под Юхново находится. Там и все мои документы, и дети. Поедем туда на машине. Ты в кузове поедешь, а я ее поведу. Ты будешь оттуда смотреть окрестности: что да как». «Ну поедем», - сказал я.
Но как только стали подъезжать, то заметили, как несколько загруженных немецких машин спускаются к очередному кургану. Я стал стучать ему в кабину. Говорю: «Немцы!» Он развернулся. Потом спрашивает: «Куда теперь?» Я ему говорю: «Директор сказал, что машину нужно или вывести из строя, или оставить в надежном месте. Мы же не можем в партизанском отряде вместе с нею быть. Она и с воздуха, и с боком будет нас демаскировать. Вечером я со своим молодым товарищем, который все время был со мной, и с парой-тройкой солдат с оружием перейду эту Угру к своим и начнем воевать против немцев». «Ну хорошо!» - согласился он. После этого мы загнали машину в какой-то колхозный сарай. Водитель снял у машины шины, вывел из строя карбюратор, снял детали и положил все это в масляную сумку. «Ну что? - сказал он. - В сарае закапывать не будем, сделаем это под кустом. Если кто возвратиться живой, то будет знать, где лежит эта штука». Потом он сказал: я пошел выручать свою семью. «Ну возьми хоть винтовку!» - предложил я. «Тебе больше она пока потребуется, - отказался он. - Пока в партизанском отряде добудете, пока — то-се. У вас же там ни винтовок, ни чего такого нет».
Когда я прибыл на место, то узнал, что командиром отряда назначили бывшего начальника милиции, старичка из городского района, а комиссаром — редактора районной газеты. Наш директор тоже там оказался. Утром мы стояли от моста в трех-четырех километрах. Я же знал реку Угру как свои пять пальцев. Так как немцы пустили по ее берегу свои патрули, мы только ночью ее вплавь перешли. Сделали это в мелком месте. Там у нас проходила переправа. Едва мы переправились на другой берег, как нам встречается кавалерийский расчет наших военных с саблями, человек пять или шесть. Мы им говорим: «Так и так, скажите, где нам воевать и как?» Мы им все объяснили. Я тогда, честно говоря, не знал всех тонкостей военного обращения. Поэтому сказал им: «Я в лесу знаю каждую трубу до Юхнова. Ты скажи об этом своим командирам. И про то, что мы можем пройти по лесу, я проведу вас и вы подойдете к самому Юхново. Дальше мы отрежем дорогу, которая идет к посту. Танки у немцев под мостом. А пехота идем по четырех- пяти- километровой трассе. Там же у них стоят патрули». «Ну ты полководец! - сказал мне кавалерист. - Но я доложу об этом своему командиру».
Тем временем военные действия активизировались. С нашей стороны, на берегу реки Угры (берег был высоким), солдаты стали копать окопы. У моста шли бои. Мы приходим к своему командиру. Он нас спрашивает: «Копать землю можете?» Говорим: «Да, можем. Ведь я сколько столбов как связист здесь ставил. Так что через пятнадцать-двадцать минут я тебе здесь сделаю окоп». «А винтовку знаешь?» - спрашивает он меня. Говорю: «Да держал в руках, научусь». Он на кого-то мне указал: «Твой старший». И вот мы начали действовать в составе отряда.
Немцы в то время очень стремительно шли вперед. Ведь под Москвой у нас стояли и надолбы, и противотанковые рвы. Но они все равно шли. Все это было связано с тем, что ихняя армия была нацелена на очень быстрое продвижение. В этом деле они поднабрались кое-какого опыта. Ведь до этого гитлеровская армия два года воевала во Франции. Так что она имела очень хороший опыт по организации быстрого продвижения войск. И поэтому, когда их мотоциклисты подъехали к мосту, для того, чтобы проверить, не заминирован ли он, дали по нему ряд очередей. Подошла пехота. Затем они начали форсировать реку. Мы заняли оборону. Потом мы заметили, что в пять-шести километрах от нас они стали сравнивать артиллерией противотанковый ров. Через какое-то время они поставили тралы в окопы и этим самым создавать танковый клин. Начались мелкие окружения наших войск. Но знаете, чем такие окружения были неприятны? Когда мы в них попадали, у нас оказывалось по тридцать, по шестьдесят патронов. Когда нам их выдавали, говорили: «Потом еще подвезем!» А подвозки так никто и не делал. Таким образом, мы попадали в окружение такого, я бы сказал, легкого типа. Ведь как у нас получилось с тем самым мостом? На перекрестке, недалеко от моста, стоят наши военные. Потом появляются еще какие-то люди. Подходит командир и спрашивает: «Кто умеет владеть оружием и хочет сражаться с немцами?» А уже потом дает приказания: военные — встать к такому-то дереву, другие — к такому. Мы получаем патроны. Этот же командир ставит перед нами задачу: «Мы должны на этом мосту на речке задержать немцев. Хотя бы на пару часов. Через несколько часов они сюда подойдут. Сделаем все для обороны». Через какое-то время они действительно сюда подходят. И так получается, что мы оказываемся в окружении. Патронов нам никто не доставляет. У нас на позициях находится около ста человек. А ночью появляются танки. Чтобы выйти из этого окружения, мы должны прорвать имеющимися у нас силами оборону немцев и мелкими группами преодолеть расстояние, оказаться по карте (местные-то ее хорошо знали) определенного населенного пункта: будь то Сухиничи, или Подольск, или еще какой-нибудь город. Перед этим получаем команду: «Там-то, на южной окраине, все вместе собираемся». И расстреляв в ночной тьме патроны, мы пробиваемся и идем на следующий рубеж, потом снова, снова... И так у нас продолжалось до самой Москвы.
Конечно, когда мы отступали от Юхново до Москвы по Центральной Смоленской дороге, а это расстояние составляло 240 километров, мы не знали о том, что взятие нашего города (Юхнова) означало окружение наших основных сил в так называемом вяземском котле. Именно из-за этого «котла», как оказалось, тогда разгорелась жестокая битва. Что я могу сказать о своем пути до Москвы? Во-первых, прежде всего меня удивляло огромное количество беженцев, которые встречались нам на дороге. Во-вторых, все дороги оказались забиты. Ведь многие наши предприятия оборонного значения вывозили станки и оборудование. Все это потом грузилось на открытые платформы и увозилось на Волгу и на Урал. Скот тоже гнали в эвакуацию по этой дороге и потом распределяли по колхозам. Также ехали отдельные повозки со старушками и ребятишками. Короче говоря, все шоссе было забито. Бывало, посмотришь на все это и со слезами на глазах подумаешь: «Господи, найти бы какой курган, встать против немцев насмерть и умереть, не думая о себе». Настолько мне было тогда стыдно перед людьми за свое отступление. Несколько раз мы занимали оборону, попадая в окружении...
В Москву мы прибыли 16-го октября 1941-го года. Помню, когда мы вошли в Подольск, нам объявили о том, что немцы находятся на ближних подступах к Москве. В это время в городе началась самая настоящая паника. Город кинулся к автобусам и поездам. Со своим товарищем мы нашли наркомат связи и с оружием в руках туда вошли. В здание наркомата это время пришел какой-то мужчина. Я ему обо всем рассказал. Говорю: «Сами мы связисты, идем с города Юхново. Куда нам дальше двигаться? Нам нужно направление. Идет война, а мы даже еще не зачислены в воинскую часть». «Ну хорошо! - ответил он. - Утром мы во всем разберемся. Думаю, что, пожалуй, мы вас на Коломну пошлем». А Коломна находится южнее от Москвы, ближе к городу Туле. «А где можно нам тогда переночевать? - спросили мы его. - Все-таки на улице холодно». «Здесь рядом стоит многоэтажная гостиница, - сказал он нам. - Там никого сейчас нет, потому что все москвичи, как начинается ночь, спускаются в метро. Вот вам талончики (и он тут же нам их вручил). А теперь сдайте оружие. Ведь с оружием вас туда не пустят. Утром придете сюда, получите направление на эту Коломну и поедете». Мы сдали оружие. Когда пришли в гостиницу, нам выдали матрасики, набитые соломой, носилки, и распределили по разным отделам. Оказалось, что в гостинице работает все как на предприятии: каждый свое место имеет.
Переночевали мы благополучно. Утром просыпаемся: город кипит. Москва объявляется на осадном положении. Мы идем в наркомат обороны за направлением в Коломну. Когда мы туда пришли, тот человек, который вчера там был, начал куда-то звонить. Через какое-то время он нам объявляет: «Слушайте, туда уже нет проезда. Немцы находятся на берегах такой-то реки, захватили мост, так что проехать туда у вас нет никакой возможности. Давайте мы отправим вас на Удмуртию». После этого мы получили направление в управление связи Удмуртской АССР и покинули здание наркомата связи.
И.В. Какая в то время в Москве была обстановка?
С.М. Тогда там творилась полная неразбериха, Но к вечеру 16-17 числа обстановка более-менее утихомирилось. Город перешел на осадное положение. А перед этим происходили ужасные вещи. Некоторые директора предприятий, используя служебную машину (от городского предприятия), грузили на нее свой скарб с ребятишками и выезжали. Их потом судили. Потом пошел слух: «Сталин остается в Москве. Отсюда он решил никуда не деваться». После этого всех тех, кто бросил свои заводы или позволил грабить, скажем, магазины, стали судить не просто, а по закону военного положения. Их ставили к стенке и расстреливали. Потом наступила тишина.
Через какое-то время мы сели на поезд, который оказался забит до завязки, и поехали до города Ногинска (есть такой город за Москвой). Ехали мы на крыше. Была холодища. Мальчики, не мальчики, а все ехали вместе. Так мы доехали до города Горького. Когда вошли в город, первым делом нашли свое управление связи. Там нас посадили на баржу и по реке Волге, с которой в каком-то месте соединяется река Ока, поплыли дальше. Через двое суток мы оказались в Казани. Когда мы туда зашли, с нас сняли всю одежду. Начали проводить дезинфекцию. Помню, там нам выдавали какие-то банки и бирки, на которых было написано, что прошел обеззараживание от вшей и прочих паразитов. Потом нас сводили в открытую баню. Мы в ней помылись. Уже оттуда нас пересадили на поезд, идущий на Ижевск. В Ижевске мы появились в ноябре 1941 года. Там меня назначают линейным связистом в районной конторе связи в селе Селты. Прихожу на место: столбы сломаны, телефоны не работают. Кругом — лесоразработки. Хаты на Урале были большие. В одном доме жило по несколько семей. Мне дали полушубок, я сел на только что выделенного мне коня и пошел восстанавливать эти столбы. Мы их вдвоем со своим товарищем поднимали и зарывали, натягивали на них провода, ставили блоками изоляторы. Потом шли дальше выполнять свою работу. Короче говоря, нам пришлось все приводить в полный порядок.
Через какое-то время я заявляюсь в местный военкомат и говорю: «Я приехал сюда не для того, чтобы натягивать провода. Я должен воевать на фронте». После этого меня посылают на станцию Чайковская, которая была расположена где-то на Урале, около города Молотова, на формирование 7-го отдельного Уральского батальона связи. Там мы появились опять же с этим парнишкой — с моим товарищем. Как сейчас помню, нас встретил старшина, кавалерист. Этот бедняга потом погиб где-то на Волховском фронте в рукопашном бою.
Постепенно мы начали привыкать к военной службе. Мы, например, стали носить обмотки. Хорошая, скажу я вам, это была вещь, лучше чем валенки и прочее. Ведь с валенками получалось что? Когда ты в них проползаешь, в голенища попадает вода. Потом она тает. И если ночью наступает мороз, ноги в этой холодной воде вскоре покрываются льдом. И с кирзовым ботинком со шнурками тоже были связаны определенные неудобства. Что из себя представляла такая обмотка? Это была длинная на метр восемьдесят лента, которой ногу скручивали сверху донизу. При ее закручивании еще нужно было, помню, делать кое-какие повороты.
Формирование наше проходило на станции Чайковская. Оно что-то очень быстро закончилось. Помню, нам тогда показали правила рукопашного боя: как колоть врага коротким штыком, длинным штыком, как бить его прикладом. Этому делу нас обучал старшина-кавалерист, который потом погиб. Через несколько недель нас погрузили на машины и повезли. Мы думали, что нас отправляют на Москву. Но в то время необходимость в этом отпала: уже в декабре месяце 1941 года было проведено знаменитое контрнаступление наших войск под Москвой. Потом я заметил, что нас стали за Вологдой поворачивать на Рыбинск. В итоге нас 21-го числа нас привезли в город Тихвин, который был только что освобожден от немцев (город освободили 9 декабря 1941 года, - Примечание И.В.) Когда мы приехали в город, он еще продолжал гореть. Потом наш батальон почти весь погиб. С нами прибыли молодые командиры, которые только что выпустились из училища. Помню, когда с эшелоном мы только что с Урала прибыли, мимо нас пролетал немецкий самолет-разведчик. Его на фронте называли «Рама». Наши зенитные орудия стали по нему бить. Наш командир, как только его увидел, приказал: «Не курить, не выходить и прочее!» Я к нему тогда подошел и сказал: «Не беспокойтесь, этот самолет не бомбит. Он только изучает местность. Если подошел какой-то эшелон, он его засекает, сообщает кому надо, а уже потом у немцев по нашему объекту или бьет артиллерия, или же прилетают бомбить настоящие самолеты». «Откуда ты это все знаешь?» - поинтересовался командир. Я ему сказал: «Я еще под Смоленском видел и немецкие танки и самолеты». «Ты, молодой, будешь у меня консультантом», - сказал он мне. Я согласился: «Ну хорошо!»
От Тихвина мы переместились на Волховстрой, в те места, где когда-то была построена первая электростанция, она называлась Каширская (Каширская ГРЭС была пущена в эксплуатацию 4 июня 1922 года. Его строительство велось под личным контролем В.И.Ленина. - Примечание И.В.) Там я во второй раз принимал военную присягу. А присягу мы принимали таким образом. Командир вручает тебе бумагу с текстом присяги, ты его подписываешь. А перед этим командир его зачитывает, а мы все его повторяем. Помню, там были такие слова: «Я, гражданин Советского Союза, принимаю оружие и иду в бой». Но я точно слов присяги сейчас, увы, не помню.
Бои на Волховском фронте стали для нас, конечно, очень тяжелым испытанием. Мне пришлось пройти путь от Тихвина через Малую Вишеру до Октябрьской железной дороги. Причем воевал я связистом (им я пробыл всю войну). По должности я был старший линейный надсмотрщик. Что это означало? Ты не спишь ни днем, ни ночью. Если где-то немцы бьют, ты туда ползешь исправлять связь. А ведь связать полевой кабель во время боя оказывалось не так-то просто. Короче говоря, на фронте с нами, связистами, получалась такая вещь, что когда начинается бой, ты вместе с другими солдатами наступаешь на немцев или обороняешься от них. Если в это время где-то рвется связь, ты выскакиваешь со своей позиции и бежишь ее налаживать. И, между прочим, как связист ты не имеешь права туда не бежать.
Если говорить о местах, через которые проходил наш путь, то воевали мы под Малой Вишерой и в районе Чудово. Там, помню, мы отбивали атаки немцев, которые пытались двигаться по Октябрьской железной дороге на юг. Потом нас перебросили в район других населенных пунктов. А там же — леса. Как говорят, окопов не выроешь, не окопаешься. Даже могилу не могли как следует сделать. Я уже тебе говорил (ничего, что я на-ты?), что в этих боях почти весь наш батальон погиб. И знаешь, о чем бы мне хотелось еще сказать? Я не помню такого, чтобы за время войны мы бы где-то хоронили в гробах своих товарищей-фронтовиков. Да и хоронили, бывало, как придется. Вот, скажем, бежишь ты по нитке налаживать оборвавшуюся связь. Смотришь — лежит один солдат, потом — другой. Иногда оказывается, что он, может быть, даже твой знакомый. Едва ты его коснулся, как уже, не трогая сонную артерию, ты уже чувствуешь, что он убит. Так ты не имеешь права как-то его подхватить и увести в какой-нибудь тыл. Ты только звонишь по телефону и говоришь: «В таком-то месте лежит убитый». Если те, кому ты об этом сообщил, пришлют связистов, они, может быть, его заберут. А когда ты отступаешь от немцев, тебе, как говориться, становится не до этого.
Вот и получалось, что многие из них пропадали без вести. И пока не придут документы, подтверждающие, что этот человек погиб, он будет считаться пропавшим без вести. Сколько раз у нас проходили, к примеру, такие случаи! За ночь нас выходит из окружения сто человек, а двадцати солдат не хватает. Куда они девались, никто не знает. А немцы каждое утро сбрасывали на нас с самолетов свои листовки. Что такая листовка из себя представляла? На ней было написано, чтобы мы сдавались к ним в плен. Там говорилось: «Ваше сопротивление бесполезно. У вас есть несколько путей выхода из войны». Далее шло перечисление способов выхода из войны. Их было несколько. Первый, по их мнению, состоял в том, чтобы взять эту листовку и показать любому немецкому солдату. «В этом случае, - писали они, - вы бросаете свое оружие и можете разойтись по домам». Но больше всего меня удивил последний способ. Там было написано: «Возьми кусок хлеба, посыпь его свинцом и еще какой-то приправой (я сейчас точно не помню, что там было написано), пожуй. Потом свяжи в тряпочку, положи себе в низ под пах. Через два дня от этого у тебя возникнет большой нарыв. Ты попадешь в госпиталь и отлежишься в нем два-три месяца. Тебе будут исправлять этот нарыв». Все эти способы были у нас вполне доступны. Но я не помню, чтобы у нас люди попадали в плен.
Помнится, нам наш командир роты по этому поводу говорил так: «Связист не имеет пава сдаваться к немцам в плен». Почему он так говорил? На фронте в любой армии считалось большой заслугой взять в качестве «языка» пленного связиста. Он чуть ли не приравнивался к командиру. Ведь если ты возьмешь в плен обыкновенного пехотинца, он ничего тебе не скажет. Что он знает? Он знает только свою винтовку, знает своего командира и знает название своей воинской части. Больше — ничего. Связист же знает многое: и узлы связи, которые он тянет, и кодирование командиров.
И.В. Расскажите про кодирование.
С.М. Кодирование проходило очень просто. Скажем, если ты налаживаешь по телефону связь какому-нибудь генералу, то не говоришь ему всего прямым текстом. Ты ему сообщаешь: «Первый говорит!» А когда тот переговаривается со своим командованием, то тоже говорит примерно в таком ключе: первый говорит, второй говорит, третий говорит. Далее они сообщаются по карте. У них даже существовала специальная шифровальная таблица, в которых особыми словами обозначались патроны, убитые и прочее. Все проходило под цифрами-кодировками. Кроме того, существовала специальная километровка карты. Допустим, было написано: икс по высоте два ноль четыре. Это означало, что через каждый километр к этому номеру прибавлялось что-то дополнительное. Так обозначался по карте путь. Эта кодировка считалась очень сложным делом. И поэтому о плене нам командир роты говорил: «А раз ты так много знаешь, то если немцы подступают, должен или застрелиться, использовать последний патрон, или до последнего обороняться. Потому что если ты попадешь к немцам в плен, они сначала тебе на кулак намотают твои кишки и все равно будут тебя пытать. А потом все равно повесят или расстреляют».
Так как бои были очень тяжелые, а выбора никакого не оставалось, почти весь наш батальон погиб. Но прежде, чем погибнуть, мы сделали прорыв. В страшно тяжелой обстановке мы шли через окопы по немецким тылам на Любань. Была середина мая. И в это время командующий нашей 2-й Ударной армией генерал Власов сдался в плен. Это произошло, если мне не изменяет память, 16-го мая 1942-го года.
И.В. А какие разговоры в то время шли о Власове?
С.М. Знаешь, мы говорили об этом, но не много. Это уже после, когда произошло его предательство, разговоров стало больше. Дело в том, что он мало времени, всего несколько месяцев, нашей 2-й Ударной армией командовал. До него ею командовали Соколов и Клыков. Потом или Соколова, или Клыкова тяжело ранило, его отправили в тыл, а вместо него на это место со штаба прислали командующим Власова. За это время он еще у нас хорошенько не вписался, всего несколько месяцев в этой должности пробыл. Потом мы выходили из окружения, проходили через такие места, как Бор и Кириши. Я до сих пор помню эти названия. Были мы приданы как раз 2-й Ударной армии. И вот, когда мы выбирались из окружения и наши вышли оттуда и вытащили свои знамена, он сдался в плен. Но сдался он не со своей армией, как некоторые говорят и пишут, а один, в сопровождении двух своих автоматчиков. Это потом уже об этом мы узнали. Дело в том, что когда я попал потом в госпиталь, то встретил ребят, на глазах которых эта сдача в плен происходила. Как все это было на самом деле, не знаю. В общем, как они рассказывали, он был ранен. В таком состоянии он вышел не то из блиндажа, не то — из сарая, прямо к немцам и сказал: «Я, генерал Советской Армии, сдаюсь в плен. Доложите об этом старшему командиру». Рядом с ним находились автоматчики. Они не знали и не догадывались о том, что он сдается в плен. А как узнали, стали в него стрелять, но оба были убиты немцами. Об этом мне поведал выживший человек. Как он спасся, я не знаю. Одним словом, его подобрали на поле боя. Но в то время обстановка на фронте создалась такая, что мы мало знали своих командиров. Я, например, знал только своего командира батальона, а кто там выше командовал, мне было уже неизвестно. И еще он рассказал про то, что с Власовым находилась его ППЖ (походно-полевая жена). Когда все это случилось, она пала перед ним на колени. Власов приказал ее расстрелять. Так что к немцам Власов попался один. Это потом уже эту историю перевернули с ног на голову.
Короче говоря, 2-я Ударная армия не пропала, не исчезла и не сдалась полностью к немцам в плен. Правда, две трети ее погибло. Я запомнил день сдачи в плен Власова потому, что тогда мы как раз выходили с окружения. Когда шли эти бои, мы считали каждый километр. Бывало, наши сбрасывали нам на парашютах по кружке муки. В ней был также рецепт, какую траву туда можно добавить и прочее. Еще нам сбрасывали конские шкуры. В условиях фронта мы, помню, часть натягивали на каски, часть ели. Вообще на Волховском фронте, скажу я тебе, шли очень тяжелые бои. Нам все время не хватало патронов. Мы были оторваны от основного фронта.
За время боев на Волховском фронте мне пришлось пройти через многие испытания. Я даже участвовал в рукопашном штыковом бою. Если интересно, я могу тебе описать этот бой. Это происходило на берегу реки Волхов. Немцы находились на другой ее стороне. Нас и немцев разделял лед реки. И вдруг гитлеровцы решили нас выбить со своих позиций и бросились на наши окопы. Разгорелся страшный бой. Так как у нас было очень мало патронов и их не хватало, дело перешло в рукопашный бой. А что такое рукопашный бой? В таком бою человек звереет. У него от ярости даже на губах появляется пена. Глаза расширены. Тебя в такой обстановке волнует только одно: лишь бы дотянуться до чужого мундира, чтобы начать его убивать. В этом деле нам очень пригодились занятия у старшины, который, кстати говоря, и был убит во время штыкового боя. Я и сейчас с благодарностью его вспоминаю, как он нам подавал команды: длинным коли, коротким коли. По сути дела, этот старшина стал нашим главным руководителем в самом начале службы. Когда объявлялся подъем, он заставлял нас обтираться до голого пояса снегом. Это стало для всех нас большой закалкой. Из-за этого мы на фронте, как правило, не болели. Единственными нашими болезнями являлись ранение или контузия. Впрочем, кое-какие гражданские болезни нас задевали. В основном встречались простудные заболевания. Бывает, замотаешь себе ноги. Ночь ночуешь на бруствере, сделанном из брусьев. Если, не дай Бог, ноги твои окажутся мокрыми, вскоре после этого ты обязательно простынешь и у тебя заболит горло. А утром нужно подыматься и идти в бой. Так ты от этого не имеешь никакого права отказываться. Свою болезнь стараешься не афишировать. Подойдешь к старшине, скажешь: «Голова что-то болит, места себе не нахожу». Старшина даст тебе сто грамм и этим немного подлечит.
Сейчас много говорят о фронтовых «сто грамм». Может быть, в бумагах это все и было расписано, но лично я этих сто грамм на фронте почти и не видел. Короче говоря, очень редко мы получали спирт. До нас он не доходил. Его нам почему-то выдавали только в исключительных случаях. И когда нам нужно было идти в бой, его у нас даже убирали. Другое дело, когда ты простыл или заболел чем-нибудь. Тогда старшина давал тебе несколько пилюль и еще что-нибудь горячительного. Пока в блиндаже выпьешь все это и пролежишь до утра, болезнь у тебя пройдет. А уже утром идешь в наступление. Со своими сто граммами ты там, как говориться, не останешься. И если ты идешь со всеми, то никакой речи не может идти о том, чтобы идти в тыл в какую-нибудь поликлинику и так далее. Если ты уйдешь с переднего края, кто тебе поверит, что ты не переходишь на сторону немцев? Поэтому если от бессилия боец падал, его подбирали. Хочу сказать, что на этот случай у каждого из наших солдат помимо документов, таких, как солдатская книжка и комсомольский билет, были специальные в виде железной или деревянной трубочки медальоны, в которых хранилась информация на свернутой бумажке о том, какие у тебя фамилия, имя и отчество, место рождения, а также адрес твоих ближайших родственников. И если солдата убивало на войне, на адрес ближайших родственников выписывалась похоронка. Выписывал такую похоронку, как правило, старшина, а командир подразделения только ставил роспись и отправлял ее по указанному адресу. Но со мной получилась такая вещь, что у меня никого не было из ближайших родственников. И поэтому в похоронке я записал следующее: детский дом имени Н.К.Крупской, город Гжатск. Я тогда, конечно, ничего не знал о том, что директор детского дома Михаил Михайлович Дикин в 1941-м году прямо из под носу у немцев увез 50-60 своих ребятишек. Фактически он их спас...
Говоря о боях на Волховском фронте, я хотел бы сказать, что тогда же, весной 1942 года, меня ранило и я попал на какое-то время в госпиталь.
И.В. Как это получилось?
С.М. А меня минометным огнем прямо ударило в переносицу. Кроме того, сделало изгиб в голове. Ссадина от этого ранения у меня до сих пор сохранилась. Смотри (показывает). Но самое главное, что в результате этого ранения мне заслепило и залило кровью глаз. Я потерял сознание. И поэтому, когда мы с боем из этого окружения вырывались, меня мои товарищи вынесли на плащ-палатке. Потом посадили на какую-то дрезину и повезли по одноколейной дороге. Поезда в то время не ходили. В вагоне меня повезли по Октябрьской железной дороге. Когда мы доехали до города Акуловка, то положили в местный госпиталь. Он оказался большим. Рядом с ним с одной стороны действовал Калининский фронт, с другой — Северо-Западный, Волховский фронты. Сначала мы размещались в вагонах бывшего пассажирского поезда, а потом нас перенесли в другое место. Два месяца я лежал с залитым кровью глазом.
Но почему я запомнил эту Акуловку? Дело в том, что здесь меня в первый раз в жизни поцеловала девушка, которая работала санитаркой и делала нам, раненым, перевязки. Получилось это так. Долгое время я не видел света и лежал, завязанный бинтами (была перебинтована голова). Нам, раненым, подавали по нескольку ложечек спирта, который разводили на воде. Все это считалось как бы дополнительным питанием. Ведь мы из окружения вышли голодными, опухшими и в кровище. Когда же, находясь в оборудованном под палату вагоне я пришел в себя и увидел свет, то рассмотрел эту санитарку Лену. Я ей сказал: «Леночка, какая ж ты красивая! А я тебя раньше не видел. Только твои тепленькие ручки чувствовал, когда ты мне делала перевязку». Тогда она бах — и поцеловала меня. И сделала это она только за то, что я назвал ее красивой. Потом меня переместили из этого вагона в барак. Ко мне подошла это Леночка и говорит: «Сережка, ты мне письмо напишешь, раз назвал красивая?» Она, видимо, мои слова по-своему восприняла. А я просто так ей сказал: мне понравилось то, что она такой заботой окружает раненых. Я ей сказал: «Я тебе напишу письмо. Но, во-первых, я не знаю твоей фамилии, а во-вторых — не знаю твоего адреса».
А дело в том, что на фронте никакие названия частей не употреблялись. Только в приказах. А так обычно указывался либо номер полевой почты, либо — номер воинской части. В письмах, которые шли вне фронта, нам запрещалось упоминать о том, на каком фронте мы воюем. Просто сообщали номер полевой почты. Уже потом, находясь за границей, мы не могли в своих письмах сообщать о том, в какой стране находимся. Все это считалось секретными данными. Она мне сообщила свои имя и фамилию и номер полевой почты. Из барака я послал ей два письма. Но не получил ни ответа, ни привета. Уже потом, когда я выписывался из госпиталя, сидел на улице с одним майором. Нам налили по тарелке борща. Этот майор тогда не считался офицером (это понятие, как я уже говорил, ввели в 1943 году вместе с погонами). Он носил в петлицах две шпалы. Мы с ним тогда, помню, что-то разговорились. Я его спросил: «Ты не знаешь, куда делся эшелон с ранеными, который размещался в вагоне? Он здесь стоял». И рассказал об этой девушке Леночке. «А ты разве не знаешь? - удивился этот майор. - Вам ничего не сказали? Они поехали в сторону Малой Вишеры на фронт за новыми ранеными. И от этого эшелона остались одни колеса. Немецкая авиация на них налетела. Она, наверное, там погибла, твоя девушка, которой ты пишешь письма. А куда ты пойдешь?» Я сказал: «Как куда? Буду искать свой батальон». «А где же ты его найдешь?» - поинтересовался он у меня. «Да здесь, - говорю, - подскажут, в какую сторону двигаться и где его искать (Акуловка находилась южнее по Октябьской железной дороге от него). А вообще скажу тебе так: куда Родина прикажет, туда и поеду». Так у нас в то время было принято.
В госпитале я пролежал где-то полмесяца. Он был буквально переполнен ранеными, которые прибывали туда с самых разных фронтов. Но документально подтвердить свое нахождение в госпитале мне так и не удалось. Помню, когда я занимался этим вопросом, описал свое лечение там подробнейшим образом и даже указал фамилию лечившего врача. Но так ничего и не получилось. Из архива мне написали, что документы из этого госпиталя попали к ним не полностью, погибли и прочее. Конечно, пока мы проходили лечение, все время интересовались положением дел на фронте. Помню, мы друг другу задавали такие вопросы: «Почему немцы быстрее нас стреляют (быстрее успевают сделать выстрел)?» «Почему немцы избегают штыкового боя?» Все эти вопросы очень сильно нас волновали, поскольку мы до этого испытали, что называется, на себе бесконечные схватки с немцами. Мы не могли понять, что у нас на фронте происходит. Ведь получалось так, что то мы наступали, то, напротив, они это делали. Все это, кстати говоря, продолжалось вплоть до прорыва блокады Ленинграда. Но находились среди нас люди, которые давали ответ на такие вопросы: «Немец потому быстрее стреляет, что он обучен стрельбе с пояса. Они, видно, специальные упражнения по стрельбе проходят. Он когда стреляет, поворачивает затвор автомата с левой стороны, оттягивает и бьет в упор по цели, не целясь. Нам же для того, чтобы выстрелить, нужно сначала этот карабин или винтовку потянуть на себя, потом перебросить в левую руку, потом открыть затвор, заслать патрон, перебросить на правую руку и только после всего этого стрелять. Разница в секундах тут большая». По поводу же рукопашного боя нам объяснил все военный хирург, который нас лечил. «Когда ты бьешь противника штыком, - говорил он, - ты же его не насквозь его прокалываешь и делаешь это на каком-то расстоянии. У немецкого штыка рана кинжальная». Кстати говоря, нам, связистам, выдавался кинжальный штык. Но он был нужен не для того, чтобы бить им немцев. Ведь без винтовки человеку им пробить нелегко. Особенно если на нем куртка и прочее обмундирование. Легче отбиваться острием лопаты. А от немецкого штыка, как говорил нам этот хирург, получалась такая рана, что ты наложил на нее четыре шва и кровь уже больше не идет. У нас же штык был таким, что если ты им нанес рану, то сразу кровь не остановишь. Если попадешь, так попадешь.
Вылечившись в госпитале после ранения, я в мае 1942 года нашел свой батальон. Мы снова пошли в бой. Участвовали в прорыве блокады Ленинграда — проводилась известная операция «Искра». Это происходило уже в феврале 1943-го года. До этого мне пришлось воевать в разных местах. Участвовал то в обороне, то — в наступлении. А потом я из своей части выбыл и попал в 53-ю отдельную кабельно-шестовую роту. В ее составе я уже воевал до самого окончания Великой Отечественной войны.
И.В. Вы помните выход приказа Сталина № 227 «Ни шагу назад». Как у вас на него прореагировали?
С.М. Я выход этого приказа помню очень хорошо. Это было вскоре после того, как я вышел из госпиталя и вернулся в свой батальон. Мы на этот приказ отреагировали очень положительно. И представьте себе, когда он вышел и мы прочитали его текст, то совершенно не обратили внимание на строчки, в которых сообщалось о создании штрафных батальонов, рот и заградительных отрядов. Это нас как будто бы даже не касалось. Но мы очень серьезно восприняли этот приказ, поняли, что он означает. Это происходило в тот трудный период, когда немцы находились под Мурманском, а также еще под Москвой и в Смоленске. Противник рвался на Волгу, на Сталинград и на Кавказ. В этой тяжелой ситуации и было сказано: ни шагу назад! Мы поняли, что проявили определенную слабость, сдавая врагу второй раз Ростов и Новочеркасск, и стали принимать кое-какие меры. Нам, конечно, необходимо было принимать этот приказ. Также там говорилось о том, чтобы создавать по два штрафных батальона на каждую армию.
К сожалению, сегодня дают совершенно неверную информацию о штрафных частях в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего я имею в виду известный фильм Николая Досталя «Штрафбат». Там наши такие, я бы сказал, «закопченные» солдаты в перерыве между боями говорят не столько о войне, сколько о своей ненависти к советской власти, о том, что их ни за что ни про что сажали в ГУЛАГи. На самом деле ничего подобного не было. В штрафные батальоны попадали разжалованные офицеры, которые проявили трусость и прочее. Кроме того, помимо штрафных батальонов существовали еще и штрафные роты. И теми, и другими подразделениями командовали кадровые офицеры. Кстати говоря, однажды я, к своему удивлению, узнал, что если нам, фронтовикам, засчитывают год за три, то штрафникам — месяц за шесть месяцев. Причем это касалось не только самих штрафников, но и их командиров, кадровых военных, которые сами штрафниками не являлись. Так, например, у меня был товарищ Миронов, который в прошлом командовал отдельным штрафным батальоном. Так вот, от него я узнал, что им засчитывают стаж один к шести. Причем наказания штрафникам давали не на все время войны, а на определенный срок. Скажем, на три месяца. Если ты попадал в какие-нибудь тяжелые бои, то после того, как заканчивалась операция, с тебя снимали судимость и из штрафбата направляли в общий строй. Если получал ранение, тебя тем более освобождали.
Что же касается до заградотрядов, то в то время мы вообще не знали, что это такое. В этом, впрочем, нет ничего удивительного. Охрана всегда была нужна. Ведь охраняли даже госпиталь в тылу. Во время войны существовало такие правило. Если солдат получал ранение, он шел в госпиталь или санбат обязательно с оружием в руках. Если же он болтался без оружия, то для этого существовали заградотряды. Они сразу задерживали таких без толку болтавшихся людей и сразу определяли, откуда и с какой целью человек в таком-то направлении идет. Если это был лазутчик, это сразу же обнаруживалось. А к нам, связистам, вообще выдвигались на фронте повышенные требования. Командир дивизии нам однажды сказал: «Потеря связи — это потеря управления войсками». Именно поэтому, когда началась война, мы держали связь по высокочастотной рации, то есть, через шифрование. Ведь если ты передаешь все, что угодно, открытым текстом в эфире, немцы сразу определял частоту, на которой ты работаешь. Часто они нас глушили. Дело доходило до того, что сидящий в танке командир машины не мог связаться с другим танком. Приходилось крутить рукоятку вариометра и искать нужную частоту. Но все со временем меняется. В современных танках, я знаю, теперь уж все работает совсем по-другому. Там у тебя есть специальные наушники. Тебе достаточно нажать на кнопку, как вдруг автоматически осуществляется переход на совсем другую частоту. Тогда ничего этого не было. Важное значение имела связь и для разведки. Без связи никакой разведки не могло быть. Именно поэтому во время войны отдельные роты связи вместе с отдельными разведывательными ротами составляли отчасти резерв Верховного Главнокомандования.
И.В. Расскажите о вашем участии в прорыве блокады Ленинграда. Что запомнилось?
С.М. Хорошо. Я этот период хорошо помню. Это было в районе таких населенных пунктов, как Синявино и Мга. Рядом находилась Ладога. Проводилась известная операция «Искра». Наш Волховский фронт шел навстречу Ленинградскому фронту, который проходил в 8-10 километрах от нас. Мы начали наступление, чтобы прорвать фронт. Что мне во время этого прорыва запомнилось? Прежде всего меня удивило то обстоятельство, что начавшаяся перед этим артподготовка длилась два часа пятьдесят минут. Помню, когда все это началось, я стал спрашивать у своего командира: «А что это так много орудий стреляет?» «А ты знаешь, - ответил он мне, - здесь почти два года у немцев стояла долговременная оборона. Сейчас кругом лежит снег. А знаешь, сколько под ним лежит, понимаешь ли, противотанковых мин и обыкновенных мин? Перед боем выходят саперы, их разрезают, делают проходы для танков, снимают взрыватели. А противопехотные мины — они же не разминируются». Как я понял, по этой причине и проводилась артиллерийская подготовка. Стрельба шла со всех видов орудий. Где-то в середине войны проблемы с этим мы уже не испытывали, так как к тому времени у нас уже было много авиации и артиллерии. Хотелось бы также отметить, что когда мы участвовали в больших атаках, старались придерживаться танка и идти вслед за ним. Почему? Потому что идя по минному полю, на котором кругом были напиханы легкие мины, он подрывал их своими гусеницами. Из-за этого нас все время преследовали эти страшные звуки: бах, пах. Короче говоря, во время атаки мы старались идти по следам от гусеницы танка или прямо за танком. Даже если ты отставал, все равно старался бежать по этому пути. Дышать от этого становилось просто невозможно. А танк все равно идет тебя быстрее. Такой прорыв шел у нас почти неделю. Мы проходили через торфяные разработки, через какие-то рабочие городки с домами кирпичного цвета. Бывает, километра два пройдем, как нас прижимает немец. Мы ложимся и ночуем прямо на снегу. Почему мы это делали? Потому что ночью, как говориться, вперед не пройдешь: кругом — колючая проволока. А утром смотришь: везде перерытая земля. Тогда мы подымаемся и идем вперед.
Через какое-то время мы встретились с Ленинградским фронтом. Первыми нам попались одетые в белые, довольно старенькие и потрепанные маскхалаты моряки. Как сейчас помню, навстречу мне вышел какой-то молодой моряк. Я около него остановился. Мы закурили. Он вытащил сигарету. А в то время такие, как у него, слабые сигареты курили только немцы. А мы носили с собой в мешках настоящий сибирский табак, он назывался — Бийский. Помню, я ему тогда отдал кисет с настоящим бийским табаком. Он ему понравился. Так мы делали прорыв фронта. Когда фронта соединились (на острие Волховского фронта шла 2-я Ударная армия, но уже во главе не с Власовым, а с другим командующим), сколько было радости. Мы обнимались, целовались. Правда, к сожалению, в очень малом количестве. Ведь от нашего батальона тогда осталось очень мало людей. С Волховского фронта нас переправили в другое место.
И.В. Как так получилось, что вы попали в 53-ю отдельную кабельно-шестовую роту?
С.М. Это случилось уже в 1943 году, после прорыва блокады Ленинграда. Когда от нашего батальона остались одни рожки да ножки, всех оставшихся в живых людей перенаправили на Калининский фронт в правительственные войска. В этом не было ничего удивительного. Это были обстрелянные и проверенные люди. Лишь только одного меня «забраковали».
И.В. Почему?
С.М. Там получилась вот какая вещь. Однажды, это было незадолго до того, как меня должны были отправить в правительственную связь на Калининский фронт, один майор попросил меня заполнить о себе анкету. Там были разные вопросы: о том, кто ты такой, откуда родом, кто твои родители и так далее. Встречались и более острые вопросы. Тогда я ничего не понимал в этом деле и расписал все как на духу. Как-то не сообразил я того, что к тому времени судимость с меня сняли и о ней все забыли. А я в этой анкете написал, что я, Мартынов Сергей Карпович, воспитывался в детских домах. Под вопросом «был ли в окружениях» поставил ответ - «был». А какими являлись эти окружения, никого не интересовало. А ведь окружения могли быть разные. Было, например, громадное вяземское окружение. Происходили маленькие окружения сроком на два-три месяца. Кроме того, были совсем незначительные окружения, всего на несколько дней. Далее следовал вопрос: «Состоял ли в партии в комсомоле?» Я честно написал: «Состоял в рядах ВЛКСМ. Был исключен из комсомола». И вот, когда нам выдали погоны и всех стали отправлять в войска правительственной связи, мы вдвоем с таким Винником оказались единственным исключением, кого туда не взяли. «А чего же меня не взяли?» - спросил я его. Винник мне и говорит: «А ты что накатал в своей бумаге? В окружениях, понимаете, бывал. Родителей не имеешь. Где ты воспитывался - черт тебя знает. Дальше. Из комсомола тебя исключили. К тому же, ты судимый. Так что подходишь под правительственные войска. Значит, ты, ефрейтор, пойдешь в обычные боевые части». Так вдвоем с ним мы и попали в 53-ю отдельную кабельно-шестовую роту связи. Помню, тогда Винник мне сказал: «До той части, куда нам надо, 100 километров! Ехать надо сначала поездом. Поехали. Ты старше меня по званию, ефрейтор, поэтому ты должен всем руководить».
Когда я прибыл в свое новое подразделение, оно находилось под Москвой. Вообще-то говоря, 53-я отдельная кабельно-шестовая рота формировалась в Новосибирске и входила в состав добровольческого корпуса сибиряков. Потом этот корпус находился в окружении и фактически погиб. А наша рота приглянулась командованию и ее ввели в резерв ВГК (Верховного Главнокомандования).
Но я расскажу еще о том, как мы добирались до фронта. Это, между прочим, тоже очень интересная история. Мы должны были доехать на поезде до станции Нелидово. Там, как нам сообщили, как раз стояла на отдыхе наша 53-я Отдельная кабельно-шестовая рота. Это в районе таких городов, как Торопец, Андреаполь, Белый. Но так получилось, что до этой станции мы не доехали. Мы по какой-то причине (сейчас уже не помню) доехали только до Ржева (или даже оказались около него). Как только мы вышли на дорогу, по ней шли машины. Мы стали идти назад. Потом дорога закончилась или ее просто занесло. Перед нами расстилалось сплошное, покрытое снегом, поле. На границе этого поля и дороги стоял какой-то домик, в котором мелькнул огонек. А света же не было никакого. Со своим товарищем я подошел к дому, открыл дверь. Вдруг передо мной появляется здоровый мужчина в комбинезоне. Спрашивает: «Чего тебе?» Говорю: «Скажи, как мне попасть на Нелидово». «Туда дороги нет! - сказал он. - Но раз танки туда прошли, то пройдете туда и вы». После этого он закрыл дверь.
Через какое-то время я заметил, что он начал в доме говорить на каком-то непонятном языке. Видать, присутствовавшая в доме публика спросила его о том, кто приходил. Но он отвечал, что меня насторожило, не по-русски и не по-немецки. А у нас с товарищем оружия тогда не было. Когда мы вдвоем отошли от дома, то встретили наших разбитых солдат, которые около костра развели руки и грелись. Мы подошли к ним, спросили: «Слушайте, а кто там в этом доме сидит? Немцы что ли болтают?» «Нет, - ответили они нам, - это эстонцы». И все нам объяснили. Оказывается, в то время уже существовали эстонские национальные части Красной Армии. Короче говоря, они воевали на стороне советской власти. (Речь идет о 8-м Эстонском стрелковом корпусе, который был сформирован 25 сентября 1942 года на Урале. Он состоял из двух дивизий: 7-й Эстонской и 249-й Эстонской. Корпус в конце 1942 — начале 1943 года участвовал в боях под Великими Луками, а его артиллерия и минометы — в боях за город Невель. Командовал корпусом весь период войны генерал-лейтенант Лембит Пярн (Пэрн). - Примечание И.В.) «Ну хорошо! - сказали мы им. - А то у нас не было даже оружия. А вдруг бы это оказались немцы?»
Когда мы дошли до станции Нелидово, то обнаружили, что она сожжена и разбита. Мы, как обычно в таких случаях делают, стали спрашивать находившихся на железнодорожной станции людей: «Как нам найти военного коменданта? У нас есть бумажка: найти такую-то воинскую часть...» Нам ответили: «Да нет здесь сейчас военного коменданта. Он за три или четыре километра отсюда сидит в блиндаже. Ведь станцию у нас бомбят каждую ночь. Так что вы идите туда к нему».
Наконец мы его нашли. Приходим к нему, показываем бумагу и говорим о том, что направлены в такую-то воинскую часть. Он начал во все места звонить, узнал, где находится наша кабельно-шестовая рота, и говорит: «Вот что, хлопцы! Туда, где стоит ваша часть, действительно дороги нет. Так что вы по сугробам и по попутным машинам ищите способ, как туда добраться». И все-таки, несмотря ни на что, ночью мы до своей части дошли. Приходим в сарай, где разместился командир, а там пляшут. Им, как нам они сказали, выделили этот сарай для отдыха после фронта. Сарай был здоровый, покрытый брезентом. В нем они должны были перематывать катушки, подковывать коней и заниматься прочими делами. Сарай считался колхозным. А они вместо всех этих дел танцевали под гармонь. Мы подходим к командиру роты капитану Землякову (так его была фамилия) и докладываем: «Товарищ капитан! Ефрейтор Мартынов и рядовой Винник прибыли для прохождения дальнейшей службы в вашем подразделении». Он посмотрел на нас. Спрашивает: «На фронте были?» Говорю: «Были». «Где?» «Да вот, Волховский фронт, а до этого — Подмосковье. Там мы воевали». «О, таких я люблю хлопцев! - образовался он. - А танцевать вы можете?» А в это время там как раз с его бойцами танцевали местные девчонки. «Да какое там? - сказал я. - Мы натанцевались по этим дорогам по снегам, пока до вас шли двадцать километров. Нам сейчас не до танцев. Нам бы отдохнуть». «А песни петь вы можете?» - спросил он нас. «Ну песни можем петь». Говорит: «Садитесь! Сейчас русскую песню споем». У него нашелся патефон. Они начали вместе с баяном или гармошкой их играть. Потом мы не выдержали и сказали ему: «Слушайте, найдите нам место, где можно хотя бы часик поспать!» Он нам сказал: «Пойдете туда-то и туда-то и там спросите». Короче говоря, он указал нам место, где мы благополучно переночевали. (Василий Михайлович Земляков родился в 1903 году. Службу в Красной Армии начал в 1924 году, призван Тишевским райвоенкоматом Новосибирской области. На фронте — с 5 февраля 1942. Во время войны служил в 13-м полку связи, ориентировочно с 1943 года — командир 53-й отдельной кабельно-шестовой роты. Был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды. Погиб в 1945 году. - Примечание И.В.)
Начинается утро. Глядим: они опять в этом сарае пляшут. Нам это показалось необычным. Ведь когда перед этим мы воевали на Волховском фронте, наш Уральский батальон связи почти полностью погиб. От него, как говориться, остались рожки да ножки. Я тогда еще с юмором подумал: «Ну так можно воевать! С гармошкой и со всем этим делом». Но оказалось, что все было совсем не так. Дня два мы еще продолжали так же с гармошкой «воевать», а затем последовал приказ: «Подъем! В ружье, в седло и вперед!» И мы после этого помчались километров за 15-20 рысью на передний край. Когда на место прибыли, там что-то грохотало. Оказалось, что выходили из окружения части какой-то нашей окруженной дивизии или армии. Стали проезжать повозки с ранеными, с разбитыми пулеметами. Наши там отбивались от немцев. Немцы пытались эту горловину пересечь. Тогда нам отдали приказ: «Отбить немцев!» С одной и другой стороны мы начали их отбивать, чтобы удержать тот самый перешеек. Короче говоря, у нас снова пошла война. Помню, когда мы только двинулись путь, я еще про себя подумал: «Ну и попали мы к азиатам. Сидели-сидели, а тут — двадцать километров бегом. И бегут как лоси. Выносливые!»
И.В. Вернемся немного назад. Вы сказали, что ваша рота, в составе которой вы раньше воевали, приглянулась командованию. Из-за чего?
С.М. Значит, в чем заключалось ее удобство? Во-первых, она была на конной тяге, то есть, перемещалась на тачанках. Во-вторых, кони не принадлежали отдельным бойцам. В роте всегда находилось примерно десять-пятнадцать коней, готовых ехать. Рота работала очень быстро. Она действовала по такому принципу, что могла в течение часа-двух наладить связь сразу в трех направлениях (например, связать все полки). А связь во время войны, повторюсь, имела важное значение. Ведь за что в 1941-м году расстреляли командующего Западным особым военным округом генерала Павлова? В обвинении прямо так и говорилось: «За потерю управления войсками». Впрочем, это был один из трех пунктов, указанных в обвинении. Собственно говоря, из-за нарушения связи, из-за того, что проводная связь оказалась побита, Павлова и приговорили к высшей мере наказания.
Хотелось бы отметить, что у немцев даже существовали специальные отряды, которые нарушали у нас связь. Они рвали провода и глушили радиостанции. Гитлеровцы, конечно, прекрасно знали о том, как много времени наши связисты проводи за проводом. Сколько помню свои фронтовые годы, мы, связисты, практически не имели свободного времени и не спали ни днем, ни ночью. У тебя, как у связиста, всегда был при себе один наушник и телефонный аппарат. Мы пользовались фронтовыми аппаратами У.Н.И. и У.Н.Ф. Они помещались в зелененькой коробочке, имели один микрофон и один наушник. Наушник ты одевал, как правило, на левое ухо. В течение каждого полчаса ты, бывает, на какое-то определенное время звонишь и спрашиваешь: «Первый, первый, я — второй. Как слышно? Прием!» А сосед, с которым ты переговариваешься, находится километра за полтора — два от тебя. В это же самое время идут большие бои. Во время таких проверок ты как будто бы слышишь дыхание фронта.
Конечно, у нас, у связистов, были свои привычки по распознаванию того, из-за чего нарушилась связь. Вот ударила, скажем, артиллерия. Если ты ее услышал, ты мог спокойно идти пойти и соединить связь, зная о том, что именно она ее порвала. Так же в случае с авиацией и танками. А бывало такое, что связь оборвалась сразу по двум проводам и затем — молчок, никаких шумов. Ты тут же вызываешь соседа. В ответ - молчание. Это означает, что немецкая разведка проникла на линию нашей связи, перерезала провод и ждет появления нашего связиста, чтобы захватить его в качестве «языка». А связист обязательно туда придет, потому что ему необходимо восстановить связь. Чтобы не попасть в глупое положение и не угодить в плен, наши связисты ходили на такое восстановление связи не в одиночку, а по три, по пять человек. Впрочем, если ты прозевал, тут уже тебе было никуда не деться. От тяжелой работы связиста руки на моих пальцах были окровавлены. Ведь сам провод состоял из пяти-семи стальных ниточек, потом шли две медных. Затем шла резиновая плеточка, после — хлопчатобумажная. Видишь, на моих руках мозоли даже до сего времени остались (показывает). Соединить провода в бою оказывалось не так-то просто. Ведь тогда, когда ты соединял связь, нужно было делать определенный узел и его изолировать. А где ты найдешь изоляцию?
Кроме всего прочего, как связист ты всегда носил с собой штык. Как ты приходил на линию связи, так втыкал свой штык в землю. К штыку у тебя был привязан проводок, который ты использовал для обратной связи. Как свое дело сделал, подсоединяешь все к телефону и проверяешь, как у тебя идет связь. Если не получается, идешь дальше. А как связь заработала, считай, что все пошло нормально. Конечно, все это являлось очень опасным делом. Но еще большему риску мы подвергали себя, когда шли в разведку. Тогда мы пользовались радиостанцией РБМ, работавшей на батарейках. Когда ты уходил в разведку (а мне в самом конце войны приходилось ходить в разведку, но об этом я позже расскажу), то прежде всего все свои документы, кроме медальона, сдавал командованию. На одежде во время выполнения разведзадания не должно было быть никаких надписей или того, что бы говорило о том, из какой ты части. Поэтому все такие подозрительные вещи мы относили на командный пункт. Находясь в разведке, мы выходили на связь не сразу и не все время, а через 30 минут на пять минут. Проходила проверка связи, после чего ты переходил на ключ или начинал работать микрофоном. Так что связь в жизни фронта имела первостепенное значение. По этому поводу командир дивизии нам говорил: «Вот у меня в дивизии находятся в подчинении три полка. Допустим, они заняли оборону. Один стоит в таком-то месте, другой — через 10 километров от него. Если связи нет, а что-то случилось, ты так сразу и не узнаешь, кто напал на пункт такого-то полка. Кроме этого, ты знаешь, сколько там убитых и сколько не хватает патронов...»
Хочу сказать, что о нас, связистах, меньше говорили, чем, скажем, это делали в отношении тех же пехотинцев. Вот я, например, прибыл со своим товарищем в 53-ю отдельную кабельно-шестовую роту связи. В ее составе участвовали во взятии города Белого. Когда это событие состоялось, Сталин объявил всем, кто в нем участвовал, свою личную благодарность. Но в своем приказе он не сказал ни слова о воинских частях, которые в этой операции участвовали. Об участвовавших в операции войсках было сказано примерно в следующем ключе: отличились пехотинцы генерала Манагарова, танкисты генерала Ротмистрова, артиллерия такого-то генерала. Ясное дело, что город брали Степной фронт и Калининский фронт. Но ничего этого в приказе не было сказано. Уже после войны все эти объявленные Сталиным благодарности записывались в специальную книжицу. Между прочим, тогда, насколько мне помнится, мы освобождали окруженные под Вязьмой и Белым наши войска, которые выходили на Смоленск (пытались прорваться между Вязьмой и Смоленском), но так и не смогли осуществить задуманного и возвратились...
Как-то раз я давал интервью журналистам. Эти шалопаи, кажется, вроде бы все написали правильно (так, как я им в самом начале рассказывал): что, мол, из окружения вышли грязные и избитые солдаты, никто из которых не хотел воевать. Но не написали о том, что эти солдаты вышли из окружения со своими боевыми знаменами. Мы им, кстати говоря, помогали из него выходить. А после мы вместе поднялись и после этого бежали рысью где-то 15-20 километров, прямо навстречу прорыву немцев. Там мы ввязались в бой. Короче говоря, вытаскивали из беды наших окруженцев, вели бои направо и налево.
Вскоре после всех этих событий нам присвоили гвардейское звание. Торжественный момент нашего приема в гвардию мне запомнился на всю жизнь. И поэтому совсем недавно, когда ваш коллега приходил ко мне брать у меня интервью, я ему тоже рассказал о том, как у нас проходил этот важный ритуал, как солдаты целовали оружие и принимали гвардейское знамя. Помню, нас вывели и поставили в две шеренги буквой «П». У нас собрались разные солдаты: как те, которые вышли из окружения, так и те, что вернулись из госпиталей или просто попали к нам в качестве пополнения. Затем прозвучала команда: «Под знамя! Смирно!» Прямо перед нами за столом в это время сидели командир части и некоторые другие старшие офицеры. В это время к нам стали выносить знамена. Я и сейчас отчетливо помню то гвардейское знамя, которое нам вынесли. Оно было темного красного цвета. Особенно бросалось в глаза слово «ГВАРДИЯ», выведенное большими буквами. Далее шли овальный круг стального цвета, барельеф Владимира Ильича Ленина и надпись «За нашу Советскую Родину!» Как только это знамя поднесли к столу, нам стали говорить о том, что нашим частям присвоены звания гвардейских и что мы сейчас будем давать гвардейскую клятву.
Знаешь, у меня здесь сохранилась объемистая тетрадь, в которую я записывал многие памятные вещи, в основном касающиеся периода Великой Отечественной войны. Короче говоря, в эту солдатскую тетрадь я на свежую голову записывал то, что было со мной на фронтах войны. Записывал я и текст военной присяги. Правда, сейчас я плохо вижу и не имею возможности его воспроизвести. Но я точно помню, что там говорилось что-то вроде того, что мы пронесем свои знамена через все сражения и не остановимся до тех пор, пока враг не перестанет топтать нашу землю, что мы не пожалеем ни крови, ни жизни и так далее. После чтения присяги наши и командиры рот, и более младшие командиры подходили к знамени, склоняли перед ним колена и целовали их. В это время мы, солдаты, опускались на землю на правое колено, а с левой стороны держали оружие: или винтовку, или автомат. Мы повторяли за собой слава: «Клянемся, клянемся, клянемся!» Звучал гимн Советского Союза. Солдаты целовали свое оружие. Представь себе, с этого времени прошло почти 80 лет, а мне это до сих пор как-то очень хорошо помнится.
Уже потом, когда в 1943 году наступило тепло, нас вывели в лес и стали выдавать новую военную форму с погонами. Помню, тогда же нам отдали такой приказ: «Всем раздеться, все документы сдать. Шагом марш получать новую форму!» Конечно, новая форма сильно отличалась от той, которую мы носили прежде. Ведь до этого мы носили знаки отличия в петлицах. Ефрейтор, например, носил одну полоску, младший сержант — один треугольник, сержант — два треугольника, старший сержант — три треугольника, а старшина — четыре треугольника. Младший командный состав носил уже кубики (от младшего лейтенанта до старшего лейтенанта, офицеров тогда в армии не было), старший командный состав — шпалы. После шпалы шли ромбы, но это все уже относилось, по сути дела, к высшему командному звену. А тут все делалось на погонах с лычками и просветами. Нам приказали подшить подворотнички. Кстати говоря, в то время на погонах еще не существовало никаких перекладин. Поэтому мы сами их подшивали. Едва успели мы переодеться в новую военную одежду, как поступил приказ: «Погрузиться в эшелоны!» И нас через всю матушку-Россию повезли, минуя Сталинград и Воронеж, где входил в бой известный Степной фронт. Привезли нас на Курскую дугу. Там проходило знаменитое Прохоровское сражение, в котором, между прочим, я также участвовал.
И.В. Расскажите, пожалуйста, подробнее о вашем участии в этом сражении.
С.М. Я начну с того, что Прохоровка расположена в 36 километрах от Белгорода, то есть, это совсем недалекое расстояние. Рядом проходила известная Курская битва, в которой с обеих сторон участвовало около 4-х миллионов человек. Она началась 5-го июля 1943-го года. Что же касается знаменитого Прохоровского танкового сражения, то оно было встречным и состоялось 12-го июля. В то время там создалась такая ситуация, что сам Курск тогда уже был освобожден. С нашей стороны здесь находилось пять армий. Поэтому немцы, пользуясь создавшимся положением, решили окружить наших четыре армии, находящихся вокруг Курска. В тот период там действовал, с одной стороны, Центральный фронт, которым командовал Рокоссовский, и, кроме того, Брянский фронт и часть Западного фронта. Немцы прорвали у нас фронт северного крыла. Началось сражение за тот самый выступ. Фашистам тогда удалось только пройти восемь или десять километров. Северная часть крыла проходила в районе Белгорода и Гостищева, откуда как раз началось немецкое контрнаступление. Мы тогда, кстати говоря, не обратили внимание на то, что бои шли боком: не в самой Прохоровке, а западнее и южнее ее. Помню, мы тогда натянули связь. А для того, чтобы ее как следует натянуть, нам нужно было пройти несколько рубежей обороны. Пришлось каким-то образом прибегать к помощи машин.
Я хорошо помню, как мы добирались до той самой Прохоровки. Когда мы доехали до Воронежа, вернее, до станции Щегры, оказалось, что уже в то время немцы ее беспощадно бомбили. В итоге мы оттуда снялись. Днем сидели в лесах, а ночью или тренировались, или подходили к этой Прохоровке. Пока мы шли, нам говорили о том, что теперь бороться с немцами придется не так, как это было в 1941-1942 годах, что воевать нужно будет совсем по-иному.
И.В. Это как?
С.М. Нам говорили про то, что окопы мы будем копать небольшого типа: узкие, но длиннее. И так оно в действительности и случилось. Этим окопам танки уже не являлись помехой. На нашем участке появились такие танки, как «Тигры» и «Пантеры». «Тигры» оказались большими массивными танками с длинным стволом, тяжелыми и темного цвета. «Пантеры» имели желтый цвет. Поэтому, когда по ним били, у них сбивалась сначала краска, а не броня. Некоторые у нас по этому поводу говорили: «Это сделано для того, чтобы танки не горели. Ведь они в бою горят очень сильно. У них на траках стоят запасные баки и боеприпасы». Не случайно мы как противник били по ним или бронебойно-зажигательным огнем, или же кумулятивным (как он назывался — подкалиберным) огнем. Последний момент я хотел бы немного прояснить. Кумулятивный огонь представлял из себя стальную болванку. Ее, между прочим, и немцы против нас применяли. Бывает, ударит по нам вражеская артиллерия. Мы чувствуем, что снаряды где-то пролетели и посвистели, а взрыва все нет. Эта болванка не взрывала танк, а ударяла ему в бок, пробивала броню и начинала амортизировать в нем боеприпасы, которые взрывались и в результате этого танк выходил из строя.
Ты, наверное, уже удивился тому, что я, не будучи танкистом, так много говорю о танках. А дело в том, что в период боев под Прохоровкой мы были присоединены к 5-й гвардейской танковой армии под командованием генерала Ротмистрова. Он входил в состав только что образованного Степного фронта. Армия стояла сначала под Щеграми. Потом наше командование стало думать о том, куда ее бросить: или под Орел, где находился Центральный фронт, или сюда под Воронеж, который был уже к тому времени освобожден. Этот вопрос курировал Жуков как представитель Ставки Верховного Главнокомандования вместе с Рокоссовским. Здесь же как представитель штаба фронта был и Василевский, но это было уже северное крыло. Основные же события разворачивались под Прохоровкой.
Как сейчас помню, 1-го августа мы под станцией Гостищево, которая расположена в 17 километрах от Белгорода, прорвали немецкий фронт, потом вошли в сам Белгород. Это уже произошло 5-го или 6-го августа 1943 года. И когда наши части уже в этот город вошли, Сталин в своем приказе объявил нам благодарность. В нем упоминались и войска Степного фронта, и четвертая гвардейская армия (ее называли еще железной) генерала Манагарова. В честь наших войск в Москве был дан первый за все время войны салют.
И.В. А не могли бы вы, Сергей Карпович, рассказать также и о своих личных впечатлениях во время боев под Прохоровкой?
С.М. Хорошо. Прежде всего отмечу, что ничего не предвещало того, что впоследствии со всеми нами произошло. Вдруг рано утром над нашим передним краем стала проходить стая немецких самолетов и сбрасывать бомбы в район Прохоровки. К тому времени мы под этой деревней уже успели высадиться. Деревня состояла сплошь из одноэтажных беленьких строений. Рядом располагалась железнодорожная станция. Двумя нитками мы начали протягивать связь. Причем перед этим нас предупреждали (учили, так сказать): «Если вы не сможете удержать немецкие танки, то пропускайте их над собой». Говоря об этом, нам показывали, как это делается. Скажем, сначала танк проходит над тобой по земле, потом сантиметров на двадцать обступается и идет дальше. В это время ты как пехотинец лежишь на земле. Дальше за танками идет немецкая пехота. Если наши отбивали пехоту от танков, то считалось, что вражеская атака захлебнулась. Поэтому нас предупреждали о том, что мы должны бить по идущей за танками пехоте. В итоге танк, израсходовав свои боеприпасы, попадал под огонь очистных позиций и после этого либо поворачивал назад, либо погибал. Фронт же был не прорванным. Кроме того, мне бы хотелось упомянуть еще об одном новшестве нового периода войны, о котором я вам не сказал. У нас появились совершенно новые противотанковые гранаты. Ведь в 1941 году у нас ничего этого не было. Против танков мы использовали связку из трех гранат бутылочного типа. Связывали их проволокой и метали ее прямо под танк. У нее существовала одна особенность. Если ты ее кидал на моторную часть танка, то она три или четыре секунды шипела и лишь только после этого взрывалась. Но так как танк в это время какое-то расстояние проскакивал, то она приходила в действие под спиной этого танка. Поэтому мы старались бросать связку гранат под колеса, чтоб она их теребила. Но все это было в самом начале войны. В 1943 году у нас появился уже совсем другой вид зажигательной смеси. Теперь прямо при падении с воздуха она начинала гореть. Как только бутылка касалась брони, так огонь тут же танк обволакивал. Нам было видно, как снизу появляется огонь и как все покрывается черным дымом.
Конечно, под Прохоровкой сложилась довольно-таки серьезная обстановка. Помню, еще вечером, как только мы туда прибыли, наши штурмовики уходили за деревню. Потом к этому месту стали подходить наши танки Т-34. Мы тогда обратили внимание на то, что теперь они были уже немного реконструированы. Если в боях под Москвой наши танки Т-34 имели укороченный ствол, то теперь они выделялись длинными стволами, которые считались более бронебойными. И это, я считаю, со стороны нашего военного руководства являлось правильным решением. Ведь когда проходили танковые испытания, практика показала, что короткие стволы не пробивают «Тигры», снаряды от них как горох отскакивают. И вот, когда ночью подошли танки усовершенствованного вида, они вместе с нашими штурмовиками шли через эту Прохоровку всю ночь. Мне запомнилось, что эта местность была холмистой, а рядом проходящее поле все усеяно рожью. Тут же располагались окопы, где проходили наши позиции.
Отвлекаясь от своего рассказа, обращу также ваше внимание на то, что вскоре после этого у немцев появился новый вид оружия — это самоходное орудие «Фердинанд». Эти самоходки имели ствол, стреляли в походном состоянии. Причем их работа была устроена таким образом, что хвост у них не болтался в движении, но бил на самых разных расстояниях. Стоит отметить, что реактивных орудий у немцев в то время не было, хотя они захватывали наши «Катюши» и делали из них залп. Довольно опасным немецким оружием считались шестиствольные минометы. Казалось бы, ничего особенного: два колеса, шесть стволов, из каждого из них вылетает снаряд... Но, вообще-то говоря, мина миномета в своем действии отличалась от обыкновенного артиллерийского снаряда тем, что если снаряд, когда он взрывался, делал сначала какую-то лунку и уж только потом бил по блиндажам или еще чему-нибудь и взрывался, то мина, едва только она касалась поверхности, сразу рвалась. Поэтому в наступлении появлялось, как правило, больше всего раненых в результате минометного обстрела. Ведь, как говориться, осколки тогда летят от миномета рассеивающим образом. От него трудно спастись. И потому если летит снаряд, ты можешь спрятаться от него в какую-то канаву. Если же снаряд рванул вверх, ты знаешь, что в тебя он не попадет. Совсем другое дело — обстрел из этого шестиствольного миномета. Конечно, повторюсь, у нас были тоже свои «Катюши». Когда они били, от них становился столбом черный дым. Если ты находился совсем рядом с происходящим, то тебе было видно, как из ствола вылетают ракеты... Самолеты тоже не представляли такую опасность, как минометы. Хотя там все складывалось тоже по-разному. Появлялся фронтовой опыт. Ты уже знал, что если бомбы падают, не долетая 300-400 метров, то они тебя касаются, а если немец их бросает прямо у тебя над головой, то они тебя вообще не коснуться, а уйдут куда-то в сторону по инерции. Ведь мы, конечно, видели, как от самолетов отрываются бомбы и приобретали в этом соответствующий опыт.
И вот, значит, под Прохоровкой сложилась такая ситуация, что когда наши выдвинулись вперед, навстречу им пошла волна немецких танков во главе с «Тиграми». И разгорелся такой бой, что его нельзя было назвать обыкновенным боем. Это был страшный и ужасный бой. Дело доходило до того, что некоторые наши слабовольные солдаты от этого сходили с ума. Кругом стояли сплошной грохот и рев. Солнца мы почти не видели: оно где-то плавало в дыму. Где были наши танкисты, где немецкие, тоже было не разобрать: и те, и другие выскакивали из своих горящих машин. Правда, по некоторым признакам отличить танкистов было все же можно. Так, у наших танкистов шлемы выделялись какими-то штучками, а у немцев они были покатыми и имели какие-то кольца. Кругом люди по друг другу стреляли. Пока шел бой, мы не могли восстановить связь, так как ее порвало в нескольких местах. Короче говоря, все смешалось: железо, сталь, люди. Этот бой, состоявшийся 12-го июля, длился почти что до самого вечера. Лишь только когда он закончился, мы смогли приступить к восстановлению связи.
И.В. Вы сказали, что у вас некоторые люди сходили с ума. Что это были за случаи?
С.М. Дело в том, что во время тех самых боев к нам в роту попало две девчонки. Вообще-то говоря, в нашей 53-й Отдельной Сибирской роте отродясь никогда не служило женщин, а тут, в 1943 году, уже под конец войны, их откуда-то к нам прислали. Одна из них — Валя Рябухина — прибыла в наше подразделение откуда-то с Урала. Потом она забеременела и уехала. А вторую звали в Лида. Так вот, она не получила никакого ранения, но от страха сбежала с передовой в медсанбат. Так она боялась боя. Да и не только эти девчонки проявляли трусость. Многие наши молодые солдаты, которые никогда до этого не участвовали в боях, при первом испытании забивались в угол и теряли самообладание, отключались. Их метало из стороны в сторону. Короче говоря, не справлялись с обстановкой. Тут нужно иметь в виду, что под Прохоровкой была ужасная обстановка. Представь себе положение этой девчонки: кругом стоит грохот, все находится в огне и в дыму, от танков раздается дикий скрежет. Наши там удержались. А между прочим, Гитлер там бросил против нас цвет своих танковых частей: эсэсовские дивизии «Райх», «Викинг», «Мертвая голова», «Великая Германия». И все же, несмотря на все это, мы удержали свои позиции под Прохоровкой. Немцы отошли. Мы начали расчищать освобожденную территорию. Хотя, собственно говоря, что там было расчищать? Осталось одно заброшенное поле. Правда, нам, связистам, тогда досталось много работы. Ведь у нас в то время на каждые 100-150 метров приходился порыв. Все это нам следовало обработать: пересоединить, замотать изолентой и прочее.
И.В. Что было дальше?
С.М. Мы восстанавливали связь и бросались в свое очередное наступление. После Прохоровки таким испытанием стало для нас наступление под Гостищевом. К слову сказать, за участие в этой операции я получил свою первую награду — медаль «За отвагу». Правда, обстановка здесь у нас складывалась совсем иная, нежели в 1941-1942 годах. Ведь раньше нам чаще приходилось штыками, грудью и кровью прорывать оборону немцев. А здесь нам уже помогала авиация и артиллерия. Дело было так. Сначала давали залпы наши реактивные машины «Катюши». После них проводили штурмовку наши небольшие и грузистые самолеты ИЛ-2, у которых под крыльями находились даже реактивные снаряды. Они вели огонь по наземным целям. После начинала работать артиллерия всех видов, затем — минометы. В конечном итоге все это переходило в общую массу боя. Когда артиллерия начинала стихать, по немецким тылам шли наши танки. Лишь только после этого в бой шла пехота.
Но ведь до этого нам приходилось воевать в совершенно других условиях. Я вам честно скажу: в 1942 году мне не раз приходилось участвовать в рукопашных боях. Короче говоря, в это время мы воевали штыками, лопатами, огнем. Я уже тебе говорил, что рукопашная схватка — это страшное дело. Когда ты в такой непосредственной близости сталкиваешься с врагом, ты видишь только мундиры. В этот момент люди, которые вступают в рукопашную, выглядят как звери. Тебя переполняет в это время такая ненависть, которую ты раньше не испытывал. Ты дерешься и не помнишь себя. Мысль у тебя только одна: лишь бы дотянуться до врага. Люди в такой момент не очень понимают того, что они делают. И тот старшина, про которого я тебе рассказывал, прежде, чем погибнуть, заколол штыком пять или шесть немцев.
Меня иногда молодежь, когда я с ней встречаюсь, спрашивает: «А сколько ты за войну убил немцев?» Но этого же невозможно подсчитать. Почему? Потому что иногда случаются такие бои, когда ты бьешь-стреляешь фактически по идущей лаве. Ты ли убивал или тебя убивали, тебе неизвестно. Я, правда, не знаю, как считали своих трупов снайперы. Я их тоже встречал. Бывает, вырвешься в сторону многоэтажных зданий. Смотришь: бои идут за каждый дом. Потом замечаешь, как из окна без стекол бьет снайпер, у которого ты попал на «мушку». Обычно там сидят один или два снайпера. Ты в него стреляешь. Так ты не знаешь: то ли ты его ранил, то ли убил, то ли он сам просто сменил позицию. Куда ты его запишешь, к числу убитых, раненых или непонятно кого? У летчиков и танкистов с этим проще. Если самолет сбит, то это сразу видно. Если танк подбили, то ты видишь это наверняка. И можешь записать на свой личный счет.
Так начался для меня перелом в войне. После освобождения Белгорода мы пошли по восточной Украине: я там, понимаете ли, все места пошел и прополз с боями. Когда мы вошли в Харьков, как же нас там встречали местные жители. Даже не верится, что в этом самом Харькове вчера или позавчера сломали памятник Ленину. Помню, мы подошли к этому Харькову числа 15 августа, за неделю до его взятия. Мы остановились немного ниже его — на высотах, у поселка Дергачи. Оттуда просматривались многоэтажные дома. Их, беленьких зданий, там насчитывалось штук шесть или семь. Они стояли в глубине города и считались его достопримечательностью, так как тогда только-только появились. Когда их начали строить, помню, появились сигареты «Новый Харьков». Эта марка считалась известной наряду с такими видами сигарет, как «Казбек», «Северная Пальмира», «Ленинград». Так вот, когда мы к городу подошли, про себя подумали: «Господи, неужели нам придется разбивать такую красоту?» Мы обошли город справа. Когда, находясь слева, немец почувствовал, что его начинают окружать, он начал отходить. Но при этом поджег местный рынок.
Утром 24-го чуть ни свет мы вошли в Харьков. Город горел. В пять-шесть часов утра нас стали принимать люди. Собралось огромное количество народу. Харьковские женщины встречали нас со слезами на глазах. Помню, меня тогда очень сильно удивила одна старушка стоявшая рядом старушка с маленькой иконкой на руках. Она сразу же вбежала в наш строй. Хотя, собственно, каким мы шли строем? Мы передвигались вольной коробкой. Вдруг она доходит до меня, бросается ко мне на шею и кричит: «Петро!» Я сразу понял, что она ошиблась. Кругом было темно и дымно. Я ей говорю: «Бабушка, я не Петро! Петро еще придел, но другой дорогой. Ты его только жди». После этого я поцеловал ее в макушку. Кроме того, я в первый раз в своей жизни поцеловал икону, которую она держала. Потом я пошел вперед догонять свою часть.
Помню, когда мы шли по Харькову, сзади нас двигалась кавалерия, причем спешенная. Как сейчас помню, одна женщина, посмотрев на нас, сказала: «Ты смотри, какие они все красивые. А нам, пока мы здесь жили, все немцы говорили, что все вы, коммуняки, подбитые, что вашей армии здесь уже больше не существует. А здесь такие хлопцы!»
Харьков мы прошли как-то быстро и двинулись на Днепр. При форсировании Днепра я, кстати говоря, был контужен...
Между прочим, освобождая Украину, нам не пришлось встречаться с бандеровцами. Дело в том, что мы прошли по Украине южнее — через Умань, Христиновку — и вышли к границе с Румынией. Сейчас говорят о том, что Сталин, мол, был таким же, как и Гитлер, призывал солдат не щадить мирных людей в освобожденных странах. Но это неправда. В Румынии мы получили приказ, который категорически запрещал нам творить какие бы то ни было бесчинства. Так что мы не встречали ни бандеровцев, ни власовцев. Уже потом, когда мы шли назад и проходили через города Станислав, Львов, Сандомир, то есть, через те самые места, где находились бандеровцы-западники, нам сказали, что может быть какая-то потасовка. Мы поставили дополнительные посты, расчехлили пулеметы, но они вели себя тихо.
И.В. Вы сказали, что за бои под Гостищевым удостоились медали «За отвагу». Расскажите, за что и как вы ее получили.
С.М. Хорошо, я расскажу. Я и сам думаю, что этот эпизод заслуживает отдельного рассказа. Это произошло после знаменитого Прохоровского сражения, в котором мы также участвовали. Но принцип работы нашей роты связи была такова, что мы придавались какой-то армии лишь только на ход боя. Как закончился бой, так армия идет золотать свои раны, а нас, связистов, тоже отправляют на отдых. Когда в следующий раз армия оказывается совсем в другом месте, мы придаемся совсем другой армии. Потом уже тебе становится известно, что за участие в такой-то операции Верховный Главнокомандующий Сталин в своем приказе объявил благодарность, скажем, танкистам генералов Рыбалко, Ильющенко и Кравченко, пехотинцам генералов Манагарова и Захарова. В этом же приказе конкретно указывалось, каких успехов добились те или иные соединения. Дальше шло заключение: «Объявляю всем благодарность! Верховный Главнокомандующий Сталин». Тогда мы приходим к своему комиссару и спрашиваем: «А где же мы?» А участь наша в боях под Прохоровкой была такая, что сначала нас придали 5-й гвардейской Ударной танковой армии генерала Ротмистрова, потом мы попали в 4-ю гвардейскую танковую армию к генералу Жадову, а уже оттуда нас передали в 53-ю армию под командованием генерала Манагарова. Так к каким войскам нас в этом приказе следует относить? Комиссар нам ответил: «Мы к такой-то части были приписаны...»
Уже потом я узнал, что все эти данные о том, где мы находились, вообще-то известны. Ведь все списки участвовавших в них отправляли в штаб. Вот тебя, наверное, интересует вопрос: как узнать, принимал ли я участие в Курской битве? Ведь я могу наговорить что угодно. Но у меня в военном билете есть запись: август месяц, 1943-й год, Степной фронт, такая-то дивизия такой-то армии. Когда все эти записи в военкомате в военном билете записывали, эти данные уточнялись при помощи специальной книжки, в которой было записано, какая часть и в каких участвовала в боях. Конечно, работы с этими данными у военкоматовских работников было много. Ведь только в одной Курской битве с обеих сторон участвовало 4 миллиона солдат. Значит, нужно было разбираться с двумя миллионами человек. Помню, когда-то давно в военкомате мне выдали такую справку: «Сергей Карпович Мартынов участвовал в боях на Курской дуге с такого-то по такое-то время и в составе таких-то частей и соединений». Я тогда этому очень сильно удивился, подумал: «Как это они так могут все узнавать?» А оказалось, что в Подольске существует Центральный Архив Вооруженных Сил СССР. Так у них все части и соединения представлены в виде именных списков. Тогда я еще недоумевал по этому поводу: «Ведь нас фактически всего двое осталось с батальона. Как они узнали, что я там был?» А один парень мне все разъяснил: «А ты знаешь как? Вот скажи: ты хоть раз получал на фронте получал?» Говорю: «Нет, не получал». «А куда ты ее девал?»
Я ему сказал, что сдавал все в Фонд обороны. В то время в связи с этими деньгами дела обстояли таким образом. Некоторые офицеры брали аттестат и посылали своим родственницам, чтобы хоть как-то подкормить своих ребятишек. А для таких солдат, как я (у меня ведь своей хаты не было и посылать оказывалось совсем некуда), новый год начинался с того, что мы отмечались в списке, перед которым указывалось, что мы, такая-то рота такого-то числа (далее назывались удостоверения личности), сдаем свои деньги в Фонд обороны. Уже потом все наши данные определяли по комсомольскому билету (хотя я был исключен из него, впоследствии я вновь стал членом ВЛКСМ). Кстати говоря, мой комсомольский билет лежит в музее в городе Горячий ключ под нынешним Волгоградом.
Как сейчас помню, мой оклад на фронте составлял 8 рублей 50 копеек. Но это касалось того периода, когда ты находился не прямо на фронте, а где-то перемещался. Членские взносы в комсомол были где-то 2 копейки. Размер зарплаты варьировался от 20 до 120 рублей, но это относилось к сержантам, старшинам и офицерам. В основном у нас получали зарплату по 20-30 рублей. Но куда мне девать было эти деньги, когда кругом ходили миллионы? Однако как бы дела не обстояли, получал ты или не получал свою зарплату, а годовая финансовая бумага все равно сохранялась. И когда в военном билете делали запись об участии в тех или иных военных событиях, опирались на финансовые документы за такие-то годы. А финансовые документы считались бессрочными, они имели срок годности от 30 и более лет. На фронте численность роты состояла 120 человек. Так вот, каждый боец проходил по этим бумагам. Поэтому, когда военкоматовским работником нужно было что-то уточнить, они проверяли отчетность части за такой-то период и говорили, к примеру, так: «Значит, ага, Мартынов Сергей Карпович в таком-то месяце такого-то года находился в составе такой-то части...» И все это, конечно, записывалось в военный билет. Это было маленькое отступление.
Я уже говорил о том, что меня наградили медалью «За отвагу» за участие в наступлении на Гостищево. Она состоялась 1-го или 2-го августа 1943 года после знаменитого Прохоровского танкового сражения. Само сражение под Прохоровкой длилось всего полтора или два дня (что-то около этого). После этого мы какое-то время находились на отдыхе, а потом перешли в то самое контрнаступление. И если Прохоровка находилась от Белгорода в 36 километрах, то расстояние от станции Гостищево до Белгорода составляло где-то 17 километров. Перед началом наступления была проведена по всем канонам артиллерийская подготовка. Причем она была такая мощная, что мы не слышали залпов пушек: она переходила на сплошной рев, земля дрожала. Короче говоря, тогда наши артиллеристы стреляли со всех видов оружия.
Потом поднялась и пошла вперед пехота. На той стороне высоты, где находилось Гостищево, закрепились немцы. Мы стали делать спуск в сторону Белгорода. После того, как прошли семь километров вперед, на нашем пути встретилась железнодорожная колея. Пехотинцы стали рассматривать рядом находящиеся окопы и блиндажи, в которых сосредоточились немцы, так как им предстояло вступить в рукопашный бой. Я же, связист, смотрел в первую очередь на то, как можно пройти это препятствие, так как мне нужно было протащить свой тоненький провод. Ведь если сверху протащить, его оборвут. В окопах его ногами повредят. Пришлось проводить связь по разным местам, используя виадук, канавы, трубы и прочие вещи. Мы, четверо связистов, прошли через трубу около какого-то здания и вышли на передний край. К тому времени наша пехота закрепилась на железнодорожной насыпи вверху. Мы оказались под нею в сторону немцев. Развернули, как говориться, свою связь. Но у немцев, видно, корректировщики работали хорошо. К вечеру они поднажали со всех видов артиллерии и сбили с железной дороги нашу пехоту. Чтобы меньше нести потерь, она отошла с высоты и закрепилась на нашей стороне и заняла оборону. Мы, находившиеся впереди пехоты (почти на стороне немцев), ничего этого не знали.
А немцы знали по карте, что через виадук можно пройти. Они начали прорываться через это место для того, чтобы выйти на нашу территорию. Короче говоря, они решили использовать более легкие возможности. У нас были ручной пулемет и автоматы. Мы начали от них отбиваться. Сколько мы тогда побили немцев, не знаю. Могу только сказать, что они три раза пытались через нас прорываться. Эта канитель продолжалась до самого утра. А утром, перед тем, как наступать дальше, у нас стали проводить рекогносцировку местности. Смотрим: вдруг рядом с нами оказалась группа каких-то командиров в плащ-палатках. Их было четыре. Такие вещи обычно проводились перед боем. Командиры выходили на передний край и начинали давать, к примеру, такие задания: боевой приказ, понимаете ли, такой, ты пойдешь таким-то путем, другой — так, противник должен отойти таким-то образом. Одним словом, согласовывались все детали предстоящего боя. Среди этих четырех командиров, судя по всему, оказался генерал Манагаров. А наш командир отделения был старым воином: в свое время прошел еще Гражданскую войну. Он и привел Манагарова на рекогносцировку местности. Они друг друга узнали, обнялись и прочее. Оказывается, в Гражданскую войну где-то вместе сражались.
Манагаров подходит к нам и говорит: «Интересно, а как вы, связисты, оказались впереди пехоты?» А нас было всего трое. Ему ответили: «А они же всю ночь сражались на этом пятачке. Они проявили героизм, отбиваясь от немцев, и не пустили их в тыл». Манагаров нам тогда и говорит: «Да вы ж, солдатики, всю ночь дрались с немцами. Прежде чем выйти сюда с немецкой стороны, мы растаскивали трупы. Нашли даже пулеметчика, которого вы побили... Смотри, какие вы молодцы. Впереди пехоты были и дрались с немцами. Это столько вы наладили немцев. Как это такое может быть?» Мы начали этому генералу представляться. Дошла очередь и до меня. Говорю: «Мартынов Сергей Карпович!» Тот спрашивает: «Где воевали?» «Да под Москвой. Еще был на Волховском фронте, на Калининском фронте». «И еще не награжден?» «Нет!»
А все дело в том, что командирам такого уровня, как командующий армией или командир дивизии, разрешалось самолично награждать медалями. Тогда Манагаров говорит нашему командиру отделения (он еще был помкомвзвода): «Иван Иванович, я представляю тебя к ордену. Но представление нужно посылать в штаб фронта. А этих солдат — к медалям. Ты смотри, воюет с 1941 года (он показал на меня) и ни разу не был награжден». После этого Манагаров дает знак своему начальнику штаба. Тогда тот открывает какой-то свой мешок и вытаскивает оттуда несколько медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». «Вы — орлы, молодцы!» - говорит Манагаров. После чего прикрепляет мне на грудь медаль «За отвагу», а моему товарищу — медаль «За боевые заслуги». «А тебе, - говорит он, обращаясь к Ивану Ивановичу, - я делаю представление на орден. Все это вам дальше оформят в личное дело. Ведь у нас все делается по команде».
И знаешь, какова была дальнейшая история моей награды? Эти медали имели слабое крепление и поэтому были запаяны. Их нельзя было в бою носить на груди, так как они падали. Поэтому я примерил медаль, показал своим командирам и убрал ее в вещевой мешок. А потом, когда мы форсировали Днепр, я его там и оставил, когда получил контузию. Потом уже кинулся искать. Командир меня успокоил, сказал: «Ладно, Сережка, медали — медалями, война еще не закончилась. Ты еще получишь свое. Я тебя представлю к ордену». И действительно, за участие в Корсуньско-Шевченской битве и в Яссо-Кишиневской битве, за то, что мы первыми выскочили и задержали немцев, которые шли лавой на нас, я получил орден Красной Звезды. Об этом, помню, сообщили в штаб дивизии. Наши их рубили саблями. Короче говоря, своим оружием отбивались от наседающих немцев. И еще, уже в самом конце войны, я получил медаль «За боевые заслуги». Но я, кроме того, был удостоен медалей «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»...
И.В. Расскажите о своем участии в форсировании Днепра.
С.М. Форсирование Днепра проходило с ходу. Вообще-то говоря, в районе Днепра находилось более десяти плацдармов, причем самых разных: сначала шел Сандомирский, дальше — под Киевом, потом — еще где-то на юге. Мы форсировали Днепр не в этих местах, а южнее Кременчуга. Тогда же я был ранен. В этом месте в середине Днепра располагался какой-то казацкий остров. Когда мы подошли к Днепру, то стали наводить справки об обороняющемся противнике. Надо же было знать, что у него и как. Поэтому для начала мы просто на берегу остановились. Ночью же или вечером туда, как говорят, сунули штрафной батальон и взвод разведки (или даже два взвода). Разведчики должны были открыть ближний бой. У нас, военных, это называется разведка боем. В общем, на той стороне разгорелся бой. Немцы стали отходить. В результате наших действий оказалась взорвана переправа. На нашей стороне остались танки и самоходки. Эта разведка боем позволила нам зафиксировать, откуда у немцев бьет артиллерия, откуда выходят танки, как проводится контратака.
В 5 или 6 часов утра мы хлынули на тот берег Днепра. Вообще-то говоря, его форсирование проходило в двадцати местах. Но не все плацдармы оказались сбиты. Мы сбивали плацдарм, который назывался - южнее Кременчуга (до этого мы рядом с этим местом занимали плацдарм почти два месяца). За это время мы, связисты, три раза протягивали связь между каким-то островом и краем Днепра. А дело в том, что как в воду попадал избитый провод, так связь уже не работала. Потом кто-то принес в бухту немецкий двужильный провод в полиэтиленовой пленке. Он был сине-зеленого цвета. Через него мы протянули связь. Но нашим командирам стало жалко оставлять почти полкилометра старого провода, который мы погрузили в Днепр. Они сказали: «Надо собрать этот провод!» И тогда мы, я, командир взвода или помкомвзвода, поплыли по Днепру на лодке, вытаскивая провод из воды и наматывая его на катушку. И вдруг по нам грохнула авиация или артиллерия. Лодку опрокинуло. Рядом плавал какой-то разбитый плот. С помощью этого плата я и выплыл на берег. Хотя точно всех подробностей я не помню. Я в то время неплохо плавал и знал, что для того, чтобы спастись, нужно расстегнуть на себе ремень, снять с себя сапоги. Все это вместе с вещевым мешком я погрузил на разбитый плот. В то время мы фронтовики, наград никогда не носили. Это только в кино люди воюют с медалями на груди. Ведь когда ты ползаешь по земле и на тебе скатка и прочее, ты свои награды можешь растерять. Поэтому моя медаль «За отвагу», которой меня наградил генерал Манагаров за Гостищево, лежал у меня в вещмешке. И вот я вместе с оружием, вещмешком, сапогами и ремнем, которые теперь были сложены на плоту, поплыл с запада к своему берегу. В это время начался артналет. Рядом что-то грохнуло. После этого я потерял сознание.
Кто меня из реки вытащил, я не помню. Очнулся я уже в то время, когда ехал на бричке. Тогда с момента форсирования Днепра прошло уже несколько дней. Мы ехали по побитым дорогам или на Полтаву, или на Харьков. И я командиру, который вез нас на бричке, покрытой брезентом, вдруг говорю: «Пусти меня в часть!» «Дальше поедешь, - говорит он мне, - так дольше жить будешь. Ешь! Тебе нельзя сейчас никуда идти!» «Ну пусти! - взмолился он передо мной. - Там вещмешок у меня остался. В нем все документы, награды, знаки и прочее». Я ведь когда еще в свое время я с детских домов уходил, все мое имущество держал на плечах в вещевом мешке. И я два раза его, понимаете ли, терял.
Этот командир отпустил меня в свою часть и выдал бумажку, где было написано, что я находился в медсанбате с такого-то по такое-то число. Я взял винтовку и пошел в сторону того самого казацкого острова, который назывался Кобеляки. На другой стороне, где шли бои, находился Мишурин Лог или Мишурин Бор (точно я не помню этого названия). Там горело какое-то здание. Плацдарм занимал три километра глубиной и семь километров шириной. Стояло какое-то орудие. Но мне не дали там вести свои поиски. Тогда я прибыл в расположение своей части, нашел в свой взвод, которым командовал уже другой офицер. Я к нему пришел, подал бумажку. Он мне и говорит: «А мы считали, что ты погиб. Двое суток от тебя не было ни слуху, ни духу. И товарищи твои на реке погибли. А ты живой. Я — новый командир взвода». Бумажку, которую я ему вручил, он положил в свой планшет. «Сейчас с твоим вещмешком некогда разбираться, - сказал мне он. - Утром будем его искать. Но вряд ли ты его найдешь. Он скорее всего лежит на дне Днепра. А вот видишь, (и он мне показал) — горит высота Мишурин лог. Он весь в огне. Как связист ты знаешь, что нужно делать: наладить связь. Поэтому бери пару солдат, бери катушку с проводами и иди восстанавливай связь». После этого мы поползли восстанавливать связь. Ползли мы всю ночь. Дело доходило до смешного: мы три раза соединяли свой провод. Его же все разбивало и разбивало. И каждый раз мы ползли... И все же к утру мы как-то восстановили связь с этим Мишуриным логом.
Потом где-то остановились. Кажется, это место относилось к Кировоградской области. Нас там страшно бомбили немецкие самолеты. Хотя на дворе была зима, трупы не замерзали и валялись в кюветах. Немецкие тела нас мало интересовали. Если свои попадались, с ними каким-то образом разбирались. Ведь их нужно было хоронить. Потом, как сейчас помню, мы втроем сидели в обороне на какой-то высоте, всю ночь не спали и ждали, когда порвется связь, чтобы идти ее восстанавливать. И вдруг она невдалеке от нас порвалась. После этого я тут же, понимаешь ли, пал на коня (по-сибирски говорят так: пасть на коня; то есть, у них не садятся на коня, а падают на него; конь был довольно хороший) и побежал выполнять задание. Между прочим, у моих однополчан-сибиряков не было матерных ругательств. Во всяком случае, я почти их не слышал. Так, например, наш командир роты раздавал своим подчиненным такие прозвища: едрена мать (или там верхняя или какая мать), пим дырявый (а пим — это, по-сибирски, валенок), мокра курица. Если ты струсил, то такими словами он тебя обзывал. Помнится, этот наш командир роты капитан Земляков все время носил с собой патефон, а вместе с ним — пластинки с набором русских песен. Конечно, все это носил не сам он, а возил на тачанке его старшина. К сожалению, он погиб за два месяца до окончания войны. Так вот, я вернусь к своему рассказу. Мы стояли в обороне на высоте Чубатая (а по-казацки она называлась холм). Позывной был Гром. Так мы его переделали в гроб. Вдруг порвалась связь. Едва я успел сесть на коня и отъехать, как два немецких бомбардировщика один за другим пошли на эту высоту. Шарах — и она вся оказалась в огне. Оба моих товарища — командир отделения и солдат — погибли. Когда я приехал на место, я позвонил, сообщил об этом своему командованию. Их мы похоронили.
Потом мы пошли в наступление в сторону Кировограда. Причем шли в наступлении настолько стремительно, что немцы со своих окопов и блиндажей от нас в одном нижнем белье убегали. Между прочим, там, за Днепром, у нас разгорелись ожесточенные сражения, которые вошли в историю как Корсуньско-Шевченская битва. В этой операции мы действовали в составе 5-го гвардейского кавалерийского корпуса донских казаков под командованием генерала Селиванова. Это произошло ив феврале 1944 года. Понимаете, в чем тут дело? Наша 53-я отдельная кабельно-шестовая рота все время придавалась каким-то самым разным частям. Скажем, если немцы прорвали фронт и их надо остановить, то туда бросают не только танковые и артиллерийские части, но и нас, как связистов. После этого начинается наступление, в котором мы вместе с танкистами и артиллерией участвуем.
На этот раз мы попали в кавалерию. О корпусе генерала Селиванова, в состав которого мы временно влились, мне бы хотелось рассказать немного поподробнее. Когда в 1941-м году немцы пошли на Кубань, для того, чтобы им противодействовать, был сформирован 17-й Кубанский кавалерийский корпус. Уже потом, когда немцев изгоняли с территории Кубани и наши взяли Ростов, в этом корпусе, как мне рассказывали те, кто в его составе воевал, оставалось всего несколько донских дивизий. То есть, не свои кубанцы освобождали землю. Но, знаете, Кубань всегда являлась неоднородным явлением. Так, по одну сторону реки Кубань проживали переселенцы — выходцы из черноморских казаков (с Украины). Там у них были атаманы Чепега, Белый. Все станицы в этих местах называются по именам: Корсуньская, Полтаская. Дальше, на север, шла станица Усть-Лабинская.
К тому времени нашими войсками уже были освобождены города Киев и Одесса. В этих местах в середине у нас проходил такой выступ. Это было в районе поселка Городище и города Корсунь. Кстати говоря, я за эти бои был отмечен орденом Красной Звезды. Там в районе деревни Манинцы мы закрыли выступ. Мы оказались в районе Гостищево впереди своей пехоты и дрались всю ночь. С этих мест шел по немецким тылам наш 2-й Украинский фронт. Немец шел где-то влево на два километра. И там, значит, сложилась такая ситуация, что то мы займем круговую оборону, то, наоборот, он нас окружит. Потом навстречу нам пришел 1-й Украинский фронт.
Наш кавалерийский корпус и танковый корпус прошли вместе около 80 или 100 километров и прорвали фронт в районе населенных пунктов Капитоновка и Остиняшка. Дальше мы пошли на город Лебедин, вышли на Шмолу, то есть, в тыл окруженной немецкой группировки. В это время 1-й Украинский прорвал тоже фронт, но уже около Белой церкви, и вышел тоже к этой же самой Шмоле. В итоге немцы оказались в полном окружении. А ведь сделать окружение фашистов оказалось не так-то просто. Ведь рядом проходила тяжелейшая и грязная дорога. Только кавалерия по ней могла прорваться. Между прочим, наши кавалерийские корпуса действовали совсем не так, как кавалеристы в годы Гражданской войны — рубились лава на лаву и прочее. Почему я это знаю? В составе кавалерийского корпуса я провоевал полгода, пока мы окружали немцев. И могу с уверенностью сказать, что тогда, при современном оружии, кавалеристу участвовать в наступлении было очень трудно.
В чем эти трудности проявлялись? Во-первых, если ты, как кавалерист, скачешь на коне, ты в левой руке держишь повод коня (ведь лошадь не всегда была обучена обходить различные препятствия), а в правой — саблю. Во время кавалерийских атак чаще шли с саблей на врага. Но использовали и оружие. Однако им было намного тяжелее, чем обычному пехотинцу, стрелять. А что делать, если у тебя автомат ППШ, который был барабанного типа, имел 71 патрон и весил пять килограммов? У немцев же были автоматы, у которых имелось по 32 патрона в рожке. И поэтому, когда по тебе, как кавалеристу, били с автоматического оружия, твой конь становился очень удобной для немцев мишенью. Почему? Во-первых, он сам был размером метра полтора или даже выше. А во-вторых, на нем сидел всадник с саблей и автоматом. Тебе же держать автомат, который весит пять килограммов, на лету было очень тяжело. Не говоря уже о том, чтобы из него стрелять. Поэтому кавалерийские части участвовали в таких боях, в которых для них была необходимость. Ты, наверное, видел кадры из документальных фильмов, где показано, как наши кавалеристы идут с саблями на немцев. Фашисты, понимаешь ли, сбились со своей позиции и начали отходить. Так вот, для того, чтобы их задержать, наши как раз и бросили навстречу им кавалерийские части: чтобы они их, так сказать, окончательно уничтожили. В нашем случае все выглядело несколько иначе. Когда мы прорывали фронт и наши части шли по колено в грязи, шли в бой кавалеристы, у которых сабли были приточены к седлу. Танки шли по грязи. Пушки тоже везли не по лучшим дорогам. А потом, как только мы окружили эту немецкую группировку в районе Городища, так кони — на привязь, их стали уводить в тыл, а наши казаки заняли оборону.
И.В. Конные атаки вам приходилось видеть?
С.М. Ты знаешь, у нас, как правило, конных атак на закрепленных позициях не было. Или противник отступал и мы за ним, понимаете ли, шли и казаки его рубили, или просто отступал.
И.В. Видели ли вы нашу кавалерию на рейде?
С.М. Конечно, видел. Ведь мы, когда прорывали фронт, прошли 100 километров по немецким тылам. Для нас существовала единственная дорога. Справа от нас, в двух-трех километров, находились немцы. Во время таких переходов наибольшую опасность для нас, кавалеристов, представляла авиация. Я даже удивился: откуда этих самолетов здесь столько собралось? А мы же не являлись пехотой. Если бы мы были обыкновенной пехотой, то нам достаточно было бы на поле лечь, и противник нас бы не увидел. Все мы, как говориться, в защитной форме. А если ты кавалерист, то ты куда денешь своего коня? А кони не все черные и не все зеленые: они бывают самых разных сортов. Поэтому для кавалерии авиация всегда представляла серьезнейшую опасность. Еще одним серьезным испытанием для кавалерии, правда, на психологическом уровне, являлась артиллерия. Дело в том, что у нас не все кони оказались приучены к ее грохоту. Скажем, едут и везут тачанки десятка полтора коней. К грохоту артиллерийских батарей они еще как-то привыкли. Но когда начинается артиллерийская подготовка и по позициям бьют наши «Катюши» и «Ванюши», когда огонь идет с диким свистом, наши кони становятся на дыбы. Приходится им пилоткой или шапкой закрывать глаза. Он все дрожит и оседают перед тобой. Короче говоря, они не привыкли к такому огню.
И вот в таких условиях мы прошли более ста километров (100 километров — самое меньшее), по узкой дороге, навстречу войскам 1-го Украинского фронта. Потом мы соединились с ними и вместе окружили корсуньско-шевченскую группировку фашистов. Как только мы это сделали, возникла необходимость в том, чтобы подковать коней, подтянуть подпоны и определить их на постой. Подошла пехота и заняла оборону. Начался процесс подготовки к предстоящим боям. Надо сказать, в то время на нашем участке сложилась такая обстановка, что эту группировку, чтобы ее легче было окружить и уничтожить, наши разрубили на несколько частей. Мы находились в районе населенных пунктов Шандровка, Корсунь, Городище. Для уничтожения группировки мы начали сжимать ее со всех сторон. В это самое время наших кавалеристов и отвели на отдых, чтобы они подковали лошадей. Нас, связистов, тоже отвели в сторону. Почему так было сделано? Дело в том, что когда заканчивался сильный бой, полевой кабель, как правило, оказывался в десятках мест порванным. Приходилось делать у него закрутки, изолировать и прочее. Но как-то справлялись.
На этой, так сказать, дуге мы держали связь с 1-м Украинским фронтом. Потом смотрим (это произошло в феврале 1944 года): вдруг наша связь, которая, понимаете ли, обеспечивала соединение двух фронтов, порвалась в двух нитках. Это же случилось страшное дело! Ведь за Днепром у нас стояли танковые соединения Катукова и Ротмистрова. Мы сразу это почувствовали. Хотелось бы отметить, что за время своего долго пребывания на войне я научился запросто узнавать ход боя на переднем крае. Я всегда по звуку мог определить, когда бьет немецкий автомат, когда строчит немецкий пулемет МГ, когда бьет артиллерия, когда стреляют наши «Катюши» и немецкие «Андрюши». А «Андрюшами» мы называли те установки, которые стреляли болванками, имели меньшие и более тонкие стволы. Они, как и шестиствольные минометы, били по нашим укреплениям. Вот из таких деталей на фронте складывалась обстановка боя.
И вот, едва нарушилась связь, как немцы начали прорывать фронт в районе населенных пунктов (я их, к сожалению, всех плохо помню) Городище, Шандровка, Мариновка, Журжинцы. Там, если помнишь, когда-то родился Тарас Шевченко. И вот в этих местах немцы начали прорывать фронт. Танков у них тогда уже не осталось. Они израсходовали все свои боеприпасы и пошли на прорыв лавой, засучив рукава. Они поставили себе задачу во что бы то ни стало вырваться с севера на юг и повернуть в сторону железнодорожного моста (там проходил еще такой виадук), с тем, чтобы выйти на Черкассы и тем самым выбраться из окружения. Причем перли они такой лавой, что шли как один на один. Это, конечно, стало большой приманкой для нашей кавалерии. Помню, после этого боя мы, пятерка связистов, пошли налаживать связь. Причем свои обязанности распределили так: один пошел по одному проводу, другой — по другому, третий — по третьему. Так вот, пока мы вдоль проводов шли, кругом встречались убитые в результате той самой кавалерийской атаки. Должен сказать, что на фронте я видел немало убитых, как наших, так и немцев, но такого ужаса мне встречать не приходилось. Ведь кавалерийская атака, как говориться, тем характерна, что оставляет после себя очень много крови. Почему? Потому что если в обыкновенном бою ты убиваешь врага, пуля от автомата пробивает его тело или его, скажем, прокалывает штык. Но в этом случае всегда есть возможность зарезервировать или законсервировать кровь. Если она вышла, человек умирает. А может — и останется каким-то образом жив. В кавалерии же кровь никак не зарезервируешь.
Помню, когда наши кавалерийские части подняли по тревоге и бросили в феврале 1944-го на высоту в районе Шандоровки, эта высота нам была хорошо видна. Она оказалась покрыта легким белым снежком. Кругом был туман. И когда туда лавой влетела наша кавалерия, эти высоты над Шендеровкой стали черными. Эта чернота влетела в гущу прорывающихся сквозь окружение немцев и начала их кромсать. Уже потом стало известно, что в результате того самого боя наши кавалеристы порубили несколько десятков тысяч гитлеровцев, выходивших из окружения. А началось все с того, что мы, связисты, и другие солдаты вышли с восточной стороны дороги на юг, по которой шли эти немцы, и стали по ним стрелять. Помню, я тогда выпустил по ним два диска. В каждом диске у автомата имелся 61 патрон. Разве тут назовешь точную цифру, сколько немцев я тогда уничтожил? Помню только, что стрелял по этой толпе. Все это из-за утра было плохо видно. Короче говоря, я оставил там два автоматных диска. Потом подошли пулеметчики. С левой стороны появились танкисты. Одним словом, мы задержали продвижение немцев на восток с тем, чтобы расширить район прорыва. Они кинулись в другую сторону. В этот самый момент по ним и ударила наша кавалерия. В то время у них, видать, оказались на исходе патроны (все-таки какое-то время находились в окружении). Танки у них остались сзади над Городищем. Через какое-то время территория, от которой они шли, покрылась заревом пожара. Как нам сказали, это они подожгли свои танки, бронетранспортеры и машины: чтобы они только нам не достались. После чего в пехотном строю, засучив рукава, пошли на нас. Перед этим, видно, глотнули какой-то химии. Не было заметно, чтобы они шли пьяные. Но что какой-то химии наглотались — это по всему чувствовалось. У них для этого дела существовали какие-то таблетки. Черт их знает!
И.В. А почему вы решили, что они именно наглотались химии?
С.М. Если бы на штыковой бой пошли мы, в этом бы не было ничего удивительного. Мы ходили на врага засучив рукава и прорывались штыками. А немцы штыкового боя избегали на фронте. Об этом я сужу, исходя из своего личного боевого опыта. Видать, у себя на переднем крае около Шандровки они расстреляли все патроны. Наши, которые занимали оборону, потом рассказывали, что они в одних гимнастерках прошли через их пулеметы и буквально лавой побежали на них. Тут их и порубили наши кавалеристы. Собственно говоря, рубили они их следующим образом: то голова летит, то рука, то плечо. От этого, конечно, хлещет кровища. Крови на поле боя образовалось столько, что по нему стало невозможно идти. Трупы лежат один на другом. А мы, связисты, через это поле налаживали связь. Так мы из под этих трупов не могли вытащить провод. Тогда мы развернули катушки и шли друг другу навстречу, чтобы соединить связь. Трупы же, если они нам это мешали делать, оттаскивали от себя направо и налево. Не будешь же ты их обходить каждого! Ведь от этого провод будет крутиться, а он, напротив, должен идти прямо по земле.
Короче говоря, так мы уничтожали несколько тысяч прорывавшихся через нашу оборону немцев. Не так давно я читал книгу писателя Владимира Карпова, в которой описывались данные события. Так вот, что интересно: как и у него, так и некоторых других авторов упоминается о том, что в то время существовала какая-то неразбериха между 1-м и 2-м Украинскими фронтами. Тогда, если не ошибаюсь, северную часть курировал Жуков вместе с Рокоссовским. Они что-то там подготавливали. Потом действовали другие фронта: с севера — Брянский фронт под командованием Ватутина (впоследствии — 1-й Украинский фронт), с другой стороны — Степной фронт (впоследствии наш 2-й Украинский), которым командовал Конев. Так вот, в процессе операции, о которой я рассказываю, какая-то наша армия оказалась зажатой. Ни тот, ни другой фронт так и не смогли ей помочь. Она была смята. В приказе Верховного Главнокомандующего Сталина двум нашим фронтам — 1-му Украинскому и 2-му Украинскому — объявлялась благодарность за уничтожение прорвавшейся группировки фашистов.
Хотелось бы отметить, что когда немцы пытались осуществить свой прорыв, я, как связист, обо всем слышал по рации. Конечно, все фамилии и должности, которые занимали наши командиры, были кодированы. Однако я, несмотря ни на что, все отлично понимал. Положим, командир 1-й кавалерийской дивизии проходил под одним номером, а его вышестоящий командир — командир кавалерийского корпуса генерал Селиванов - под другим номером. И вот между ними, как сейчас помню, состоялся такой разговор. Воспроизвожу его почти дословно:
Селиванов. Так в чем же дело? Почему ты застрял на таком-то рубеже? Почему не берешь такой-то поселок?
Комдив. Да сзади нас окружали. Пришлось отбиваться от окруженных.
Селиванов. Как окружали. А я говорю с вами по телефону по полевой связи. Разве связистов не окружают?
(А немцы нас действительно окружали. Мы всю ночь с ними дрались. Бывает, то справа километрах в двух от нас они соединятся между собой, то слева. А мы, пехота и кавалеристы, пробиваем себе дорогу).
Комдив. Да там на хвосте оказались немцы.
Селиванов. Какой такой хвост? Ты казак или кто? Казак должен смотреть только на гриву своего коня, а не на хвост. Давай вынимай карту...
(А карта была кодированная. В темноте ему, видать, было ничего не разобрать).
Комдив. Да я не вижу этой карты. Фонаря нет.
Селиванов. Вот этот поселок, который впереди за пять километров маячит, видишь?
Комдив. Да, этот поселок я вижу.
Комдив. Кровь из носу, но чтобы к вечеру ты мне доложил, что ты находишься в этом поселке.
За время нахождения в составе кавалерийского корпуса мне приходилось слушать всякие переговоры. Так, например, в моей памяти отложился случай, когда наш какой-то командир докладывал своему начальству о том, что они сбили транспортный немецкий самолет, в котором находилось сорок человек. А все дело в том, что когда немцы вырывались из окружения, для того, чтобы их спасти, они посадили офицеров своего штаба в свой самолет. Но при переходе границы их самолет сбили. И я хорошо помню, как какой-то наш командир докладывал по рации: «Сбили самолет. Там у них находится знамя какой-то бригады, не то Валенсия, не то Волония». Вообще-то говоря, немецкие знамена были самых разных расцветок. Но чаще всего нам попадались красные, в середине которых находился белый круг с черной свастикой. Между прочим, у нас между донскими казаками и кубанскими казаками имелись тоже отличия. Так, например, донские казаки носили фуражки с темно-синим околышем и шаровары с лампасами. Кубанцы же ходили в обычном обмундировании. Их отличием являлись шапка, которую они носили в зимнее время, и кубанка на все остальное время года. Между прочим, кубанцы подарили нашему командиру бурку и кубанку. Так он, когда ехал на тачанке, на себя одевал бурку и кубанскую казачью форму без лампас.
Несмотря на то, что прорвавшаяся группировка немцев была нашими войсками уничтожена, в одном месте она смогла сделать прорыв и выйти на территорию, которую курировал 1-й Украинский фронт. Сталин этим был, говорят, очень сильно недоволен, и в первую очередь тем, что в результате этого оказалась отделена армия, которой ни один фронт не помог во время того самого боя. И, повторюсь, когда Сталин объявлял благодарность за уничтожение группировки 2-му Украинскому фронту, там не говорилось об участвовавших в этом деле воинских частях: скажем, о пятой гвардейской дивизии, о четвертом Кубанском кавалерийском корпусе. Вообще цифры воинских частей на фронте считалось зазорным называть. Даже на знаменах, где существовала надпись «За нашу Советскую Родину», само название части было заклеено красной ленточкой: чтобы не знали, что это за такая часть. Поэтому единственным названием любой воинской части в годы Великой Отечественной войны являлась полевая почта.
Потом мы пошли в сторону Умани и Хрестиновки. Правда, сначала Умань мы не могли взять, так как она оказалась забита отступающими немцами. Кругом стояла грязища. Они побросали на дороге в четыре ряда свою технику. Причем техника была самых разных сортов. А мы знали, что немцы как-то не привыкли ходить пешком. Поэтому, заинтересовавшись этим вопросом, спросили у местных украинцев: «Как же они отходили?» «А как? - говорят те. - За рога волов, понимаете, цепляют, шинель подворачивают и так и топают по грязи». Конечно, кругом была страшная грязь. Наши тачанки в ней вязли. Тогда мы из них слезали и лошади изо всех сил вырывали их из грязи. Кстати говоря, в это время нам на выручку пришли местные жители. Они от деревни до деревни, от станицы до станицы несли на себе ящики со снарядами, патронами или брали их по штуке. Все это они передавали цепочкой нам, чтобы только обеспечить наше продвижение вперед. Правда, старались это делать так, чтобы в это время не было дождя. Все мы понимали то, какое огромное значение для нас имеет их помощь. Ведь обеспеченность снарядами и патронами играла в бою первостепенное значение. Наряду, впрочем, со связью. Я, как связист, прекрасно знал, что значит на фронте потеря управления войсками. Фактически это означало катастрофу. Правда, уже в самом конце войны я успел немного повоевать еще и разведчиком. Но это было уже в Венгрии. Мы ходили в тыл к немцам, таскали «языков». Но об этом я расскажу чуть позднее.
После Кишиневской операции мы шли в сторону Решетиловки и некоторых украинских поселков. Бандеровцы остались от нас справа. Мы, между прочим, тогда о них очень мало знали, потому что когда шли, они не очень-то сильно себя проявляли. Они стали больше о себе заявлять после войны. Тогда в лесах возникли так называемые бандеровские склоны. В Прибалтике появились лесные братья и прочая дрянь. Постепенно мы стали подходить к границе с Румынией. Там, около границы, протекала река Днестр, проходила Молдавия с городом Кишиневым во главе, рядом находился Тирасполь — столица так называемой Левобережной Украины. Там нам встречались украинцы, которые, как и мы, жили при советской власти. А ведь были западные украинцы, которые раньше жили под Польшой. Потом, когда Гитлер громил Польшу, мы им помогли, фактически спасли их от уничтожения и взяли под свое крыло. Они всегда считались западными украинцами. А с другой стороны находились Харьковская и Полтавская области, Одесса... Все это были, как говориться, старые границы Украины. Вот мы когда туда подошли, форсировали реку, вышли на территорию Румынии. Сейчас много говорят о том, что Сталин являлся чуть ли не ровней Гитлеру. Но я вам прямо скажу: то, что будто бы мы чинили над мирным населением в освобожденных странах расправу, чепуха. Народ там очень дружелюбно к нам относился, даже немцы. А я освобождал не одно какое-нибудь государство. Я прошел, как тебе уже сказал, через семь государств мира. Особенно жестокими стали, помню, для нас бои в Венгрии (в так называемой венгерской долине).
Наш 2-й Украинский фронт первым вышел за пределы государственной границы СССР. В то время мы еще к германской границе даже не подходили. Помнится, перед тем, как мы вступили на территорию Западной Европы, нас засыпали фашистскими листовками. В них говорилось о том, что сейчас, мол, в бой вступает Русская освободительная армия генерала Власова. Там были и такие слова: «Вы должны помочь защитить Европу и Россию от угрозы большевизма». И потом нам действительно пришлось столкнуться с власовцами. Но когда ты берешь пленных, ты же не разговариваешь с ними и не допрашиваешь их. Как у связиста у тебя нет на это никаких полномочий. С ними уже вело беседы НКВД. Поэтому, даже если пленный солдат разговаривал по-русски, ты с ним не разбирался, власовец он или кто, а отправлял его дальше в тыл.
Помню, когда мы выходили за границу, нам говорили о том, что мы должны вести себя как настоящие солдаты Советской Армии. То есть, не насиловать местное население, не расстреливать детей и прочее. Тогда, кстати говоря, вышел приказ о том, чтобы нарушителей этого приказа привлекать к суду военного трибунала, вплоть до расстрела. Конечно, приказ был очень строгим. Я хорошо запомнил, что когда мы вышли к румынской границе, то обратили внимание на то, какая все-таки это бедно живущая нация — румыны. По своему образу жизни они чем-то напоминали наших цыган.
Когда мы вышли за Днестр, там у нас разгорелось еще одно ожесточенное сражение, которое вошло в историю как Яссо-Кишиневская битва. В ней я, между прочим, также принимал участие. В чем состоял основной ее смысл? Значит, в то время, когда мы вступили на территорию Румынии, король этой страны Михай Первый, а до него там правила, кажется, Елена, поднял восстание. Поддерживающие его и Елену румыны, которые участвовали в этом восстании, освободили город Бухарест. Они взяли его без боя. Тогда выбитые из Бухареста немцы, опираясь на румынские полуфашистские организации вроде тех, которые возглавлял Антонеску, встретили нас сопротивлением в Яссо-Кишиневской битве. Они хотели во что бы то ни стало приостановить наше дальнейшее продвижение. По правде говоря, это были не немцы, а румыны, находившиеся на службе у Вермахта. Они немного отличались от обычных немецких солдат. Во-первых, ихние каски имели, как у пожарных, гребешки. Во-вторых, их солдаты носили вместо сапог четырехугольные, местами кожаные постолы. В третьих, офицеры их носили голенища и хромовые фуражки. Эти бойцы были длинными и высокими. Мы с ними столкнулись со стороны столицы Молдавии — города Кишинева. С другой стороны находились Яссы — почти пограничный румынский городок. Это случилось в июле-августе месяце 1944-го года. Кругом была жара. Перед нами, помню, расстилалось равнинное поле. Лесов там не было. Таким образом, открывались большие возможности для танков. В этих боях я тоже находился при казачьем кавалерийском корпусе.
Я уже рассказывал тебе о том, что для кавалериста всегда было самым трудным сбить на бегу из автомата противника. В боях под Яссами я сам лично это испытал. Я об этом еще расскажу. Там, кстати говоря, я в первый раз в жизни встретил такие длинные виноградники. Румыны набивали целые тележки этого винограду. И если у нас, в России, гостям первым-делом подают хлеб-соль, то у них существовала другая традиция: они в знак уважения или просто подавали вина, или давали целую канистру этого вина. Мы сначала его пили, а потом нам запретили это делать. Почему? Потому что происходили случаи, когда вино оказывалось отравленным. Так они устраивали диверсии в отношении проходящих воинских частей.
И.В. Вы помните конкретные случаи подобных отравлений?
С.М. Да, были конкретные случаи. Я помню, как в Венгрии (это произошло, правда, после Румынии) местные подавали отравленную водку или самогон (я уж не помню, как он по-ихнему назывался). Это отравление, произошедшее в Будапеште, мне надолго запомнилось. Когда же мы шли по румынской территории, там у нас шли бесконечные бои. Помню, идем, справа от нас Карпаты, слева — Дунай. На улице — жара. Из-за нее на спинах солдат образовывается соль. А нас все сопровождают название румынских городов, через которые мы держим свой путь: Рымник, Бахшаны, Плоэшти (район этого города окружили немцы)... Когда дошли до Бухареста, мы прервали свое движение. Там немцы, сторонники Антонеску, стали уничтожать восставших румын. Поэтому нам еще под Плоэшти пришлось столкнуться с немецкими частями. В самой же Яссо-Кишиневской битве, помню, хорошо действовали наши танки. Но эта операция как-то очень быстро закончилась. Мы прошли через города Рымник, Барлад. Между прочим, это были те самые места, через которые в старое время проходили суворовские солдаты.
Еще я помню, что под Плоэшти мы разогнали румын. Они ехали на бричке, покрытой камышом, и везли здоровые походные ружья. Сам он спит и везет длинные ружья. Эти ружья почему-то мне запомнились своей необычной длиной. В город Бухарест мы входили без боя. Город патрулировали румынские солдаты. Но к нам они близко, как правило, не подходили. А буквально незадолго до этого нам пришлось пострелять очень много немцев в тех самых виноградниках. Помню, скачу я как-то на коне. Я уже говорил о том, что конем нужно было уметь управлять: знать, как им вправо и влево руководить. Это — во-первых. Во-вторых, воюя в Румынии, мы сначала еще не знали того, что у них у виноградников шла не только прямая дорога, которая всем была видна, но и шла еще одна дорога, которая как-то соединялась с прямой проволокой посередине. Там оказалось несколько немцев. Одного из них я сбил с автомата. Другой же, здоровый австриец метра два ростом, вышел и упал. Я подумал, что он сейчас сдастся в плен и подымет руки вверх. Но не тут-то было! У него, как оказалось, кончились диски у автомата. Тогда он из голенища достает магазин и пытается вставить его в автомат, чтобы стрелять по мне. Тогда я поворачиваю влево коня, даю повод, чтобы освободить правую руку... Ведь стрелять нужно было через голову коня. Когда я вбок нажал на автомат, то промахнулся. В это время конь попал на проволоку, соединявшую две дороги, и запутался, стал барахтаться передними ногами. Я никак не мог ее преодолеть. Тогда я соскочил с коня и добил этого немца. Потом пошарил в его карманах. У него оказалась фотография с Вены, на которой были двое, по-видимому, его ребятишек. Еще я сорвал с груди железный крест, какую-то медаль, освободил коня и поехал дальше.
Утром мы на бричках въехали в Бухарест. Где-то рядом шел медсанбат. Нам встретились грудастые женщины. Кто они были, я не знаю. На румынок они были не похожи. Вообще румыны, я тебе говорю, очень смахивали на наших цыган. В чем это проявлялось? У них во дворах кругом царила бесхозяйственность. Заборы были, понимаете ли, поломанными, хаты — недостроенными, кругом бродили куры и поросята. Короче говоря, чувствовалось, что за их живностью никто не ухаживает.
Помнится, там же, в Бухаресте, ко мне подошел румын, который немного болтал по-русски. Мы в то время развели костер и варили какую-то кашу. Вместе с нами сидел командир нашей роты капитан Земляков. Этот румын пришел со скрипкой и спросил у меня: «Кто начальник этого русского войска?» Ему показали на Землякова. «Я от имени румын, - начал он, - хочу сыграть вам наши хорошие песни». И стал пилить на своем музыкальном инструменте классическую музыку: произведения Моцарта и прочее. «Да не это нам надо! - сказали мы ему. - Сыграй что-нибудь русское». Тогда он сыграл нам «Катюшу». Надо сказать, «Катюшу» в то время знала вся заграница. Потом он сыграл песню, в которой звучали слова: «На диком берегу Иртыша сидел рыбак». А потом этот румын нам и говорит: «Слушайте, я сыграю вам ваш гимн». А мы тогда уже знали, что в 1943 году вышел новый Гимн Советского Союза, написанный Сергеем Михалковым, и положенный на музыку Александрова. Мы тогда еще участвовали в боях на Курской дуге. И вдруг в газетах появилось сообщение о том, что гимн «Интернационал» меняется на новый гимн. Там же был напечатан текст этого гимна. Кто-то из наших его вырезал и оставил себе на память. Кстати говоря, мы довольно редко получали газеты. Лишь иногда, бывает, письмоносец принесет к нам со штаба несколько этих газет. А я в роте считался самым зрячим. Это сейчас я вынужден носить очки, так как у меня зрение плюс тринадцать. А тогда у меня были глаза как у кошки: я видел буквально все. Поэтому ко мне всегда подходили наши бойцы и говорили: «Сережа, почитай!» Особенно они любили, когда я им читал статьи Эренбурга, Симонова и прочих. Гимн я им тоже читал. Про меня говорили: «Вот видите? Сережка у нас как агитатор». Поэтому у нас все знали текст Гимна СССР, но никто не слышал его исполнения. Всем было прекрасно известно, что в Гимне ССР есть такие слова: «Союз нерушимый республик свободных». Румын начал пилить его мелодию. А капитан Земляков с повязкой на голове (он получил легкое ранение головы) знал этот гимн и сказал: «Так что же вы сидите? Это же, понимаете ли, гимн России, гимн Советского Союза. Встать!» Мы тогда встали. Румын стал что-то под эту музыку подпевать. Этот гимн послужил для нас мощным зарядом. С ним мы прошли другие страны Европы.
Но после того, как мы прошли Румынию, слева от нас находилась Болгария. Она, между прочим, тоже объявила войну нашей стране, когда там правил некий царь Борис. Они предоставляли для немцев свою территорию для создания баз на правом фланге их фронта. Но самих болгар немцы боялись посылать против нас. Почему? Потому что их очень много переходило на нашу сторону. Я до сих пор помню их черные шинели. Они тоже, как и мы, русские, ходили в бой со штыками наперевес. Помню, мы шли в атаку, как отдельно от нас шли в бой эти самые болгары. Где-то отдельно воевал румынский корпус: он тоже перешел на сторону Советского Союза. Я уже говорил тебе о том, что эти румыны были страшные барахольщики. И они, между прочим, занимались самым настоящим беспределом в Венгрии. Они туда пришли вместе с нами как завоевательная армия. Бывало, зайдем в какой-нибудь графский замок, чтобы посмотреть там вина или еще что-нибудь: чтобы взять какие-нибудь тряпки, заменить штаны, потому что брюки у нас были очень рваные. Так нас обходят в этом деле румыны. Они все, вплоть до швейных иголок, у местных венгров утащат. Так к нам подходили местные венгры и обращались за помощью. Говорили: «Помогите! Руманышты солдаты безобразничают». Так мы ходили их выгонять. Короче говоря, наводили таким образом порядок.
А еще мне запомнилось, что когда мы по Румынии проходили, у них тогда водилась местная валюта — лейи. Это считалось у румын национальной маркой. Еще у них ходили форренты. С ними мы могли зайти в пивной ларь. В то же самое время на их территории признавались наши оккупационные деньги. Ими можно было расплатиться за поросенка или за куренка. Наши потом сдавали их на облигации. Но мы почему-то этих оккупационных денег не получали. Но я, представь себе, об этом вспоминаю с огромной благодарностью. Почему? Когда уже потом я должен был получать пенсию, мне прислали документ на четырех листах, покрытый какой-то краской или воском, чтобы не было подделки. Там было расписано помесячно, какой период времени я находился в действующей армии, какой — а тылу. Скажем, за январь 1943-го года было написано — Воронежский фронт, календарный 1 месяц, для пенсии — 3. Ведь в те годы время, проведенное на фронте, рассчитывалось как год за три. Так вот, этого фронтового стажа, то есть, времени, проведенного в боях, мне засчитали больше трех лет. Это означало, что льготных я прослужил 6 лет. На этих бумагах было указано, в каких частях и где я служил. И поэтому, если бы я получал эти оккупационные деньги, это все пошло бы в счет.
После Бухареста мы повернули на Трансильванию. Ее территория считалась спорной между венграми, чехословаками и румынами. Что интересно: в ходе боевых действий и политических событий, которые совершил Гитлер, она передавала свою территорию во главе с городом Клуш то одному, то другому, то третьему государству. Сначала, правда, это случилось вскоре после нашего вступления в Бухарест, мы повернули на Болгарию. Помню, подошли к болгарской границе, форсировали там тоже Днепр. Но когда пришли, обратили внимание на то, что болгары с оружием против нас не выступают. Тогда нас вернули опять в Бухарест. Оттуда мы уже двинулись в Карпаты. Там, помню, протекала быстрая горная река. Она оказалась занятой различными немецкими патрулями. Уже за этой рекой начиналась Венгрия. Так вот, мы все эти немецкие патрули разметали, а сами вышли к венгерской границе.
Кстати сказать, пока мы находились в Венгрии, я всегда носил с собой местную карту. Ее я выдрал в одном из графских замков из атласа. Там на венгерском языке были обозначены все названия населенных пунктов. Но что характерно: сколько бы я там ни находился, ни разу не встречал такого названия — Венгрия. Собственно говоря, мы так ее никогда и не называли. Самих венгров, например, называли мадъярами. Помню, на границах городов у них стояли железные щиты, на которых были обозначены территории по старым границам. Ведь до Первой Мировой войны существовала единая империя — Австро-Венгрия. И только по краю были обозначены территории, которые отошли к Австро-Венгрии по приказу Гитлера. Ими были Закарпатская Украина (Ужгород, Мукачево, Чехов), а от Румынии — Трансильвания, от Болгарии — еще какая-то область. Все это было обозначено и у меня на карте.
И.В. Чем вам запомнились мадъяры?
С.М. Про них я могу сказать одно: это были очень воинственные люди. Причем настолько воинственными, что у них в каждом селе встречалась или женщина с мечом, или местные солдаты со штыками и прочим оружием, которые отбивались. Почти в каждом крупном городе у них стояли исторические памятники. Их у них было почему-то очень много. Но как они нас встречали? Когда мы находились за Плоэшти, это считалось уже территорией Венгрии (а город Плоэшти — это еще была Румыния). Красивейшие места, плодороднейшая земля, равнинная местность, покрытая лесами. Население там жило неплохо. Но везде, где бы мы ни проходили, не было написано, что это Венгрия. На всех указателях нас встречала надпись - «Мадъярова зах». Между прочим, для Румынии существовало тоже какое-то немецкое название. Помню, спустились мы в город Бикешапа, рядом с рекой Муреж. Местные люди нас встретили там нормально. Но для того, чтобы их не трогали, многие жители собирались в поселке в каком-то одном месте. В одной хате собиралось по пять-шесть семей вместе с детьми. И поэтому, когда наши солдаты приходили в дома, чтобы остановиться на отдых, их никак не касались. Помню, познакомился с девчонкой-румынкой. Ее звали Маришка. А я был молодой. Она очень любезно меня встретила.
Между прочим, в этих местах я впервые встретил четвертый гвардейский кавалерийский корпус казаков, которым командовал генерал Исса Плиев. Тогда они как раз пришли на отдых. И надо же было такому случиться, что и мы там оказались на отдыхе. Мы освободили в сарае им место от своих лошадей, покормили. Несколько дней вместе ночевали. А потом снова пошли на фронт. И таким путем прошли всю Венгрию. Практически все время участвовали в боях. Наш путь проходил через города Тисафальдорт, Меледхаза, Литльберцен, поселок Сальнок (Записано на слух. - Примечание И.В.) И везде, где бы мы ни проходили, у нас шло все, так сказать, однообразно: бои-бои-бои. Среди немецких войск венгров становились все меньше и меньше. Впрочем, к тому времени появились уже Румынский корпус, воевавший на нашей стороне, Чехословацкий корпус во главе с генералом Свобода. Хотя, к слову сказать, Чехословакии тогда как таковой не было: существовала территория трех республик — Чехии, Братиславы и Словакии, которые объявили нам войну, но в 1942 году почти все сдались в плен. А Чехословацкий корпус воевал против немцев и дошел почти до самого окончания войны. Они, между прочим, хорошо воевали. И командовал одно время ими, повторюсь, генерал Людвиг Свобода.
А ведь мы еще совсем краем зацепили Польшу и прошли ее южнее. Должен сказать, что поляки к нам относились очень дружелюбно. Так уж исторически сложилось. Между прочим, у них в Катовицах возникло объединение поляков, которое возглавлялось коммунистами. Но в это время в Лондоне уже находилось эвакуированное в период войны польское правительство. Оно какие-то там дела проворачивало. Кстати говоря, сначала поляки тоже воевали вместе с нами, как, скажем, румыны и чехословаки. Ведь существовала армия поляка генерала Андерса. Ее формирование проходило в период Сталинградской битвы. Нам тогда не хватало оружия. Но мы все равно вооружили этот корпус. Они попросили их переправить на территорию Запада через Иран и Турцию: с тем, чтобы они могли воевать против немцев или, как тогда было модно говорить, на стороне союзников. То есть, они хотели воевать с западной стороны — вместе с Англией и Франицей. Но потом вместе с нами воевало еще второе соединение поляков. Они формировались где-то в Люблине. Но мы, честно, говоря, совсем краем зацепили Польшу. В том числе и, конечно, не видели всех этих бандеровцев. Они остались правее.
И.В. А в чем проявлялась их недружелюбность?
С.М. Ну, во-первых, они с тобой, как с русским, были замкнутыми и не слишком разговорчивыми. А во вторых, понимаете ли, разные козни строили.
И.В. Какие?
С.М. Они, например, могли запросто отравить нам пищу или ночью обстрелять. Причем я хорошо помню случаи, когда они нас обстреливали. Впрочем, как я уже вам говорил, мы очень мало времени находились на территории Польши и прошли ее южнее. Бандеровцы остались от нас тоже, но севернее. Мы же шли в основном по своей территории, где жили настоящие, а не западные украинцы. Они нас очень хорошо принимали, почитали, можно сказать, как святых, а девчонки даже объяснялись в любви. Но я же могу тебе, ха-ха-ха, рассказать все подробности. Для этого нужно с меня писать целую книгу. Но мы не только у украинкам, но и к мадъярке, и к немке, и к молдаванке ходили. И все они были хорошими девчонками. Я тебе лучше расскажу про наивных мадъярок-венгерок, у которых мы остановились на постой. Звали их Илонка и Маришка. С Маришкой я по вечерам проводил время. Наши отношения были Вась-Вась. Они к этому относились нормально, так как понимали: лишь бы около них не крутились лишние солдаты. Ведь если сегодня может прийти один, то завтра — другой, третий. А это у них считалось плохим знаком. Солдат мог принести какую-нибудь болезнь. Родители ее особого внимания на меня как-то не обращали. Тем более, у них был погибший зять. Так вот, эта Маришка, что меня тогда очень сильно удивила, высказывала в разговорах со мной наивнейшие вещи.
И.В. А в чем проявлялась ее наивность?
С.М. Ну, например, Маришка, задавая мне вопрос, говорила о том, как она понимает нас, русских. Отрываясь от темы, хочу сказать, что я прошел семь или семь государств мира и нигде и никогда не слышал о таком, чтобы наши солдаты из мести расстреляли ребенка или утопили бы в реке старика, или же совершили бы еще какое-нибудь злодеяние. Мы вообще как-то дружелюбно к людям относились. И то, что впоследствии создалась организация стран Варшавского договора, это была прежде всего заслуга нас, фронтовиков. Почему? Потому что когда мы впервые вышли за пределы Советского Союза, нас, Красную Армию, местные жители почитали совсем за других людей. И вот эта Маришка, с которой у меня были под Будапештом отношения Вась-Вась, меня все об этом спрашивала. Они наших имен почему-то не выговаривали. Если встречался Александр, они звали его Шандер. Ивана они величали Иштваном. А имя Сергей они вообще не могли ни на что на своем языке переделать. Поэтому меня эта Маришка стала называть по фамилии — Мартин. «Мартин, - спрашивала она меня, - когда вы окончательно завоюете Будапешт, когда он будет ваш, как вы его переименуете, как вы его будете называть?» Я ей отвечаю: «Подожди, миленькая. Мы же не пришли к вам сюда вас завоевывать. Ваша столица Будапешт как был Будапештом, так им и останется. Пока вы сами его не переименуете, если это вам потребуется». «Мартин, - продолжала она меня донимать вопросами, - а скажи, пожалуйста, нам гитлеровцы сказали, что вы, русские, привезете такие колхозы. Это, говорили они, учреждения такие, где детей держат отдельно, родителей, отдельно, и все спят под одним общим одеялом. И как переводятся эти колхозы?». Я говорю ей: «У тебя наивное обо всем представление. Они никак не переводятся. У нас действительно есть колхозы. И если они вам понравятся, вы можете их у себя сделать. Создадите и жить будете так же, как и мы! А у нас колхозы создаются по местам». И потом, кстати говоря, у них действительно создавались колхозы.
Потом она мне и говорит: «Но вы какие-то другие солдаты. Вы смеетесь, нормально говорите, не деретесь, не насилуете, не стреляете в людей. А есть у вас такие войска сибирские. Говорят, что это почти звери. Они, значит, живут в Заполярье где-то в тайге, они едят сырое мясо и пьют кровь оленей». «Маришка, что ты говоришь! - начал я ее успокаивать. - Все ребята, которые стоят за мной, в большинстве своем сибиряки». «Да?» - удивилась она. Говорю: «Да, они формировались в Новосибирске, есть такой город на реке Обь, в Центральной Западной Сибири». Ведь меня, собственно говоря, в самом начале формирования увезли в Сибирь по той простой причине, что это подразделение формировалось из числа сибиряков. «Ну есть у них такое, что они пьют оленью кровь, - сказал я. - А ты что, никогда не пила оленью кровь?» А я об этом знал. Кто-то из моих сослуживцев-сибиряков рассказывал, что у них пьют оленью кровь и едят такую рыбу — строганину. Такие обычаи водятся на Полярном море. Рассказывавший мне эти вещи боец приглашал меня к себе в свой чум. Но мне так и не пришлось к нему съездить. Он впоследствии погиб. Он хороший был боец. Сам он считался по национальности якутом, хотя носил русскую фамилию. Впрочем, у нас в боях погибало очень много людей. Разве в одном разговоре можно вспомнить обо всех погибших?
Еще хотелось бы сказать, что когда я был в Венгрии, то встречал казаков, которые воевали на стороне немцев против нас. Сейчас некоторые из них до сих пор живы. Они носят кресты. Не так давно у нас состоялось открытие памятника Лавру Георгиевичу Корнилову. Я не пошел на это мероприятие. Ведь Корнилов возглавлял корпус, который брал Екатеринодар в 1918-м году. Вообще корниловцев в Гражданскую войну считали головорезами. Они вешали наших красноармейцев. А сейчас их руководитель у нас почитается. А памятник им установили недалеко от станции, в том месте, где их расстреляли. Мне сказали: «Надо открывать памятники этим людям таким образом, чтобы настоящие фронтовики приходили на их открытие и их признавали». Но я лично не хочу такой памятник признавать.
Теперь, если тебе интересно, я могу рассказать о своем участии в битве за столицу Венгрии — город Будапешт. В то время город был окружен войсками со всех сторон. В боях за него развернулись сражения, которые продолжались свыше двух месяцев. Расположение наших войск было таким, что с одной стороны от нас находился Будапешт. Рядом протекала река Дунай. Через Дунай проходило пять мостов, но все они, к сожалению, оказались взорванными. С одной стороны Дуная был район Пешт, там же стояла ратуша, в котором размещалось правительство, и разные памятники. По другую же сторону Дуная шли такие города, как Малый Кишпешт, Уйпешт, Новый Пешт (Названия воспроизводятся на слух. - Примечание И.В.) Дальше Дуная начиналось равнинное место, за которым была дорога, идущая на Вену. Так вот, этот Пешт мы освободили с ходу. Как сейчас помню, Новый 1945-й год мы отмечали в Будапеште. Мы стояли около кладбища Кирепшт. Недалеко находилась центральная площадь, ратуша, там же, где-то в середине города, в специально сделанной нише стояли различные памятники солдат и полководцев с мечами и прочим. Когда мы до центра города потом добрались, то подумали: «Куда же мы стреляли?» А дело в том, что в темноте, при свете ракет, нам ничего не было видно. А всевозможных памятников, как я уже говорил, в Венгрии нам встречалось очень много. Где-то рядом на Дунае стоял остров Чепель. Еще я запомнил красивейшее здание центрального замка. Должен сказать, что основные бои у нас проходили не в Пеште, так как этот район под Новый год мы что-то очень быстро заняли, а по ту сторону Дуная — в Будде. Там стояли дворцы и укрепления самого различного типа.
Два месяца мы брали с той стороны город Будапешт. Правда, перед этим сначала взяли центр, в том числе и ратушу, где заседало местное правительство. Дальше пошли на острове Чепель на Дунае. Он считался таким, как бы сказать, промышленным районом. Там шли всякие стройки и стояли заводы. По Дунаю на остров Чепель шел железнодорожный мост. В то время у мадъяр все мосты проходили под определенными названиями. Тот мост назывался Маргит. Так вот, в районе того самого моста мы дошли до середины Дуная. Тогда там еще стоял лед. Там же немцы внезапно прижали нас огнем своей артиллерии, не дали нам там дальше воевать. Кроме того, мост был разрушен авиацией. Но мы все равно с помощью понтонов обошли Дунай с тыла и зашли в Будду. В Будде располагались самые разные крепости и двухметровые дворцы. Там, собственно говоря, мы и дрались два месяца. Находились, помню, в течение двух месяцев в окружении.
Собственно говоря, образовалась такая ситуация, что сам мы Будапешт взяли, а за Будду дрались, как я тебе уже сказал, два месяца. Причем сражения происходили за каждый замок, за каждый населенный пункт. Через какое-то время немцы решили прорываться, так как им, видимо, Гитлер пообещал: мол, я вам окажу помощь. Но к тому времени основной фронт отошел километров за двадцать в сторону Вены. В это самое время мы продолжали воевать за Будду. Потом несколько тысяч немцев пошли на штурм наших позиций. Мы, правда, точно не считали, сколько их там было. Я в этот период работал на телефоне. Впоследствии нам предстояло участвовать в боях за столицу Чехии — Прагу, за столицу Югославии — Белград и за столицу Моравии — город Брно. Между прочим, этот город Брно раньше назывался Аустерлиц. Там, если помнишь, когда-то проходило знаменитое сражение Александра Суворова. Так вот, за два месяца до окончания войны под этим городом (кажется, северо-восточнее) погиб наш командир роты капитан Земляков. Тогда, насколько мне помнится, мы попали в окружение. И когда мы выходили с окружения, убило командира эскадрона. Земляков взял командование подразделением на себя. Пошел, понимаете ли, с саблей на немцев. (На самом деле Сергей Карпович немного ошибается. К тому времени капитан Земляков перешел в другую часть — в 13-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, где занимал должность начальника связи 6-го гвардейского кавалерийского полка. Он был убит, как значится в извещении о его гибели, 7-го апреля 1945-го года и похоронен в 2 километрах северо-восточнее села Бродское, в Чехословакии).
Конечно, на фронте встречались самые разные ситуации с гибелью или ранением наших бойцов и командиров. Реагировали мы на это в зависимости от обстановки. Скажем, мы летим на конях, как вдруг в это время с лошади падает человек. Ты в это время не будешь соскакивать коня, чтобы посмотреть, убит он или нет в бою. Почему? Потому что в данной ситуации ты уже видишь, что с ним произошло. И реагируешь на все в зависимости от ситуации. Если он ранен в руку и истекает кровью, ты можешь остановиться, где-то снять с него ремень или схватить провод и как-то заглушить рану выше ноги, чтобы остановить кровь. А потом уже ты звонишь санитарам и просишь их, чтобы они пришли за этим раненым. В то время женщин, даже медицинских работников, на фронте встречалось очень мало. Чаще попадались мужчины. Так вот, они приходили и уже делали этому раненому перевязку. Если солдат получал ранение в грудь, то это было совсем другое дело.
Я видел, как падали с коней не только раненые, но и убитые. Некоторые падали со сжатыми глазами и зажатыми руками. Одни сваливались с коня с открытыми глазами, другие — с закрытыми. Я много раз задавал себе этот вопрос: почему одни падают так, а другие, скажем, совсем по-другому? Уже потом в своих размышлениях я пришел к выводу, что если пуля бьет человека сразу насмерть, то глаза у него остаются открытыми и ложится он на землю всегда той частью, куда попала пуля или снаряд. Если человек умирает от ранения в грудь, его перед смертью всего парализует. Он, как правило, весь сжимается. Потом ложится на грудь. Все это, как говориться, тонкости боя. Мы сразу определяли по трупу: который человек умер сразу, а какой — спустя какое-то время. У убитого сразу зрачки не шевелятся, так как не видят света, губы синеют, а всем своим телом человек словно вытягивается. Если тебе попадается мертвый человек, то ты, как опытный фронтовик, это сразу же почувствуешь. То есть, то, что перед тобой лежит мертвый человек. Куда его тебе девать? Ты его не потащишь ни вперед, ни назад, а оставишь на месте. А этот погибший боец с тех пор считается пропавшим без вести. И пока командир роты и старший писарь не разберутся с ним, он будет «ходить» в числе без вести пропавших. У писаря существовала специальная картотека на каждого бойца. Он же, когда выяснялись обстоятельства гибели того или иного бойца, опрашивал свидетелей случившегося, узнавал, как это произошло. Если труп погибшего находили, то доставал пистончик (медальон) и решал, кому из родственников отправить похоронку. Он ее, между прочим, и выписывал.
И.В. А как все-таки погиб Земляков?
С.М. А его, когда они скакали на конях, сбили немцы с пулемета. Он упал тогда с лошади. Видать, был сначала тяжело ранен, а потом скончался.
Но я продолжу свой рассказ. Итак, мы взяли Будапешт. За участие в этой операции я получил медаль «За взятие Будапешта». Потом еще у меня появилась медаль «За взятие Вены». А вообще на моем парадном пиджаке висит немало медалей за взятие городов. Так, например, до этого я получил медаль «За оборону Ленинграда», потому что я в свое время участвовал в прорыве ленинградской блокады. Всего же у меня имеется тридцать с лишним наград. Весь мой пиджак ими увешан: и справа, и слева. Не так давно, когда я в своей квартире из-за тяжести наград упал, разбился и лечил последствия этого несчастного случая в госпиталя, дочь мой парадный китель забрала к себе. Сказала: «Мы его будем хранить у себя. А то ты часто вырываешься выступать в школы и надеваешь свой мундир». Поэтому теперь моя жизнь усложняется: я хожу выступать в школы в рубашке. У меня две дочери и обе живут от меня отдельно. Внук, Артур Сергеевич, отец которого погиб, работает строителем в городе Сочи. Не так давно в этом городе открывали ледовый дворец. Так это была его работа. Насколько мне известно, там в его распоряжении находится тысяча строителей. Но я немного оторвался от своего основного рассказа.
После освобождения Венгрии мы пошли дальше вперед в сторону Вены. Через какое-то время, помню, мы вышли на красивое и асфальтированное Венское шоссе, которое состояло из желтых кирпичиков и все блестело. Появился лозунг: «Взяли Будапешт, возьмем Вену и будем в Мюнхене!» Вскоре я стал разведчиком. Как это получилось? Сейчас расскажу. Когда мы находились в Будапеште, то там за Дунаем с правой стороны города протекала река Грон. Так вот, именно там во время одного из боев вместе с нами, связистами, находились разведчики. Сами же мы, связисты, были разбросаны по линиям. Когда однажды ночью на одном из наших участков порвало связь, около меня появился какой-то командир и сказал: «Давай вперед налаживай связь!» А я тогда прекрасно понимал, что одному мне с этим делом никак не справиться. Значит, там, где проходил изгиб Дуная, находился город Истергом или Истром (я точно не помню, к сожалению, его названия), где были окружены две дивизии немцев. Дальше шел лес и потом проходило громадное поле, засыпанное снегом. Потом выглядывал угол леса. Причем выходил он каким-то особым углом. Дело происходило ночью. Я схватил автомат, опасаясь того, как бы внезапно рядом со мной не оказалась разведки немцев, и сказал этому разведчику: «Наших связистов здесь нет. Я один!» Тогда этот командир разведроты говорит: «Бери моих!» После этого в сопровождении тройки разведчиков я побежал вдоль провода. Так как я сам этот провод когда-то проводил, то прекрасно знал все эти места (где провод закреплен, что и как). Луна немного освещала снежное поле. Через каждые двести метров провод крепился то за дерн, то за кусты. Если его где-то порвало и потянуло (говоря об этом, я прежде всего имею в виду танк, который мог его с собой умотать на гусенице на полтора метра и увезти с собой), ее после этого восстанавливать было крайне сложно. Поэтому провод через каждые двести метров и закрепляли.
Когда я за проводом бежал, то, как правило, наблюдал за целью. И вдруг за кустами обнаружился обрыв. Я сразу сообразил и сказал сопровождавшим меня разведчикам: «Ребятки, вперед нам идти нельзя. Давайте пойдем правее». После этого мы, наверное, с километр вправо обошли это место. Потом смотрим: со стороны Истергома видны следы немцев по снегу. Я понял, что на том самом месте фашисты нас ждали, чтобы захватить в качестве «языка». А парни, с которыми я шел, оказались боевыми. Я им сказал: «Идите тише, в стороне от шагов этих немцев». И когда эти немцы занялись какими-то делами или лежали на земле, мы с автоматами и гранатами на них набросились. Одного ихнего связиста убили, другого притащили с собой. «Язык» оказался очень цельный. Связь, естественно, тоже восстановили.
Потом эти разведчики снова пошли на задание. А разведка тоже, как говорят, без связи не может обходиться. Так как меня разведчики приметили, то обо мне насчет связиста зашел такой разговор: «А в роте связи есть один такой, понимаете ли, боевой солдат, сержант, который ни черта не боится. Смелый парень! Давайте его частенько брать с собой в разведку!» А ведь ходить в разведку значило не просто идти на какое-нибудь плевое дело. Нужно было, во-первых, пробираться через тыловые проходы противника. А во-вторых, если обыкновенному связисту приходилось иметь дело с проводами, то тут уже я должен был работать с радиостанцией. А радиостанции у нас имелись самых разных систем: и немецкие, и итальянские, и прочие. Кроме того, непростой оказывалась и сама специфика выхода в эфир. Когда ты в штабе берешь станцию, то находишь частоту, на которой есть свободное место для военных переговоров, и штабную частоту. После этого засекаешь время. Настраиваешься на одну какую-то определенную частоту. Затем берешь на плечо радиостанцию, у которой имеется батарейное питание. И на связь выходишь не в течение часа, а в течение какого-то точного времени всего лишь на пятнадцать минут. Причем существовало такое правило: где бы ты ни находился и что бы ты не делал, в назначенное время ты должен был включать радиостанцию и делать, к примеру, такие вызов: «Третий, я второй!» Короче говоря, я работал с позывными. Потом ты должен был отключаться, так как немцы прослушивали нашу связь. Впрочем, если это было нужно, ты переходил «на ключ». Уже командир разведки шифровал некоторые мои сигналы: с тем, чтобы никто не узнал в эфире, кроме тех, кому это нужно, добытые разведкой сведения. И так я в разведку ходил раз десять, если не больше.
Помню, как-то в одном из походов за линию фронта мы притащили в качестве «языка» какого-то штабного работника. Он ехал на легковой машине. Перед ним следовал мотоцикл. Мотоцикл мы пропустили, а его каким-то образом остановили и трахнули. Потом скрутили и притащили в штаб. Он оказался очень ценным «языком», так как был большим штабным работником. Командир разведки доложил об этом командиру дивизии. Тот пришел, построил нас, шесть человек, участвовавших в поиске. Всех разведчиков представили к награждению боевыми медалями. Посмотрев на всех, командир дивизии покосился на меня и спросил: «А этот?» Они ему сказали: «А это связист. Боевой, понимаете ли, парень, все время находится вместе с нами». Но я медали не получил. Уже потом мне вручили знак «Отличный разведчик». Кроме того, ранее я был награжден знаком «Отличный связист». После этого случая я еще не раз ходил вместе с разведчиками в немецкие тылы. Между прочим, документы на выдачу этих значков к нам прислали еще в 1943-м году. Тогда появилось немало подобных знаков, таких, как «Отличный пулеметчик», «Отличный повар», «Отличный пехотинец», «Отличный связист». «Отличного связиста», если не изменяет мне память, я получил во время Яссо-Кишиневской битвы. Помню, в то время у нас образовалось тяжелое положение. Мы восстанавливали связь. Я пришел, все, как и положено, сделал и доложил об этом командиру. А он воевал вместе со мной уже два года. В то время у него уже был целый стол присланных в часть знаков. Он меня одним из них и наградил. Конечно, раньше, скажем, в период 1941-1942 годов, нас так щедро не награждали. Больше того, в то время мы не получали почти никаких наград. Так, например, для того, чтобы получить ту же медаль «За отвагу» или «За боевые заслуги», следовало писать реляцию в штаб фронта, откуда ее отправляли в Москву. Только в Москве решался вопрос с награждением.
Но прошло после этого какое-то время, как вдруг вышел приказ, что в фронтовых условиях солдатскими медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» можно награждать от командира дивизии и выше. То есть, командир дивизии мог награждать своих подчиненных этими наградами своим личным решением и указом. Процедура награждения проходила следующим образом. В дивизии смотрели, что за солдат, где и в каких боях участвовал, что делал. После этого составлялся общий список награждаемых. Причем зачастую солдат награждали не за какой-то конкретный подвиг (скажем, ты кого-то убил или что-то такое совершил), а по совокупности заслуг. Что интересно: эти медали носились не на пятиугольных колодочках, как это было уже потом, а на красных квадратных колодочках.
И.В. Расскажите о вашем участии в боях за Вену.
С.М. Для этого мне придется вернуться немного назад. После Будапешта у нас шли сплошные бои. Я, впрочем, вскользь уже упоминал, что у нас происходило после этого. После того, как мы вышли на Венское шоссе, мы дрались с группировкой немцев, которая вырвалась вперед. Рядом находились высоты, покрытые снегом. Их нам предстояло пройти. В середине же проходила нейтральная полоса. Немцы тогда изо всех сил рвались на Венское шоссе. Помню, я тогда подошел к командиру роту Лепейко (к тому времени командир роты Земляков погиб, и его место занял командир первого взвода Лепейко) и сказал: «Немцы прорвали фронт. Видишь, над Будапещтом кругом все пылает? Они движутся в нашем направлении». «Что движется?» Я говорю: «Посмотри». И тогда он увидел, как со стороны курганов леса, такой холмистой местности, стали передвигаться один за другим целые ряды немцев. Они хотели прорваться. С ними пришлось сражаться. Основной фронт к тому времени ушел на 22 километра вперед.
Пока мы шли на Вену, мы эту группировку немцев уничтожили. Я непосредственно в этих событиях участвовал. Кто там против нас только не воевал: и власовцы, и бандиты всех мастей. Как сейчас помню, мы их окружили и начали кольцом сжимать. Это случилось уже под вечер. А они не хотели сдаваться к нам в плен. А командование, видать, забыло, что в середине находились наши связисты. И вот представь себе обстановку, в которой мы оказались. Бьют наши «Катюши», стреляет артиллерия. В это же самое время прилетают немецкие самолеты и сбрасывают парашюты розового цвета. Такой цвет они подбирали для того, чтобы все было хорошо видно на снегу. В этих парашютах находились патроны и гранаты. Вероятно, окруженным не хватало оружия. Так они им оказывали такую, значит, помощь.
А у немцев, как известно, существовали гранаты двух видов. Но я не буду вдаваться во все эти подробности. Когда нам эти гранаты попадали, мы их использовали. А если они оказывались нам без надобности, то мы из бросали в колодец, чтобы они не попадали к немцам. Потом мы стали группировать пленных: чтобы их отправлять дальше по назначению. Тех, кто не сдавался, уничтожали прямо на месте. Но что интересно: в отличие от румын и поляков, у мадъяр не было ни одной части, которая воевала бы на нашей стороне. Но мы этих мадъяр использовали как вспомогательный персонал. Например, в той же артиллерии. Вот, скажем, стреляет на позиции наша пушка. Ее расчет состоит из четырех человек: командира орудия, наводчика, заряжающего и еще кого-то. А подносит снаряды, как правило, нанятый нами венгр. Между прочим, у венгров, воевавших на стороне Гитлера, форма была такая же, как и у румын, но, в отличие от немцев, немного желтоватая. А власовцы носили на своих мундирах нашивки в виде трехцветного флага, который сейчас считается официальным символом России.
Под конец мы почти всех власовцев уничтожили. И даже, как сейчас помню, западнее Праги смогли захватить штаб этого Власова. Последний бой мы приняли 7-го мая. Тогда Берлин уже пал.
Кстати говоря, возвращаясь немного назад, хотелось бы рассказать о том, как, собственно говоря, проходило движение на Вену. Еще когда мы перешли румынскую границу и пошли по дороге на Вену, наш 2-й Украинский фронт шел прямо по Венскому шоссе. Левее нас двигался 3-й Украинский фронт Толбухина. Теперь, когда мы двигались в сторону Вены, мы были приданы уже 7-й гвардейской Сталинградской армии генерала Шумилова. Вообще-то говоря, Шумилов был известным командующим армией. Ведь в Сталинграде в 1942-1943 годах вели с немцами решительную борьбу две армии: 62-я армия генерала Василия Ивановича Чуйкова и 63-я армия Шумилова. Так вот, 62-я армия была преобразована в 8-ю гвардейскую Сталинградскую армию. Она в составе 1-го Украинского фронта шла на Берлин и участвовала во взятии рейхстага. 63-я же армия была преобразована в 7-ю гвардейскую Сталинградскую армию и шла в составе 2-го Украинского фронта на Прагу. В ее составе, как я уже сказал, как раз и действовала наша 53-я отдельная кабельно-шестовая рота. Сначала она проходила через Братиславу (столицу Словакии). Потом проходило вторичное форсирование Дуная. Вену же мы брали в феврале или марте 1945 года. Причем брали ее севернее, так как с левой стороны на нее вышел 3-й Украинский фронт. 2-й же Украинский фронт был оттуда переброшен в сторону Берлина.
6-го мая я находился в окопе в Моравии. Перед этим я тонул в реке с тачанкой целого взвода. Это происходило как раз перед взятием Вены. Дальше мы должны были двигаться на Мюнхен. Нам предстояло передвигаться по Баварии. Потом нас засыпали какими-то листовками. По ним мы узнали, что в столице Чехии Праге чехи поднялся восстание против немцев. Таким образом, город оказался в окружении. Речь фактически шла об уничтожении красивейшего славянского города. Наше командование решило, что им нужно помочь. Тогда две армии от 2-го Украинского фронта повернули туда. Если не ошибаюсь, туда отправилась танковая армия генерала Кравченко и та самая 7-я гвардейская Сталинградская армия, в которой находилось наше подразделение. Шли мы сначала по предгорьям Альп, которые назывались у местных татры. Оттуда мы большими маршами двигались на Прагу. 2-й Украинский фронт пришел, таким образом, из-за Карпат. Потом вышел 4-й Украинский фронт, который засел в горах. От Берлина вышел 1-й Украинский фронт. Короче говоря, нас там скопилось очень много. Мы, помню, тогда находились на так называемой много солнечной позиции.
Наша артиллерия била с одной стороны, их артиллерия — с той. Немецких самолетов в этих местах не появлялось уже почти два месяца. Позиция фашистов находилась буквально перед нами. В это время с нашей стороны скопилось огромное количество войск. Ведь все время приходило пополнение. Помню, лежим мы на дерне, а нас не покидало предчувствие, что это ведь, вероятно, наш последний в этой войне бой. Потом начали бить «Катюши», полетели мины, прилетели наши бомбардировщики. Короче говоря, все наши силы были брошены на то, чтобы провраться в Прагу, где восставшие люди защищаются от немцев (они хотели город уничтожить). Пошла, как говорят, первая волна. В то время в наступлении участвовала, как я уже сказал, очень много наших войск. Поэтому они не сосредотачивались в одном каком-то месте. Короче говоря, наступление шло несколькими эшелонами. Обычно на фронте наступление шло таким образом: сначала шла первая волна, за ней — вторая, и так далее. И мы, идя во второй полосе, всегда видели, как в первой полосе складывался бой: как происходили взрывы, как рвались гранаты и вообще шли бои за перекрытия. Одни отступают, другие наступают. А тут, когда мы пошли, обратили внимание на то, что все сковала тишина. Через какое-то время смотрим: несут наших раненых. Спрашиваем: «Где их так?» «А, наверное, под последний залп», - отвечают нам. А наши действовали тогда таким образом, что сначала давали последний залп «Катюш», после чего артиллерия переносила свои удары на глубину обороны противника. В районе тылов немцев поднималась и шла в бой пехота. Тут же двигались танки. Но нас, конечно, тогда очень удивило то обстоятельство, что в том бою немцы оказали нашим войскам очень легкое сопротивление. Обычно немцы дрались до последнего. Тем более, если дело касалось последнего, так сказать, боя.
А дело в том, что тогда же со стороны запада к Праге подходили американцы. Именно поэтому мы повернули на северо-восток от Мюнхена, потому что там оказались англичане. Кстати говоря, где-то там же наши казаки их штаб захватили. Говоря о казаках, я имею в виду тех «бравых» солдат с крестами, которые воевали на стороне немцев. Их формирование проходило за границей, из числа эмигрантов. Что интересно, реликвии этих кубанцев оказались чуть ли не в Америке. Таким же путем там оказался атаман войска Донского в годы Гражданской войны Петр Краснов. Если не ошибаюсь, во время Второй мировой войны, прислуживая немцам, он называл себя фюрером такой Казакии и считал, что он и такие его сподвижники, как атаман Шкуро, вернутся в Краснодар. А был еще когда-то у нас, на Кубани, в станице Пашковской атаман. В годы Гражданской войны он отличался зверствами, рубил головы людям направо и налево. Потом он стал командиром Волчьей сотни. Так вот, в 1945 году, когда собирался сход казаков за Веной, он тоже в нем участвовал.
Помню, когда мы в первый раз подошли с одной стороны к Вене, то, не доходя ее, повернули, перешли еще раз Дунай, вышли на реку Морава и с северной части ворвались в Вену. С другой стороны подходил 3-й Украинский фронт. Так вот, когда мы туда входили, там висела табличка — город Лиенс. В этом австрийском городе, расположенном в 220 километрах к Мюнхену, в то время проходил последний сбор казаков, входивших в состав власовской армии. Это и явилось причиной тому, что немцы 7-го числа так дружно от нас отходили. А мы этому очень сильно, помнится, удивлялись. Оказывается, там и немцев-то не было. Нам противостояли власовцы, бандеровцы, бывшие полицаи и им подобная шваль. Короче говоря, предатели всех мастей. Вот такая, понимаешь, публика. Мы вплотную с ними встретились. Но они избегали открытого боя с нами. Они стремились не нам сдаться в плен, а американцам, которые находились западнее Праги. Вообще-то говоря, наш фронт в саму Прагу не заходил. Мы прошли ее левее и отправились на перерез отходящей к американцам группировке предателей всех мастей. Одним словом, уничтожали их.
На этом для нас и закончилась война. Как сейчас помню, радуясь внезапно нагрянувшей Победе, мы расстреляли все свои патроны. Стреляли в воздух из всех видов оружия. Потом наш старшина притащил откуда-то бочку вина. Пьянствуя всю ночь, мы поминали убитых, вспоминали живых. А утром к нам подъехали машины. От приехавших на них людей мы узнали о том, что немцы, находящиеся в Чехословакии, отказались нам капитулировать. Так как все свои боеприпасы мы расстреляли, нам дали приказ: «Получить патроны, гранаты и — вперед, на запад!» После этого мы вошли в Прагу, но до американцев тогда так и не добрались. Конечно, можно было бы и об этом рассказать. Но если вспоминать все эпизоды, которые приключились со мной во время войны, нужно с меня писать целую книгу. В общем, в Праге для меня окончательно завершилась война.
И.В. И все же, расскажите, что произошло с американцами.
С.М. Честно говоря, насколько я могу судить из своего фронтового опыта, эти американцы никогда по-настоящему не умели воевать. В связи с этим мне вспоминается такой случай. Находясь в Альпах, мы все гоним и гоним немцев. Наконец, устав от изнурительного наступления, мы садимся ужинать, как вдруг замечаем, что по нам бьет артиллерия. Думаем: «Интересно, откуда у немцев может здесь быть артиллерия? Ведь они побросали все свои пушки и с легким оружием утром в горы». Тогда наши артиллеристы, которые, как говориться, были научены опытом войны, определили их координаты и погасили их «костры». Дали один залп, другой. Через какое-то время приезжают к нам легковые машины. Ночью в темноте мы не увидели, кто именно приехал. Появились какие-то люди в камуфляжной форме. Это нас как-то очень сильно удивило. Мы такую форму никогда не носили. Правда, она была у разведки. Потом они сели на машины и поехали дальше. После этого всю ночь у нас шла какая-то непонятная кутерьма: то они нас обстреляют, то мы им грохнем в ответ. Мы продолжали их гнать до 5-ти часов утра. Потом про себя подумали: «Откуда ж взялись такие вояки? Вроде на немцев они не похожи». А потом посмотрели на курганы и увидели там американские флаги. После этого к ним туда ходили наши командиры. Спрашивали их: «А чего вы тогда убежали?» «А у нас, - сказали они, - так не воюют. Когда по нам бьет упорно артиллерия, мы вызываем авиацию. Она нам помогает и только после этого мы идем в бой. А тут на нас прут и прут. Мы думали, что это на нас идут немцы».
И.В. Сталкивались ли вы во время войны с органами СМЕРШ?
С.М. Нет, я с ними не сталкивался. Хотя служил в Красной Армии фактически еще с конца 1941-го года.
И.В. Но ведь вы были исключены из комсомола. Испытывали ли к вам недоверие?
С.М. Никакого недоверия ко мне не было. С особым отделом я тоже по этому поводу не сталкивался. Единственным случаем выражения недоверия ко мне явилось то, что после заполнение анкеты на Калининском фронте меня не взяли в правительственную связь. Больше об этом не было никаких разговоров.
И.В. Кого из высшего командного состава вы встречали на фронте?
С.М. Да особенно никого не встречал. Хотя рядом со мной где-то, положим, находились Василевский и Жуков, так как они командовали войсками наших фронтов. Из таких больших начальников я встречал разве что генерала Манагарова. Но я плохо его знал. Только в Гостищево, кажется, его встречал. Но на нем была накинута защитная плащ-палатка. С ним находились штабисты (офицеры со штаба фронта).
И.В. Встречали ли на фронте ППЖ (походно-полевых жен)?
С.М. На фронте они были, и причем их встречалось немало. Я тебе уже рассказывал о том, что к нам во время боев под Прохоровкой попало две девчонки. Одна из них выбыла по беременности. Походно-полевые жены считались на фронте нормальным явлением. Если говорить о предателе Власове, то он без ППЖ и жить не мог. Но они (ППЖ), собственно говоря, обозначались на фронте не как жены, а проходили по видом связисток, лечащих врачей, медсестер или еще кого-нибудь. Правда, в нашей роте, за исключением того единственного случая под Прохоровкой, женщины вообще не служили. Откуда их к нам тогда притащили, я так и не знаю. Между прочим, одна из тех девчонок на меня «клюнула» (положила глаз).
Мы с ней встречались на комсомольских собраниях. Иногда, когда я встречаюсь с молодежью, меня спрашивают: «А правда ли то, что на комсомольских билетах писали — когда я погибну за родину, считайте меня коммунистом?» По этому поводу я могу сказать, что фронт был большой и в некоторых частях такие явления встречались. Например, мы на своих комсомольских билетах такое писали. Правда, нам писали это специальные люди. А вообще у нас в роте насчитывалось всего человек шесть или чуть больше членов партии. Ими в основном являлись командиры. Они в большинстве своем были коммунисты. А мы были молодые. Нам сравнялось только по 19-20 лет. Так, например, когда закончилась война, мне был всего 21 год. А в комсомоле обычно состояли до 24-х лет. Это потом уже принимали в партию. Сейчас все понятия о войне изменились. Говорят о том, будто бы в 1941-1942 годах наши воинские части повально сдавались в плен. Мол, целая колонна останавливалась и люди, которые были во главе ее, говорили: «Все, все мы сдаемся в плен!» Ничего подобного. Как правило, люди попадали в плен незаметно: это происходило, когда они или отставали от части, или (такие случаи тоже встречались) переходили к немцам во время боя или атаки. Но чаще пропадали без вести. А такого, чтобы солдаты в разговорах между собой спорили о советской власти, как это показано в фильме «Штрафбат», не могло быть и речи. Для нас вообще Ленин и Сталин были богами.
И.В. Чем питались во время нахождения в окружении?
С.М. В зависимости от хода боя. Иногда даже нам сбрасывали с самолетов на парашютах американскую тушенку и по пол кружки солдатской муки. Иногда доставали шкуры немецких коней, которые сверху начинают гнить, а снизу подморожены. Так мы делали так: все гнилое отрезаем, а подмороженную шкуру вытаскиваем и делаем из нее деликатес. А если не было нужды делать из шкуры деликатес, мы бросали ее в костер, она скручивалось, после чего ее натягивали на каску. Копыта, понимаешь ли, тоже обжаривали (на них обгорала шерсть) и варили, а потом их жевали. Ели мы все, что придется, в том числе и конину. Такое питание у нас было, когда мы воевали, находясь в окружении, на Волховском фронте, в составе печально известной 2-й Ударной армии генерала Власова. Как-то так мы питались.
Помню, на фронте еще нам сбрасывали брикеты с пшенкой. А у нас служили ребята из Сибири, которые не знали, что такое эти брикеты. Для них все это казалось в диковинку. Даже больше того: встречались солдаты, которые никогда в жизни не ели мороженого. Помню, служил у нас один якут, попавший в часть еще в Новосибирске. К казарме подъезжает машина. Ее встречает строй наших солдат. Увидев машину, этот якут из строя выскакивает — и за забор. Оказывается, раньше он машину и в глаза не видел. Она его испугала. Тем более он вообще не знал, что такое танк. И вот он, значит, однажды вырвался и сходил в Новосибирский театр. Его спрашивают: «Ну как ты сходил туда?» «Хорошо было, - говорит. - Интересный шел концерт. Театр — красивый. Там нас женщины угощали мороженым. Это такая вкуснятина. Мне дали два лишних мороженых. Я их, понимаете, в казарму принес». И получилось что? Он воткнул их в шинель и они у него растаяли. Мы так тогда над ним хохотали. Он до этого в глаза не видел сладкого мороженого.
И.В. А вообще как вас кормили?
С.М. Как я уже сказал, это зависело от обстановки. Ведь если ты находился во время войны в крупных воинских частях, там на всех солдат готовили отдельно в больших котлах кашу. Ее привозили прямо на передовую в металлических термосах. Но так как мы считались ротой, то никакого большого котла, понимаете ли, и не видели. Вот когда мы находились в окружении под Ленинградом, у нас, собственно, бывало как? Два взвода лежит в обороне, а один взвод идет по разным лесным болотам и тропам. Потом этот взвод выходит к центральному штабу. Там им давали обычно по три-четыре испеченных сухаря на брата, табак, консервы, снаряды, патроны. Все это они тащили до переднего края. Утром, как правило, нам раздавали табак и прочее. Кашу эту мы сами варили.
И.В. А как было дело с наркомовскими 100 граммами?
С.М. Лично я почти не встречал таких случаев, чтобы нам их специально привозили. Во время войны у нас вообще не существовало единой нормы обеспечения продуктами, в том числе и спиртом. Всякие случались вещи. Бывало и такое, что ты находишься со своей частью в окружении и вообще ничего не ешь, а в другой раз — и тебе все-таки что-то подают. И такого, чтобы нам все время давали водку, я не помню. Другое дело, что если ты или ранен, или простыл, или заболел, старшина тебе всегда принесет спирту или водочки. Так ты на ночь выпьешь ее, пилюль примешь и хоть как-то поправишь свое здоровье.
И.В. Приходилось ли иметь дело с пленными?
С.М. Да, и нередко. Часто это мы, например, делали на румынской территории. Да и когда участвовали в Корсуньско-Шевченковской битве, тоже их брали. Но что характерно: в то время мы практически не знали немецких военных жаргонов. Нам были известны лишь такие слова: «хальт», «цирюк», «хенде хох», «них ферштейн». Эти названия считались у немцев полевыми. Но я нигде не встречал такого, чтобы немцы использовали слово «сдаюсь». И когда в Корсуньско-Шевченской битве из под блиндажа высовывались грязные руки сдающегося гитлеровца, он говорил только одно: «Гитлер капут!» Это слово означало у них сдачу в плен. Но мы, когда они это делали, не вели их в специальное место, где шло распределение пленных. Мы, кое-как изъясняясь на их языке или на нашем, говорили: «Видишь окраину леса? Там находится ваш пункт как для пленных. Иди туда. Там с тобой разберутся». И он идет туда без всякого сопровождения. Меня удивляет то, как про некоторых ветеранов войны наши шалопаи-журналисты пишут: мол, он убил столько-то немцев и взял в плен двенадцать. Думаешь: «Ну какие двенадцать?!» Ты ж их не сопровождаешь.
А бросить фронт и ехать на сборный пункт с этим пленных немцем ты тоже не можешь. Точно так же мы отправляли на сортировочный пункт и власовцев. И нас тогда ничуть не удивляло то, что они говорили с нами по-русски. Мы им говорили: «Идите вперед туда-то и туда-то. Там разведка разберется». Там их собирали и начинали сортировать кого куда. Меня удивляют сегодняшние заявления некоторых историков, будто Власов в свое время по списку сдал своих солдат к немцам в плен. На самом деле это величайшая чепуха. Никто на фронте группами в плен не сдается. Ведь у тебя в соединении есть и евреи, и комиссары, и коммунисты, и комсомольцы, которые никогда не сдадутся к фашистам в плен. Почему? Потому что они знают, что немцы их расстреляют. Власов и его приспешники поступали по-другому. Они ходили по лагерям и среди наших военнопленных вели соответствующие беседы. Причем делали они это со специально подобранными для этого дела нашими солдатами. И при всем при этом делали это очень осторожно. Потому что если большинство пленных узнавало, что ты записался во власовцы, они могли тебя ночью удушить. И я знаю, что такие случаи точно были.
Но все познается в сравнении. Если помнишь, был такой командующий 16-й армией генерал Лукин, который попал к немцам в плен. Власову нужно было иметь при штабе такого, как он, человека: настоящего русского генерала, а не какого-нибудь прислужника. А тот был тяжело ранен, остался без ноги. Ему даже сделали какую-то операцию. И когда его нашли, то сказали: «Переходи работать в штаб власовской армии». А Лукин был вообще легендарной личностью. Его 16-я армия отступала от границ. Три раза она почти полностью умирала. Но ее пополняли и она шла в бой. Это были герои Сталинграда. Так вот, он отказался сотрудничать с немцами. Между прочим, меня очень удивил тот факт, что когда закончилась Сталинградская битва, 14 немецких генералов во главе с Паулюсом сдались к нам в плен. Я, например, никогда не слышал о том, чтобы наших четырнадцать генералов зараз сдались бы к немцам в плен. Я могу перечислить случаи, когда единичные генералы оказывались в плену у фашистов. На чаще они погибали. Так, например, было с командующим 33-й армией генералом Ефремовым, который застрелился.
И.В. Трофеи брали?
С.М. Насколько мне помнится, за границей сами мы не ходили искать трофеи. Почему? Много трофеев в солдатский мешок не положишь. О трофеях я могу рассказать следующее. Когда мы окружили немцев под Будапештом (мы уничтожали их группировку), то взяли одного пленного немца. Так вот, его мундир оказался весь увешан кольцами, часами и прочими вещами. Таких самонаводящих часов, которые были у него, мы еще никогда не видели. Мы даже не догадывались о их существовании. Мы только знали «луковицы» и обыкновенные «Красная заря». Все его драгоценности мы поместили на столе. Я начал подбирать себе покрасивее кольца. Их я, помню, сразу очень много на свою руку нанизал. А знавший толк в этом деле старшина взял себе те кольца, которые потяжелее, с изумрудами и прочим. А как только началась демобилизация, нам не разрешили вывозить какие-либо драгоценности из заграницы. Но наш старшина сумел вывезти свои золотые вещи в пол мешке муки. Короче говоря, он спрятал все в своем кулечке. Я же свои часы и кольца раздал товарищам по службе. Я, впрочем, никогда не любил заниматься накопительством и получать с этого какую-то выгоду. Не так давно у меня умерла жена. От нее у меня остался целый гардероб платьев и туфель. Так я не стал ничего продавать. Я вызвал своих знакомых соседок-девочек, открыл шифоньер и сказал: «Забирайте все, что хотите. Никаких денег не надо. Может, только помните ее». Потом позвал одну ее подружку и сказал: «Все, что осталось, клади в мешок и неси в церковь. Отдашь там старухам!»
И.В. Страх испытывали на войне?
С.М. Я тебе об этом скажу так: на войне по-настоящему страшно тогда, когда ты бессилен что-либо предпринять. Например, когда немцы бомбят и ты ничего против этого не можешь сделать, ты испытываешь определенное беспокойство за свою жизнь. Уже потом, научившись воевать, мы во время бомбежек ложились на землю спиной, глазами — в небо, ноги клали вверх в сторону запада, откуда появлялись самолеты на бреющем полете. Когда же самолет снижался и начинал бомбить, мы видели, как бомбы отделяются от фюзеляжей. Когда же самолет израсходовал свой боезапас и уходил на свою территорию, он уже не вызывал у тебя такого страха. Тогда ты по нему стреляешь. Во время войны у нас было принято в такие моменты стрелять по самолету. Особенно из ручного пулемета. Бывает, он снизу выходит из пике, набирает высоту, а ты в это время по нему бьешь. Вообще-то говоря, пулеметы у нас частенько использовались для борьбы с немецкими самолетами. Тактика у фашистских самолетов была следующей. Сначала он идет на большой высоте, потом переворачивается на крыло, летит вниз, метко бомбит какой-то участок (скажем, штаб или что-то в этом роде), после этого сразу же выходит из пике и улетает на свою территорию. На переходе, где самолет сбавлял скорость, его было особенно трудно сбить.
И.В. Какими были ваши потери во время войны?
С.М. Это зависело прежде всего от боя. Так, например, тот самый уральский батальон, в котором я начинал свой путь на фронте, почти весь погиб в боях: из четырехсот (400) человек осталось в живых около пятидесяти-шестидесяти связистов. Но это было, когда в 1942-м году прорывали ленинградскую блокаду. Если же говорить о первых боях под Москвой, в которых я также участвовал, то там действовали так называемые сборные батальоны. То есть, там солдат не знал, какой он части и какое у нее название. Там все перепуталось. В армии, которая выходила из вяземского котла, была полная мещанина. Справа шли танки, слева — тоже танки. В такой обстановке ты уже думаешь не о том, чтобы узнать, из какой ты части, а чтобы спасти свою жизнь. Когда ты видишь, что идут танки, а за ними пехота, когда видишь, что они все ближе и ближе к тебе подступают, в душе обязательно что-то дрогнет. Потом начинается бой. Ты достаешь у убитых оружие, начинаешь из него стрелять. В такие минуты страх у человека куда-то уходит. Он уже совершенно не думает о себе. Он думает только о том, как подбить очередной танк противника или как убить еще одного немца. Страх, я говорю, появляется совсем в других случаях: когда ты бессилен что-либо предпринять. Например, когда над тобой «работает» вражеская авиация, и ты ждешь того момента, когда волна достигнет тебя. Если фашист бросает бомбы прямо над твоей головой, ты уже знаешь, что это тебя не касается, что бомбы ушли от тебя. А вот если летчик, не долетая до тебя, бросил бомбу, есть вероятность, что эта бомба попадет в тебя. Такие были основные правила войны. Но еще больше, чем самолетов, мы боялись артиллерии. Ведь если она бьет, ты бессилен против нее что-либо предпринять и ждешь, когда очередная пачка снарядов захрустит над тобой.
А вообще на фронте каждый испытывает страх по-своему. Некоторые преодолевали его сжав зубы, некоторые начинали в это время улыбаться. Вот наш командир роты, например, в такие опасные для жизни минуты никогда не гнулся: шел по окопу, сжимая себя. Короче говоря, удерживал себя от страха. А ведь встречались люди, которые от страха метались, бегали, искали себе места, где не бьют, чтобы как-то укрыться. На войне кто на что способен. Вот мы, например, как комсомольцы написали в своих билетах: «Если погибну за родину, считайте меня коммунистом».
Помню, служил у нас в роте бухгалтером Черенков. Сам он был из Сибири, с города Барабинска. Точнее сказать, не доезжая до Новосибирска, была станция Барабинск. Так вот, он родом оттуда. Там когда-то даже находился крупный элеватор. После войны мне довелось побывать у него в гостях. Черенков был единственным в роте бойцом, который носил очки. Сам он обладал очень шутливым характером. Так он поступал как? Если видел, что во время боя какой-то необстрелянный пацан струхнул или уклонился от выполнения своих обязанностей, он устраивал ему общий разбор. Ведь всех не отдашь под суд. Когда приходил народ, он говорил: «Собираемся, хлопцы, садимся. Здесь (он показывал) — победители, вот это подсудимый. Мы будем сегодня разбирать его поступок. Вот вам защитники, а я — судья». После одев, надев для солидности очки, он начинал: «Раб Божий Ванька такой-то! Почему ты в последнем бою струхнул и почему, когда это было нужно, не выскочил из окопа на уничтожение обрыв связи? Знаешь сам. Потому что шел огонь. А вместо тебя выскочил другой и погиб. У него осталась семья: он двое детей имеет в Сибири. А ты, такой барбос, не пошел исправлять связь. Что нам делать? Писать твоей девке, что ты такой трус? Или что нам делать?» Наконец тот не выдерживает, говорит: «Так получилось». А ведь обычно трусость проявляли, как правило, те, кто в первый раз оказывались в бою. Ведь не сразу люди втягиваются в обстановку. Это уже потом ты привыкаешь к испытаниям различного рода. Тогда Черенков спрашивает других: «Поверим ему?» Отвечаем: «Поверим!» После этого Черенков объявляет: «Все, суд окончен!»
(Речь идет об Иване Яковлевиче Черенкове, 1909 года рождения, который по должности значился старшим линейным надсмотрщиком роты. Видимо, бухгалтером он работал по совместительству. В наградном представлении указано, что в ряды Красной Армии он был призван в августе 1941 года Чановским райвоенкоматом Новосибирской области. На фронте — с января 1942, в составе 22-й армии Калининского фронта и с апреля 1943 года — Северо-Западного фронта. С ноября 1942 до окончания войны служил в должности старшего линейного надсмотрщика 53-й отдельной кабельно-шестовой роты».)
А однажды перед каким-то боем у нас состоялось комсомольское собрание. В нашей 53-й роте было три взвода. В каждом взводе насчитывалось примерно около 15-20 комсомольцев. Помню, лежим мы траве, как вдруг секретарь комсомольской организации роты нам и говорит: «Ребятки, завтра и послезавтра нам предстоят тяжелые бои. Такие бои, которые потребуют, может быть, даже жертв. Нам придется прорывать оборону противника. Но мы — коммунисты, нам так положено, пойдем вперед. А вы, комсомольцы, поддержите, конечно, нас?» Говорим ему: «Да мы, молодежь, комсомольцы, быстрее бегаем». Тогда он нам привел такой пример: «Вот я недавно был на совещании в штабе армии. Так там какой-то один взвод или какая-то одна рота, в общем, целое подразделение написали в своих комсомольских билетах: если погибну в боях за родину, считайте меня коммунистом». Сейчас, когда ветеранов спрашивают об этом, многие дают совершенно разные ответы. Одни отвечают: «Да, иногда такие надписи были». Другие отвечают: «Нет, я такого не видел». Но у нас с этим было так. На том самом комсомольском собрании кто-то из наших солдатиков сказал: «А мы что, хуже этих комсомольцев? Давайте так же напишем в своих комсомольских билетах». После этого на том же самом собрании мы собрали 15-16 комсомольских билетов со всего нашего взвода. Развернули их.
Встал вопрос: где писать? Решили, что лучше всего это сделать на последней странице. Затем возник другой вопрос: на чем писать? Посыпались самые разные предложения. Кто-то предложил написать химическим карандашом. Но этот вариант отклонили, потому что запись со временем сотрется. Кто-то сказал: «Написать кровью!» Но и это предложение тоже было отвергнуто. Тоже, значит, может стереться. Кто-то из самых сообразительных наших солдат выдвинул такое предложение: «А я у нашего ротного писаря видел, что он хорошо пишет в документах тушью. Давайте попросим у него туши и напишем все, что мы хотим, на обложке комсомольского билета». Но тут встала еще одна проблема. Почерк у всех оказался разный. У некоторых руки холодные и окровавлены. Кто-то сказал: «Я не смогу написать, потому что криво пишу и у меня никто не прочтет». И тогда Иван Черенков, про которого я тебе рассказывал, предложил: «Давайте я вам напишу. У меня почерк хороший». После этого он взял все наши комсомольские билеты и тушью на них вывел каждому: «Если я погибну за родину, считайте меня коммунистом». После этого мы все расписались. Так получилось, что в итоге я на самом деле не только стал коммунистом, но и был избран парторгом полка (уже после войны). Короче говоря, оказался из таких проверенных жизнью людей, кого решили избрать на эту должность. Причем избирали меня тайным голосованием. Но это — длинная история, я о ней не буду рассказывать. Больше того, я даже избирался депутатом городского Совета в городе Калач на Дону. Причем избирался, находясь в армии, поэтому приходил на встречу с избирателями в военной форме.
И.В. Как часто вам приходилось подниматься в атаку во время войны?
С.М. Да почти все время. Ведь на фронте у нас было одно из двух: или мы участвовали в атаке, или стояли в обороне. Но что делал во время боев связист? Вот идет, скажем, в атаку пехота. Рядом с ней идет со своей катушкой и проводом связист. Если пехотинцы находятся в обороне, то и ты лежишь в обороне и вместе с ними отбиваешь атаку. В это время вдруг ударяет артиллерия и нарушает связь. Пехотинец продолжает сидеть в окопе или блиндаже, а ты, связист, поднимаешься и под огнем противника бежишь по этому проводу, чтобы его в местах разрыва соединить. Пока не найдешь порыв в связи, ты не имеешь права вернуться назад. А бои идут такие, что не поднять головы. А ты должен, не дрогнув, восстановить нарушенную связь. Причем специфика работы нашей роты была такова, что нас всегда бросали в те места, где противник прорывал фронт. Навстречу нам била немецкая артиллерия. Нас во время таких прорывов обычно присоединяли к какому-нибудь воинскому соединению: будь то то стрелковая часть, кавалерийский корпус, танковая армия. Вместе с этими соединениями мы шли в атаку и одновременно тащили за собой провода, опускали их вверх и вниз, чтобы не порвало. Вместе с ними мы отбивали атаки противника, отходили на другие позиции, сматывая одновременно свои катушки, чтобы они не достались противнику. Такая карусель продолжалась у нас бесконечно.
 |
И.В. А какие ощущения вы испытывали, когда шли в атаку?
С.М. Ощущения зависели от того, какая идет атака. Ведь в начальный период войны, когда мы вели отступательные бои под Москвой, атаки были такие, что мы насмерть шли на врага. Навстречу нам попадались беженцы со слезами на глазах. И когда ты садишься в оборону и слышишь кругом слезы и плач, становится как-то неприятно на душе. И совсем другие мы испытывали ощущения, когда шли вперед на немцев, на румын, на венгров, когда воевали уже за пределами своей страны. Конечно, что и говорить, нам пришлось пережить совсем не простое время. Приходилось постоянно находиться на линии огня. Иногда даже воевали на штыках. Я три с лишним года находился в действующей армии. Это у меня точно подсчитано и записано в военном билете. Таких ветеранов сейчас осталось очень мало. И меня многие считают солдатом-окопником. У меня даже есть такой знак - «Фронтовик», который свидетельствует о том, что я находился на переднем крае, а не в каком-то там тылу.
| Интервью: | И. Вершинин |