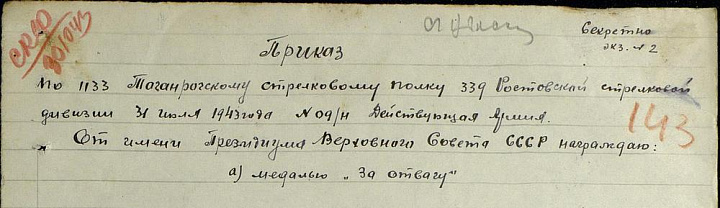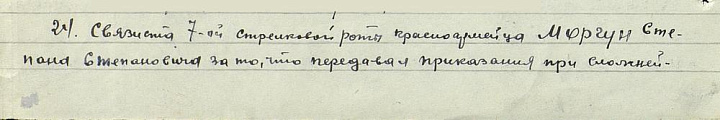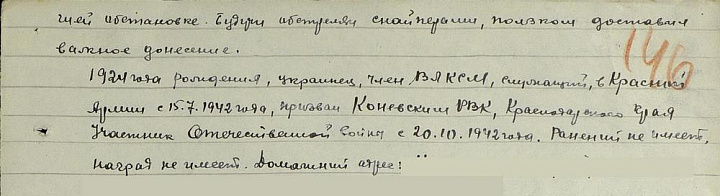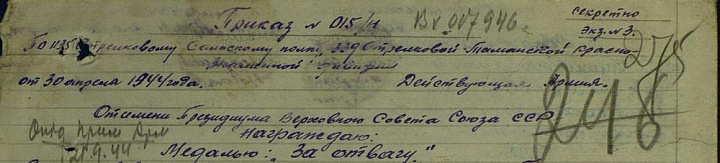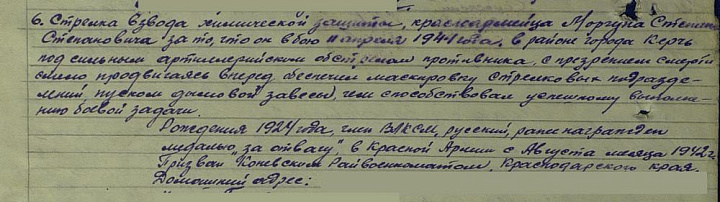- Родился 16 декабря 1924 года. Проживал до призыва в армию в станице Каневская Краснодарского края. Там окончил 8 классов в 1941-м году. Я, конечно, не всё помню: 90 лет в декабре будет. [Интервью 2014-го года. – Прим. ред.] А последнее время стала память совсем плоха…
У меня тут однополчанин был, я у него как-то спрашиваю: «А вот со сборного пункта (тут же сборный пункт в Краснодарском крае был краевой) – тебя куда повезли? Я попал в 1133-й полк 339-й дивизии. А куда ты? Ты в 900-й попал артполк! А где штаб стоял, куда тебя повезли?» Он смотрит: «А не помню». «Ну, как? – говорю. – Со сборного – ты же помнишь, что мы приехали на бричке, нас двадцать бричек привезли, 200 человек. И оттуда распределяли уже. Как это ты? Неужели такое не помнишь?» - «Не помню совсем». - «А где мы переправлялись через Кубань, когда отступали?» - «Не помню».
Ну что Вы скажете?! Я – удивился. А вот сейчас уже, когда мне 90-й наступил, уже тоже думаю: «Подожди. А как вот оттуда туда-то я добирался, почему я там оказался?» Вот такие вопросы…
- Давайте чуть-чуть про 1930-е годы. Коллективизация…
- Я ещё и раньше могу. Про 1930-е годы – вот я почему помню. Я, видно, был ещё вот такой [Показывает детский рост.], а родители целой группой в праздничные дни собирались… была хата – две комнаты больших, и в одной – стол. Садились вокруг. А там рядом дом брата моего отца. Тоже с семьёй. Но он не с семьёй бывал, а – муж с женой только. Нас, молодёжь, они не звали. Мы там не нужны были.
Я помню, они всё время вели разговор о том, где они уже работали и как выживать дальше. Отец – у него пару лошадей было и подвода – занимался извозом. Что-то кому-то перевезти куда-то. Вот я помню даже однажды я с ним ездил, возил кирпич откуда-то. Сейчас как следует не могу вспомнить. Потом из него там райисполком наш строили.
Ну, до 1933-го года – мы жили, как говорится... а в 1933-м году – голодовка. И уже ни отец, ни мать ничем не могли помочь. И в первую очередь они и умерли.
Я – ещё как следует не соображал. И помню, что откуда-то отец муки взял и делал нам печёное [Так у автора. – Прим. ред.]. Я подошёл и что-то хотел взять, он меня вроде шлёпнул. И с этого дня я не стал видёть отца. Значит, он умер. А умерших людей по Каневской – собирали. Специально подводы возили, потому что люди не в состоянии были похоронить своих.
А мать, правда, хотя болела – она ещё в колхоз ходила. И там вроде как надорвалась. Она лежала несколько месяцев – и уже я помню хорошо: она умерла, и её похоронили.
Старшая сестра у меня – 1921-го года, по-моему. Она уже осталась за главную, организовала похороны, отвезли.
И я остался.
У меня ещё младшая сестра и старшие сёстры: ещё старше и самая старшая. И два брата было, но один брат умер… тоже, можно сказать, от голода. Ходил, ходил где-то – потом пришли кто-то и нам сказали, что «вот, ваш – возле речки, не может уже домой идти, пойдите, заберите». Забрали его, подкормили – и он тут же умер: уснул – и всё. Один брат остался, 1921-го года. А сестра… вот, забыл даже и год уже.
Таким образом, нас осталось: самая старшая сестра, потом брат, потом опять сестра, и ещё сестра. Четверо без родителей.
Старшая поступила работать в редакцию наборщиком. Тогда газеты набирали по буковкам. Потом и брат пошёл уже работать в станице. А нам – молодёжи – что осталось? Ходить в школу.
В 1933-м году я туда пошёл осенью. Хотел не идти: не в чем было обуваться… но брат сказал, что договорился: мне сошьют сапожки, и что «в школу ты должен идти». Ну, принёс он их мне – и я пошёл в первый класс.
Как раз в 1941-м году, как школу заканчивают школьники – я закончил восемь классов. Уже брат ушёл служить в Красную Армию. Вот остались – сестра и нас двое в Каневской.
По-моему – 1934-й, уже после первого класса – соседка в колхоз ездила и меня забрала. Говорит: «Поехали, там будешь с лошадьми. Что-то, в общем, тебе даст бригадир». Мы приехали. Я – во втором классе только. И он мне поручил лошадей пасти молодых, а потом воду возить. Ну, для пацана – !!! Я как говорится, немножко обалдел от радости. А там же кормили в бригаде! И я там и ночевал, и так стал каждый год летом ездить в колхоз. Откармливаться.
Помню, когда нас переводили во второй класс уже – меня премировали среди лучших учеников. Денег-то у колхоза – откуда? Ни у кого не было. Так они нас премировали чем? Мне вручили петуха. Другим – курочку или две…
Ещё раньше в колхозе мы ходили в детсад.
В общем, подкармливали нас, детвору, когда была голодовка, когда мы остались без родителей. Таким образом мы, молодёжь вся, за исключением одного брата, выжили. А потом уже ставало лучше и лучше, мы уже жить стали более-менее. Может, не прекрасно, конечно, без родителей. Но до 1941-го года я дожил уже, как говорится, прилично.
- Перед войной – стало жить лучше?
- Конечно.
- Что в это время у Вас считалось лакомством?
- Чёрт его знает. Всё, что съедобно – всё кушали. Особо большого выбора, как говорится, не было.
Булочки. В основном булочки были пятикопеечные. В школу ходили, на перемене большой – бежишь, булочку за пять копеек купил – вот это моё лакомство было.
И – до восьмого класса я много читал. Газеты: «Пионерская правда», «Комсомольская»…
Книги читал. Как-то в пятом классе я даже на уроке старался читать, меня заметила учительница – и сказала библиотекарше, чтобы мне не давали книг, а то я их читаю на уроках.
Я много интересовался военным делом: особенно, когда война с японцами была на Халхин-Голе. И про Гражданскую. Особенно я запомнил и мне пригодилось в войну это – про одного бойца, которому дали приказ «Гнать аллюр три креста». И я скажу потом, почему я вспомнил это.
В 1941-м году я уже выходил по вечерам гулять на улицу. Знаете, компанией собирались? И пришёл на рассвете. Уснул, проснулся… даже нет: меня разбудили. Я жил уже у брата, брат работал, отслужив Красную Армию. Он был стрелок-радист, а стал работать в магазине. И женатый был. Вот его жена меня будит, уже часов в десять, каникулы же: «Вставай, война». Я говорю: «Какая война? Кто с кем?» - «Немцы напали на Советский Союз». А я так подумал: «Ух ты, боже. Надо же, какая-то моська…» Я географию же хорошо знал, карту. Советский Союз – во какая карта, а Германия – вот. А я говорю: «Какая-то моська напала на слона». Вот такая у меня мысля была.
Вообще-то мы, мальчишки, были такие патриоты перед войной! Мы хотели в армию, служить куда-то на Халхин-Гол… потом этот пограничник был с собакой, он там прославился, мы его всегда читали… Карацупа. И собака ж у него там была. Ингус, да…
Мы это, знаете – прямо всем хотелось на границу. А тут вдруг война. Ну, некоторая ребятня наша: «А пойдём в военкомат, мы поедем воевать». Я – не ходил, честно говорю: не пошёл. Просто мне некогда. А они кто-то там пошли. Приходят: «Нет, - нам сказали. - Идите работать, потому что у нас хватает подготовленных красноармейцев достаточно. А вам ещё рано».
И так я работал до 1942-го года. А брата – призвали. Он в магазине был продавец и заведующий. Отдельный магазинчик такой на лубзаводе в Каневской. Лубяной. Луб. Пеньку били. Она же сейчас, как наркотики, считается… конопля. Каждый колхоз сеял коноплю обязательно.
Я на место брата встал. «Как же, ему всего-то пятнадцать лет, не можем мы!» - «Ничего. Оформляйте на жену – а он будет работать». Ну, оформили на неё, а я работаю там сам уже.
А тут рядом на заводе завскладом был – тоже его призвали. И его сын тоже дело принял. И мы так это вроде сдружились. А тут привезли как раз с Крыма вино. Такое вкусное! Бочку мне дали. Малага – сладкое такое. В руки если возьмёшь – пальцы слипаются. Оно сколько-то лет там уже стояло, а эвакуировать стали – и бочку дали. И он, и я, мы стали это самое… [Смеётся].
Я не курил, а потом-таки закурил. Мы же, значит, самостоятельные люди, всё такое…
- Что в этом магазине ещё продавалось?
- Основное было – это продовольствие для рабочих завода. Хлеб, конечно. Хлеб, что там ещё? Рис, да, крупы там… то, что лимитировалось. Как война началась – сразу стало лимитироваться. По карточкам. Список фамилий рабочих завода. Например, Иванов: три человека у него семья. Он работает один, а у него три. Значит, хлеба им на троих надо давать. Они же все есть хотят.
- Но они платили?
- Конечно. Просто не могли взять больше, чем норма. Факт тот, что платили, покупали, но – по норме. И вот если что-то ещё поступало, примерно – там у меня не хватит для всех… я иду в профком – он советует, как надо распределить, чтобы всем… или рабочим – или кому дать в первую очередь: у кого многосемейным, кто одна там женщина, у неё трое или четверо детей, муж на фронте. Вот значит, им – в первую очередь: надо кормить детей.
А из промышленных товаров – по-моему, ничего не было. Керосина даже. Ничего, только продовольственные.
Я каждый день ездил за хлебом в центр, потому что завод за станицей был. Вот у меня подвода… давали – с будкой. Я еду в склад, в сельпо, что там есть. «Тебе вот бочка вина по наряду там расписана». Я, значит, расписался, забрал – и повёз. Вино, конечно, тут уже свободно, вроде не распределяли. Кто сколько захотел взять. Как сейчас помню, было – литр стоил 27 рублей 70 копеек. Но вино было – это что-то такое! Это вот единственное у нас за целый год! Я год там был.
Подходит июль-месяц 1942-го года…
- Подождите, а первая зима – тяжёлая была? 1941-го – 1942-го годов?
Я бы не сказал. То есть – нормально, не голодали. Вернее – тоже, да, было, но – во-первых – правильное распределение! И такой голодовки никто не испытывал. И кто-то даже если неработающие, пенсионеры – в станице голода не было никакого.
Эвакуированные – приезжали, но – немного. Я помню, к нам даже прибыл один из Питера… он стал инженером этого лубзавода, когда старого главного инженера забрали на войну. Он устроился с женой, с дочкой. Помню, потому что дочка приходила ко мне: уже взросленькая такая. Она брала хлеб.
Я же знал всех уже пофамильно. Также по списку – и ему одинаково, как и любому, никаких льгот: кроме, как я говорю, многосемейным матерям. А так, чтобы кому-то из руководства давали там вместо полкилограмма хлеба килограмм – нет, не было этого. Всем – ровно. Всем-всем: грамм в грамм! Это уже чего-чего – точно! То, что в списке люди есть – кто б он ни был, хоть он начальник цеха, хоть он самый рядовой там – все получали то, что было по норме. Тут в отношении этого было полнейшее…
- Какая информация была с фронтов? Следили за этим?
- А как же? Тут же кому придёт письмо – уже и соседи сбегутся, и все знакомые. «А чего же он не пишет? Где же мой?» Придёт письмо, примерно ты прислал – мои прибежали: «А что ж они вместе уходили, а что ж он обо мне ни слова, ни полслова? А вроде ж вместе пошли?» А ведь они понятия не имели, что отправляли не сразу в часть, а на сборный пункт краевой. А там уже, как говорится, и где я, и где ты – уже неизвестно, куда кто попадёт.
И похоронки начали приходить… правда, не так уж много было. Но были уже в 1941-м году, быстро начали поступать.
- Как-то это отмечали, что есть похоронки?
- У меня близких родственников погибших как-то в то время ещё не было. Хотя брат погиб, но погиб уже аж в 1944-м году. А потом я же дома был только с 1941-го по 1942-й: один год. Тут маленький, а потом 1942-й год подошёл – в июле мне повесточка: «Прибыть 28-го в райвоенкомат». Я пришёл 28-го, как положено. Паспорт у меня забрали. И у нас парк рядом – «Ожидай вот там-то». Сидим день…
А что с собой было в котомке у нас? Полотенце, мыло... кружка, ложка… Вот такое. Что-то взяли из еды с собой, конечно. Пока доехать – перекусить было.
Мы там двое суток ждали – и вначале нас повезли в сторону Староминской, навстречу фронту. А уже слышим, что Ростов сдан, вот уже идут бои под Батайском там вот: Кущёвка, Батайск уже… Нас и вернули. Мы проехали туда ночь, смотрим – штабная машина фронтовая около нас остановилась, в подсолнухах, и нас – бах! – и назад. А ехали – на подводах, на бричках…
Нет, туда – пешком шли. А сюда вернули – нам в этот же день подогнали 20 бричек: собрали с района, потому что 200 человек было. По десять человек на бричку – и 30-го июля 1942-го года под руководством одного офицера с военкомата двинулись на Краснодар. Мы доехали до Динской, здесь недалеко, она как раз на развилке.
А у нас офицер этот был на машине грузовой. Он туда-сюда мотался, уже успел скататься в крайвоенкомат… видно, там ему сказали, куда теперь надо везти своих людей. Он встретил нас тут, и говорит: «Вчера, 2-го августа, в Каневскую вошли немцы». Вот так. Значит, мы были 3-го августа здесь на перекрёстке. Когда мы были тут, что делать – перекуривали, кто что…
Настроение у нас – отличное! А что? Мы – молодёжь, 200 человек пацанов, что нам? Картошка тут росла – давай жарить! Натащим, костёр разожгли, всё такое. И тут летят три бомбардировщика немецких. И на бреющей такой высоте – прямо через нас – и пошли на Краснодар. Отбомбились – и нам видно эти дымы, даже звук оттуда дошёл! Мы тогда скорей побросали всё это – и рванули! Но не все, а только наша бричка. В Краснодар!
Там они бомбили Сенной рынок. На нём людей-то – много. Мы только стали подъезжать – прямо посреди улицы воронка. И смотрим – внутренности человеческие на дереве. Ну, мы, как говорится, в крайвоенкомат – а нам говорят: «Езжайте назад обратно на сборный пункт».
Мы приехали: «Ой, отметьте нас, чтобы не посчитали, будто мы отстали. А то нас запишут ещё в дезертиры. Тут же мы, как это так?!» - «Садитесь, располагайтесь, вон лесополоса – под лесополосой». Всё это было уже 3-го числа.
Мы переночевали там.
4-го числа, значит, с нами работают… и ночью работали: с краю же много людей было! А лошадей в лесополосе попривязанных – уймища. И – людей, призывников. Ну, военкоматские там крутятся, а наше дело что – лежать да курить, как говорится.
4-го приходит один офицер, не знаю, откуда он. С части уже, с 339-й дивизии. Ко всем обращается: «Кто умеет запрягать лошадей в подводу?» У нас поднялось человек двадцать, наверное. «Вон лошади стоят, по паре лошадей берите, садитесь – и за мною». Сам садится так же, берёт пару: «За мной – шагом марш». И поехали. Ни фамилии, ничего. Ничего у меня нет: я паспорт же сдал там…
Заехали в Краснодар, на фабрику кожгалантереи или что. Она уже на военное производство перешла. «Вот сбруя, берите на лошадей на этих каждый». Все мы уже опытные немножко, понимаем: сбрую, всё – хомуты, вожжи, уздечки – всё взято было. Всё это – не больше часа, а то и того менее. «За мною», – опять. К Сенному рынку, там завод «Октябрь» был, он брички делал. Заезжаем во двор – там брички стоят. «Запрягай». Все запрягли. «За мной!»
Едем, едем, ночь уже. Приезжаем ночью. «Стой». Какой-то хутор, что ли, или что-то такое. Как они нас в ночи распределяли, не знаю. Целая колонна бричек. Только я оказался один. А темень – страшенная, нет Луны. И я спрашиваю у какого-то солдата или кого там... «Куда, – говорю, – нас привезли?» - «Хутор Капонской». Это километров 15 от Краснодара или 12. Нет, он сказал «Капони»! «А немцы далёко?» - «Ложись спать, далёко».
Ну что ж? Тут же в бричку… или под бричкой даже: август-месяц же. Это было с 4-го на 5-е. Лёг, уснул, утром старшина меня будит: «Вставай обмундировываться». Ну что ж, схватился. А что обмундировываться? Пилотку дал, гимнастерку б/у, патронташ с тридцатью патронами, винтовку – такую: в полтора раза выше меня. Прицел – ещё дореволюционный. Винтовка ещё и втрое раньше меня изготовлена. Почему – потому что прицел был не в метрах, как сейчас, а в шагах. Солдаты в царской армии были в основном малограмотные или вообще ни черта не грамотные: крестьяне же, поэтому им так надо было. Шаги – они знали, а метры – они понятия не имели. И мне попалась такая винтовка.
Ну, уже светло стало. А они же мне ещё ночью сказали: «Ты попал в роту связи 1133-го полка 339-й Ростовской дивизии». Ещё с вечера. Я их тоже спросил и за немцев: мол, далеко ли. И тут он мне её дал – и я её начал чистить.
Тут подходит один... зам. политрука. Оказывается, рота-то связи – она есть, только людей нету. Два ездовых, старшина и зам. политрука. Тогда ещё воинских званий не было. Обращались – «товарищ командир взвода», «товарищ командир отделения» – и там кто бы ни был. Но знаки – носили, вот этот зам. политрука носил три треугольничка. Он тут же приносит мне: «На, читай, принимай Присягу!»
Ну, я прочитал, что мне… я же всё же восемь классов окончил, читать умею. «Распишись». Расписался. «Занимайся».
Я винтовку чищу, вдруг слышу – пулемёты: та-та-та, та-та-та… А рота связи – под лесополосой. Там вот – хутор [Показывает], и прямо на окраине, почти на окраине, метров пятьдесят – лесополоса, где мы стоим. А слышим из хутора или где-то за хутором – такая сильная пулемётная стрельба! Я уже не стал и спрашивать, а сразу догадался: значит, немцы. Мне сказали: «Далеко, ложись» – а они, оказывается, часов в семь или восемь уже начали атаковать. Я быстренько собрал всё это…
- А винтовку откуда знали?
- Да, я забыл сказать: когда война началась, в станице Каневской был сформирован отряд. Истребительный батальон. И мы даже ходили один раз на стрельбище, по три патрона стреляли. Не на стрельбище – а у нас «глинище» такое было. По три патрона мы стреляли – и я оба, то есть все три – попал в эту мишень. Так что я в этом всём соображал.
- И винтовку могли собрать?
- Да, сам уже без помощи собрал, всё сделал. Ну да, прежде чем стрелять – нам же там показали уже, что такое винтовка, из чего она состоит.
Собрал, значит, стрельба идёт – я молчу, не спрашиваю у зам. политрука ничего. И вдруг ни с того, ни с сего, как говорится… вроде мы одни стоим под лесополосой, никого нету больше – бабах! – мины! Я ещё не знал, что это. Разрыв – метров за пятьдесят так. Один, второй, третий. Я – за зам. политрука. Мы залегли, лежим. Говорю: «Это что такое?!» - «Это снаряды». А я говорю: «Нет, это мины». Он семь штук бросил – и прекратилось всё.
И в это время подскакивает – я не видел когда, только слышу, зовут меня – командир роты связи. А он же всегда находится при штабе, он же ответственный за всю связь полка! Поэтому с него спрашивают всегда. Старшина меня: «Идём к командиру роты». Бегу к нему: «Я вас слушаю». «На лошади скакать умеешь?» - «Конечно, умею». Я не говорил, что в станице пас лошадей. «Вот тебе пакет», – и рассказал, как дорога идёт, как скакать. – «В основном иди по этой дороге, в любые отростки – не сворачивай, только по этой дороге. Вот она – до штаба дивизии. Вдруг встретится какое-то препятствие – уничтожь пакет. Сам доберёшься – доложи, что немецкие танки с пехотой атакуют полк».
А связи, радиосвязи – не было при отступлении: все радиостанции были на батареях, а батареи разрядились. И я потом видел их как-то дальше уже: они кричат, кричат – а их никто не слышит.
Но он – не сказал, что связи нет. Просто: «Скачи, вручи этот пакет! Любыми путями доберись туда и доложи то-то, то-то. Скачи аллюр три креста!»
А я даже не стал спрашивать, что это такое. Думаю: «Я же знаю, читал. Это надо скакать так, чтобы все силы лошадь отдала». И в то же время она может скакать, скакать, упасть – и всё, шагу не даст больше. Надо давать ей отдых через какое-то время, но я не представлял себе, как, когда.
И я – только садиться, но ещё – попробовал подпруги. Думаю: «Он их не отпустил ли?» Положено, когда человек встает с лошади – он отпускает ей подпруги. Вроде ж думаю и показать, что я соображаю в этих скачках. Подошел, попробовал – он не отпустил. И – только хотел садиться – как вдруг очередь автоматная вдоль лесополосы! Но так далековато был стреляющий, что пули – трррр! – и пролетели мимо нас, ни лошадь, ни меня, ничего не задели. А тем более – командира роты: он же стоит прямо почти в лесополосе, на краю её. Я как-то на доли секунды осёкся: «Что ж дальше-то мне делать? Скакать?» Командир роты тут на меня: «Скачи!» Но – не заматерился. И я тут с хода в галоп рванул – и побежал.
И скачу, скачу… с километр проскочил – дай, думаю, на рысь перейду и тому подобное.
И вот слежу я за дорогой… она лучше набитая, чем эти отростки всякие. Вижу – впереди поляна приличная такая, большая. И дорога через неё ведёт в лесок такой. Я скачу. В это время слышу гул – ууууу! – самолётов. Я так оглянул – боже мой, целая армада!
Скачу, скачу, а сам думаю: «Они летят так красиво, такое у них расположение, что пересчитаю их – мгновенно». Они – так вот [Показывает]: тройка, в тройке самолёт от самолёта, как будто его отмерило, как на парадах показывают! Две тройки. Потом – три тройки, потом три по четыре тройки. И все прямо парадом они летят! Думаю, просто красуются сами собой даже.
Идут – через меня, а я не боюсь: что же они – чокнутые, что ли? Из-за одного меня будут бомбить, что ли? Нет, конечно.
Я скачу, а их семнадцать троек. Это пятьдесят один бомбардировщик. Они через меня пошли на этот лесок – и скрылись там. Я доскакиваю до него – ну, это же было, может быть, сто-двести метров, я уже не помню. Но факт в том, что я уже у самой опушки.
И вдруг они, оказывается, пролетели в ту сторону лесок этот, а он небольшой был – и уже оттудова начали вот так вот [Показывает] – одни тройки, другие, дальше, дальше… – бомбить! Как поднялось! – представьте – пятьдесят один! Последняя сбросила – видно, четвёрка – бомбы прямо совсем рядом около нас.
Лошадь – стоит, а я держу её. Сам – лёг. Думаю, что ж я – сумасшедший что ли, чтобы скакать?! Минута – и я был бы в этом лесу! Я бы попал под это! А прямо совсем недалеко: обсыпало меня этой землёй, комьями... вот этот запах взрывчатки…
Я сразу понял, что вот эти рядом – это последние бомбы. Опять на лошадь – и через этот лес! Он весь, вижу – туда, сюда – всё изрыто! Дорога – на дороге вот такие комья земли [Показывает].
Это же август-месяц: земля – сухая, такая же, как вот в этом году была. Глыбы, комья – я уже держу лошадь: она сейчас споткнётся – я полечу, наверное, вперёд неё, и там от меня ничего не останется. Держу, скачу-скачу, выскакиваю с леса, смотрю – дорога там, и через неё – высота с тригонометрической вышкой. И вижу – с верха спускается кто-то в шинели… хотя это был август. Думаю – это и есть, куда мне надо.
Я подскакиваю туда. Он спустился – я к нему. Так и так. Вижу, что военный же. Командир.
Сразу говорю своё, мне же его примерно обрисовал командир роты. Отдаю пакет. Он разорвал, тут же прочитал, пакет возвращает. Да, расписался на пакете – я в карман его обратно. «Всё, скачи назад!» И я – уже потише – но скачу.
Проскочил в лесок уже, за него – ещё один лесочек там…
И вдруг меня кто-то останавливает! Встал. «Давай лошадь...» Привязывает… Я смотрю на него – думаю: кто такой? А я не узнал: это же измазанный старшина нашей роты! Что Вы думаете?!
Он идёт к бричке, достаёт котелок с кашей. Я же ускакал не евши. Он мне: «На, кушай, да скорей иди помогай могилу копать». Я думаю: «Какую, кому могила, что?!» Когда нас там всего-то...
Раз-раз поел, он: «Ну, скорей, скорей давай! А то уже отступает полк, уже батальоны остались!» Мне дал инструмент какой-то, я взял. «Вон за дорогой там ребята копают!»
Я пошёл – их там двое. Копают могилу. «Кому это?» - «Зам. политрука». Оказывается, я ускакал – немец снова начал мины бросать, и уже перенёс огонь. Видно, наблюдатель был где-то. Так просто же он не мог поправку взять. Никого нет, а он – именно по нам! Значит, какой-то диверсант… а диверсантов было много в то время! В нашей форме, на наших мотоциклах…
Значит, какой-то такой гад и корректировал огонь, потому что я уже стал спрашивать, а они мне говорят: «Огонь опять открыли миномётный, начали мины опять бросать. Одна рядом разорвалась. А они лежали там же, где ты лежал – и зам. политрука насмерть убило, а одного солдата тяжело ранило».
А я и не понял, куда же они того солдата дели. Даже, может, и в хуторе бросили – не знаю. Но факт тот, что – давай могилу копай! Мы долбим, долбим эту землю, втроём уже. А земля же – августовская. Но выкопали – вот так, наверное, если не меньше [Показывает]. 50 сантиметров.
В это время командир роты – откуда он появился, даже не знаю – подходит: «Давайте, хороните!» Приносят ребята, ложат его – а у него носки сапог торчат, мешают. Землёй закидывают – а носки торчат. Я говорю: «Да это же, как же это, это же не могила!» Он говорит: «Нельзя нам ни минуты, батальоны уже отступили и находятся дальше, чем мы. Мы скоро к немцам попадём, если ещё тут задержимся!»
Кое-как прикинули, на брички – и на Елизаветинскую. Она – здесь [Показывает]. И действительно – батальоны уже там были. Ну, нас, как роту связи, собственно говоря, приняли… одна бричка – да и мы же, как говорится, не воюем.
А батальоны заняли оборону по этой стороне Кубани – а нас переправили.
Там ещё была переправа на тросу. Трос проведённый, люди тянут – и она идёт. Брички – туда, и перешли. И там полк наш сразу весь переправился, а батальоны потом два дня вели бои. Даже на третий день. Правда, немцы их уже почти к Кубани прижали, и они никак не могли уйти. Чтобы переправиться – надо же встать. Если можно было до этого по-пластунски – то тут надо уже вставать, чтоб переплыть.
Сообщили, что когда немцы поджали наши батальоны к самой Кубани, чтоб в неё сбросить – в это время подошла «Катюша». Я её не видел, мы не видели: она была там где-то, позади… да не одна, а, видно, четыре. И они залп – как дали!
Четыре «Катюши» – это я так представляю, потому что потом я видел их по четыре. Они же батареей ходили, у них был залп длинный такой. И как они дали – так потом уже наши батальоны свободно переправились на эту сторону. Немцы даже ни одного выстрела не сделали. Только я этого не видел, а наши, когда отступили, рассказали, как «Катюши» дали залп – и они свободно стали переправляться.
С Елизаветки мы пошли на Михайловский перевал, на Туапсе. Жарко, воды нету. Мы этот перевал преодолевали – не дай бог. Там под деревьями лужи уже зелёные – так мы даже ту воду глотали! Но – поднялись на Михайловский перевал. Весь полк туда – и даже несколько орудий 900-го артполка – тоже нашего – залезли.
- К Горячему ключу?
- Нет, Михайловский перевал на Туапсе. Я знаю, что мы, когда поднялись уже туда – а перевал длинный такой, тяжёлый – вот один вскарабкался на дерево высоко – и говорит: «А, вон, вижу море!» Значит, мы где-то были уже возле него. И там уже мы свободно – знали, что ещё немца нету – сосредоточились.
Я только знаю, что по горам повели и нас, и всю дивизию так. Каждый полк получил задание. Куда, что. Факт тот, что наш полк оказался в старом лепрозории. Был такой Абинский район, и в его горах был лепрозорий для больных. Штаб полка построился, и – ну оттудова! А другие полки стояли ещё где-то в других местах.
Потом нам дали команду занять предгорье, а расстояние дали такое: от Горячего ключа – до станицы Ставропольская. Это 80 километров.
- Полку?!
- Нет, до дивизии. Но всё равно 80 километров для до дивизии – это огромный километраж! Поэтому сплошного фронта не было. То рота заняла, то батальон… опорными пунктами. В тех местах проходы, ущелья были. Где можно пойти на Туапсе аж до самого моря. Уж немцы-то знали, где. И вот мы это заняли предгорье всё.
Один батальон занял новый лепрозорий. В нём ещё жили врачи и обслуживающий персонал. И передний край проходил недалеко вот тут. [Показывает.] За новым лепрозорием – уже равнина, Кубань, и вот там наш батальон Яновского занял позиции. [Показывает.] Ну, а я оставался по-прежнему не ездовым, а конно-связным.
- То есть связь вся – на лошадях?
- Я – и в штаб дивизии, и в соседнюю дивизию… 383-я воевала там. Там вот эта гора… забыл, как её… и туда меня посылали.
Связь – держалась на ездовых. Конная связь. Телефонной – не было, радиосвязи – вообще не существовало. В штабе полка – и то… я же говорю: орут, орут...
Там тяжело нам пришлось зимой. Дорога – вначале по ней машины ходили: продовольствие, боеприпасы возили. А потом уже машины не могли: ишаками стали подвозить.
- Немцы – не атаковали?
- Атаковали. Но они же с равнины – их в горы никуда никто не пропустит.
Атаковали… особенно напротив нового лепрозория. [Показывает.] Дорога там была, вглубь туда … я по ней ездил тоже несколько раз, бывал там. Батальон целый оборонял этот проход! Они там очень сильно встали. Но и на других участках тоже, как говорят… но я же – всего лишь солдат, рядовой. Кто мне там доложит, где что происходит?
- Вы были при штабе полка или батальона?
- При штабе полка. Рота связи при штабе полка. Штаб полка – тут [Показывает.], а мы – через дорогу – рота связи.
Вроде у нас было три офицера: командир роты, замполит, и… и я всех не знаю, кто там ещё был. Повар…
Вообще, было тяжеловато нам. Во-первых, на ишаках много не увезёшь, а потом и ишаки не стали даже пробираться, потому что дорогу разбили, а морозов не было, не замерзала зима. Грязища – страшенная! Дорогу так раздолбали, что начали посылать уже пешие группы солдат аж в Пшаду! Там были армейские склады, оттуда брали и боеприпасы, и продовольствие. Это было примерно 80 километров. И мы это всё – ножками. Группа идёт – человек двадцать: туда и обратно. Кому что попадёт. И меня тоже однажды посылали туда пешочком. Лошади подохли все, нечем кормить было. Пешком уже все…
- Ели лошадей?
- Да вот именно что – нет! По глупости. Почему не ели? Потому что считали, что армейских – нельзя убивать. Хотя и голодали мы. А сама подохнет – уже вроде как и нельзя. Не ели, вот именно. Все лошади подохли – а мы их не ели. Как-то в то время не практиковалось такое, что лошадей можно кушать.
А вот послали меня туда на склады – ну, кому рису полмешка дали нести, кому что, а мне – ручной пулемёт и коробку с тремя дисками! Вот я и тащу их обратно 80 километров.
Ночевали по пути: далеко же. Поэтому остановку делаем на ночь – и опять идём. В общем, тяжеловато.
Станица Ставропольская – она уже в горах как бы, значит, в предгорье. Где-то самая крайняя на левом фланге, по-моему. И в январе или в феврале приехал генерал Гречко в дивизию и спросил: «Сколько нужно время дать, чтобы вы в Ставропольскую собрали один полк?»
Я не присутствовал, но говорят, что он дал командиру дивизии такое задание. Ну, тот говорит: «Суток двое». Потому что растянулся полк. Тот говорит: «Хорошо». Двое суток дал снять один этот полк со всех ущелий, и – в Ставропольскую. И на следующий день пойти в наступление на железную дорогу к Ахтырской, примерно вот здесь. [Показывает.]
Это самая ближняя была железная дорога… и автомобильная – это именно там, у нас. Все остальные – дальше были. И немцы – свободно по ним! Мы смотрим – они машинами мотаются туда-сюда. Видно даже мне. Я еду на лошади (когда ещё лошадь была живая), тоже на гору выйду через перевал, смотрю, слышу – там в полях женщины поют, убирают… уборка, значит. С осени ещё.
И вот немец дал, значит, наступать туда. Наш полк вышел – и пошёл в наступление со Ставропольской. Взяли пленных 120 человек и дошли до железной дороги.
Но немцы же не дураки: они же видят, что наши хотели! В Сталинграде – окружили, теперь хотели отрезать здесь: вот эту группировку Краснодарскую всю, всех чтобы! С севера там тоже подошли уже. И тут задача – только вот эту дорогу перерезать. [Показывает.] Подошли вроде, дорогу перерезали… но они – подтянули резервы с Краснодара! А на второй или на третий день – шарахнули так, что полк этот отбросили от железной дороги. Он вынужден был уйти, потому что народу слишком много погибло.
Правда, я уже был в другом полку, в 33-м. Меня перевели из связистов в 76-миллиметровую батарею. Батарея с лепрозория, в которой две лошади осталось: они – пушку тащили, а снаряды – нам каждому дали. По два – в вещмешок, а каждый снаряд – десять килограммчиков! И вот мы, значит, на помощь сюда пошли… [Показывает.]
Немцы ж было продвинулись до самого Пятигорска или до Грозного: аж там были! До Владикавказа! Так они же и оттуда мгновенно сняли все войска, и – сюда. Потому что поняли, что их тут мы обрежем – и им хана будет всем. Конечно, у них силы были, они тут держались везде наготове. Но наши уже были там, и наша ещё батарея подоспела.
Когда они атаковали, чтобы оттеснить – мы так удачно стреляли, что командир полка сам приехал, говорит: «Молодцы, так классно!» Они же думали, что артиллерии нет у нас. И, как говорится, свободно так расхаживали. А вдруг ни с того ни с сего артиллерия застреляла – и прямо по ним! Командир лично похвалил нас: «Вы сделали большое дело!»
Но всё равно у них там было и войск побольше, чем у нас, и боеприпасов… Оттеснили – и свободно до Краснодара стали гнать и гнать, а 14-го или 12-го февраля они уже легко взяли Краснодар. Почти что без боя. Только сейчас говорят, что бои были. Да никаких! Уже тогда там в Краснодаре у нас было не за что зацепиться: нету препятствий таких, чтобы создать оборону!
К Абинской вначале наш батальон подогнали. Как раз железная дорога – на правой, на северной стороне. Нам в атаку – утром. А перед нами всё поле было с осени вспахано! И мы стали подходить, шли уже к Абинской, пока без сопротивления. Дождь, холодно. Подошли к ней – а дальше уже идти некуда: там речушечка малюпонькая такая какая-то. Остановились. Ни плащ-палаток, ничего нету. Стоим.
Тут кто-то догадался: недалеко же железная дорога! Шпалы! Там метров сто, наверное, а то и ближе даже. Пошли, а – чем? Лопаточки у нас маленькие, а больше ничего же не было! И вот пошли эти выкорчёвывать шпалы. Две вынули, притащили сюда. Опять же этими лопаточками начали отщипывать – и сделали костёрчик. Два даже. И потом целое утро вот так отогревались…
А ещё на рассвете принесли нам водку! С кухни принёс солдат, красноармеец. Термос целый. Каждому стал наливать в кружку. Ну что, я выпил водки… она холодная, закусить нечем, даже воды нет… грязью же – не будешь. Дождь тут пролил везде – слякоть. Глотнул я – и ещё больше замёрз.
Стало совсем светло. «Занять исходные!» А – грязища: как «занять»? Тут по полю, по этой пахотной – ледок тоненький. На него встанешь, и – в грязь! Но мы – кто как выбрал где бугорочек какой – хоть что-то себе расчистили. Да, видно, руководство вовремя поняло, что там наступать нам невозможно. Что там один пулемётчик мог бы любой батальон уничтожить. Там не побежишь и не ляжешь. И нас в атаку так и не послали.
Тогда меня отправил старшина от имени командира роты за едой. Говорит: «Вот там-то, там-то – кухня. Иди скажи, пусть несут нам есть». Ну, так как атаки же – не состоялось. Я-то пошёл, а когда проходил под мостом – там лежал убитый один наш. Ну, я – дальше… какое моё дело? Кто-то подберёт же…
На кухне сказал: так и так, несите еду. И спросил: «А где штаб полка?» Я же в роте связи раньше был. А тут недавно передали по радио, что Каневская уже освобождена. И я так хотел письмо туда послать – и только-только написал! Думаю: «Интересно, отправили его уже из полка-то?» А они мне говорят: «А вон, метров 500. Там деревца – и штаб полка».
Думаю: «Сбегаю в роту связи». А эти – собрали продукты, набрали, что у них там было – и пошли. И проходят под мостом – а там лежит же убитый. И они подумали, что это я! Артобстрел же как раз был. Приходят туда к моим – и говорят: «А ваш посыльной лежит под мостом убитый».
Я возвратился – никто ничего, молчок. Я и не знал. Но оказывается, командир роты уже успел сообщить про меня это в полк! Бумажицу – раз! – чтоб меня со списков исключить: мол, Моргун погиб. Они же, повара же эти, кто несли еду – на обратном пути принесли в штаб полка и передали его бумажку. И там меня уже зачислили в списки погибших! Еле-еле доказал потом, что я – это я…
Под Абинской нас перевели на ту сторону железной дороги. Перед нами курганчик такой. И что Вы думаете?! Потом уже, когда мы взяли этот холмик – оказалось, под ним вырыто помещение. Заранее население немцам сделало. Южнее железной дороги – наш батальон. И – прямо против него! У немцев курганчик – ну, метров 150, наверное, от нас: от переднего края до их переднего края. Послали наш батальон ночью один, чтобы внезапно атаковать и взять этот курган. Чтобы внезапность! Батальон вышел, расположился прямо под их передним краем, но враг обнаружил нас, открыл пулемётный огонь – и внезапности не получилось.
Тут сам комроты как раз меня послал отсюда, с переднего края: «Побеги туда к командиру батальона, доложи, что такая-то обстановка. Что нам делать?»
Я пошёл… как раз не знаю, где комбат был… заместитель его был, капитан Петренко. Я говорю: «Вот так и так. Меня прислал командир роты сообщить, что мы вот здесь лежим, пулемёты подняться не дают. Что нам дальше делать?» Он: «Ну, давай, поведи меня туда». Говорю: «Ну, давай, следуй за мной». И – бегом… там на фронте не ходят пешком: бегают или ползают только, по-пластунски. Бегом перебегаем, бежим, бежим. Ночь, темно. Он [Немец. – Прим. ред.] же стреляет – бежим…
И – выбежали, я только смотрю – огонь вспыхнул! Оказывается, батальон сзади лежит, а я промахнулся мимо него. Чуть, если бы он не дал это… немецкий пулемёт заметил нас – и очередь влупил! А, оказывается, я провёл Петренку и себя мимо моего лежачего батальона! Все лежат же, а темно! Так я провёл его прямо чуть не на фрицевские огневые позиции!
Мы с ним как кувыркнулись с высоты! А этот капитан Петренко на меня матом: «Ты что, меня хотел к немцам?!» А я – что, дурак, что ли? Я сам не видел. Думаю: «Что же такое?..» Он поднялся: «Я ухожу, передай командиру роты – пусть отводит людей назад». Отвели.
На второй день – опять, значит… теперь уже один младший лейтенант, командир взвода со взводом. Во взводе было всего десять человек: людей-то в пехоте вечно не хватает. «Ну-ка вы попытайтесь. В 12 часов атакуйте».
Мы поужинали, значит, он нас вывел туда, по-пластунски мы подползли как можно ближе. Вот – его десять человек, он – посерёдке. Мы лежим, а часов-то ни у кого же нет: ни у солдат… красноармейцев – тогда ещё… ни у младшего лейтенанта нету.
Он [Немец. – Прим. ред.] постреливает из пулемёта, а мы лежим себе, прижавшись к земле. Что нам? А он больше стреляет – туда, он же не видит, что мы лежим у него под носом.
А перед передним краем у нас было выставлено боевое охранение: станковый пулемёт от внезапного нападения. Оттуда солдат один подползает к нам. И я как раз недалеко от командира взвода лежу. Он говорит: «Товарищ младший лейтенант, сейчас уже 12 часов 15 минут. Комбат приказал атаковать». И пополз обратно. Младший лейтенант мне: «А ну-ка, проползи, всем скажи, чтобы приготовиться в атаку». Что там, десять человек, подумаешь, раз-раз, прополз: «Приготовиться, приготовиться!» Расстояние друг от друга не сильно увеличено, не то что днём, потому что друг друга слышно. Прополз, сказал, вернулся на своё место, ему говорю: «Всё сообщено». Ну, как говорится, он передохнул там…
«Встать», – тихонько даёт команду. Тишина. «Встать!» Все встали. «Вперёд». И мы идём. Ну, «идём» – прямо бежим, можно сказать. Но всё же так это не слишком: чтобы не растеряться, чтобы связь не потерять друг с другом же. А у самих – нерв!: вот же он даст сейчас с пулемёта по нам уже! Мы же знаем, он же вот строчил всё время!
У меня граната в руках – и у других тоже так. Мы бросаем гранаты туда – уже видим, что мы вот-вот пришли к их переднему краю. А он [Немец. – Прим. ред.] молчит. Гранаты три или четыре бросили, «Ура!» – не выдержали. Хоть надо было внезапно, чтоб тишина была, а мы заорали всё равно все: «Ура!» – и на эту высотку…
Честно говоря, его там уже не было. Он, наверное, ровно в 12 часов начал отходить. Потому что он видел, что уже – всё. Ведь он нас продержал под Абинской почти целый месяц не так просто. Он нарочно держал нас. Туда и бригаду морскую даже присылали, и она не могла ничего сделать. Что значит – подготовил оборону!
Некоторые спрашивают: «Почему это вы под Абинской станицей какой-то, как говорится, замызганной – ни город, ничего – целый месяц стояли?» А потому что там была – о б о р о н а. Там были то высотки, то есть более удобные места, то низинки заминированные с колючей проволокой... он подготовил там это всё.
Атаковали, всё, меня посылают: «Прыгай». Я сам такой худющий был. «Беги, доложи: мы взяли высоту. Что дальше?»
Я бегом назад прибегаю, докладываю. Из боевого охранения, там телефон был. «Так и так», – звоню, что мы взяли высотку. Тут же комбат: «Давайте двигайте на Абинскую, только аккуратненько смотрите, чтобы в засаду не попали».
Не знаем, что действительно ли он отошёл. А может, отошёл – да засаду устроит такую, что и ни одного живого не останется!
Я прибегаю, говорю: «Сказал так и так, на Абинскую двигаться». Ну, Абинская – уже совсем вот так станица: метров триста, наверное, хаты стоят. Мы цепочкой так идём вот тихонько, прямо через поле чистое такое, ровное. Идём, идём, пришли в один дом, стучим. Молчок, никого нет. Второй – тоже никого, в третий стучим. Женщина: «Кто там?» - «Свои, открывайте». «Ай, наши, наши, ура!»
Открыла, рада такая, что Вы думаете? Вот там не дом, а хатка, кажется. В этой хате дед один, две молодых женщины, замужние, с детьми уже, и бабушка. И это они сколько уже под немцем...
Мы: «Как же вы тут жили? Передний край же, вы же на переднем крае! Любой снаряд мог вас всех тут изничтожить». «А нам, – говорит, – некуда идти. С такой капеллой… семья – считайте, сколько. Нам некуда было в Абинске двинуться, поэтому мы в подвале больше жили. Подвал у нас есть, вот мы там. Особенно, – говорит, – последние два дня немцы нам сказали даже из подвала не выходить».
Они, оказывается, заминировали вот это поле всё. А мы – десять человек! – прошли – никто не взорвался!
Мы грязные, немытые. Она говорит: «Кашки вам дать?» Каша – кукуруза там намолотая, без жиров, без ничего…
А мы в комнату вошли только втроём (я зашёл, ещё один солдат и младший лейтенант), остальным командир взвода говорит: «Вот видите, смотреть в оба: а то мало ли чего, где-то немцы тут».
Хозяйка кашки мне даёт, я – быстренько её!
Командир взвода говорит: «Скорей, скорей давай, беги, доложи, что мы в Абинской».
И я, значит, бегом. Там всё время бегом. Я бегом и бегом. Бегу, смотрю – справа, тоже с нашей стороны, оттуда, с красной стороны, перебежками бегут пять человек. Лунно стало, как-то видно. А я один перед ними. Я так остановился, они залегли. Один встаёт и видит, что я стою – и, значит, ко мне приближается: «Ты кто?» Я говорю: «Я так и так, то-то, с такой-то дивизии, с такого-то полка. Наш взвод, – говорю, – уже в Абинской. А вы, – говорю, – кто?» - «А мы разведка 2-й гвардейской дивизии».
Значит, они получили сведения – и сразу же распространилось, что мы взяли высотку. Сразу поняли все, что немец отходит. И они послали разведку. Я говорю: «Ребята, перебежки не делайте, идите во весь рост. Там наш взвод. А то они примут вас за немцев – и начнётся перестрелка между вами. Поэтому вставайте и идите. Да наших не перестреляйте тоже». А сам побежал. И в это время вижу: в Абинской – вспышка, и три пожара одновременно вспыхнули. Это я говорил щас дольше, а они – мгновенно так! Ну, мне-то – хрен с ними, там пусть горит, я-то – бегу…
А тут уже, где боевое охранение – пришёл замкомбата и командир со 2-й роты: во втором эшелоне рота была там, видно. Рота, сапёров взвод, уже тут целое собрание собралось. Я ему докладываю: «Так и так, мы в Абинской. Я, – говорю, – уже в хате был, мы уже на окраине». Он сразу же в штаб полка звонит, командиру полка, докладывает ему.
Тот: «А ну, дай ему трубку». Этот – мне. «Ну, где там вы были, куда вы попали?!» Я говорю: «Как куда? В Абинской». - «Да вы не заблудились?!» Я говорю: «Как «заблудились»? Я уже в хате был у тётки, она даже кашей меня подкормила». Он так замолчал: «Ну, дай трубку опять капитану». Я отдал.
Замкомбата говорит: «Сильно не углубляйтесь, остановитесь там, потому что мало ли где засада, мало ли… что там вас группа – десять человек? Да вас изничтожить запросто можно. Ждите нашего подхода. А как вы двигались?» Я говорю: «Да так, прямо через поле». Но он же умный был. «Не может такого быть, – говорит, – чтобы немцы не заминировали. Такого у них не бывает, чтобы поле не заминировано». Я говорю: «Не знаю, мы цепью прошли – и я вот бежал сюда. В темноте же не смотрел, где мины, где нету». - «Ну, беги. Так, как ты пришёл, так назад и беги». А он сразу при мне тут: «Командир сапёрного взвода, а ну-ка по железной. Мы пойдём по железной дороге. Тут недалеко она. Вы первые проверяйте дорогу – а мы за вами ротой».
И я только от него вышел, метров двадцать прошёл – тут солдат один, красноармеец: «Ты как?» Я говорю: «Вот так: через высоту и – прямо туда». И он за мной, видно, попёрся. Я с высоты спустился вниз, вдруг слышу – взрыв. Я обернулся – взорвался парень. Ну, надо же! Нас десять человек солдат и одиннадцатый младший лейтенант туда прошли, потом я прошёл туда-сюда, а он один-единственный – взорвался…
Пришёл, доложил это младшему лейтенанту, что так и так, комбат сказал не двигаться в Абинскую без него, пока они не подойдут, потому что нас могут немцы изничтожить запросто.
Вот так мы Абинскую взяли.
После войны у нас встреча там была – уже по поводу освобождения… не знаю, какая годовщина. А на сцене выступает секретарь райкома партии, ему подготовил доклад наш один командир взвода противотанковых орудий. И выступает и говорит: «Первым ворвался сюда командир взвода», – нет, он не назвал даже командир взвода, – «Василина». А Василина – это командир взвода противотанковых орудий. «Первым ворвался, расстрелял пулемёт, там ещё что-то…»
У меня – тааакие глаза! Как «ворвался»?! Как ты мог вперёд пехоты ворваться?! Бывает ли такое, чтобы артиллерист оказался впереди пехоты?! Ну, и я выступить хотел бы, но они тут же закруглили меня: «Остановись, ладно, ладно…»
Пошли в столовую тут, нас в ней угощали. Я ему говорю: «Что ты дал доклад – зачем это врёшь? Мог ли ты со взводом с пушкой вперёд пехоты прорваться? Тем более, что там всё это поле изрыто то окопами, то воронками. А ты со своим орудием вперёд пехоты? – говорю. – Или ты бросил орудие да сам побежал вперёд нас? А чем же ты стрелял там?» Пулемёт у них, что-то там ещё... «Так как, – говорю, – бывает ли такое, что артиллеристы вперёд пехоты?» - «Да нет же». «Так а чего ж ты врёшь?! – говорю…
Ну и опять же после войны в газете было, будто он в Абинскую первым вошёл. Это же надо такое!
Но сейчас – не знаю… живой ещё, наверное. Я связь с ним потерял. Он прямо сейчас со мной боится встречаться. Знает. А знает, почему: потому что тут же «голубая линия», мы же на «голубую линию» вышли! Мы пополнились. До Крымска дошли – и нас отвели в Краснодар, всю дивизию.
- Как Абинскую взяли – так и отвели?
- Да, подошли до Крымской. С неделю, может, дней десять там. Тоже оборона была. Дождь, слякоть такая. Но нашу дивизию отвели. Для чего? Потому что в горах – ни разу, как говорится, не купались, не мылись – ничего. А потом же приказ вышел: новая форма стала и Советская Армия. С погонами. Нас тут, значит, всех искупали, одели в новую форму, пополнили, сделали нам боевое настроение. А то мы уже людей уйму потеряли. Людьми пополнили, знамя вручили. И я же присутствовал там!
- Как Вам введение погон?
- Ну, ввели – даже приятно как-то. Хоть видишь звание сразу, что к чему. А то было – как-то не по-нашему.
И оттуда же на «голубую линию» мы опять попали. На первой же атаке мы ночью вышли на передний край, и в это время вышли немецкие танки. А людей было у нас – столько много! В окопах мы сменили там какую-то часть, что некуда даже ружья противотанковые деть, нельзя пулемёты спрятать: некуда было… людей – так много, полно! И они всё на бруствер положили. Но немцы, как рассвело – как глянули везде… я так представляю, подумали «смотри, что делается!»
Они вызвали танки. Не знаю, сколько. И танки – давай расстреливать нас в упор. А вот этот же чортов Василина – ни одного выстрела не сделал! Его только потом вызвали. И об этом никто же не знал, только я как-то: как его вызвали. Я – почему: я как раз был опять же связным, меня послали.
А так – да: я перескочил, мы всё же пошли, но атака была уже не та. Во-первых, погибшие, потом все прятались и не слышали команды. Бежит сержант какой-то, кричит по траншее: «В атаку, в атаку». А пока он пробежал – получилось, что атака не организованная была. Но вышли всё равно. И дошли уже ближе к немцу, уже передний край его. И вот он как открыл огонь! Жутко: то там рвётся, то там, то там. А он заранее подготовил… называется, так сказать, заградительный… заградогонь. То есть он в определённую полосу стреляет уже, как говорится, не меняя прицела. Или меняет там.
Миномёты противопехотные…
Люди падают: один убитый, другой раненый, третий здоровый, но ему уже страшно, потому что все падают. Цепь залегла и не движется. И лежим мы, может быть, час и больше. Никто не шевелится. Солнце припекает, всё такое. Начали, кто не раненый, потихоньку, по-пластунски, назад. А снайпер… только и слышишь: не выдерживает у людей, начинают подыматься… и раненые тоже… а он только – щёлк!, щёлк! – только и слышишь, как добивает.
Я вижу, как людей многих там положило, и – снова назад. Подползаю… человек пять нас, наверное, вернулось в окоп свой – а в это время пробрался к нам ещё младший лейтенант, секретарь комсомола батальона.
Приполз: «Ну что там? Кто там живой, как командир роты?» - «А откуда я знаю?! Вот нас тут человек пять». Он опять на меня: «Ну, ползи обратно туда, поищи. Проползи по переднему краю, где лежит батальон: узнай хоть, кто из командиров рот живой, что он думает, как, что. В общем, доложи».
Ну что, приказ есть приказ. Выполз – и пошёл-пошёл-пошёл. Уже опытный, как говорится. Ползать научился. Подползаю – воронка небольшая: два человека сидят там. Один младший лейтенант и один солдат. У солдата обе ноги пораненные. Он двигаться совсем не может. Младший лейтенант – у того глаз. Осколок, видно, попал вот сюда [Показывает.], глаз выбило – и яблоко вот так вот висит. В плечо раненый, в руку. А ноги – целые. Он меня спрашивает: «Куда мне идти?» Он уже в таком состоянии, что даже ориентировку потерял. «Куда, скажи, мне идти? Я могу, ноги у меня работают. Я могу уйти».
Я говорю: «Милый мой, да ты сейчас подымешься – тебя тут же добьёт снайпер. Терпи». Уже кровь запеклась у него, уже не льёт. Я говорю: «Раз так, у тебя, видишь, уже кровь не льётся – значит, до темноты. Если хочешь жить, дотерпи». Я стал спрашивать у него своё – «А я ничего не знаю». Да что он? – такой же, как и я. В цепи шёл.
Пополз опять по цепи… лазил, лазил. Там убитый лежит, там раненый, там ещё какой-нибудь, даже и не смотришь. Подползаю – а тоже ещё опять воронка какая-то. Там два офицера – командир роты и взводный. Говорю: «Так и так, меня вот прислал комсорг, с батальона он пришёл. Хочу узнать, что за обстановка, что там, что вы думаете, что там можно сделать? Вы можете?» А ротный говорит: «Я сам раненый, правда, легко. Младший лейтенант около меня – тоже раненый. Я тебе ничего не скажу, потому что не знаю, что там, за этой воронкой, делается, сколько погибших, сколько раненых, сколько живых. Есть ли живые? Лежишь – думаешь, что уже все мёртвые, один ты живой».
Я пополз опять назад. Говорю: «Так и так. Нашёл командира роты с одним командиром взвода. Они ранены. И там ещё раненые. Никто может сказать, что там есть, кто живой, сколько их…»
Ну, он побежал к штабу, а мы в окопе до вечера, как говорится. Утром – меня опять к штабу связным. Пришёл – тут уже сведения собрались. Начальник штаба, слышу, по телефону докладывает: «В батальоне предварительно, примерно 46 убитых, 80 с лишним человек раненых. А в батальоне – триста человек примерно. Ну, остальные живы. Вот такие потери. Пулемёты – почти все потеряны».
В бою ручные пулемёты – они тяжёлые, особенно если раненый… а убитый – тем более. Убитый вообще ничего не может взять, и даже раненые – и те оружие бросают, потому что попробуй с пулемётом пробраться в тыл! Они всё бросают.
На него – ругаются там со штаба полка, что-то на него там это...
А я как раз ночью двигался же… по нейтралке бежал к штабу: надо было, послали меня куда-то. Меня же вечно посылали куда-нибудь, что-нибудь. И там я через один пулемёт даже споткнулся, чуть не упал. Говорю начальнику штаба: «Один пулемёт я могу принести. Не сейчас, а когда ночь будет». Сбегал ночью, приношу ему… но он из него не стал стрелять… почему, не знаю. Его вызвали.
Вот так мы воевали.
Я как раз был возле штаба связным: слышу, комбат собрал оставшихся в живых офицеров сделать разбор, почему не удалась атака. Полный батальон в составе – все, и противотанковые ружья, и пулемёты – всё было, а атаки не получилось. И там один командир роты, который живой – как говорится, прямо сказал: «А виновата в первую очередь эта противотанковая артиллерия наша. Она против танков ни одного выстрела не сделала. А почему? Понятия не имею». Ну, комбат: «Мы разберёмся». А потом он чего-то, этот Василина, как-то сгинул. И я его встретил уже в другом полку: то был в 33-м, а это уже в 35-м он вдруг оказался.
- 1133 и 1135, да?
- У нас были три полка: 1133, 1135 и 1137. И 900-й артполк, артиллерийский полк, там зенитный ещё дивизион был, медсанбат был, сапёрный, разведбатальон...
Вот так эта была война у меня.
Всего я воевал тут – в том числе наша дивизия, конечно… в дивизии – четырнадцать месяцев!
2-го августа немцы вошли в Каневскую, 5-го августа я уже участвовал в бою, Копанская, а 7-го октября 1943-го года наша, опять же, дивизия – повезло нам – взяла последний населённый пункт Сенное, это уже аж на берегу. И 9-го – стало уже три полка, а то один полк был. И два полка взяли Запорожское.
Я там не был. Я – только тут. Я же не могу быть везде.
Немцы, значит, что сделали: подошли к переправе… вот переправа. [Показывает.] Так они взяли… у них огнемёты ещё – поставили огнемёты в Сенной! И пулемёты, и всё. Сплошного переднего края не было, а – так...
А мы же идём уже, впереди идёт там, как всегда, разведка, рот раскрыли. Море уже видно, думаем: «Всё, на Кубани кончилось, мы живы». И вдруг вот тут пламя огневое как дало – он сразу всё включил! И из пулемётов по нам! Погибло там – не помню уже сейчас, сколько…
Там могила под Сенной, памятник поставлен. Это – нашей дивизии. Вот я там был как раз. Но в сам огонь не попал как-то. Сразу же мы тут залегли – но это кто под огнём попал. Ведь не все попали…
И он [Немец.] – что?! Ночью – отвёл! На второй день – их уже и нету. Он практиковал такое, чтоб сделать нам какой-то… как говорится, людей уничтожить чтоб. А сам уже тут же отступил ночью.
В Запорожской – тоже, только там у него огнемётов не было, как я слыхал. Но там тоже все эти пулемёты…
На второй день подтянули артиллерию – и взяли Запорожское, вышли тоже к морю. И таким образом 9-го октября… а война – считайте: была весь август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль… даже октябрь, понимаете? Четырнадцать месяцев! Я уже не считаю, что 7-го октября вот тут в Сенной…
- И Вы ни разу ранены не были?
- А вот и действительно: раненый – ни разу не был! А контуженный – трижды.
Засыпало: снаряд разорвался… танки стреляли. Мы стоим в окопе, кинулись – окопы неглубокие. Ячейка - глубокая. Туда!
Раз, два, три, и я – четвёртый. Ой, думаю… лёг рядом.
Снаряд – как даст по брустверу прямо этому!
Завалило – всё, в том числе и меня. Получилось – на дне лежал. Но я как-то так, что руку эту мог вынуть. Она засыпана, но не слишком много. Я раз, стал поворачиваться, а она прямо земля тебя обхватывает, прямо плотнее вроде как тебя ещё как связывает. Кое-как начал расчищать, расчищать... вылез.
А эти трое – засыпанные.
Я – к ним. Думаю: «Ну свои же!» Руками расчищаю, добрался до одного: вещмешок уже. Вещмешки же – у каждого. До мешка добрался – в это время бежит сержант: «В атаку». А в атаку ты не имеешь права задержаться.
Я бросаю – и иду в атаку. А после неё, когда уже сорганизовалось, я командиру роты нашему, он живой остался... а уже тут бегали солдаты через них, уже землёй ещё засыпало... – я командиру роты говорю: «Вот тут трое человек похоронены». Он мне: «Так пускай. Что их доставать будем, да снова хоронить? Они уже похоронены – пусть лежат». Так они в земле засыпаны и остались.
- А как немцы с «голубой линии» уходили – расскажите, пожалуйста: Вы же как раз там были…
- Да. Снайпер по мне стрелял на «голубой линии»…
Опять же, после этого боя штаб батальона оказался прямо на переднем окопе! Уже заменили часть наших, кто куда…
И – связь порвалась телефонная. Перебили минами всё. Послали от нас одного солдата. Он пополз, пополз, его – опять. А тут уже у нас двоих снайпер снял, и этого – то же самое. Пропал. Неизвестно: раненый или убитый – не знаю. А они сидят в блиндаже, штабные-то…
…я потом уже узнал, что замкомбата говорил, что никто не может туда сейчас днём добраться: прямая дорога на тот свет. А начальник штаба: «Вот Моргун, значит, сможет». Поспорили на мою жизнь. Что думаете?!
Он мне даёт какую-то писульку, начальник штаба – и вот: в роту.
«Винтовку – брось: она тебе всё равно не нужна, ты с неё стрелять же не будешь. Оставь её тут».
Я выполз. Ползу уже поверху перед передним краем. Подполз, ползу – и так смотрю, думаю: «Ага, траншея же – немецкая». А за траншеей видно, что там бугорочек, что-то наставлено, деревья, ветки вроде…
Думаю: «Этот же снайпер, где же он там, сволочь, сидит и нас оттуда щёлкает?» Ползу – а сам думаю: «Ну что ж ты, гад, не стреляешь?» А видно, когда я так посмотрел – а там вроде бугорочек: он ему мешал, небось! Я дальше выползаю уже на открытую – значит, он сейчас стрельнет! Я принимаю решение – какое? Схватиться во весь рост – и рывком вот так вот бежать в окоп! В следующий окоп!
Но, значит, ведь каждый человек, когда собирается подпрыгнуть – он как-то на секунду, на долю секунды – останавливается, а потом прыгает. Я же вот… сразу – думаю – нельзя: я знаю, раз он такой классный мастер – значит, нельзя и доли секунды ему дать! Я, как бежал – вот туда-сюда добегаю – и прямо вот одной, как бежал – так и прямо прыгаю туда, даже не прыгаю, а прямо встаю, как говорится, ногой…
…он не подумал, видно, что я могу так прыгнуть! Собственно, не прыгнуть – а свалиться туда… почему – потому что я свалился – там пулемётчики сидели. Они на меня – матом. А пуля – щёлк! – в бруствер – и они замолчали: видят, что пуля прямо вот как бы через меня, но – только в бруствер!
Я успел в этот момент, потому что я не прыгал, а валился прямо туда. Вот так.
Пошёл-пошёл оттуда по этому ходу. Потом там ещё один окоп, совсем пустой, но – он просматривается. Я – в окоп тот, значит. Иду, иду – о, убитые лежат. Я между ног там, между рук: они же вот так [Показывает.] лежат.
В полках существовали похоронные команды. Вот они всех убитых стащили туда – и как вот тянули на спине его… поднять-то на переднем крае – нет, никак... А стащили их туда – и они так все и лежат… вот так открытые глаза… и это не первый день. Ремни затянуты – а уже раздуло их. Глаза – вот такие…
Заваленный ими окоп – метров двадцать. А их – столько, что мне и встать там негде! То я вначале там между ног, между рук где-то как-то, но не выбирался уже, а вставать на человека – как-то жутко. А вижу – мне уже некуда встать. Я уже тогда не смотрю на них, а прямо по трупам бегу эти двадцать метров или там сколько. Бегу, а сам не смотрю. Когда они сами вот так на тебя смотрят...
Прямо по трупам пробежал, а хоть я и видел этих убитых уже – но вот тут увидеть столько их, да ещё по ним шагать – прямо аж дурно делается, честно говорю, прямо вот ощущение очень даже такое…
Проскочил – выскочил с окопа: тут – низинка, снайпера не видно. Тут наш танк подбитый стоял. Уже такое болотце или что-то такое. Вот к танку, мимо танка – и уже в окоп роты нашей.
Прибежал, командир роты – в блиндаже. Я к нему: «Товарищ капитан (или кто там, я не помню) так и так, я связной, вот вам распоряжение». Он берёт эту бумажку, читает: «Да я и без них знаю, что это. Я уже это давно сделал».
И до меня тогда только дошло, что не нужно это было им, никого туда посылать! А им надо было, что – я могу или нет!
Он говорит: «Я это давно уже сделал. Чего они опять?..»
Что там было написано? Я же никогда не знал. Я отдавал ихние бумаженции. А он даже не в конверт, ничего, а так просто бумаженцию дал. Что там было написано – понятия не имею. Но он меня, начальник штаба, когда отправлял – он говорит: «Отнесёшь – и там оставайся до вечера». Потому что нет смысла назад по-светлому возвращаться.
Вот в «голубой линии» мы всё же двинулись мимо Варениковской. Тут уже боёв почти ноль что-то на нашем участке. Может, там где-то другие полки… мне же никто не докладывает, я же солдат. Но мы, можно сказать, до Варениковской дошли. Мимо неё. Вот там, говорят, в городе был бой. Но на нашем участке что-то мы вроде без боя: так прошли. И вышли мы как раз в конце концов вот к этому посёлку Сенному…
…да, больше там боя нигде не было, это сейчас уже немножко забывается…
…а уже другие дивизии вышли к морю, уже освободились. Но наше направление было – у каждого же задание есть своё, что именно вот по этому [Показывает.] взойти сюда. И те два полка взяли Сенный, Запорожскую… Сенный – 7-го, Запорожскую – 9-го утром, и вечером Москва уже салютовала нам, что мы освободили полностью Кубань. Так и передали, что такого-то числа войсками освобождена полностью Кубань и Таманский полуостров, вот так!
Нас отвели… в частности, наш батальон был отведён в Голубицкую. На берегу моря. Мы там стояли почти что месяц. Это было в октябре, а 5-го ноября – тронулись мы. Мы не знали – как другие полки там? Все же растянулись.
Гитлер хвастал, что он снова захватит Кубань, всё такое, что это, мол, всё временно, знаете... И поэтому нас расположили там. В самом деле, думаем – может, ума хватит? «Десант будет!» Но его никогда не было.
Мы там, правда, покупались, отдохнули хорошенько. На винограднике побыли. Потому что мы, когда взяли – там недалеко, а это же – октябрь, созревание винограда! Туда же немцы никого не пускали… не то что не пускали – они минировали же везде!
И мы тоже, когда пришли – нас послали роту туда, чтобы мы не пустили жителей, потому что там мины могут быть. А они же – полезут! Поэтому нас довели, остановились, сказали: «Туда не лезьте. Если что – то там очень-очень могут быть мины».
Ну, уже сами мы там... я, например, три дня практиковался на минах. Прошли, проползли, как говорится, прощупали. Мин нету. Ни одной мины не оказалось. И мы, как говорится, этим виноградом блаженствовали – вот так! До того, что нам селедки начинало хотеться, а виноград совать уже некуда было. Вот нам это за все наши труды, за все наши беды – виноградом.
А 5-го нас подняли и вывезли в Коса Чушка, знаете такую? Она же – так: то уже, то шире, то вот такая. 16 километров, что ли? Вот нас ночью – туда, и – десант морской десант под Керчь! Но я не попал. Ни наш батальон, или вообще наш полк, я не знаю. Дивизия же это. А разве можно всю посадить дивизию? Даже уже не беру там подводы, машины там, тылы. А боевые даже – и то надо столько там транспорта, чтобы всех…
…а может быть – и наш полк тоже частично брали, какие-то батальоны.
Первые – там высадили несколько… там, батальон, два, три, может быть. Постарались. Немцы встретили их, конечно. Но силёнки были разные, и наши продвинулись. И я уже лично с подразделением высадился, когда наши заняли Капканы. Уже вот тут [Показывает.], а Капканы – такой первый населённый пункт был, я запомнил. Мы там были, а потом постепенно брали то завод Войкова… взяли, то потом завод-колонку, под самой Керчью.
Там новые дома – говорят, там немцы жили, что ли, специалисты какие-то. Колонку – взяли. А потом уже третий раз продвинулись аж в Керчь уже в саму. Если Вы были в Керчи – там есть курган…
- Митридат?
- …нет, Митридат – это гора. А то есть курган – и там, говорят, стояла гробница мраморная. Угол так отколотый, но – большая такая, мощная. Вот за ней метров пятьдесят–сто – передний край проходил наш. Два домика частных было, и они друг от друга вот так [Показывает.], и я там сам себе загородил. Копать нельзя: там вода была близко, так что сделал из блоков (там же блоки в основном) загородку, накрыл там разной мурой, и сверху ещё блоков – и туда лазил, как в собачью нору. Вот там и у него [Немца.] передний край проходил.
Однажды мина попала прямо на крышу моего убежища. Ну, засыпало, но не пробило ничего. Там нам завезли в определённое место дымовые шашки. И вот нам дал командир взвода задание в течение ночи 60 шашек принести оттуда. Место указал, мешок дал. А грязь такая... И вот я туда по десять шашек, по-моему… шесть раз за ночь ходил. По окопу идёшь – всё такое грязное, что я когда принес последние, на мне шинель вся грязью облипла.
Но наша российская, русская шинель – она была непромокаемая! Да, это не то, что сейчас… как говорят – там чуть-чуть дождик, а современное всё – уже насквозь. А вот тогда – и дождь идёт, и всё – а она обтекает, обтекает, а промокать почти что не промокает.
И вот дают команду один раз: ложную дымовую запустить, будто вроде наши в атаку пойдут. Мы как начали пулять эти! Зажигаешь, бросаешь – а сам прячешься. Вот уже через улицу там немцы были. Мы на этой стороне – они на той. Вот мы это бросаем, бросаем...
Он же [Немец.] – как открыл огонь артиллерийский – это вообще! Ну, полностью, видно, выпустил всё, что у него было. Он думал, что мы под дымовой завесой пойдём в атаку. И он, конечно, в первую очередь открыл огонь по переднему краю нашему. Это жутко что! Чуть ли не все домики, дома, хаты – всё поразбил… что тут творил!
Когда закончилось, пехота подошла к нам, один: «Чтоб вы, идиоты, тут больше дым свой не пускали! Нам тут жизни не дают!» Я говорю: «Так что ж мы, сами под себя? Приказывают – вот мы и зажигаем. Что ты думаешь?»
А второй раз уже пустили – он уже особо и не стрелял. Потому что понял, что это всё ложное. А ночью 11-го апреля наша рота одна ворвалась! Я был, опять же, связным. Передал, что рота ворвалась в траншеи немецкие. Ага: значит, и остальные начали туда...
В этот день, в эту ночь, вернее – к утру полностью Керчь была освобождена. И наши все войска двинулись. Там за Керчью какая-то лощина такая, поле большое, ровное, километров 12, наверное. Мы шли в основном, можно сказать, такой цепью как бы. Уже ждали, и точно – впереди там небольшая такая высотка.
Он [Немец.] установил там батарею артиллерийскую, ну, наверное, пехоту тоже, и – давай! А у нас уже и танки были, несколько. И вот мы, значит, идём на эту высотку, а он с артиллерии – по пушкам, по нашим танкам – огонь. И прямо я иду, а танки недалеко. Снаряды, противотанковые снаряды – они не рвутся. Об землю – шарах! – и дальше полетел. Шарах! – и дальше. А я – иду… а что мне? Он же не по мне стреляет.
И – он видит, что нас много! Мы уже – так: центр как бы придерживаем, а фланги – пошли-пошли вот так в обход. Большое же поле там. Вот он видит, что вот-вот мы закроем его. И он – раз! – собрался – и уже на машинах. На машинах – шарах! – и все рванули. Ни людей никого, ни пушек, вообще там ничего уже нету…
Потом – после Керчи – у нас танковый полк появился, и на него, на танки, посадили один батальон. Но вот чей батальон, я не знаю. Может быть, нашего полка, может быть, другого. Ну, конечно, это подвижная группа… потом там их ещё поддерживающие какие-то были. Что мне, докладывать будут, что ли? Я солдат. Но – так, по слухам. И они вырвались вперёд – и пошли, и пошли, и пошли.
До Феодосии – девяносто километров. Я запомнил, что «девяносто» сказали, когда мы их ножками за два дня прошагали. И вот, не доходя Феодосии, идут нам навстречу: колонна пленных немцев! Целая колонна: человек сто. Нашего даже сопровождающего нету. Их старший и ведёт. Прошли ещё немного – опять: ещё одна колонна идёт! Оказывается, эта подвижная группа не дала им возможности там окопаться, закрепиться: атаковала, и они – всё. И они, значит, построены, и им говорят: «Вот туда, откуда мы пришли – туда идите».
Вот так и пошли дальше пленные без всякого сопровождения. А куда им деваться? Оружия же нету у них, оно всё сдано, забрано. И они идут, а мы стоим смотрим… там лесок, они в нём скрылись – и мы двинулись дальше.
Так что мы Феодосию не штурмовали, её без нас уже взяли. Мы только прошли её – и опять дальше. То есть подвижная группа вот эта впереди шла и успешно действовала. Крупного такого сопротивления у них [У немцев.] не было подготовленного, и мы, как говорится, только шли, денно и нощно, всё время. Ночью идём – и спим. Остановилась колонна, ты головой в соседа – шарах! – ага, пришёл. И вот так до самой Ялты мы почти всё Черноморское побережье как бы освобождали.
- По самому побережью шли?
- По побережью, да. Все вот эти: Алушта, Алупка, Гурзуф – всё мы освобождали, как говорится. Ну, не я лично, но наша дивизия.
Подходим к Ялте, не знаю, сколько… километра три. Там тоже большая такая поляна – и дорога идёт по краю. И эта поляна забита расстрелянными лошадьми! Там столько лошадей, а все такие крупные! Немцы, видно… им уже некуда было их девать. В Севастополь тащить? Зачем они там нужны? Они уже не нужны им. Но и нам отдать им было жалко, и они их поубивали там. Все были в голову расстреляны. Просто жалко, столько… там сотни лошадей было расстреляно. Ещё не разложившиеся, ещё только они пару дней, может, назад убили их.
Но в Ялту мы не зашли, потому что дорога проходит рядом с ней.
Потом ещё до этого – я не сказал – у нас в Керчи погибло два командира дивизии! Первый – погиб Василенко. Он командовал дивизией здесь, на Кубани, все четырнадцать месяцев – и был живой. Под Керчью погиб. Герой Советского Союза, генерал-майор. Его привезли в Краснодар хоронить. Где Вечный огонь у нас – вот там на кладбище ему памятник сделали. По чьему указанию – понятия не имею.
Второй командир дивизии две недели покомандовал – тоже там же погиб. Его там и похоронили.
А первый – был вроде знаком с секретарем крайкома, и тот позвонил и сказал: «Организуйте ему сюда доставку». Поэтому ему памятник и поставили ещё во время войны, понимаете?
И вот так мы шли, можно сказать, без боёв. Но передовые-то отряды – воевали, а мы их – догоняли. Ни в Гурзуфе, ни в Ялте, ни в Судаке – лично я не участвовал. Подошли к Севастополю, но – опять же, не только мы. Ну, там бои были, Кадыковка какая-то… спрашивать я не спрашивал. Разве солдату нужно, как оно там называется?..
И подошли к Сапун-горе. Вы были? Сапун же гора – вон какая, во всё небо! А на неё всего одна дорога была, возле Сахарной головки. А внизу блок белый лежал тогда, бетонный. Не знаю, лежит он сейчас? Я почему о нём вспомнил – потому что мы, когда подошли, остановились от переднего края подальше, во втором эшелоне, и в подвал там спустились. Сверху забежал солдат – не знаю, откуда, чей – и рассказывает нам: «Под тем блоком было укрытие сделано, а немцы при отходе подрыли его. Ну, на рассвете выделили пушку, стали по нему выстрелы делать, и блок – сел. А там был командир роты и один или два солдата. И их всех там придавило».
Нас расположили начально – вот тут дом был [Показывает.], а тут такая возвышенность. Я лично на ней оказался. Тут рядом радист лежал, который подслушивал немецкие разговоры и передавал эти сведения. Я недалеко от него был. Кому-то звонит, что немцы дали команду такую-то, послать группу освободить там что-то, какой-то хуторок или что-то, тридцать человек, сказали, будет атаковать, приготовьтесь. Я слышу это всё. Выкопал себе убежище, лежу. День или два я там пробыл.
А Сапун-гора уходит вверх, и там такая как бы лощина. И вдруг с этой лощины выходит двадцать два танка наших! Идут не прямо один в один, а таким шахматным порядком. На фронте зря не маячат, но мне всё это хорошо видно. Подняться на Сапун-гору они не могут. Тогда они идут вдоль неё вот к этой дороге, которая около Сахарной головки. [Показывает.]
А у немцев на горе было такое укрытие, что они их спокойно могли расстреливать в бок. А танки не могут вверх стрелять в ответ! Идут без выстрела, без ничего, а по ним с Сапун-горы бьёт какая-то артиллерия! Где? Я вижу – но не вижу ни одного выстрела. Где пламя? Самолёты наши идут – бомбардировщики, штурмовики – не бомбят. Вот это передний край, а они идут дальше. А наши танки кто-то подбивает!
Смотрим – остаются: там танк, там… подбили ещё один... первый – чуть поднялся рядом с дорогой к их окопам – и его подбивают, он взрывается. И вот – все танки подбиты, растянулась эта колонна прямо по всей, как говорится… на большом участке фронта.
Приходит ко мне связной – или там кто-то, солдат – и говорит: «Командир взвода приказал тебе, как потемнеет, чтобы ты был вот там-то, там-то, – показывает мне. – Там будет старшой, сержант, группа у него будет, вы ночью поползёте обследовать танки: может, там кто-то живой остался».
Как они подбили их все – не могу себе представить!
Ну, что ж, уже темно, прибежал тот сержант или старший сержант там. А не видно, сколько у него людей собралось. Он посчитал – наверное, человек восемь. Говорит, что так и так, мы идём туда-то, туда-то. Идём вот так, танки стоят, вот пойдём к первому там или к последнему… сейчас – вот к этому. И мы, вся группа, расположились – подползаем к этому танку. Куда там?! От него щепки одни, там живых нет.
Ползём ко второму. Около танка, метрах в двух-трёх, лежит капитан. Ноги перебиты. Раненый, короче. Двигаться совершенно не может. Танк – взорванный. Как он до взрыва выскочил? Ведь не после же! Видно, в горячке человек прыгнул – а дальше перемещаться уже не смог.
Сержант – к нему, а я тут лежу. Мы же все не лезем к нему. Сержант тут: «Товарищ капитан, я, – говорит, – возьму у тебя пистолет, тебе он не нужен же». Он говорит: «Забери». Сержант двоим говорит: «Берите вдвоём. Там плащ-палатка – тащите его». Поднять там в рост – не пойдёшь, ракеты беспрерывно бросают, а это же нейтралка! Как они понесли – ума не приложу, а он: «Так, ребятки, а что это мы всей группой ползаем?». Я слева был. Он говорит: «Ты вот ползи к тому танку, первому, а к тому – ты, а ты – к третьему…» И так далее.
Короче говоря, распределил, чтобы не все мы толпой были, когда нам вон сколько надо обследовать. Но – не всё, а только перед нашей дивизией: потому что нас, я говорю, не так уж много было. «И – назад возвращайтесь!»
Раз получил задание – я уже вижу танк. Я пошёл-пошёл…. ползу, ползу, не подымаюсь, а ползу. Хотя и ракет не было, когда я полз, ни одной. Подползаю к танку примерно метра на два, наверное, полтора, вот уже так голову поворачиваю, смотрю – а окоп идёт к танку, и по нему идут к этому же танку три немца!
Я обомлел. Я – метра полтора от танка, а они – вот прямо вот! Оказывается, там у них пулемётное гнездо, и танк хотел, видно, его гусеницей. А она попала не по ним, а рядом. И у них пулемётная точка как была, так и осталась, а они сейчас идут сюда к себе на дежурство!
Я, ну представьте себе, так лёг – не шелохнусь. Потом вижу, что идут они – вроде не обращают внимания. Думаю: мне осталось два-три шага, и я под танком буду. Если поползу назад – они же увидят меня, а у них три автомата. Да они одной очередью меня, а если втроём огонь откроют – так там с меня решето будет. И я – раз! – туда. Только шмыгнул – и в это время с правой стороны рукой задеваю – видно, динамка с танка. Такая длинненькая видна. И там же тоненький такой металл. Я его зацепляю, он – дзинь! – покатилось немножко, но недалеко.
Дзинь! – я сразу же на них смотрю, а он – раз! – первый – вот так руку поднял – и все встали. Я смотрю вот так на них – они же видят, прямо на меня смотрят! Глаза у них вот такие светятся, я глаза их вижу! Все смотрят прямо на меня. Но я – ни малейшего, даже на них смотрю. Глаза их блестят – думаю, и мои же, наверное, блестят, они выдадут. Я так прикрыл, чтобы чуть-чуть.
Смотрю – подержал тот, опускает руку… я тогда – рраз за танк! Подполз сюда [Показывает.], а они к этой стороне подошли. У меня что – один лист броневой вот так вот от танка торчит. Вертикально. У него внизу – сантиметров десять. А второй лист – я не знаю, как он держался. Но он – вот так [Показывает.], перпендикулярно, а тут вот между ними – сантиметров двадцать.
Факт тот, что я сюда подполз – и боюсь даже винтовкой пошевелить, чтобы не стукнула. Думаю: «Куда я попал?!» Прямо вот – щель. Они прошли, подошли к этому танку, встали – и стоят разговаривают. А я – с этой стороны брони. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, поговорили, поговорили. Потом берёт один – и бросает ракету. А я же – у них тут прямо! Я – в эту щель! Смотрю – прямо мне видно весь их окоп! Идёт так, а потом – метров через семь – вот так поворачивает. [Показывает.] Думаю: «Чокнутый. Ещё не дай бог оглянутся или что-нибудь увидят».
Что делать? Лежу, молчу. Куда? Их трое, а я один. Они с автоматами, я с винтовкой. И винтовка – в патроннике даже нет патронов, в магазине у меня патроны, все пять. Я же не думал, что я… да и даже если б в патроннике был – что? Я – один.
Без вариантов. Я думал: он же не послал никого. А то бы – я ведь лежу – тот бы подошёл сзади, сказал: «Ты, вставай». Или очередь бы дал. У них же практика какая: чуть что подозрение – шарах! – очередь. Хоть там, может, и никого нет. Он бы или очередь дал по мне, или бы сказал: «Ну-ка вставай!», если бы догадался, что это я.
Лежу, а они погутарили, погутарили… Смотрю – один выходит так нехотя к моему танку. И поворачивается по траншее, эдак вперевалку идёт, идёт туда. Те – нет. Он уже, смотрю, доходит до поворота. Мне хоть плохо, но видно: Луна есть немножко. Смотрю – и эти двое выходят! Идут – прямо друг за другом!
Что?! Сразу я – хотел… а потом думаю: я же начну заряжать, щёлкну – они услышат. Они метра четыре-пять отошли, я быстренько – раз! – и стреляю их. Думаю – ну как?! Аж вот такой сам дрожу весь.
Боялся я, как поведёт себя тот третий. Потому что я уверен был, что в него, конечно, не попаду. За поворотом – вообще не достану…
Короче, весь дым от выстрела – тут он совсем закрыл картину. Ну, я наобум – бабах! – ещё один. И что?! Выскакиваю во весь рост, встал к окопу – и ору уже не своим голосом на них… переживал так, что я сам себя не узнал, честно говорю, так я напугался. Делал, а сам дрожал.
Ору: «Хэндэ хох! Хэндэ хох!» Потом думаю: боже мой, а вдруг он легко ранен? Он сейчас как даст мне очередь, будет с меня «хэндэ хох»! На колено встаю на окоп, глянул, вижу – они лежат там двое. Потому что наша пуля, наша винтовка – пробивает запросто двоих. Лежат, не шевелятся даже. А того третьего и след простыл. Он, видно, как я выстрелил – сразу пригнулся и рванул! Потому что он же не знал, сколько нас тут.
Думаю – автомат взять. Мне так хочется хоть один автомат взять у них! Показать всё это своим: автомат! Потом как глянул… окоп – глубокий такой. Нет, думаю, не вылезу я оттудова. А думаю – тот же сейчас приведёт целую шоблу. Нет, думаю, хрен с ним, с вашим автоматом. Как рванул вниз!
Бегу – не знаю, падал я, не падал – но там с высоты я летел, как сумасшедший. Доложить командиру роты, чтобы вывел оттуда людей. Да как же он выведет? Ведь тот [Немец.] побежал – он же сейчас приведёт туда не меньше взвода!
И точно: я только добежал до низу, до наших – и слышу: ракеты, пулемёты, стрельба. Значит, он к своим добежал, поднял там тревогу – и они переполошились. Я сержанту говорю: так и так, доложил. «Ох и ты дурак! Да ты же мог в плен!»
Он и не думал, что убьют меня: так и хрен со мной. Он говорит: «Ты же в плен попасть мог! Ты под Севастополем, 1944-й год, да из тебя Геббельс бы сделал, будто ты добровольно к ним пришёл, сдался. Ты хоть молчи офицерам, а то тебя накажут!»
Я промолчал, думаю: «А правда: запросто они могли меня взять в плен». Один бы подошёл, только в задницу меня ногой бы потолкал и сказал: «Ну-ка вставай». И я ничего бы не смог сделать.
Ещё про Севастополь… первоначально, когда мы пришли, какой-то домик был, подвал там, и я оказался в нём. Я – и ещё трое. В подвале два маленьких окошка, подушки тут валяются. Я говорю: «Давайте забьём эти окошки между решётками и стеклом подушками». А он [Немец.] заметил, видно, что мы там входили, выходили. И давай: артиллерия, мины... Увидел, что стреляет по нас, но не попадает. То перелёт, то недолёт, то справа, то слева…
Ну что, а что нам делать, что мы?! И вдруг – бабах! – прямо под стенку. Вся стенка дома, подвала – всё это завалилось прямо на нас! Привалило нас этими камнями, но из четырёх никого не ранило. Я как-то меньше был засыпан, помог им отрываться. И от этого стресса я выскочил, а там блок лежал бетонный. Туда добежал – и думаю: «А куда же я бегу?» Хотел найти новое укрытие, и думаю: «А где я его возьму, то укрытие? Чего я выскочил?» Успокоил себя: «Ладно». Назад вернулся обратно.
И в этом домике днём уже зачем-то я поднялся из подвала, смотрю – ходит матрос. Я говорю: «Что ты тут ищешь?» А он: «А это мой дом. Я тут живу. А сейчас, – говорит, – мы, наша бригада, находимся под Сахарной головкой. И я пришёл посмотреть, где же мои»...
«Мои» – а кто мои? Я же не знаю там – жена, дети… а никого нету. Говорю: «Знаешь, здесь же никого нет. Откуда же я про твоих узнаю?»
Вот получилось: парень защищал свой дом, освобождал…
Ну, он побыл, побыл. Что ему там надо? Что он мог взять? Оно ему ничего не нужное, всё брошенное. И пошёл он опять в свою морскую бригаду. А я в самом Севастополе-то так и не был.
- Почему?
- Не пошла дивизия наша.
Я помню, когда Сапун-гору освобождали – там есть какие-то ходы сообщения, но они перекрыты ещё с той или по-за-той войны. Я почему помню – сам оказался уже там, прыгнул и прошёл по этому перекрытому ходу сообщения, вышел на другом конце – и спрашиваю у кого-то там: «А что это такое?!» А мне говорят: «Это оборона Севастополя ещё в ту войну».
- Не может быть!
- Был какой-то ход сообщения, не длинный, но перекрытый. Я ещё так подумал: «В эту войну я таких перекрытых ходов сообщения не видел».
А потом – почему не был в Севастополе, в самом городе – наша дивизия когда взяла Сапун-гору… не только наша, там и другие же были… так вот она продвинулась, а в это время сам Севастополь взял 4-й Украинский фронт! Ведь немцы оборону в основном сделали отсюда, с юга! А 4-й Украинский там наступал – и его повернули на Крым, и он так внезапно рванул туда и взял Севастополь. И нам там уже делать было нечего. И нас повернули вот так вот [Показывает.], как бы на юг, вокруг Севастополя.
Он был взят 9-го – а мы ещё воевали 10-го даже, потому что обошли вокруг Севастополя: там бухты и какая-то ещё была поляна. И даже аэродром вроде бы. Вот там – было много немцев. Ну, они, конечно, сопротивление оказывали ещё, но наша дивизия справилась быстро. Даже два их генерала там было.
Вот Херсонес [Показывает.]. Там бухта. Повернули мы на этот Херсонес – и взяли его! А эта вот площадка – большая, и вот там мы и пленных взяли, и там были и самолёты. Аэродром целый даже. Они готовились, думали, что их оттуда заберут. А наша авиация, наша артиллерия – не дала ни одному кораблю подойти.
И я помню, что даже ночью один самолёт пытался там сесть. Но – пролетел, а потом я в газете читал, что он прилетал за генералами этими. Просто попал немножко левее, и там по нему открыли огонь. Он взял, развернулся в нашу сторону. И у нас тут тоже как подняли огонь – кто с чего мог! Бах! – он упал. Прям ночью сбили его. Кто?! Да там такая стрельба была! А он – низко, вот так вот [Показывает.]… ночь, а его видно. Всё ж скоро конец войне – а тут он появился, надо же!
- Пленных – много было?
- Прилично так. Конечно, в Севастополе – я не знаю. А вот на этом Херсонесе, по некоторым данным, говорят, примерно тысяч пятьдесят там было всего. Но там были же не только мы одни. И другие. Там же и 4-й Украинский, и наши. Все, которые с Кубани дивизии – они же все там тоже воевали… почти что. Ну, некоторые на запад отправили, потому что там слишком много войск было. Вот там наша война и закончилась, в Крыму.
- У Вас первая медаль – «За отвагу». Вас наградили за то, что в бою 11-го апреля 1944-го года в районе города Керчь под сильным артиллерийским обстрелом противника, с презрением к смерти, продвигаясь вперёд, обеспечил маскировку стрелковых подразделений пуском дымовых завес, чем способствовал успешному выполнению задачи.
- Где Вы это взяли?!
- Это в наградном Вашем написано. А вторая медаль – сейчас скажу…
- Я даже забыл уже, где я сам…
- Это Вы рассказали: Вы кидали эти дымовые шашки.
- Да, это в Керчи. Награждён, по-моему, медалью. А на «голубой линии» или там за «голубой линией» – вот и не помню...
- За то, что передавал приказания.
- Я не помню, в Крыму или где меня наградили. Наверное, за Керчь, потому что в Керчи я там много кое-чего делал.
- Далее – вот за тот эпизод, когда важное донесение доставили. Обстреляны снайперами. То есть это дали раньше, на «голубой линии».
- Ну ладно, не ищите…
Тогда Гитлер, опять же, шумел, что возьмёт снова Крым. А нас – полк или батальон – отвели в Судак: рядом, потому что мы ходили купаться на пляж. Там мы целый месяц были. И оркестр у нас собрался уже, играл. И мы купались, блаженствовали вот так…
А потом нас – пешочком до Симферополя, и – на эшелончик. Наши войска уже были в Польше, и нас аж под Люблином высадили. И мы, по-моему, километров сорок за один день в лес пошли, в резерв. Там получали пополнение. Почему я знаю? Один с Кавказа – не знаю, кто по национальности – он трижды бежал. Сам же – к нам с этого пополнения пришёл.
Раз бежал – он думал, что так просто. А ведь уже граница была, пограничники стояли. Уже он попробовал пройти – нет. Его задержали, обратно привезли. Ну, ему рассказали, вдолбили, что ты же – дезертир, за дезертирство – расстрел. Что Вы думаете? Он опять побежал. Его опять задержали. Опять ему вдалбливали-вдалбливали… Я не знаю, но говорят, что ему там долбили не один день, он несколько дней побыл – и на третий раз сбежал. Его опять задержали – и судили военным трибуналом. Присудили – высшая мера наказания, расстрел.
И вот – что? В лесу в тылу мы: не на фронте. Поляна большая, всю дивизию построили, тут вырыли могилу, вышел прокурор, зачитал приговор суда. Тут четыре человека с автоматами: каждый – очередь. Он упал, они его столкнули туда, в эту могилу, ещё дополнительно дали по очереди туда, засыпали. И дивизия – колонна – развернулась – и через могилу прошла вся. Где дивизия прошла – в том числе и на могиле – дорога стала. Вот это я запомнил…
Но когда стреляли, слушайте – думаешь: «Наш же, советский человек!» И вот когда убили они его – то не знаю кто, комдив или прокурор, скомандовал «Кру-гом!», чтоб все отвернулись, чтоб не смотрели. Ну, я взглянул – вижу, что его ногами так вот туда – и тоже отвернулся. И только слышу – очереди… я уже не видел, когда их в яму давали.
В это время высадились американцы и англичане в Нормандии, попали там впросак. Их немцы прижали, особенно в Дюнкерке. И Рузвельт позвонил Сталину и попросил: «Вы можете организовать в ближайшее время крупное наступление, чтобы оттянуть немецкие войска?» Этого никто не знает, а я помню, эту передавали передачу, что именно он попросил. Он не указал, где наступать, но где-нибудь организовать, чтобы немцы оттянули войска. И нас подняли по тревоге. Там были и другие дивизии. Это было уже в начале декабря 1944-го года. И – на Варшаву.
Дивизия приняла участие в её штурме. Ну, и дальше уже она постоянно была в бою, раз уж тогда вошла… в военкомате есть перечень, кто штурмовал Варшаву, там, Берлин – там наша дивизия указана.
А меня в это время, когда уже подняли по тревоге, уже строились – зовёт начальник штаба батальона. Подзывает. Я: «Слушаюсь». «Беги в штаб полка, вон там, там ещё собираются, там тебе выписано предписание, – как сказал даже, – в общем, есть предписание тебе. Ты направляешься на фронтовые курсы младших лейтенантов».
Я и побежал. Собираются уже все, сворачиваются там. Ну, а моё – нА тебе: туда-то туда-то – езжай!
И я тю-тю ножками куда-то там, не знаю как, добрался до Бреста. Как раз, по-моему, ещё на курсы не попал – передают, что войска наши освободили Варшаву. Ну, я с Бреста – на Кобрин. В Кобрине были фронтовые курсы. Прибыл в Кобрин, числа, наверное, 15-го. В общем, после взятия Варшавы через день или два я уже был на курсах. После этого – окончил их… вернее, училище... нет, курсы…
- Сначала курсы, конечно.
- Вначале курсы закончил! Нас уже сфотографировали в звании в офицерском. И мы были уже под самым Берлином. В 30-ти км какой-то военный городок. И тут объявляют: взят Берлин!
Ну, все думали-думали там наверху, наверное, что же с нами делать. Цеплять нам погоны – или нет… хотя уже сфотографировались и занятия уже прекратились. Мы уже офицеры вроде.
И вот нас берут, и все эти курсы – бабах! – за Берлин, на окраине его – располагался 27-й отдельный полк резерва офицерского состава. Вот в 27-й полк наши курсы все – тюк! – и мы прибыли туда. Но опять же, наверное, они там на верхах головами соображали, что же нам – давать погоны или не давать. И решили: нет, не будем давать, а мы направим все курсы в училище военное. Раз война окончилась – они уже опытные. И нас, значит, не помню куда, ну, не важно, в какой-то эшелон, и тю-тю, тю-тю – на Урал, в Бершетские лагеря.
Там мы побыли дня два-три – приехали «покупатели» с училищ военных – и я попал в Молотовское пехотное училище, ныне сейчас – Пермь. Молотов – тогда был. Тогда оно было двухгодичное. Нас выпустили через два года. Уже не младших лейтенантов, а лейтенантов. И мне оттуда дали направление – опять же в Германию, в штаб. По распределению находился, по-моему, во Франкфурте-на-Одере, или где-то там. Какая-то гвардейская дивизия. Мощная механизированная была.
- Командиром роты?
- Нет, взвода. Но я пришёл в роту – там никого офицеров не было! И я командовал ротой там, собственно, три года. Никого… я – офицер, но не хватало офицеров.
- Вы демобилизовались – в каком звании?
- Капитан. Заменился сюда на Краснодар. Потом в Майкопе был, в дисциплинарном – командиром взвода. После смерти Сталина батальон расформировали – и я отвозил группу в Куйбышев. Тут – со всех округов были. Перевели в Таганрогский сельский. И оттуда в 1965-м году уже уволился. Насчитали выслугу лет – 27 или что-то больше даже.
- Что Вам помогло выжить? На передке же люди Вашего уровня столько не живут…
- Да даже два комдива погибло! Не живут…
…а чёрт его… ума не приложу…
…вот, в Керчи. На переднем крае. Мы с одним сдружились так это. Он говорит: «Давай обменяемся адресами. Тебя убьют – я напишу твоим, а меня убьют – ты напишешь». Я так подумал, подумал… говорю: «Нет, не будем». Вот не захотел – и всё. Вот был что-то я уверен.
Столько погибло при мне...
Я говорю: комбат погиб, Герой Советского Союза, два командира дивизии погибло, командир роты этой же связи погиб… а я – меня везде тыкали – а я живой. Я сам удивляюсь об этом. Трижды, правда, контузило.
Под Абинской, когда мы Абинскую взяли – выходим по железной дороге колонной, по краю идём. И один идёт, второй, я – третий. Первый – бах! – заложено было тут взрывное устройство какое-то. Его, бедного, как говорится, раздербанило. Второго – тоже так контузило. С меня – вот шинель была на мне – всё оборвало, шинель на мне расстегнуло, шапка улетела метров на десять. Рукавицы сорвало, тоже унесло. Я стою вот так, голову не могу повернуть. Меня контузило.
Ко мне подошёл командир роты: «Ну что, тебя – отправлять в госпиталь, что ли?» Говорит: «Как ты?» Я говорю: «Я потихонечку попробую». Голову немножечко – так… потому что нельзя было повернуть сразу... повернул, говорю: «Да ну, не надо. Я думаю, разойдётся». Разошлось всё.
А того – похоронили прямо рядом с железной дорогой. Семафор свалило, лежал подорванный… и вот – колонна роты возле этого семафора: хороним. Я даже сейчас знаю, где мы его похоронили. Пошёл в управление железной дороги уже после войны, конечно, говорю: «Была однопутка – и мы его похоронили рядом». А сейчас – двухпутка, я и думаю: где же присыпали? Там или тут? Правая? Левая?..
Потом вот то, когда танки расстреливали. Я тоже сам не свой, а в атаку – надо идти. А ведь – еле идёшь, потому что – что такое взрыв? Взрыв рядом – тебя не ранит, а в то же время ты делаешься чумной такой… сотрясение мозга… да.
И под Севастополем, и везде – беспрерывно, ежедневно – вот такие всякие!
Я говорю: в первый же день я мог дважды погибнуть.
Первое – я уже не говорю, что там стрелял кто-то: ерунда, далеко. А дело в том, что если бы меня командир роты не позвал… я же лежал с ними! Мы же лежали: замполит, я – и два солдатика. Мина около них упала – их обоих, как говорится… одному хана, другой тяжело раненный. Значит, и я бы там бы…
Второе. Если бы я ещё на минуту раньше прискакал до опушки в лес, вскочил бы в лес – то там бы от меня, как говорится …
…потому что 51 бомбардировщик, и бомбить – вот так вот!
Я же, когда подскакал там к этому офицеру – говорю:
- Ни одного солдата – ни убитого, ни живого!
- А я видел, я знаю. Там штаб дивизии наш был с вечера. А ночью или на рассвете комдив поднял нас по тревоге и вывел туда, за дорогу в другую рощу.
Значит, диверсанты эти, разведка – доложили туда [Немцам.], и они организовали уничтожение дивизии! Но комдив был умница. Так что мне офицер говорит: «Наш штаб, если б комдив не вывел – конечно, они бы прикончили нас там всех бы». Потому что оттуда при такой бомбёжке живым вырваться было – это невозможно. Лесок-то небольшой, а они его там весь смесили, как говорится.
- Вы верили в Бога?
- Нет. Я почему-то считал, что меня могут ранить, но не убить. Вот у меня какая-то вот такая установка была.
На мине подрывался. Меня послали в сапёрный батальон обучиться разминированию. Послали, чтобы солдаты знали. Там два дня нас шпиговали, показывали шпринг-мину. Шпринг-мину знаете, нет? Эту немецкую. Всю её мы изучили за два дня. А на третий – нашу группу повели…
Вот лощина, заминированная немцами. Во главе с этим же сержантом, который с нами занимался – разминировать!
Идём мы по этой лощине друг за другом, метра три-четыре… заметьте, медленно же идём, ступаем – и каждый шаг учитываем, как встать. А у них, особенно у шпринг-мин – были усики. Это если наступишь. И были оттяжки. Оттяжка – тоненькая стальная проволочка. Она на природе сразу ржавеет, делается жёлтой, её не видно в траве. А везде же – то трава, то ещё что-то. И вот мы двигаемся, двигаемся... Я недалеко от сержанта так иду, крадёмся потихоньку по лощине…
И вдруг сержант этот: «А ёп…» Хотел заматериться. Увидел растяжку в тот момент, когда нога уже его ступала туда! И – на эту растяжку! И он уже не мог ничего…
Растяжку дёрнул – мина взлетает. Причём он на это всё стоит смотрит – и взрывом голяшку ему разорвало на сапоге. Я – метра четыре-пять от него, а шрапнель летит на расстояние до ста метров! Я – просто рядом стою! И – ни его, ни меня – как ни в чём не бывало. Вот надо же так!
- А остальные? Кого-то ранило?
- Нет, другие как-то были дальше. Но мы сами – вдвоём были. Именно мы – тут! А он так смотрит: «Сапог мне разорвало». Каким образом, ума не приложу. Или она когда вылетала… или осколок вниз пошёл. Показывает сапог – голенище разорвано прямо вот так. [Показывает.]
- И все живы?!
- Все живы. Вот бывает же такое счастье.
- За что Вы воевали? «За Родину, за Сталина»?
- Мы воевали – да… как-то… за Сталина, может быть, и не так вот. А вообще – мы патриоты были. Просто за Родину мы воевали, за страну. Как это так – какая-то Германия напала на нас, на Советский Союз?! Да мы же, считается, Советский Союз – это вообще непобедимый во всём мире! И мы были уверены…
Вы знаете что – вот особенно, когда мы побыли на Кавказе, вот тут в предгорьях, и когда жратвы не было – принесут как-нибудь или привезут риса. Сварят… ни соли не было… жира – уже не говорю. Рис просто отварят и нальют тебе в котелок. Он безвкуснейший был, а жрать-то хочется. Ешь – ты его туда засовываешь, а он – обратно. Вот. И то мы выжили. Но трое однажды убежало. Не выдержали, видно, окопов. Ну, проводили собрание, совещание там, всё такое. Это было уже как ЧП: троих нету! Куда они делись?!...
- К немцам – какое отношение было? Ненавидели их – или просто как такие противники?
- Да нет, Вы знаете… нас перевели в 27-й полк – рядом немцы жили.
И в Берлине же были в самом. В нём наших войск было, уже когда взяли – все улицы забитые, всё кругом! Танки, «Катюши», машины...
На улице столы стоят. Там кто пьёт, кто ест, как где. А где берут – не знаю, но немцев – не вижу, нет немцев. Где они есть – чёрт его знает. Нашего брата столько там было!
- Я имею в виду – во время войны. К немцам, когда в плен брали – какое отношение было?
- Я скажу – не очень. Я вёл пленного одного…
Вот как Вы посчитаете? Старшина принёс на передний край еду, оттудова идёт в роту – и их разведка, трое, пришли в тыл к нашим и там из-за деревьев каких-то выскакивают на него, кидаются. Но у него на плече карабин – он успевает выстрелить в одного. Второго бьёт прикладом, а третий его хватает сзади, руки вот так. [Показывает.] И начинает скручивать. Завалил его, значит, сидит на нём. Что Вы думаете – он сопротивлялся! Немец наклонился, чтобы его руки связать или что он там хотел… Тот его хватает зубами за нос – и откусывает! Тут немцу, конечно, уже не до пленного. Он, конечно, его бросает, хватается за это...
А уже дело к вечеру. Меня вызывают и говорят: «Вот тебе, веди его в штаб дивизии». И я повёл. Грязь – страшенная, темнота – страшенная. По лесу, по горам – я повёл его. Веду, уже выбился из сил. Но и он же, наверное! А доходим по пути – километров двадцать. Наш разведбатальон там стоит у дороги. Я же уже знал, я же уже не первый раз. Сил у меня нет.
Я ему говорю: «Стой тут». Я его оставляю. А тут же прямо уже рядом, через дорогу. Думаю – пойду хоть что-нибудь у них… хоть воды, что ли, попить. Дождь-то идёт, а попить нечего. Подхожу туда, в их расположение. Вроде должен быть часовой. Молчок, никого нет. А он, видно, ушёл куда-то дрыхнуть. Я постоял, постоял...
Смотрю – тут их кухня, всё это стоит. Я открываю сундук какой-то. Там хлеб и маргарин. Я беру булочку хлеба и маргарина. Тихонько закрыл, подхожу к этому немцу, отламываю горбушку, ему даю, остальное сам ем.
Ну вот как Вы думаете, какое у меня отношение было к немцам?..
Думаю: «Да он же тоже устал, он же тоже выбился, тем более – раненый». Привёл часа в два ночи его, если не позже, в штаб дивизии. Но мне там сказали: «Ты ложись, отдохни до утра, потому что по такой погоде – да назад пойти?!»
- А не было мысли о том, чтобы уже в расход его – и домой?
- Ну как же его расходовать?!
Нет, я понимаю – но его там же ждут, им же надо опросить его, как говорится, все данные. Это же «язык»! А за «языков» сколько иногда борются! Их в Керчи раза два пытались разведчики дивизионные взять – и никак. Однажды вижу утром: лежит один наш убитый в фуфайке. А пленного так и не смогли взять. «Языка» добыть – было сложно очень! А тут – нА тебе, сам пришёл.
- Понятно. Вы говорили, что Вам водку давали перед атакой…
- Когда я был в батарее 76 мм – ежедневно давали. А вот когда в пехоте – нет. Вот тот единственный раз, по-моему, дали – и больше и ни разу. Почему? Они оставляют в штабе, чтобы там офицерам наглотаться.
Вот и меня послали – Вы думаете, чего? Они же сидели там в блиндаже, делать же нечего целый день! Когда в обороне, то никто же не стреляет. Пехота – что? Все прячутся. Что – Вы думаете, что стреляют? Куда стрелять?! Немец же не дурак, чтоб ходить, а мы по нему стреляли. И мы, по нас – также. Артиллерия – может стрелять, а пехота – и они молчат, и мы молчим.
- А что в это время делали? Отсыпались?
- Вот кто что делал. Сядешь в окопе, сидишь. Офицеры – уже в блиндажике. Офицеры всегда, как бы ни было – они организуют для себя выкопать, потому что у них есть возможность любого послать. «Вот там то-то бревно лежит, вот там доски, вот там дом полуразбитый, вот тащите то-то…» То есть они всегда организовывали для себя, для штаба.
И однажды… уже Абинскую взяли – под Крымской! Дождь везде там, бежит вода, хутор красно-зелёный такой, грязь везде. Ну, они, видно, наклюкались. Вот комбат, из землянки: «Да я, да то, – пьяненький уже, – мы их сейчас возьмём, разгромим…»
Выскакивает с этой землянки: «За мной, вперёд!» Выскочили – вроде того, что «вперёд!» А немец как дал очередь по ним – но хорошо, что не попал. Он моментально назад спрятался. Чтоб не орал: «Вперёд! Я возьму!»
- Трофеи – брали?
- Чёрт его... Пехота, понимаете, она, как говорится, прорвала – её тут же опять: дальше, дальше! Что там осталось? Это уже не нам...
- Ну, я не знаю… еду какую-то там… одежду…
- Да нет. Ну на хрена она мне нужна сто лет?! Я вот, когда мы взяли Абинскую, заскочил в эту землянку под горкой. Шинель там. Вроде холодно у нас же. Взял, натянул, а потом вышел – думаю: «Да ну её. На хрена она мне нужна?!» Снял, швырнул. Чтобы я ещё в немецкой шинели ходил?! Какое-то презрение было. Думаю: «Ещё я в немецкой шинели не ходил!»
- А обувь – не снимали? С убитых, например.
- Да ничего я… даже в квартире.
В Керчи – заходил в дома, в квартиры. Жителей – никого нету. Всё брошено. Я никогда никуда не лазил.
Однажды на столе нашёл письмо. Адрес был, всё. Я – так жалею! Письмо – с Германии. Дочка пишет маме. Значит, немцы уже её увели. И я его прочитал – и снова положил. Думаю – вернутся, может, они забыли такое письмо. Там в основном много цензурой повычеркнуто.
Но несколько раз – раза три – повторяется: «Мама, тут очень хорошо. Мне тут хорошо. Но я боюсь, что мы с тобой больше никогда не встретимся».
А если бы она написала правду – они бы вычеркнули. И так она раза три в этом письме ей долбила, что «мама, мамочка, мы с тобой, наверное, никогда не встретимся». Так хорошо ей там… А потом подумал уже позже: «Надо было взять такое письмо». В музей надо было его!
Никогда не лазил… даже в Керчи, когда там мы бросили шашки, всё это дымило, когда у нас обстрел был. Тогда – смотрю – обвалилась стенка одна – и там полно… видно, склад был затаённый… это до самого верха от низа – барахло всякое, вещи. Новые! Я же вижу, что новые. Но я даже не коснулся ни одной и не подошёл даже. Только вижу, что склады – полные. Думаю: «на хрена оно мне нужно?»
Меня когда старшина обмундировывал – дал пилотку, гимнастёрку, ремень – и всё. Брюк не было, обуви не было. И я так в гражданских брюках и в своих туфлях – в предгорье, наверное, с месяц, если не больше, воевал. А потом привезли туда обувь. Такие розовые ботинки…
- Английские?
- …английские. Говорят, что это предназначалось для армии Роммеля, который в Африке, они для них делали [Так у автора. – Прим. ред.]. Но ботинки сделаны прямо – не пропускали ни воды, ни воздуха, ничего! Правда, они узкие. Но я же пацан был. Нога у меня самого-то – узкая. Для меня они – прямо, как говорится, отличные. И я, сколько куда ни попадал… да и – обмотки... у меня всегда ноги были сухие и тёплые. Никогда иначе!
Вот только под Абинской, правда… только уже там. Но там – целую ночь выдержать надо было! А всё равно ноги остались тёплые. Разуешься – вот портянка же ещё! Её повесишь – а нога сухая.
Там в горах мы один раз всего купались… за сколько месяцев!
- А вши?
- Да, вот тогда уже вши атаковали нас всех… притом – действительно всех! Всю дивизию, всю пехоту! Кто бы ни был – везде у всех вши. Вот тогда выехала санитарная… или как-то она называлась… бригада с палатками своими, с посудой, где воду греть: натянули палаты – и нас по подразделениям туда водили. А одежду – у них специальная камера была, туда кидаешь всё – и там температура такая, что все вши изничтожаются.
- Каску – носили?
- Каску? Обязательно!
Нет, когда вначале было в горах – я как-то, когда в связи был, она мне мешала. А уже когда в пехоте – это ж твоя жизнь! Как бы ни было, а – всегда каска! Во-первых. А во-вторых – на чём лежать было? Вот ляжешь в окопе. На что ты ложишься? На бок, на шинель, и – каска под головой.
- Удобно?
- Ну, а куда голову положить? На что? На камень?
- А противогаз?
- Из-за противогаза – я погорел.
В пехоте противогазов уже не было, я не видел ни у кого. А вот когда я был в батарее, мы перемещали её в другое место. И вот уж нагрузили нам по два снаряда, свои вещи, противогаз… а я взял его – и в землянке бросил. Когда отошли уже от того места не знаю сколько километров, тут старшина как-то и подошёл: «А где твой противогаз?» - «Забыл. В землянке». Вместе с сумкой, полностью противогаз, в полном комплекте. Но он, конечно, не поверил мне, что я его забыл. Он говорит: «Ты бросил».
Вот почему, уже когда мы вышли с гор, в Ахтырской были – людей в пехотных ротах мало: стали со спецподразделений брать, где можно… в том числе и меня он туда отдал.
- В пехоту?
- Ну да. Я думаю, это в наказание мне, конечно. В первую очередь, как провинившемуся.
Но зато я пришёл в пехоту – я же вижу, что там ни у кого этих противогазов нет! Если бы я пришёл с ним – там надо мной бы посмеялись, сказали бы: «Тю, дурак. На фронте – ещё противогазы! Нужны они тут, как собаке палка»…
- А лопатки – всё время были?
- Лопата – обязательно. Лопаточка была у меня – всегда… даже в связи, когда я был. Лопаточка – это самое необходимое, она при тебе всегда!
- Наша была или немецкая?
- Наша. Может, в связи когда и снимал, когда там пойдёшь куда-то… знаешь, что ты вернёшься – но всё равно она при мне. И когда меня передавали – везде у меня лопаточка уже была. Малая пехотная, конечно.
- Вещмешок. Что в нём?
- А ни хрена нет. Котелок, кружка, полотенце. Мыло, если у кого есть. А мыло у меня, например, как-то кончилось. Я говорю: нету. И его мне никто так и не выдал. Вот ложка ещё...
- Зубной порошок?
- Да какое там! Не было у меня… тогда никто и не чистил. Тогда – чистили мы немцев пулемётами! Не было больше у меня там… ничего не было, потому что я ничего не подбирал нигде.
- Туалет – как обустраивали в пехоте?
- Да обустраивали как… ну, в окопах отводили одну ячейку, в основном. В сторонке выкопают там немножко – всё. Чтоб ходили в туалет.
- Следили за этим офицеры?
- Да. И даже тыловые – тем более обязательно! Но мы и сами старались ещё в первые же дни… если пришли, а там нету этого – сделать. Потому что – не вылезешь! Тебе припекло пописать – и как ты? Вылезешь, что ли, чтобы тебя снял снайпер? Нет-нет. Делали туалеты в окопах.
- Но – централизованно, да? Не было такого, что «сделал дело» на лопату – и…
- Нет. Ну, может, бывало такое… есть, что займут, но ещё не успеют, как говорится, обжиться. Бывало всякое. Но в основном – если мы уже остались, знаем, что тут будем ещё не один день – то, конечно, обязательно оборудовали. На роту – один туалет.
- А попу вытереть?
- А чёрт его… я и сам уже думал иногда: чем?! Бумаги-то не было. Подручными, где что-то найдёшь. Даже не знаю, чем.
- Гранаты – носили?
- Носили. Но – не всё время, не всегда. Смотря где. Вот я, например, когда полез к танку – у меня гранаты не было. А вот когда мы в Абинске пошли эту высотку брать – у меня, правда, всего одна, но граната была. РГД-5 ещё тогда были.
- В атаку – по свистку ходили? Или по команде словом?
- Просто по команде. То есть свистка не было, по-моему. Я что-то не помню.
Просто во-первых – командир роты держал возле себя связных. Чтобы они передавали по цепи, что нужно.
Я – где-то там стою. Что же – командир роты ко мне пойдёт? Он скажет: «Иванов, а ну-ка побеги, Моргуна позови». Или: «Что там у Иванова? А ну, где он?» То есть он распоряжается. Поэтому если он вот так скажет: «А ну, беги: в атаку» – всё, они бегут сразу, кричат: «В атаку все!» Чтоб все слыхали.
Бывало, мы все боялись высунуться, кто живой остался. И поэтому я, например, командира роты часто не слыхал. А вот сержант прибежал – я вроде слышу, потому что он бежит и кричит: «В атаку, в атаку!!!»
А может быть – он ко мне вперёд прибежал, а к тебе – позже? Получалось, что мы не одновременно все кинулись, так же? Вот почему оно и мешало успеху… у нас получалась атака недружная. То есть, у комроты – двое: Иванов – на том фланге, Петров – на том фланге.
- К политрукам – какое было отношение?
- Чёрт его знает… как к офицеру любому…
- Со СМЕРШем – приходилось встречаться?
- Вот СМЕРШ – да… однажды мне пришлось.
Когда я за письмом пошёл, искать его. Вот думаю – пришло ли, может, мне письмо? Я побежал в штаб. Думаю – вот пришло, а принесут – куда? В стрелковую роту – пока это донесут... а в штабе – я знаю: я же был в роте связи и часто письма эти возил сам. Как говорится, знаю, что они задерживаются в штабе или там где-то. Вот тут я роту нашёл – и хочу с ней идти обратно.
И тут «смержик» идёт: «А ты кто, ты откуда?» - «Да я тут так и так, я вот когда-то был в роте связи, а сейчас я там в такой-то роте. Прибежал узнать про письмо»...
Он меня задержал всё равно. Не знаю, куда он звонил… и командир полка тут был же. Прямо в штабе полка.
Но потом меня отпустили: «Иди». Наверное, звонили в штаб батальона, потому что он мне сказал: «Иди в штаб батальона, доложи, что так и так, ты отсюда ушёл к себе». Я пришёл – они уже всё знали.
- Как соблюдался на фронте войсковой Устав?
- Ай… даже масло для очистки оружия, для смазки – и то я один раз… почти ни разу не видел. Я как-то про него комбату одному нашему сказал на какой-то послевоенной встрече: «Вот у меня была винтовка, станешь её заряжать – а она уже проржавела, силком приходится патроны вталкивать. У тебя масло в батальоне хоть когда-нибудь – было?!» - «Было масло у нас». Я говорю: «Что-то в батальоне ни разу не видел масла, чтобы оружие смазывать»…
Всё время же на природе: то дождь, то холодно. Она же ржавеет! А я говорю: «Сколько раз у меня – я ни разу!» - «А у меня в батальоне всё было». Ну, сегодня он только такое и мог сказать, ясно…
- За Вашим внешним видом – следили? Офицеры? Сержанты?
- А, внешний вид? Что-то там, подворотничок, я не знаю… да я их ни разу и не пришивал, и были ли они у меня, я даже не знаю... По-моему, их и не было, наверное.
- На фронте честь старшим – отдавали? Какое-то строевое понимание – соблюдалось?
- Больше – формальности. Но вот даже на Кубани, на «голубой линии»… я прибежал, что-то доложил начальнику штаба, куда-то он меня посылал… а замкомбата Петренко – такой был кадровый офицер – что ты! «Так, докладывай по уставу! Надо подойти по форме, доложить! Вот повтори!» Такой… Думаю: «Хрен с тобой. Что мне?..» Ну вот, в окопе всё снова доложил, чтоб только он не гавкал. А так – это вот единственный раз я. А больше – и его уже не было.
- Вы писали письма домой…
- Вот как станицу освободили – я сразу же написал! Но ответа не получил. И сфотографировался в Крыму, когда в Судаке мы около месяца блаженствовали. Там был гражданский фотограф. Я ему платил деньги. А потом уже начали мы собираться, он дал невзрачненькие такие фотографии. И я тут же их где-то запечатал… не знаю как, откуда я взял конверт или что-то – и отдал там в штабе. Говорят, не получили дома.
- Получали курево? На фронте – что курили?
- Махорку. Но я – не курил. А знаете, почему? Вот когда доехали мы до перекрёстка в Динскую, когда три самолёта пролетели и обратно на бреющем пошли – я хлопцам говорю: «Ребята, а я назло им брошу курить!» И – бросаю! И что, правильно…
Парни не поверили мне, но я всё равно не стал курить. И махорку давали – я её вообще не брал. И даже в училище после войны приехали уже, там нам стали давать «Беломор» папиросы – я всё равно не стал их брать и не стал курить. И до сего времени в рот не беру.
- И не меняли свою положенную махорку на сахар?
- Было. Но – не всегда. Бывало как-то не систематически.
И чай был неизвестный: настоящий заваривали или не пойми чего… они же приедут – котёл на колёсах! Первое – перловый суп… туда, может, консервы вкинут или ещё чего-нибудь. На второе – каша перловая. Чай плеснули – а что там оно? Что-то было, потому что не белый вроде, что-то туда кидали…
- В Керчи рядом с Вами стояла армянская дивизия… как Вы с ними взаимодействовали?
- 227-я, да, была такая. Чёрт его знает. Я бы сказал, что как-то ничего не было у нас с ними.
А почему их знаю? У меня жена тоже на фронте была, снайпером. Она как раз из этой 227-й дивизии. Но её ранило на Тамани в висок осколком. Она в Керчи уже не была. Вот потому я о 227-й дивизии, так сказать, в курсе уже. Даже после войны назначались встречи у них. Тут, бывало, и я с ней поеду. А вот на фронте я с ними не сталкивался.
В Керчи – что: когда разведка языка не могла никак взять, прислали ночью штрафной батальон. Я как-то там в своей будке этой… как назвать… собачьей норе – спал, потом проснулся, смотрю – идут! Незнакомый офицер. В погонах капитана. Я говорю: «А вы кто такой? Кто вы, откуда?» - «А я со штрафного батальона. Нас прислали сюда…» - «Зачем?!»
Оказывается, командование хочет устроить – для того, чтобы взять пленного – «разведку боем»! Называлось так. Разведка боем – то есть всё: артиллерия может там обстрелять, вся пехота идёт в атаку… И там хоть кто-нибудь, да возьмёт пленного. И вот их ребята взяли его, привели – и их опять увели. Не знаю, куда. Их сразу же убрали от нас.
Штрафники на фронте в боевой обстановке меньше участвовали, нежели мы, обыкновенные. Потому что их – сразу же снимают. Ночью прислали, в разведку боем сходили, кто остался живой – тут же их уводили обратно в тыл. Конечно, мёртвых – уже нет.
- А у Вас кого-то в штрафную роту отправляли?
- Ни разу. Даже с полка я не помню такого. Вот только расстрел был, это я рассказывал. Это в дивизии один. А у нас вот чтоб кто-то провинился и его отправили в штрафной – даже не помню такого случая.
- Почему Вы не сменили винтовку на автомат? Можно же было?
- А где я возьму тот автомат? Сам же не изготовлю.
Нам в горах… в предгорьях, вернее – прислали автоматы, так сделали одну роту автоматчиков. Одна рота, её пускали тогда, когда где-то что-то, какая-то опасность, когда у кого-то трудности какие-то. А так – все остальные – карабин, винтовка, карабин, винтовка, пулемёты ручные…
- Винтовка – хорошая вообще?
- Конечно, она прекрасная! Бьёт далеко. Но – винтовка есть винтовка… её надо зарядить. И носить тоже.
- Самое опасное немецкое оружие?
- Вообще, у них и автоматы хорошие были. Но пулемёт – вообще пулемёт у них! Не зря мы говорили: «Строчишь, как немецкий…», забыл, как пулемёт их, сейчас выскочило уже.
- МГ.
- Вот МГ у них хороший очень даже! Всегда поговорка была: «Да не строчи ты, как МГ-34».
Мы однажды бежим с парнем с воронежским… Витька был. По тропке: потому что как попало бежать по полям – опасно. То неразорвавшаяся мина там… а – бежишь же! И он [Немец.] уже пристрелял всё, сволота, среди бела дня. Знает, что раз тропка виднеется – значит, там бегают. И он как начал лупить, когда заметил, что мы бежим! Ракету бросит – мы падаем, конечно, и – в сторонку. А всё равно… вот он – «дрррр!» – как даст! Мы лежим. А пули – прямо вот над нами, прямо вот чуть-чуть тебя не задевают! И такое… аж тебя прямо в землю… вот так я под пулемётным огнем лежал. И Витька тоже. Его ранило, в руку ему. Встали мы – я там перевязывал.
Такая прямо аж жуткая у него стрельба идёт. Ты лежишь – и чувствуешь, что над тобой прёт лавина этих пуль. И такая лавина!
И автоматы тоже приличные. Но наши новые автоматы когда вышли – то они тоже стали, может, даже их и превосходить.
Но в то время – особенно вот этот пулемёт немецкий – они же целую ночь стреляют на переднем крае! А мы – молчим. Что стрелять, когда впустую? Ты же его не видишь. Так чего зря? А он [Немец.] – целые толпы ракет швыряет; потом – «тттт!» – как даст очередь, как даст очередь! Куда стреляет, зачем? Зря не походишь, не подымешься – стреляет. Я же говорю: бежали мы ночью до кухни – и то человека ранило в руку.
Ну, что ж? Я поел там, забрал котелки, пошёл, принёс своим, ребятне, говорю: «Всё, Витька ушёл уже лечиться». А ведь могла же и в грудь попасть, и в голову. Это же вот: сантиметры. А он, я говорю – как даст! – так прямо летят над тобой пули; прижмёшься к земле – и думаешь: «Как бы не шелохнуться вверх ни одного миллиметра!»
- Какой самый страшный эпизод был у Вас на войне?
- А вот когда я с танком, когда я орал. Мне и страшно было, потому что их трое, а я один. Не зря я и голос даже потерял. А ну как он повернётся? Может быть, тот третий повернётся сейчас, даст очередь или гранату швырнёт?! А гранату швырнёт – у меня же пространство свободное: она может и подкатиться, и взорваться прямо там.
Хотя – и другие, конечно. Любой момент. И танки когда расстреливали нас. Тоже: ты мечешься туда-сюда, думаешь: «Да где же лучше, где же тебе лучше?!» Туда к ним кинешься – нет, давай вот сюда. Тоже, конечно… Но как-то быстрее оно проходило.
А там вот, когда с нашим взорванным танком – там это длилось длиньше вот это всё моё, как говорится… страх мой. Страх-то – всё равно же испытываем! Нет такого человека, чтобы он не испытал страх. Тем более, что в каждую секунду ему грозит смерть. У тебя жизнь на волоске. Но волосок – так и хочется… думаешь: «Не порвётся этот волосок!» И вот бывает же, что волосок не рвётся. А бывает, и рвётся.
- Главный момент радости на войне – у Вас с чем связан?
- На войне – радости?! Что-то я не помню, чтобы я был чему-то рад... на войне как-то не очень таких радостей…
…вспоминали вот, допустим, вот это вино, да… помню и сейчас даже. Потому что оно было, действительно… я говорю: вот пальцы мои липнут! Пьёшь его – оно такое сладенькое, вкусное. Я даже имя его помню – «Малага». И – прошло сколько лет!
- А что-то ещё такое у Вас на войне было?
- Нет. Ни день рождения там… никто тебе не скажет даже, что тебя поздравляют. Ничего там никто не знает. Ни я никого не поздравлял, ни меня никто там ни разу не поздравлял. Что только вот так вроде приятное – когда мы на Кубани закончили, нас виноградник бросили охранять, и мы там вроде как блаженствовали.
Потом – что я ещё скажу: у нас там старшина роты был мужик такой оперативный, такой, знаете, хозяйственный – он сразу кинулся в какое-то село и приволок две бочки, кадки. И ребятне сказал: «Рвите виноград, кидайте». Потом палки он там где-то в лесополосе вырезал – и двух поставил: «А вы толките его».
И вот «натолкали» две эти бочки. Мы там сколько стояли – оно всё бродило. А потом уже, зная, что скоро нас заберут же отсюдова (он же в курсе, старшина, и командир роты помогал же ему в этом вопросе: разве кто против был такого праздника?) – он находил ещё посуду, бочку какую-то небольшую уже, процедили это вино – и в Голубицкую переехали.
Вот там нам он устроил, командир роты… и старшина наш, значит… День Победы на Кубани!
На земле выкопали такие ровики, чтоб сидеть. Тут, между ними, этот «стол»… не знаю, чем-то мы накрыли. Ведро вина! Выпили – второе. И – кто сколько хочет! Берёт своей кружкой – и глотает. Пей, сколько тебе влезет, никакого запрета!
Вот мы там отметили, как говорится, от души. Я утром проснулся, а – лежу под какой-то копной. Недалеко. И я под ней ни хрена не помню. Это и был, видно, праздничный день. Один-единственный.
Ну, туда и комдив приезжал к нам. Когда мы выпивали. Смотрим – он с заместителем, начальником политотдела, на лошадях скачут. Мы уже, чтоб не мешать – им там комнату… или на веранде, или где-то они там. Он знал же, что у нас там вино такое готовится домашнее, вкусное такое...
Но – мы там это всего один раз. А водку – я вообще как-то не признавал.
- Вы дружили с кем-то на фронте?
- Конечно! Всегда с кем-то! Я же говорю: вот Витька воронежский, в пехоте мы были...
Всегда старались быть рядом, всё время. На кухню – и то бежим вдвоём. Старшина же придёт – и кричит: «Кухня вот там-то». Мы тут сорганизовываемся, кто должен побежать, поесть там и принести другим. Мы – всегда с ним вдвоём. И так же и в траншее, там, в окопе: вдвоём всё это.
Потом его ранило в руку – я его перевязывал. Темно, ночь же. А потом же он [Немец.] стреляет всё время. А бинт у меня был в кармане. Я попробовал – рука в крови! Надо рукав задрать, разрезать. А я – прямо так, поверх одежды, вот так ему закрутил… [Показывает.] На кухню завёл его – а там уже он сам, конечно.
- Кто в пехоте обычно выживал? Ну, была ли на Вашей памяти какая-то группа людей, которая воевала бы дольше всех?
- Нет, не было такого. Не было любимчиков каких-то...
Что значит «выживал»? Это значит, надо, чтобы не бросали его туда, где самое опасное: так, как меня бросили под снайпера. Это же не каждый мог такое преодолеть и живым остаться. Поэтому, конечно, была там не группа, а у каждого командира роты связной обязательно. У комбата – от каждой роты связной должен быть. А то даже и два может быть, если в роте людей много. Ну это сегодня могли быть эти, а через три дня, может, одного другого послали. И бежишь там или ползёшь…
Я ещё расскажу. Когда служил в батарее, ещё в горах тут – я был не на огневой позиции, а на НП. Ещё там были те, кто наблюдал всё это. Всё время они, целый день, дежурят. И там офицер один был.
Вот вдруг появляется командир батареи. И с ним один грузин. Зачем он прибыл – неизвестно. Но факт в том, что командир батареи тут же занялся вроде бы по делам там с командиром, с офицером, который на НП, который командует отсюда. Мы – только помогаем, подсказываем там телефоны, повторяем...
А были рядом недалеко две сопки, и они были заминированы нашими войсками. Наши мины. Мы туда не ходили, нам не разрешали. Просто сказали, что там мины. То есть территория неохраняемая минировалась, чтобы противник там не мог сунуться. А он попёрся зачем-то туда. Зачем? Уму непостижимо. А там были мины наши вот такие деревянные [Показывает.], там 50 грамм или сколько-то взрывчатки. На неё наступишь – взрывается – оно не убивает, а рвёт ступню.
И вот он попёрся. Зачем, не знаю. Я уже сам в подозрении. И, когда взрыв произошёл – видно, комбат услыхал. Видно, у них договор был такой, что тот хотел как-то уволиться. Комбат сразу кого-то послал туда: «А ну, беги, узнай, что там такое». Тот побежал: «Вот, так и так, тот подорвался». Он сразу тут же: «Ну-ка быстренько носилки давайте, быстренько!»
Ему тут забинтовали, в том числе и я как раз, даже четыре человека нас там хлопотало. Носилки, и – к штабу, к медчанчасти, в медсанроту. Только он, когда мы его уносили, комбату говорит: «Ну, приезжай в гости». Вот это я запомнил. Он ещё сказал так: «После войны» или что-то такое. А куда, что? Значит, тот знал, куда в гости приехать. Значит, у них договор был, каким образом можно уволиться здоровому человеку. Значит, знали, что мина эта рвёт только ступню ему.
И мы его донесли, и он лежал спокойно, молчал, даже не охнул, не ахнул. Всё, там сдали его в медчанроту. В полках – санроты. Сдали его, ему там уже всё обработали, и – дальше. И уже он больше не годен.
Ну, это моё подозрение такое. Но так оно и было, потому что явно было договорено.
Как он прощался с ним: что – приезжай, всё. Значит, у них уже был сговор. И комбат ему, видно, сам сказал, что тебя не убьёт мина. Он же знал её, как говорится, на что она способна, эта мина. И знал, что там заминировано.
- У Вас самого не было желания как-то уйти из пехоты?
- Я не напрашивался… но, конечно, желание было. Вроде как пехота – самый тяжёлый род войск…
- Я вообще первый раз вижу человека, который столько прошёл в пехоте!
- Пехота – это самый тяжёлый, да. Я называю так: пехотинец – это вроде рабочий на стройке без специальности. Его в любой момент, в любое место, куда угодно, любую работу ему дают – и он должен делать. То перенеси туда, то выкопай то, то сделай это. Так и пехотинец. Мы ночью ведь никогда почти не спали. В пехоте – не спят. Как ночь – то удлинить надо траншеи, то почистить надо, то... То есть ночью мы почти всегда что-нибудь делали.
- Ну, днём хоть поспать!
- Однажды меня даже уже подняли – а у меня такая слабость, такое бессилие – что не знаю: я или простыл, или чего, но – полнейшее бессилие! А меня подымают и говорят: «Вот туда-то тебе, иди то-то». Я говорю: «Не могу, у меня силы нету вообще двигаться даже». Ну, не знаю, кто там из офицеров: «А ну, иди к фельдшеру».
В каждом батальоне фельдшер или фельдшерица есть. У нас был мужчина. Я пошёл к нему, замерил он у меня температуру. Не знаю, сколько было, но он сказал: «Иди ложись, я скажу этому – кто тебя там послал – что тебе надо отдохнуть». Он поверил, он понял сразу, отчего у меня такая слабость. Но это вот один такой день был, одна ночь. А то всё время что-нибудь да находят… и – на работу.
- Какое отношение было к тыловым дивизиям, к тем, кто пристраивался к тыловикам?
- К тыловикам – ну, как его… служба! Есть же люди. Вот, к примеру, на аэродроме. Самолётов там – полк стоит. А там же, кроме лётчиков – целый батальон обслуживания! И они всю войну там проводят. Ну, что же? Они виноваты, что ли? Их туда направили.
- Это сейчас. А тогда – презрения не было?
- Нет. Только могли спросить: «А ты где?» Или «Откуда ты?», «А где ваше там подразделение или там что-то?» А он скажет: «Да я – там-то…» - «О, молодец ты!» Вот и всё.
- С военного времени фотографий не осталось переснять?
- Ни одной не было. Я говорю, вот с Крыма послал – и те не получили. Нет у меня фотографий военных…
- Спасибо большое.
| Интервью: | А. Драбкин |
| Лит. обработка: | А. Рыков |