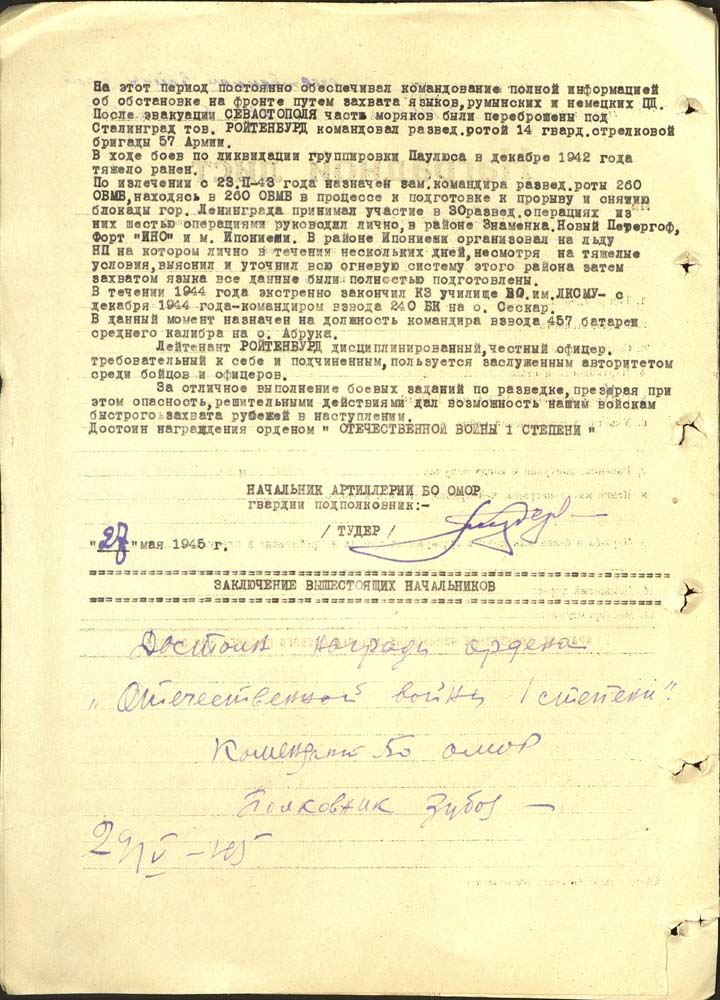Я родился 1 января 1921-го года в городе Алчевск Луганской области. Мой отец, Ройтенбурд Наум Иосифович, работал бухгалтером, мать, Феня Марковна, была домохозяйкой. До войны я окончил десять классов, то есть получил полное среднее образование, причем стал обладателем золотого аттестата. Решил продолжить учебу и поступил в Харьковский авиационный институт на факультет «самолетостроение» по специальности «технолог», нас учили подбирать детали для самолетостроения, от мелких деталей до крыла и прочее. Наш вуз был довольно-таки интересным учебным заведением, образование носило полувоенный характер. Мы имели повышенную стипендию, и хотя в целом ХАИ не являлся военно-авиационным училищем, но его в какой-то мере приравнивали к военным заведениям. Например, у нас не переводили студентов, даже успешно сдавших все экзамены на третий курс, если ты не окончишь аэроклуб, планерную школу или не совершишь несколько прыжков с парашютом. Конечно же, большинство выбирало парашют, это интересно и увлекательно. Я совершил семь прыжков, за что получил знак парашютиста, выполненный в виде «семерки».
Окончив два полных курса Харьковского авиационного института, меня вместе с однокурсниками отправили в июне на практику в Сталинград. Стажировались в заводе «Красный октябрь», где работали в мартеновских цехах и у доменных печей, смотрели за тем, как происходит изготовление деталей для самолетов. Кстати, на этом заводе были закрытые цеха, где производили специальный металл для авиации. 22 июня 1941-го года, находясь на одной из смен, мы услышали выступление по радио народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова о том, что началась война с Германией. Тут же вместе с товарищами по институту я написал заявление с просьбой об отправке на фронт. И в этот же день, в воскресенье, на завод пришла телеграмма из Харькова с предписанием всем студентам немедленно возвратиться в институт. По прибытии в ХАИ мы узнали о том, что в срочном порядке создается студенческий батальон, и к нам в класс пришел майор из военкомата, который сказал: «Ребята, я вас не принуждаю, но кто хочет, может записаться в батальон». Все мы написали заявления, у нас было несколько ребят, непригодных к военной службе по состоянию здоровья, но и они написали заявления. Им отказали. К тому времени муж моей сестры, мой зять, оканчивал пятый курс Харьковского государственного университета, и он уже записался в студенческий батальон, а тут я прибываю в эту часть. Лейтенанта упросили, и через день мы с ним уже находились в одном отделении. На следующий день нас уже везли в переполненных вагонах на фронт. Это был ужас какой-то, люди сидели на крышах, и в этой сутолоке я простудился. Стою в строю, лицо красное, старшина мимо идет, и спрашивает меня: «Что такое, почему такой красный?» Ответил: «В детстве молока много пил!» Но шутка не сработала, отправили меня в санчасть, здесь обнаружили, что температура моего тела составляет 39 градусов. И меня направили в лазарет Харьковского авиационного института. Через пять дней я выздоровел, пришел в свой вуз, и узнал о том, что студенческий батальон проследовал в Чугуев. По моей просьбе позвонили туда, оказалось, что часть уже убыла под Белую Церковь. И почти весь батальон там погиб, в том числе и мой зять. А я остался жив, по предписанию из военкомата попал в Севастопольское военно-морское артиллерийское училище береговой обороны имени Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Украины. Был зачислен на артиллерийский факультет курсантом первого курса.
В связи с началом войны срок обучения сильно сократили, и мы должны были учиться полтора года. Была еще ускоренная рота, или как мы ее называли, рота ускоренников, здесь ребята обучались только один год, это были в основном выпускники Николаевского кораблестроительного института. По сути, они были инженерами-курсантами. Но собственно артиллерии нас не учили, а обучали штыковому бою, самообороне без оружия, рассказывали, как правильно рыть окопы, маскировать свои позиции, идти в атаку и обороняться, стрелять из всех видов оружия – пистолета, карабина, автоматов не было, зато в достатке имелись пулеметы «Максим» и ручные пулеметы ДП-27.
В наряды по городу нас не отправляли, но мы ходили в караул на подземный командный пункт Черноморского флота, находившийся в Южной бухте, я лично стоял на часах у кабинета начальника штаба флота контр-адмирала Ивана Дмитриевича Елисеева. Но такая служба происходила редко, один или два раза в месяц, не больше. Больше никаких нарядов мы не несли, а все время упорно учились, были марш-броски, причем перед ними каждому курсанту выдавали хорошую соленую селедочку, отдавали приказ вылить воду из фляг, после чего мы бежали из училища на Малахов курган. В шесть утра подъем, а на улице уже 36-38 градусов тепла. Специально выдали зимние теплые тельняшки. После ежедневного марш-броска они промокнут от пота, до утра не высыхают, а матросская роба высыхает, поставишь штаны, и утром они стоят, уже высохшие, но просоленные от пота. Утром натягиваешь на тело влажную тельняшку, сверху сухую робу и вперед бегом. Вот так нас учили. Хорошо обучали, мичманы в училище были прекрасно подготовленными специалистами и сумели в короткое время сделать из нас неплохих бойцов.
Вскоре на Севастополь начала налетать вражеская авиация, мы от воздушных налетов прятались в подвале учебного корпуса, который считался бомбоубежищем. Такая учеба продолжалась до 29 октября 1941-го года. В этот день нас подняли перед ужином, прозвучал сигнал тревоги. Поужинать мы так и не успели, только надышались запаха, до сих пор помню, как вкусно и заманчиво пахла гречневая каша с мясом. Кстати, сначала мы посчитали, что началась учебная тревога, ведь нам каждый день по три-четыре, а то и по пять раз объявляли различные виды тревог в учебных целях. Выстраиваясь на плацу, ребята ворчали: «Ну что же они, покушать не дают с этими тревогами!» Наряд, который спал после возвращения, прямо на босу ногу ботинки одел, даже не зашнуровал их. Ну, учебная тревога всеми воспринималась как обычное дело. И вдруг на плацу мы выслушали краткую речь комиссара училища полкового комиссара Бориса Ефимовича Вольфсона, который вышел на балкон второго этажа. Он сообщил, что это не учебная, а настоящая боевая тревога. Прекрасно запомнил его слова: «Гитлеровцы ворвались в Крым и уже приближаются к Симферополю». После митинга каждому выдали по ящику со снаряжением к стандартной амуниции, я, к примеру, получил два цинка с патронами. Хороший вес, килограмм, наверное, тридцать, да и сам деревянный ящик что-то весил. Кто-то из моих однокурсников вдвоем тянул «Максим», один тащил станок, а второй – ствол, каждый что-то пер. Шли ускоренным шагом, потом бегом. На пароме переправились на Северную сторону, оттуда пехом 36 километров под Бахчисарай. Еще темно было, когда мы 30 октября 1941-го года пришли на высоты Эгиз-Обалар (крымскотатарское Холмы-Близнецы) около шоссейной дороге в 4 километрах юго-западнее Бахчисарая и начали рыть окопы. Нашей 2-й роте повезло – земля досталась мягкая, и к рассвету мы уже маскировали окопы. Наш 4-й взвод был очень дружный, быстро помогали друг другу, прикрывали бруствер ветками, один из курсантов специально пробегал мимо позиций и смотрел, где видны окопы и нужно подмаскировать. Быстро справились, даже небольшие ниши в окопах сделали. Побросали туда вещмешки и запас патронов. Много времени подготовка этих ниш у нас также не заняла, ведь в вещмешках лежали какие-то личные вещи, письма, и все, небольшой мешочек. В нашем училище было много преподавателей в звании майоров и подполковников, поэтому 2-й ротой командовал полковник Корнейчук, а нашим взводом – лейтенант Володя Корнеев. Перед нашими позициями находилась река Кача, небольшой глубины мелкая крымская речка. И тут нам не повезло – уже наступила осень, дождей не было, все кругом желтое, так что мы в своей черной флотской форме были легко различимы на фоне земли. Так что окопы замаскировали, а сами остались четко видны, ведь не было ни маскхалатов, ничего. Когда рассвело, то сначала появилась вражеская авиация, сначала прилетела «рама», мы тогда еще не знали, что это самолет-разведчик. Ей не представляло труда нас обнаружить из-за черных бушлатов. И уже в первой половине дня появились немецкие «Мессершмитты» и «Юнкерсы», первые начали обстреливать, а вторые бомбить. Над нашими окопами пролетел какой-то немецкий самолет, буквально в ста метрах над головами, и я заметил, как летчик погрозил кулаком. На нас налетели не все вражеские самолеты, часть полетели в сторону города и каких-то других позиций. И тут мы увидели, как в нашу сторону летит девять «Юнкерсов», мы с разу же открыли огонь, у нас были на вооружении карабины и винтовки Мосина образца 1891/1930-го годов. Имелись к ним бронебойные патроны, которые, как мы позднее выяснили, ничего не пробивали, и в итоге ни одного самолета мы не сбили. После бомбежки один пикировщик, самый последний, оторвался от группы, сделал разворот, включил сирену, которые стояли на «Юнкерсах», и зашел в пике, сбросил бомбу и попал в кого-то из наших, после чего улетел к своим. В итоге первого же налета в роте появились раненые и убитые, началась для нас война, хотя мы еще ни в кого стреляли. И тут с противоположной стороны Качи подошли танки, все-таки я считаю, что это были именно танки, а не самоходные орудия. Конечно, до них было более тысячи метров, у нас биноклей не было, да и знатоки-то мы были еще те, но все считали, что это танки. Дело в том, что наша училищная батарея, стоявшая по соседству, открыла огонь по врагу, у нас во взводе было три курсанта по фамилии Бондарь, и один из них, Женя, помогал корректировать ее огонь. И после боя он уверенно заявил, что это были танки. И мы так считали. Бронированные вражеские машины открыли огонь и довольно-таки точно стреляли, хотя мы тогда подумали, что в окоп попасть из танка очень трудно вероятность низкая. С другой стороны, в Ленинграде был один-единственный слон, какая там была вероятность, но его все-таки убили! Теории вероятности у нас в Харьковском авиационном институте было посвящено 400 часов, там что я неплохо в ней разбирался. Кстати, танки к нашим позициям не приблизились, остались где-то за рекой. А во второй половине дня 30 октября немецкие пехотинцы попробовали атаковать наши позиции, но быстро залегли на дальней дистанции. Мы открыли огонь, я стрелял из карабина, в обойме которого имелось пять штук патронов. После каждого выстрела надо передергивать затвор. Первая стрельба на нашем участке началась ближе к вечеру, потому что немцы намного левее от нас перешли Качу. Причем к тому времени наш взводный Володя Корнеев уже был ранен, его увезли в Севастополь. На его место заступил сержант Подзерей, курсант второго курса. Хороший парень, начал нас подзуживать, мол, давайте стрелять. Когда мы вдоволь постреляли, то немцы через кусты спокойно отошли к Бахчисараю. После боя к нам в окопы пришел полковник Корнейчук, хороший и грамотный командир, облаял нас как следует, что мы, засранцы, огонь открыли, когда до врага оставалось минимум пятьсот метров, в результате от стрельбы не было никакого эффекта. В заключение приказал подпускать немцев метров на сто, не больше. Дружно сказали: «Есть, будем подпускать». Таково было мое первое боевое крещение.
На второй день немцы начали атаковать нас уже в серьез, и мы поближе пустили врага, метров на двести. Но противник не стал приближаться и снова отступил. А на третий день мы пошли в первую атаку, перешли через Качу в своих рваных ботиночках и черных брюках. Стреляли прямо на ходу, и мне кажется, что это была разведка боем, ведь немцы быстро ретировались, отстреливаясь на ходу. После этой атаки мы вернулись в свои окопы. А потом в тот же день пошли в настоящий бой, закончившийся рукопашной. Вот тут я впервые увидел фрица живьем. И первый раз у меня получился очень удачным, потому что я знал несколько приемов штыкового боя. Во время обучения у нас на плацу стояло двенадцать чучел. Когда ты атакуешь одно из них, стоящий за ним мичман сует тебе в грудь палку, ее надо прикладом отбить, после чего сделать обманное движение и проткнуть чучело. И в этом бою я применил мой любимый обманный прием – делаешь вид, что хочешь в шею ударить или в верхнюю часть груди, человек инстинктивно, хоть и не желает, начинает защищаться, как бы отбрасывать назад шею и выставлять приклад. А ты тем временем, буквально за долю секунды, перебрасываешь в руках винтовку и бьешь врага в живот. Вот так я впервые убил человека в рукопашной схватке. Рядом со мной атаковал Миша Лиговский, отличный парень, мама родила его в сорок лет, он был единственным ребенком в семье. И он погиб, обхитрил его фриц.
После войны я посвятил своему первому бою следующие стихи:
Когда-то здесь звенели косы,
Девичий смех парней пленил,
Сошлись с фашистами матросы,
Тогда впервые я убил.
Я помню ржавые усы,
И дым медалей на мундире,
Я между ними штык всадил,
Чтобы не жил он в этом мире.
Чтоб не ворвался он в мой дом,
Где о защите молит мать,
Чтоб сын и внук его потом не смели больше воевать.
Да, я убил его, штыком
Чтоб умер он, чтобы не жил,
Чтоб защитить свой кров, свой дом,
Впервые в жизни я убил.
То был наш первый смертный бой,
Пройдут четыре года длинных,
Пройдут, пока дадут отбой,
Когда дойдем мы до Берлина.
И нелегко сейчас признаться,
Мне мысли те мешают спать,
Так и не научившись целоваться,
Мы научились убивать.
После рукопашной враги отступили к Бахчисараю, а мы остались на поле боя, и заночевали в больших стогах сена, которые были разбросаны по равнине, каждый метра два высотой. Холодно стало ночью, так что зарылись в это сено, а ведь на позициях остались хорошие окопы, которые мы все эти дни продолжали оборудовать. К счастью, перед первым боем каждому выдавали промасленные накидки для химзащиты, с капюшонами, которые мы накинули на себя. Какая там химия на передовой, мы даже противогазы выбрасывали, а в сумки от них набили яблоками.
На третий день боев мне вручили ручной пулемет, он находился в пользовании у преподавателя взрывчатых веществ и пороха, но его ранило, и ДП-27 мне отдали, потому что я умел хорошо стрелять из пулеметов. Дело в том, что у нас во время учебы каждую неделю проводили различные соревнования, и определяли чемпиона училища. Я, к примеру, целую неделю являлся чемпионом по штыковому бою, а затем стал чемпионом по стрельбе из пулемета, тогда мои глаза хорошо видели, и стрелял метко. Весь день, будучи за пулеметом, я стрелял, второй номер едва успевал набить в диски по 47 патронов. Немцы были отборные, многие имели на мундирах награды. Они рвались к Севастополю, это была моторизированная бригада Циглера. Это были опытные, матерые фашисты, а мы были необстрелянными пацанами. Но все равно выдержали атаки врага.
Каждый день окопы обстреливала вражеская авиация. В тех боях мы потеряли немало товарищей. Умер заместитель начальника разведки батальона Василий Дьяковский, я ему, раненному, приносил миску с макаронами, но он к ним даже не прикоснулся. Молодой красивый парень, спортсмен. Также я видел, как погиб Паша Широчин, первый номер пулемета «Максим», он был у нас лучшим снайпером-пулеметчиком, он и лейтенант Борис Григоренко стреляли по врагу. Григоренко был ранен, и его не довезли до госпиталя, он умер в пути, а Паша погиб прямо за пулеметом.
Затем враг применил против соседней роты грязную хитрость. Немцы собрали из ближних деревень женщин, стариков и детей, погнали их впереди своей наступающей цепи на позиции наших соседей, я видел, как майор Сабуров кричал в рупор, который мы называли «матюгальник», мирным жителям, чтобы они убегали. Тем удалось попрятаться в какие-то овраги, а наши курсанты ударили по врагу.
Но больше всего в ходе боев перепало роте ускоренников, они очень хорошо дрались, ведь оказались на направлении главного удара немцев, и когда у них дело пошло к прорыву, то они отходили не назад, а на фланг нашей роты, и мы перевязывали ребят, и относили их до санчасти. Они вели даже тогда, когда у нас немцы затихли. Когда ускоренники отошли, то мы раненных всех вынесли, а вот убитые остались, их очень много полегло, и похоронили ребят местные жители уже после ухода немцев.
И тут враг наконец-то нашел слабое место нашей обороны. Справа от нас стояли пограничники и какой-то учебный отряд, а вот слева до моря вообще никого не было, стоял только один наш курсантский взвод в качестве дозора, и два взвода в резерве. И все. Наш сводный курсантский батальон выдержал удар врага, а вот пограничники и учебный отряд дрогнули и отошли, а слева немцы прорвались до самой Николаевки. Оставаться на месте не имело смысла, создавалась угроза окружения, и по приказу командования Черноморским флотом в ночь на 4 ноября 1941-го года мы начали отходить. Всего мы похоронили более ста товарищей, в нашей роте потери составили 11 курсантов убитыми.
Закрепились на Мекензиевых горах, там еще до начала обороны севастопольцы вырыли окопы и все подготовили для долговременной обороны. Все, что осталось от нашего батальона, свели в три роты, из 1111 курсантов на передовой находилось около пятисот человек. Раненые были увезены, убитые похоронены. И тут училище получило приказ наркома Военно-морского флота СССР Николая Герасимовича Кузнецова убыть в г. Ленкорань. Из состава трех рот был в срочном порядке создан курсантский взвод погрузки и упаковки, человек сорок сняли с позиций, все преподаватели и командование также получило приказ об эвакуации. С собой они забрали всю материальную часть, в том числе минометную и артиллерийскую батареи. Встал вопрос о том, что же делать с нами. Приехали крепкие дяди из 25-й стрелковой Чапаевской дивизии, первое время они говорили, что их за пацанами прислали, но когда увидели наш молодцеватый строй, тут же между собой переругались, каждый хотел курсантов к себе в часть забрать. И тогда комдив генерал-майор Коломиец Трофим Калинович приказал направить нас на усиление 105-го отдельного саперного батальона, понесшего большие потери в боях. Нас всех скопом туда направили, меня назначили командиром отделения, ведь раньше у нас командирами отделений были ребята со второго курса, а их досрочно выпустили младшими лейтенантами. И уже из своих первокурсников назначали командиров отделений. Прибыли мы в долину Кара-Коба, где на сопке, нависающей над долиной, были расположены наши позиции. И здесь мы снова начали нести потери, преимущественно от минометного огня, потому что близких огневых контактов с противником не происходило. Только я укрепил оборону своего отделения, как на передовую прибыли кадровики и начали отбирать претендентов на курсы младших лейтенантов на мысе Фиолент. Я не просился, ничего не говорил, но командир пришел за мной лично в окопы и сказал, что из нашего взвода меня забирают. Куда, что, я не хочу, но мне ответ был один: «Заткнись, парень!» И нас на Фиолент отправили. Здесь первым делом я сбрил усы и бороду, так как с момента первого боя ни разу не брился, а у меня еще с юных лет здорово растет борода.
Привели себя в порядок, и проучились ровно шесть дней. И числа 5-го декабря, как я хорошо помню, приехал к нам генерал-майор Иван Ефимович Петров и говорит: «Ребята, немцы вплотную вышли к Севастополю. Дело не до учебы». Нам присвоили звание младших лейтенантов, выдали кирзовые сапоги, форму, только брюк не было, я черные флотские брюки запихал в новенькие сапоги. И попал в 1-й стрелковый батальон 1163-го стрелкового полка 345-й дагестанской стрелковой дивизии. Стал командиром взвода, только хотел его принимать, как тут пришел старший лейтенант Сережа Хомутецкий, начальник штаба батальона, и забрал меня к себе. Так что с 1-го января 1942-го года стал помощником начальника штаба, наш комбат, капитан Касым Мухамедьяров, когда я попробовал отпроситься обратно во взвод, сказал мне, что у него взводами сержанты командуют, и офицер должен быть в штабе.
Мы начали готовить батальон к наступлению, я, что мог, помогал, у меня уже был кое-какой боевой опыт. За несколько дней до нашей атаки я познакомился с Александром Хамаданом, талантливым корреспондентом. Хотя немножко громко сказано, что познакомился, он тогда был известнейшим репортером, а я салажонком, младшим лейтенантом. Хамадан пришел к нам ночью, когда мы отрабатывали захват пленного. Дело в том, что в батальоне подготовили семь разведчиков. Сам я никогда в жизни не брал пленных, но некоторые уроки передал мне офицер на курсах, который брал двух пленных. И я его опыт отрабатывал с ребятами. Хамадан посмотрел на нашу работу, усмехнулся, пожал нам руки, и сказал: «Желаю вам взять много пленных». После чего ушел. Вот такое состоялось короткое знакомство.
Рано утром 27-го февраля 1942-го года мы начали наступление, в ходе которого мощной атакой прорвали оборону противника и к полудню продвинулись более чем на два километра. Особенно успешно действовала рота Семена Шварца. Этот молодой лейтенант-танкист начал воевать с первых дней войны, участвовал в знаменитом контрударе 9-го механизированного корпуса, которым командовал генерал-майор Константин Константинович Рокоссовский, под Луцком, после чего был ранен и лежал в госпитале в Елабуге. Из-за отсутствия танков Шварца назначили командиром стрелковой роты. Окружив в ходе наступления немецкий дзот, бойцы роты Семена забросали вражеское укрепление гранатами. Когда рухнула входная дверь, Семен первым ворвался в дзот, но уцелевший фашист взорвал гранату, и Шварц погиб. Потом я был в этом дзоте, у входа лежало пять или шесть наших убитых. У фашистов тоже имелись свои герои, иначе они бы никогда не дошли до Сталинграда. А Шварц мне как раз перед боем рассказывал о том, как он лежал в Елабуге в госпитале, это Татарская ССР. К ним в палату приходила Марина Цветаева, которая читала раненым свои стихи.
К большому сожалению, наши соседи слева и справа в том бою успеха почти не имели. Ни 3-й батальон нашего полка слева, ни 79-я морская стрелковая бригада справа прорвать оборону противника не смогли. Ребята отважно бились, но враг сильно укрепился. Поэтому когда мы выдвинулись слишком далеко, немцы сомкнули вокруг нас клещи и устроили небольшой «мешочек». Потери были очень и очень большими. Потеряли половину рядового состава, и две трети офицеров, а командиров взводов, так тех полегло 95 %. Сталинский устав, он, знаете, какой был? Наступает рота, первый взвод, впереди идет командир взвода, за ним командиры отделений, и только дальше цепь бойцов. Взводный кричит: «За мной! Вперед!» Он бежит, несколько командиром отделений следом, а бойцы перекуривают. Так что в результате командиры погибали. Если во второй раз в атаку идет командир взвода – это счастливчик. Ему крупно повезло.
Я был ранен первый раз 28 февраля 1942-го года. Бежал мимо окопа, и немец с пяти метров выстрелил в меня. Я его прикладом ударил, он упал, не знаю, погиб или нет, но факт тот, что завалился. И вдруг раз, я сильную боль почувствовал, мне стало страшно. Но эвакуироваться в госпиталь сразу же я не смог, ведь несколько дней наш батальон бился в окружении, пришлось весьма и весьма тяжело.
Затем к нам каким-то чудом пробрался совсем еще молоденький пацан, сержант-связист от командира полка майора Мажулы. Он передал нам приказ выбираться всеми путями из окружения. Мы пошли на прорыв двумя группами. И соседняя с нами группа напоролась на румынский батальон, в результате почти вся погибла, ее возглавлял командир пулеметной роты Коля Музыкин. Геройский парень, солдаты называли его «Чапай», потому что он носил красивый чуб, и был похож на легендарного Героя Гражданской войны. Перед началом наступления Коля свои пулеметные взвода раздал в три стрелковые роты, каждой по взводу. Так что он очень хотел возглавить отряд прорыва, но в итоге попал в немецкий плен. Мы с Музыкиным встретились в Дербенте в 1989-м году на встрече с ветеранами дивизии, и он мне несколько часов рассказывал об ужасах немецкого плена и своей послевоенной судьбе.
После удачного для нашей группы прорыва я решил по дурости остаться в строю, но меня одним из первых на передовой встретил врач, молодой такой парень, он мне так сказал по поводу желания быть на передовой: «Да ты что, спятил. Без руки хочешь остаться? Немедленно в госпиталь!» В итоге меня и еще нескольких раненых отвезли в корпусы Черноморского высшего военно-морского училища, где располагался госпиталь. Все палаты были битком набиты ранеными после тяжелейших боев по прорыву блокады Севастополя. Пролежал дня два, и тут заходит врач, как оказалось, начальник хирургического отделения. У них в операционной закончился наркоз, поэтому он спросил нас: «Ни обезболивающих, ни наркоза нет. Кто будет терпеть, того стану оперировать». Я тут же попросился на стол, а он меня осмотрел и в ответ говорит: «Тебя, хочешь, не хочешь, все равно буду резать, иначе правую руку надо ампутировать». Оказалось, что у меня пулей раздробило все, появилось семь трещин, к счастью, кости не разошлись.
Температура сорок, сам идти не могу, тогда подошла медсестра и взяла меня, просит положить руку ей на шею, а я не могу, стесняюсь, все-таки девушка. Та заметила мое замешательство и сказала: «Клади руку мне на шею! Чего ты боишься!» Вынесла меня из палаты и сразу на операционный стол положила. Дали два стакана крепленого вина, вот и весь наркоз, привязали руки и ноги к операционному столу и начали делать операцию. От боли я прокусил губу, след до сих пор остался. Рядом лежали другие раненые, те матерились, но все время молчал. Наложили шину из алюминия, как лодочку, а потом гипс. И косынку через шею для фиксации натянули. Всего операция продлилась минут двадцать, температура у меня снова поднялась, а медсестра, которая помогла мне добраться до койки, сказала соседям: «Он ни разу не закричал!» Там же в госпитале лежали и другие офицеры из нашего полка, в том числе майор Мажула и мой начштаба Сережа Хомутецкий. Многие из них впоследствии погибли, обороняя Севастополь.
Через некоторое время, я еще не успел прийти в себя после операции, заведующий отделением снова пришел к нам в палату со следующим объявлением: «Ребята, у меня привезли тяжелораненых на ампутацию, я буду их в вашу палату определять, больше некуда, а вас направим в батальон выздоравливающих». Так я оказался в этом батальоне, который располагался в четырехэтажном здании флотского экипажа на Корабельной стороне, напротив учебного корпуса нашего училища. Считались выздоравливающими, а на самом деле, как вы думаете, я был здоровым? Мы там лежали на койках, фактически еще даже не начали выздоравливать, за нами врачи ухаживали, измеряли температуру и давали лекарства. Располагались на первом этаже, выше подниматься было нельзя, потому что считалось, что первый этаж является одновременно и палатой для раненых, и бомбоубежищем.
Когда я стал чувствовать себя немного лучше, то меня решили поставить старшим над выздоравливающими моряками. Это было непростое задание, ведь матросы вообще любят побузить, особенно если чувствуют слабость командира. Ну, я сразу же повел себя нахально, молодой был, крепкий. Некоторые «жулики» из моего отряда любили уходить куда-то в самоволку, для чего лазили по крышам и через заборы, но я, будучи еще двенадцати- или тринадцатилетним пацаном в Алчевске, любил играть с товарищами в казаки-разбойники, когда «казаки» ловят «разбойников». Много бегал по крышам домов, где только не прыгал. Так что был некоторый «боевой» опыт в вопросе ловли. И я своих ребят прихватил, так что они меня после этого слушались беспрекословно.
5-го мая 1942-го года ко мне пришли командиры батальона и сказали: «Хотим отправить тебя в действующую часть, денег будешь родителям больше высылать». Хотел воспротивиться, мол, у меня же правая рука до сих пор на перевязке, но мне сказали, что в вопросе командования главное голова, а не рука, и я в преддверии третьего штурма отправился в 7-ю бригаду морской пехоты на гору Гасфорта. Стал командиром первого взвода 10-й роты 4-го батальона. Мы заняли оборону напротив часовни Итальянского кладбища у вершины горы. Во взводе принял 37 солдат. Мне было придано два «Максима» с расчетами, кроме того, на вооружении взвода имелось два ручных пулемета и несколько СВТ-40, хороших самозарядных винтовок. Вот автоматов не было, один ППД с коробчатым магазином прислали, его где-то в Севастополе собирали, но после первой же очереди выбрасыватель гильз раскрошился, и его отправили на ремонт. До сих пор ремонтируют.
По ночам мы строили добротные оборонительные сооружения. Дело в том, что неподалеку от нас проходила железная дорога, ее разобрали и передали на передовую промасленные шпалы. Только представьте себе, сначала котлован вырываешь, кладешь шпалу, потому прокладку из земли и вторую шпалу. И уже осколки, даже крупные, тебе не страшны, опасно только прямое попадание тяжелого снаряда. Сверху насыпали ветки о доски, все, что можно. И полметра слой земли. Я решил оборудовать себе НП неподалеку от передовых позиций, между двумя деревьями в пяти метрах позади, сделали мне землянку. Матросы сильно удивлялись, говорили мне: «Товарищ командир взвода, вы так близко к передовой решили расположиться. У нас до вас взводный где-то в ста метрах в тылу сидел». Уже кое-какой авторитет появился.
А дальше начался штурм. Мы две атаки отбили, при этом враги так и не увидели, где мы были замаскированы. Но на фланге наших позиций находился сводный полк погранвойск НКВД, и немцы прорвали их позиции в районе села Камары. Там почти весь полк погиб, а противник ворвался в долину между горой Гасфорта и Сапун-горой, и в результате зашел к нам в тыл. И тогда я понял, что две немецкие атаки на нашем участке, не сказать, чтобы сильно мощные, скорее показательные, носили отвлекающий характер. Противник атаковал для того, чтобы нас не сняли на помощь правому флангу, где сидели пограничники. Немцы умели воевать, и не стали лезть через наши, сильно укрепленные позиции, ведь мы везде наставили минные поля, проволочные заграждения, спирали Бруно, чего там только у нас не было. Даже свои первые потери я понес не от снарядов врага, а от своей же артиллерии. Со стороны пограничников 152-мм гаубица пару снарядов шуранула недолетом, и попала прямо ко мне в землянку первого отделения. На месте погибли санинструктор и командир отделения.
Когда нас взяли в полукольцо, у меня уже от тридцати семи бойцов оставалось двадцать. Ночью в наш взвод пришел комиссар бригады полковник Николай Евдокимович Ехлаков с писателем Леонидом Сергеевичем Соболевым. Они побеседовали с бойцами, дали ряд хороших советов, а через несколько часов мы узнали, что комиссара бригады тяжело ранило. Комиссар был, надо отдать ему должное, настоящий политработник, правильный командир.
Когда мы окончательно попали в окружение, то вынуждены были занять круговую оборону. Вы представляете, что такое для двадцати человек взводный район обороны в 800 метров в ширину на 300 метров в глубину?! Очень тяжело пришлось, мы отбивались, но больше всего бед доставляла немецкая авиация и минометы. Сказать, что они бомбили и стреляли – это ничего не сказать. Бои шли круглосуточно, немцы отменили свое правило отдыхать ночью. Все горело, взрывалось, стоял страшный сплошной грохот. Казалось, что это конец света, сплошное землетрясение, повсюду стоял едкий густой дым, дышать нечем. Вокруг сплошная выжженная земля, не только уцелевшего или кустика, даже ни единой зеленой травинки. Поверхность как на Луне. В течение последних трех недель раз в два дня, ночью, мой помощник, подвергаясь смертельной опасности, приносил по горсти сухарей и кружке воды на каждого. Кончались патроны и гранаты, осталось немножко «лимонок» Ф-1 севастопольского изготовления, которые не всегда взрывались. Но главное – не было пополнения личного состава. Из моего взвода осталось совсем чуть-чуть, и тут прибыло двое юношей из Севастополя, которым не было еще и семнадцати лет, один по фамилии Хромцов, второго уже не помню. Связь с Большой Землей почти прекратилась, немцы окружили город сплошной морской и воздушной блокадой. Но мы держались, и приняли единственное и тяжелое решение – держаться до конца, стоять насмерть. Все написали последние письма нашим матерям. И не только матерям, но и тем, кто верно и преданно ожидал нас. В одной из стычек с немецкими автоматчиками, когда мы по приказу командования отходили на Федюхины высоты, я был ранен. Две пули пробили левое бедро, одна руку, и оказался в госпитале на Максимовой Даче, там люди лежали в проходах, столько было раненых. Под непрерывной бомбежкой ночью нам сделали противостолбнячные уколы и отправили в Стрелецкую бухту.
Но эта бухта уже подвергалась обстрелу со стороны пулеметов противника, и патруль, остановивший наш грузовик с ранеными, отправил его прямиком в Камышовую бухту, где стоял лидер «Ташкент», который одним из последних прорвался в Севастополь. На этом корабле нас планировали доставить в Новороссийск. Но «Ташкент» постоянно подвергался воздушным атакам и самостоятельно не смог дойти по места назначения, лидер был весь изранен, я лично слышал, как командир корабля капитан третьего ранга Василий Николаевич Ерошенко кричал: «Вперед!» А лидер, вместо полного вперед, не мог двинуться с места. К счастью, вскоре подошли высланные из Новороссийска корабли, два эсминца, а немецкие самолеты отогнали наши истребители. Вскоре нас, раненных, перегрузили на подошедшие корабли, кто-то попал на тральщик, кто-то на эсминец. Прибыли мы в Новороссийск. Около причала нас уже ожидало огромное количество машин, и медики тут же на месте обработали всем раны, ведь на борту находилось свыше 2 000 раненых. Дальше нас посадили на санитарный поезд, и отвезли в Черкесск, а там на автобусе переправили в город Микоян-Шахар (ныне – Карачаевск), где меня определили в госпиталь, эвакуированный из Днепропетровска. Это был отличное и прекрасное лечебное заведение, самое лучше из всех, где я лежал.
Летом 1942-го года меня выписали из госпиталя, побывал в Новороссийске, где меня определили в формирующуюся из матросов Черноморского флота бригаду, и в конце июля мы прибыли в Махачкалу, где ожидали транспорт, чтобы через Каспийское море перейти в Астрахань. Я пришел на пристань, чтобы получить какие-то бумаги как командир маршевого взвода, и смотрю, стоят две девчонки из госпиталя, лейтенант и медсестра, одна из них босая. Начал расспрашивать, в чем же дело. Оказалось, что немцы ночью прорвали нашу оборону, и девчонки убежали босые, даже не успели туфли взять. После их посадили на машины, и кого куда могли увезли оттуда. Они всю эту эпопею мне и рассказали.
Переправились мы в Астрахань, а оттуда по Волге добрались до Татищева. Сформировались в местных военных лагерях и переехали в Аткарск на полигон готовиться на Сталинградский фронт. Вот так я попал в 143-ю отдельную стрелковую бригаду, которая официально начала формирование с 10 сентября 1942-го года.
Мы в Аткарске проходили серьезную подготовку, меня назначили командиром первого взвода и одновременно заместителем командира разведывательной роты. Войсковая разведка – это серьезное дело, это «глаза и уши» армии. Всего в нашей роте насчитывался 71 боец, в моем взводе находилось 22 разведчика, у всех были автоматы, ведь разведчики – это элита. Готовились мы очень сильно, командиром был толковый кадровый офицер, бывший пограничник, воевал с первых дней войны. Он 22 июня 1941-го года командовал пограничной заставой, его сын и жена погибли в первый же день войны. Его помощник также был убит, и у него осталась вдова, жена-врач. И мой ротный с этим врачом как бы взаимно друг друга поддерживали на фронте. Ее назначили в медсанбат нашей бригады.
После непродолжительного обучения в октябре 1942-го года нас отправили через Камышин в направлении Сталинграда, посадили на «Студебеккеры», я впервые увидел эти замечательные американские грузовики. Довезли до определенного места в прифронтовой полосе, и сказали: «Ребята, дальше пешком, ехать опасно». Мы построили роту, доложил командиру, он мне говорит: «Я поеду вперед с врачом, мы выберем хорошее место для предварительного расположения, а ты веди роту». Ну, построились походной колонной, выставил боковое охранение и наблюдателя впереди, у нас разведчиками были в основном моряки с крейсеров «Коминтерн», «Ворошилов», лидера «Ташкент», из береговой обороны. Матросы, провоевавшие с начала войны, с такими ребятами мы могли немцев за год разгромить. Пошли пешком, а ротный с врачом поехали вперед на ГАЗ-АА, «полуторке». Они еще официально не поженились, но никогда не улыбались, ничего такого. В целом, угрюмые были люди, что естественно, после такого сильного горя.
Прошли совсем чуть-чуть, и тут наблюдатель орет: «Воздух!» Там лесок был, я скомандовал: «Направо, бегом!» И только мы укрылись между деревьями, как над нами пролетели два «Мессершмитта». Дальше смотрим – вражеские самолеты раз, и на дорогу повернули, как раз туда, где скрылась полуторка. И немцы разбили ее, мой комроты с врачом погибли на месте. Приезжает к нам генерал-майор Александр Георгиевич Русских, строгий товарищ, он не терпел никаких возражений и прочего. Начальник разведки штаба бригады капитан Загайный представил меня на должность ротного. И тот сразу набычился: «Что это такое, он же еще только младший лейтенант!» Но Русских уже знал, что у меня в разведке служат матросы, а они чужого офицера никогда не примут к себе. Так что он артачился больше для вида. Как я понял, он мне назначил какой-то испытательный срок, но на фронте не до того было.
Сначала бригада находилась в обороне в районе села Салянка-Щеткино, железнодорожный разъезд Чепурники, южнее Сталинграда. Стояли во втором эшелоне, но наша разведрота вступила в бой уже на следующий день после прибытия, потому что мы получили приказ обследовать район будущего наступления бригады, и установить наблюдение за передним краем противника, а также, что самое главное, взять «языка».
В этот период мне довелось непосредственно работать с начальником штаба бригады полковником Дульцевым, которого у нас назначили уже на фронте. Его посадили в 1937-м году, а в 1942-м, когда кадров не стало, выпустили. Он был в три раза умнее Русских, до ареста находился на должности командира корпуса. Старый царский офицер, большая умница, спокойный, выдержанный и грамотный командир. Оказалось, что было очень трудно взять «языка», немцы создали сильную оборону, противопехотные мина от мины находились в тридцати сантиметрах. Казалось бы, не пройти. И вдруг мы нашли полуметровой ширины ровик. Дело в том, что когда немцы ставили мины, там текла водичка из небольшой речушки. В речку же мину не ставят, она пропадет. А потом ровик высох, и никто из врагов не сообразил, что его также надо заминировать. И мы, разведчики, обнаружили это дело и ночью, строго один за одним, поползли, где можно, передвигались на коленях. Прошли передовую, оставалось буквально несколько десятков метров до позиций противника, и тут как врежет дождяра, и вся вода стала стекать в этот ровик. Было такое впечатление, как будто я приближаюсь к центру земли. Вскоре докладывает мне Коля Литерный, который полз впереди: «Командир, я стволом автомата зацепил грязь». Ну, тут я понял, что дальше ползти бессмысленно, только людей могу угробить. Да еще и одежда вся в грязи, холодно страшно. Первый блин комом, ну чего я буду ходить, погибать и гробить людей ни за что. У нас в разведке был принцип, уж если умирать, то хоть несколько фрицев с собой забрать. Переворот на 180 градусов и обратно.
Прибыли к Дульцеву, все доложили, тот спокойно воспринимает неудачу, говорит, мол, ведите наблюдение и ищите новый проход. А когда мы вернулись, то рассвет уже начался, морозит, мокрая одежда вся замерзла. Мы кое-как высушились, а Дульцев приказал тыловикам хорошенько накормить нас. Представьте себе, как на фронте дорого подобная забота со стороны командира! Потом пошли в другой раз. Проползли незаметно, взяли румына без потерь и притащили к себе. Конечно же, страшно обрадовались, первый «язык» все-таки. Его начинают допрашивать. Спрашивают, сколько дивизий у противника перед нами, одна или две, а он на все вопросы только головой кивает, и говорит по-своему «Да». Тогда генерал-майор Русских встал на допросе, облаял пленного матом, и приказал мне: «Сегодня ночью отведешь его обратно!» Так мы и сделали. Все не везло и не везло. Зато в результате третьего выхода нам попался Курт Эмблер, это был большой успех.
Курт Эмблер был полковым казначеем. Он лично раздавал деньги немецким офицерам, а его помощники выдавали жалованье солдатам. А в ту ночь, когда мы вышли на поиск, он своего кореша встретил в одном батальоне, они поддали, вспомнили знакомых девочек. А дальше Курту надо было по нужде выйти, туалет находился в стороне от блиндажа, а он решил за него завернуть, чтобы поближе. И здесь как раз сидела наша группа захвата, которую я возглавлял. И вот Курт Эмблер вышел, мы его взяли легко. Часто многие ребята из войсковой разведки рассказывают, мол, при взятии «языка» бой произошел, чтобы награды получить. Но, как говорили матросы, взять немца – это сосватать, а свадьбу сыграешь, когда его через линию фронта обратно к себе доставишь. И в большинстве случаев это тяжелее, чем брать. Ну, мы перебрались назад тоже удачно, и я сразу же в окопе веду, как матросы говорили, политинформацию. Немецкий язык знал весьма неплохо, особенно подучил военную терминологию. Спросил фамилию, имя, звание и должность, Курт Эмблер все рассказал, даже дополнил, что женат и есть дети, поговорили спокойно, где сейчас живет его семья. И тут ему в лоб заявляю: «Я тебя поздравляю, твоя война закончилась, будешь находиться у нас в плену, там хорошие условия, ты не слушай, что вам Геббельс рассказывает, брешет он. Будешь хорошо жить, вернешься к себе после войны. Чего за этого урода австрийского будешь воевать, Шикльгрубера?» Он рот открывает, весь взволнованный, шоковое состояние, да еще подвыпивший. И со всем соглашается. В результате дал прекрасные показания. Вот это был наш первый настоящий «язык». ИР больше нас на поиск не отправляли, даже запретили это делать, чтобы нас самих в плен немцы не захватили. Но перед самым наступлением мой командир третьего взвода притащил фельдфебеля, который якобы шел сдаваться. Брехал, наверное, ведь всем хотелось свою удаль проявить.
До наступления наша 143-я отдельная стрелковая бригада в боях не участвовала, только один батальон вместе с ротой автоматчиков, которой командовал мой друг Саша Мамаев, провела разведку боем, накануне обшей атаки. Говорили, что в это время у нас на позициях лично присутствовал Георгий Константинович Жуков, но я его ни разу не видел. Наша бригада тогда входила в 57-ю армию, которой командовал генерал-майор Федор Иванович Толбухин.
20 ноября 1942-го года мы перешли в генеральное наступление. К вечеру окончательно прорвали оборону противника, большая часть армии пошла вперед, а мы повернули в сторону и сдавили колечко вокруг врага. Через некоторое время линия обороны немцев стабилизировалась, мы выдохлись, и остановились метрах в 500 от противника. Впереди было чистое поле, на котором нельзя было находиться ни им, ни нам. И в один из вечером я допоздна засиделся над картой, обобщал данные наблюдения для начальника штаба. Вдруг рано утром слышу голос нашего генерал-майора Русских, его крик так далеко было слышно, что и немцы, по всей вероятности, могли разобрать этот ор. Он кричал: «Что это такое, моряки, как вы могли?» Я выхожу из землянки, он как на меня накинулся: «Что у тебя творится?» Не могу понять, в чем дело, что случилось. Смотрю, елки-палки, немцы за ночь метров на 100 впереди от своих позиций отрыли окопы, замаскировали их, установили пулеметы и прочее. И создали у себя мощное боевое охранение. Русских тут же отдал приказ немедленно поднять роту автоматчиков и мою разведроту для того, чтобы выбить противника с занятых позиций. Я говорю: «Товарищ генерал-майор, мы сейчас все изучим, проведем рекогносцировку, а ночью атакуем». Тот меня слушать не хочет, и ребят спас от верной смерти полковник Дульцев. Он сказал: «Товарищ генерал-майор, давайте они вечером сходят». Русских у меня спрашивает: «Сметете?» Отвечаю, мол, так точно. Но пойду не один, а с Мамаевым. Разрешили мне это дело.
Ночью мы незаметно вышли из своих окопов, тихо прошли поле и сблизились с противником. Под Аткарском хорошо научились. Когда до проклятого боевого охранения оставалось каких-то 30 метров, поползли. Но тут, зараза, стоял наш подбитый танк Т-34, и противник туда наблюдателя заслал, а мы не сообразили, ведь этот танк там давно стоял, стал уже каким-то привычным. А враги придумали ночью туда секрет-дозор выставлять. Так что когда мы миновали этот танк, вражеский дозорный послал нам в спину очередь. По случайности ни в кого не попал, только матросу-армянину в челюсть навылет прошла пуля. Такое ранение считается смертельным, но этому парню повезло, ничего не зацепило, только пару зубов выбило. После никаких последствий, только две точки остались на лице. Я это так точно знаю, потому что когда сам был ранен и прибыл в сортировочный госпиталь в Ленинске, он как раз оттуда выписывался. Ну, мы быстро немца-дозорного уничтожили, но внезапности уже не получилось. Поднялись во весь рост и бросились к окопам противника, где уже раздавались встревоженные крики. Думаете, что «Ура!» кричали? Как бы ни так. Ночью вообще кричать не иположено, но мы матом орали. У меня старшиной роты был Нечипуренко, боцман из Одессы, он считался у нас профессором по нецензурной брани. Правда, и его смогли переплюнуть. Мы как-то, еще когда стояли во втором эшелоне, девицу-проститутку прихватили, она в военторге работала, и мы по приказу командования ее с любовником взяли. Так она орала такое, что даже Нечипуренко сказал, мол, он думал, все матерные выражения знает, а оказалось, что далеко не все.
Впереди нас ждало проклятое МЗП. Что такое МЗП? Малозаметное препятствие. Натягивается тонкая стальная проволока метрах в десяти от окопов, очень крепкая, на ней на некотором расстоянии друг от друга делаются колючие ячеички. Все это красится под цвет местности. Когда противник бежит штыком колоть, то обязательно или носком, или подошвой заденет эту проволоку и валится. И у нас такие МЗП были, и у немцев.
Итак, я бегу к вражеским окопам, рядом со мной Костя Сторожев бежит, был у меня такой уникальный паренек – он один мог первым ударом ножа попасть в сердце противнику, хоть сзади, хоть спереди. Сначала показывал умение на чучелах, потом дважды в бою приходилось ему использовать свой навык. Остальные разведчики или в ребро, или еще куда-то постоянно попадали, я за ним тянулся, но так и не смог научиться, видимо, здесь нужен природный талант. Уникальный парень был, умница, в ходе войны инвалидом стал, комиссован был, я потом получил от него письмо. И споткнулись мы с ним об это проклятое МЗП. Костю как-то вправо понесло от окопа, а я прямо туда свалился, на меня были одеты шапка и ватник. Отключился буквально на долю секунды, а когда очнулся, то чувствую, что обо что-то головой уперся. Поднимаю голову, а это грудь фрица, который в окопе стоит. Хочу встать, а немец с меня шапку сбросил и ухватился за мой чуб, предмет гордости, он девчонкам сильно нравился. Причем хорошо так взял, крепко, а у него на поясе висели гранаты с длинной деревянной ручкой, и немец гранатой размахнулся меня бить по лбу. Я хочу уклониться, и не могу, держит за чуб. Причем вижу, как движется граната, пусть и ночь, но ее видно четко. Вдруг раз, и немец валится. Это противника Коля Литерный прикладом автомата по каске ударил, тому каска налезла от удара на нос, а на меня полетели ошметки мозгов и прочего. Тогда я выскочил, у меня автомат на шее болтается, а в руках карабин со штыком. Смотрю в ту сторону, где должен быть мой спаситель Коля, и вижу, что он в круглом котловане, вырытом для минометной установки, отбивается от двух фрицев, которые со штыками на него наседают. Литерный был чемпионом Черноморского флота по вольной борьбе в своей категории два предвоенных года. Ростом метр 99 сантиметров, весом 90 с лишним килограмм. От удара автомата по каске у него от приклада две деревянные щеки развалились, одна упала на моих глазах и разлетелась в щепки. Только благодаря природной силе Коля отбивался, но у автомата штык короче, чем у карабина, а немцы именно с ними атакуют. И я вижу, что они сейчас заколют Литерного, а я, еще когда в школе учился, играл в алчевской юношеской сборной города по футболу. Был нападающим, знаете, есть такой запрещенный прием «накладка», когда игрок подставляет ступню своему противнику, бьющему по мячу. За него штрафной дают. И вот я этим приемом приложил с такой силой одного из немцев, что он согнулся пополам, тогда ткнул его в бок штыком. Литерный выскочил из котлована, до сих пор помню, как он закричал: «Командир, один-один!» В итоге боевое охранение мы разбили в пух и прах, у меня были только раненые, а у Саши Мамаева имелись и убитые.
Дальше линия вражеской обороны стабилизировалась, и взять «языка» у немцев стало очень и очень тяжело. Немцы располагались на нашем участке таким образом – вырыт ряд окопов, рядом дот или дзот, дальше траншея, в ней ночью ходит фриц, которого мы называли «папа», а вот на вышке или дереве позади оборудована наблюдательная площадка – там сидит «мама», бережет «папу». А немец в траншее смотрит, чтобы впереди никто не пролез. Перед окопами проволока, дальше минные поля, на каждой проволоке висит на нитке консервная банка, а в банке на проволочке какая-нибудь металлическая железяка, только чуть тронешь проволоку, тут же начинается звон. И между двумя столбами штук десять таких банок висит. У нас в тылу для тренировок была сооружена полоса смерти, автором которой являлся Нечипуренко. Мы имели право брать бойцов в разведку из любых подразделений, за исключением радистов и «секретчиков», а рядовых солдат, артиллеристов, пулеметчиков или саперов – любых бери без разговоров. Командиру части из штаба звонят и приказывают отдать в разведку. Поэтому мы взяли саперов, начали думать, как срезать эту проволоку, ведь баночка от земли висит буквально чуть выше. В итоге после тренировок на полосе смерти выработали определенную тактику – саперы подлезают под проволоку, ложатся на спину, первым сигнал дает левый, тихо шепчет: «Раз!» Это обозначает, что он готов перерезать проволоку. Одной рукой держит, второй режет. А справа другой сапер также подлезает и у второго столбика нижний провод берет, это обязательно должен быть левша, ведь он правой рукой проволоку берет, а левой режет. Когда он готов, то шепчет: «Два!» Тогда командир, лежащий чуть позади, тихо говорит: «Три!» И они одновременно режут, ну, или кусачками перекусывают проволоку. И при этом ее крепко держат, нельзя ни влево, ни вправо ни шелохнуть, ничего. Когда первый перерезал, тогда он шепчет: «Четыре!» Второй отвечает: «Пять», и тогда командир приказывает: «Шесть!» То есть нужно одновременно аккуратно положить банки на землю. Дальше уже можно встать на колени и действовать становиться намного проще, уже можно снять вторую проволоку, а всего четыре или пять рядов. Проволоку срезали – это вход и выход, многое значит. Света никакого нет, а работать нужно в темноте, поэтому нами разведчики немного заклеивали фонарик, оставляя только маленькую дырочку, а также делали из жести специальные открывалки на фонарик. Когда свои идут, сапер свет открыл, чтобы показать, где пройти и как, чтобы не напороться на остальных. Потом надо найти «маму», и снять ее с бесшумки, дальность стрельбы которой составляла 70 метров. Только после войны придумали глушители, а у нас в карабин прямо в ствол была залита какая-то жидкость, так что дальность стрельбы была небольшая. Но главное в разведвыходе надо было найти «маму», а дальности хватало. Снял фрица с наблюдательного пункта, и никто не слышит. Мама сваливается, дальше нужно прыгнуть с бруствера на «папу», и вот тут Костя Сторожев был мастер, захват делал профессионально. Тут важно не перекрыть горло, если с меньшей силой сдавишь горло врага, то он заорет, и все провалено, если с большей – то можешь удушить. Костя знал, как надо держать, а сам падает на спину, тем временем два разведчика хватают немца, один за одну руку, второй за вторую, и браслетики из проволоки ему одевают. А один разведчик ножом должен попасть точно в рот, провернуть нож, рот открывается, и ему кляп вставляют, потом бондаж, и сверху на лицо ткань прорезиненную набрасывают. Все, бондаж сидит, кляп держит, руки назад, теперь его оттащить к себе надо. Если он сопротивляется, ноги можно связать, а если фриц послушный мальчик, то его можно просто повести, а потом в окопе и политинформацию сразу же провести. Все это отрабатывалось тщательно и себя оправдало, у меня был в разведке только один случай, когда погиб лейтенант Перепелица, и то по собственной глупости. Кто все точно выполнял, тот целым оставался. Разведчики выражали свое уважение тем, что меня Батей называли. Дело в том, что под Сталинградом у меня выросла борода по грудь, и так меня величал даже командир батальона, на участке которого мы проводили свои выходы, хотя ему лет тридцать было, а я ведь еще совсем молодой парень. Но заросший был страшно, да еще и рыжая такая борода росла.
Дальше интересный момент, кого считать «языком». Ведт когда началось наступление, румыны сдавались бессчетно. Например, командир румынского батальона привел остатки своей части, 170 человек, и доложил нашему генерал-майору: «Румынский батальон прибыл!» Так это же не мы их в плен взяли, они сами сдались. Но наша разведрота во время наступления захватила в плен полевой госпиталь, в нем лежало человек 60 или 70, точно не знаю, кто их считал. Но это были не вояки, еще сто метров до них было, когда они заорали во все горло: «Гитлер капут!» Мы захватили тяжелораненых, легкораненые ушли, они остались лежать и с испугом ждали нашего появления. Продуктов, как мне доложил старший врач, оставалось на два дня. Так что я приказал своим матросам ни грамма не трогать, да никто и не тронул, а пленным ждать велел, пока основные наши части не подойдут. Это были в основном румыны, похожие на наших крестьян восемнадцатого века, забитые мужики. Румыния была отсталой страной, там редко встретишь образованного человека.
Расскажу еще один интересный случай. Когда солдат на фронте достигал сорока девяти лет, а служили и воевали до пятидесяти лет, его с передовой снимали и отправляли в тыл. Такие солдаты несли охрану объектов, проводили погрузочные и разгрузочные работы. Командир хотел сохранить им жизнь, раз уж они дожили на войне до такого возраста. И вот такой дедок был отменным служакой, а ведь как они молодых учили, как опыт свой передавали. Это были незаменимые люди, преданнейшие командиру, ведь каждый понимал, что ему жизнь сохранили. И вот однажды такой дедок стоит на посту у деревни Малое Цибенково. Если до революции местный помещик одну часть когда-то единой деревни подарил старшему сыну, а вторую – младшему. Но никто из них не захотел поменять фамильное название, поэтому одно селение назвали Малое Цибенково, а второе – Большое Цибенково. И одна из деревень стояла на нашей стороне, а другая – на немецкой. Причем напротив наших позиций оборонялся румынский полк, и из штаба вышестоящей дивизии несколько офицеров армии Антонеску на старенькой легковой машине с охраной из солдат поехали в Большое Цибенково для того, чтобы отвезти план обороны на передовую. Ну, румыны туповатые ребята были, кадровые офицеры еще куда ни шло, а мобилизованные совсем тупые. И они перепутали дорогу и повернули на наше Цибенково. Наш дедок стоит себе на посту, подъезжает легковая машина, открывается дверца, выходит офицер и что-то лает, дедок есть служака, он говорит: «Так точно, товарищ командир!» Тот ему раз, и в зубы, ведь у румын в армии мордобой был на каждом шагу. Как в это время мой мичман Дмитриев привез боеприпасы на склад, а возили их ночью, чтобы не бомбили, и разгружает грузовик с матросами, и тут слышит крик со стороны дедка: «Что вы делаете? А еще офицер называется!» Он пошел посмотреть, разглядел румынскую форму, и тут же офицеров с охраной сцапал. Я начальнику штаба Дульцеву говорю, мол, надо разведке «языков» приписать, но тот, к сожалению, наотрез отказался.
А дальше вся моя рота полегла при уничтожении фаустпатронов в начале декабря 1943-го года. Однажды ночью меня поднял с постели адъютант командира бригады, и срочно пригласил в штаб. Там выяснилось, что наш комбриг приказал разведроте оказать срочную помощь танкистам. Они по нейтральной полосе шли на прорыв обороны противника, и попали под огонь фаустпатронов. Тогда никто еще не знал толком, что это такое. Танки горели, требовалась помощь по спасению экипажей. Я всю роту поднял в ружье, за исключением нескольких человек, и мы отправились в спасательную операцию К счастью, к тому времени уже сплошного фронта не было, немцы сидели в опорных пунктах. Мы до рассвета вытаскивали танкистов, и умерших, и сгоревших, и раненых, и обгоревших. Кому-то помогли, а многим не смогли помочь. Утром генерал-майор Русских сказал, что будет повторный прорыв, при этом мне надо уничтожить фаустников. Впервые такое было, чтобы бойцы пошли впереди танков, обычно-то пехота следует за танками. Комбриг в этом случае проявил себя молодцом, приказал нам тренироваться. Разбились на группы, в овраге учились слаженной штурмовке. Перед боем лично приехал в расположение роты и сказал мне, что нужно провести собрание и выбрать только добровольцев, кто пожелает. Видимо, они тоже над тем, что за столь самоубийственный приказ, быть может, придется отвечать. Я шел перед строем, сказал, что на задание пойдут добровольцы, и все мои разведчики как один вышли вперед, никто против не выступил.
Ну, короче говоря, я принял следующее решение – сначала скрытно сблизимся с врагом, а дальше как боевое охранение уничтожали, сначала гранатами, потом штыками. Они же гнездами там засели, один фаустпатрон и человек четыре-пять немцев. Решил разбить разведчиков на группы, которые одновременно будут атаковать, артиллерия тем временем обрабатывает передний край противника, чтобы врагу подмога не пришла. Ну, и на рассвете пошли вперед. Хорошо все получалось, но кое-где немцы успевали контратаковать, причем открывали кинжальный огонь, самый тяжелый и смертоносный. В результате фаустников мы уничтожили, в роте осталось трое целых, одиннадцать убитых, остальные, около сорока – ранены, в том числе я и мой замполит. Ранило меня в левое бедро, это пулевое ранение, осколок мины засел в подбородке, а в лодыжке правой ноги осколок торчал в кости. Не такое уж опасное ранение, но неприятное, на этой кости пошло нагноение. Но врагу дали хорошо, к нам в госпиталь потом приехал танкист и всех горячо благодарил.
Попал я в саратовский госпиталь, пошло нагноение, а антибиотиков тогда еще не было. Универсальнейшее средство для ран – риванол. Так называлась примочка, врач рану берет и открывает, а там миллиметровый слой гноя, он его раз и раз, снимает, после чего желтеньким помыл, и вату выбросил, намочил новую примочку, приложил и завязал. Кормили в госпитале настолько отвратительно, что раны долго не заживали. Вообще же тыловые пайки были такие, чтобы человек мечтал о фронте. Когда мы были в Аткарске, придешь кушать, а у тебя в миске одна жижа и три крупинки в ней плавают. Ни мяса, ничего, поел кое-как, кусок хлеба съел, на второе две ложки каши, и засыпаешь голодным. А вот когда мы как-то пришли утром, и увидели хлеб с маслом, полную тарелку гороховой каши, да еще и сахар появился, о котором мы забыли, как он пахнет. Это что значит? Через два дня на фронт. К нам даже жены приезжали, забирали мужей, а мамы просили за сыновей, их разрешали домой брать и там откармливать, а потом ребята возвращались обратно в часть.
Я выписался в первых числах Нового 1943-го года. Не любил в палатах долго валяться. В Ульяновске находился флотский полуэкипаж, я там несколько дней побыл, и нас, группу офицеров, направили на Ленинградский фронт.
В конце февраля 1943-го года меня назначили на должность заместителя начальника разведки – начальника разведотряда 260-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота, которая дислоцировалась в Кронштадте. Мы ходили в разведку по замерзшему Финскому заливу, а там мелководье, когда вода замерзает при шторме, образуется торос, шириной метров десять или двенадцать, да еще высотой под метров восемь. И вот за этими торосами мы прятались. Ходили в район Знаменки, Петергофа и Стрельны, и дальше по Финскому заливу, где был финский форт Ино на мысе Инониеми. Вели разведку переднего края противника, ведь готовилось снятие блокады, определяли огневые точки, при этом любые попытки взять «языка» проваливались. Там были сплошные мины, немцы и финны даже так мины ставили – одну установят, через тридцать сантиметров вторую, дальше еще третью, при этом между собой проволочкой свяжут. На одну наступил, все три взорвались. Кстати, в Кронштадте у нас казарма располагалась в форте «Серая лошадь», где одним из командиров был майор Толя Нарядчиков, мы с ним сдружились, хоть я был и младше его по возрасту. Но все вопросы с ним решал, там же нужны и казармы, и питание матросам, и вдоволь пресной воды.
Я в разведке уже имел хороший опыт, а балтийцы практически на суше не воевали, моряки в бригаде служили с кораблей, береговых батарей и авиации, они не знали тонкостей работы групп захвата и прикрытия. Так что когда я прибыл, то увидел, что все их разведвыходы сводились к тому, что ребята по льду до торосов доходили, там лежали и прятались, не шевелились, им даже писать не разрешали – если хочешь, то в штаны писай. Как-то произошел случай, когда отряд демаскировался, и хватило пары снарядов со стороны противника, чтобы они лед пробили, и несколько человек провалились под воду. И такие выходы считались великим подвигом. После похода к торосам разведчики ходили героями. Я, когда пошел в первый раз, командир роты разведки Миша Голубь руководил отрядом, мы с ним подружились, были практически одного возраста. Подошли к торосу, он прикрикнул на матросов, мол, тихо, не шевелиться. Темно, ничего не видно, немцы спят, а эти мучаются и лежат на льду сутки, до следующей ночи. Плитка шоколада, два глотка в термосе чуть теплой водички, вот и весь дневной рацион. Я думаю, ну что такое, не разведка, а в какие-то бирюльки играют. А начальником разведки штаба бригады был Романцов, и я ему говорю: «Давайте кое-что попробуем. Ну, полосу смерти копать надо по весне, сейчас на снегу это делать нереально. Разрешите хоть разок провести самостоятельный разведвыход». Тот все одобрил. И я прибыл со своей группой разведки к торосу, а там уже лежали разведчики из батальона, группа прикрытия под командованием лейтенанта, дал ему ЦУ из штаба, и повел своих ребят к вражеской передовой. Но, как сейчас помню, месяц в небе был такой здоровый и яркий, прямо как свет, знаете, когда в дверь постучишь, она открывается, и хозяин дома фонарь держит. Он тебя видит, а ты ничего разглядеть не можешь. И тогда я принял решение, раз ночь такая светлая, в следующий раз попробовать. Во время второго выхода неподалеку от берега в пятидесяти метрах нашли проторенную лыжню. Засаду решил сделать, а ребятам сказал: «Стыдно, вы воюете-воюете, а ни одного пленного не взяли». Те отвечают хором: «Да мы готовы!» Прикидываю, ведь я уже знал, что враги ходят парами метрах в семи-восьми друг от друга. Первого надо из бесшумки снять, ведь немецкий или финский офицер никогда первым не пойдет, он всегда солдата пошлет. А второго брать классическим приемом. Только подготовились к новому выходу, и тут пришел запрет на выход на лед. Дело шло к весне, вода в заливе уже была большая, на льду начали отламываться глыбы.
Ну, ничего, еще повоюем. И вскоре наша разведка получила приказ брать остров Малый Тютерс. Начальником штаба бригады был майор Иван Михайлович Чапаев, у нас шептались, мол, неужели родственник знаменитого Василия Ивановича Чапаева, но неудобно было спросить. Умница, хороший начальник штаба, спокойный командир. Он меня вызвал к себе и сказал о том, что руководить захватом Малого Тютерса буду лично. Этот островок не превышал полутора квадратных километров. Ленинград готовился к снятию блокады, а здесь находился удобный плацдарм для атаки островов Бьеркского архипелага. Начали мы тщательно готовиться, нам придали отряд подводных разведчиков-водолазов. Здорово начали подготовку, день и ночь с Романцовым отрабатывали операцию, и вдруг мне писарь Киселев из штаба бригады по секрету рассказал о том, что пришел приказ наркома Военно-морского флота СССР Николая Герасимовича Кузнецова. В нем четко говорилось – всех бывших курсантов вне зависимости от того, где и кто находится, годных по состоянию здоровья, решили вернуть в училище и доучить. И меня в обед Романцов вызывает, показывает приказ и тут же спрашивает, как же операция. Я решил так – если живым после операции останусь, то поеду учиться, это дело нужное. На том и сошлись, наш комбриг генерал-майор береговой службы Иван Николаевич Кузьмичев меня не вызывал. Только выдали предписание о том, что к 1 сентября 1943-го года мне надо быть в училище в связи с началом нового учебного года. В первых числах июля, как раз Курская битва началась, ко мне пришел вызов, и выяснилось, что наше Севастопольское военно-морское артиллерийское училище береговой обороны имени ЛКСМУ было эвакуировано во Владивосток. Туда надо было добираться через Баку. Другой путь был перерезан немцами. В штабе флота сказали, мол, присылайте его к нам, решим на месте. Романцов снова меня взывал и спрашивает: «Ты согласен сказать в штабе, что хочешь остаться на период проведения операции?» Я ответил, что, конечно же, согласен. Короче говоря, прибыл я в Ленинград, уже поздно, переночевал во флотском экипаже, но перед этим, и смех, и грех, меня на улице патруль задержал, мол, так далеко от передовой я не имею права находиться, к счастью, быстро во всем разобрались и выпустили.
В итоге прибыл в штаб Краснознаменного Балтийского флота, поднялся на второй этаж в отдел кадров. там сидит дедок, подполковник интендантской службы. Я доложил все, рассказал об операции, и тут он мне говорит о том, что в любом случае поеду учиться, мол, отвоевался, три раза был ранен. Отвечаю, мол, так точно, но надо же Малый Тютерс освободить. Тот отвечает: «А ты что, незаменимый какой-то?» Спокойно так объясняет все, так что задавил меня своей логикой. Говорит: «Это хорошо, что ты об операции думаешь. Ты присягу принимал? Принимал. Надо приказ выполнять, это же приказ не кого-то, а наркома военно-морского флота Советского Союза! Да ты что, под трибунал хочешь за невыполнение приказа? Я, к примеру, туда не собираюсь, и если тебя не пошлю, то ты меня отправишь на скамью подсудимых. Я лучше тебя посажу. Так что езжай в Баку в управление военно-морских учебных заведений, а там дальше разберутся». Дал мне сутки на сборы, что делать, надо выполнять приказ. До Кронштадта я добирался быстро, прибыл в штаб своей 260-й отдельной бригады морской пехоты и доложил обо всем, мол, так и так. И тут же пришла телеграмма из штаба Краснознаменного Балтийского флота о том, что я должен немедленно убыть на учебу. Никто ничего мне не сказал, ведь я передал содержание разговора со штабистом. Мы все были военными людьми. Я всю ночь просидел с Мишей Голубем, командиром разведроты, ему все рассказал, объяснил, как воевать. Нам сказали, что там 70 фрицев, вооруженных двумя 37-мм зенитными орудиями. К высадке планировалось около 200 человек морской пехоты, думали, что как это так, морпехи не смогут задавить 70 фрицев?! А они, когда, бедняги, высадились, выяснили, что на Малом Тютерсе засело около 300 врагов, и кроме зениток там находилась еще и четырехорудийная батарея 105-мм гаубиц. Ну, я Мише говорил, мол, стоит воспользоваться обрывистым берегом, ведь высадку можно делать только в одном месте, там сильная оборона. Так что после того, как оказался на земле, пальбу открывать не стоит, следует вдоль берега тайком-тайком-тайком пробраться, и к рассвету выйти фрицам в тыл. Победа будет обязательно, а на месте высадки нужно оставить командира разведвзвода, который всю войну находился в обороне, он сможет прекрасно сымитировать атаку и наступление. Так все и получилось, Миша повел отряд в обход, ребята сходу захватили батарею 105-мм гаубиц, большинство засевших на острове войск оказались финнами, наши морпехи открыли огонь из пушек, но враги хорошо и упорно дрались. В ответ на нашу пальбу финны стали стрелять из двух зениток по нашим позициям, снарядики начали повсюду рваться, вскоре представителя политотдела бригады ранило в ногу, еще одного матроса ранило, а Миша Голубь погиб на месте. Незадолго до операции он женился на матроске-радистке, хорошей девушке, у них родился сын через несколько месяцев после гибели Миши. Не знаю, погиб бы я или нет, это дело случая, но Голубь погиб. Остров взяли, мне потом прислали флотскую газету с заметкой «Один балтийский десант», где была подробно описана вся операция. Кстати, в итоге все сливки от высадки взял на себя командир одного из батальонов бригады, который высадился после радиограммы Миши о том, что он встретил сильное сопротивление. Тот прибыл с подкреплением только тогда, когда финны большей частью уже сдались, а этот комбат дал рапорт по рации о том, что захватил пленных, и его вручили серьезную награду. А Мише даже медали посмертно не выдали, но на войне так случалось сплошь и рядом.
Я же прибыл в Баку, они меня уговаривали поступить здесь же в высшее военно-морское училище, но я не захотел, потому что немножко укачиваюсь в море, и захотел обратно в свое училище. Отправили во Владивосток, прибыл, а мне и говорят, мол, ты проучился всего три месяца, так что давай иди на первый курс. А это уже четырехгодичный набор, мы побеждали, так что вернулись к довоенным стандартам обучения. Отвечаю кадровикам: «Да вы что, смеетесь? Не буду первокурсником, война скоро закончится, пойду восстанавливаться в свой Харьковский авиационный институт». Ответили спокойно: «Ну, как хочешь, мы тебя направим обратно в часть». Расстроенный вышел оттуда, думаю, чего я сюда приперся. И тут меня спасла счастливая случайность. Дело в том, что 4-м сектором береговой обороны «Ораниенбаумского плацдарма» командовал генерал-майор Большаков, очень интеллигентный человек. А майор Романцов ему докладывал каждую неделю обстановку на сухопутном фронте, и один раз он заболел и послал меня вместо себя. Ну, мне там семь минут дали отчитаться на оперативном совещании, я все доложил об обстановке, на стене карта висит, так что было удобно. Большаков спросил участников совещания, пять офицеров: «Вопросы есть?» Вопросов нет. Тогда генерал-майор мне говорит: «Иди, лейтенант». Ответил: «Есть!» И я ушел. И вот, я во Владивостоке вышел из столовой, решил пообедать, а то вспомнил, как на ужине меня так и не покормили. Иду себе, и вдруг навстречу генерал-майор идет, с ним группа офицеров, я ему честь отдаю, и он мне махнул рукой. Прошли, я думаю, где же его видел, и тут генерал поворачивается и командует: «Ко мне!» Я сначала не понял, тогда офицеры из свиты мне закричали: «Сюда иди!» Подбежал, и тут генерал спрашивает: «Где я вас видел?» К тому времени Большакова уже узнал, и отвечаю: «Я вам докладывал три месяца назад». Тогда он говорит: «Вот у меня память на лица! Что ты тут делаешь?» Рассказываю, мол, хотел доучиться, а меня на четыре года направляют. Большаков заметил: «Да, несладко тебе будет учиться!» Объясняю, что уже решил назад в часть возвращаться. Ну, и тут генерал-майор говорит стоящему рядом с ним Костышину, который командовал нашим сводным курсантским батальоном под Бахчисараем, чтобы он занялся моим вопросом. Оказалось, что Костышина назначили начальником училища. Тот меня вызвал, и объяснил, что по положению нашего училища я могу сдать экстерном первые три курса. В итоге мне восемь экзаменов и двенадцать зачетов впаяли. Если сдам за три месяца, то меня зачислят сразу же на выпускной курс, и я в 1944-м буду уже выпускаться. Дали мне время подготовиться, к счастью, я высшую математику и физику неплохо знал. Оказалось, что все училищные учебники строятся на сумме, интегралов ребята не знают, в основном углубляют школьную программу десятилетки. Я же пошел теорию стрельбы сдавать, а там одни формулы, тогда все задачи итегралами начал решать, а экзаменовал меня большая умница полковник, спрашивает заинтересованно: «Ты где так научился высчитывать?» Отвечаю: «Два курса ХАИ». А мы за первые два курса полностью заканчивали всю высшую математику. Все ясно, пошли у меня пятерки. Когда взрывчатые вещества и пороха пришел сдавать, экзамен принимал преподаватель, с которым мы воевали вместе. Он лейтенанту говорит, мол, прими, а он раньше был рядовым, как и я. Второй из бывших курсантов стоит рядом и говорит этому лейтенанту: «Ты что, у Лазаря будешь экзамены принимать?» Тот, конечно же, сказал, что не будет, а поставит все автоматом. Но это был единственный раз, а так вкалывать на экзаменах и зачетах пришлось серьезно. Зато в результате меня определили на выпускной курс. По окончании занятий государственные экзамены сдал, не на «отлично», но на «четыре» и «пять», без троек. Окончил Севастопольское военно-морское артиллерийское училище береговой обороны имени ЛКСМУ в июле 1944-го года. Назначили меня на Краснознаменный Балтийский флот, в декабре 1944-го года стал командиром взвода 45-м орудий 240-й отдельной береговой артиллерийской батареи на острове Сескар. Мы были предназначены для противокатерной стрельбы. Не батарея, а «сила»! Такой маленький снарядик, что даже смешно. Сескар вытянут чуть более чем на три километра, а его ширина составляет примерно один километр. До Кронштадта от него 78 километров. Молодым матросам страшновато, ведь там все время штормило, суда с якорей срывало и в море уносило. Гражданских никого не было, только военные. Здесь я и встретил окончание Великой Отечественной войны. Затем стал командовать взводом управления 457-й батареи береговой обороны среднего калибра Краснознаменного Балтийского флота на острове Абрука Эстонской ССР. На вооружении у нас состояли американские 127-мм орудия. Потом уже на острове Эзель стал первым помощником командира 180-мм батареи. Буквально через несколько месяцев после окончания войны был назначен командиром этой батареи, потому что комбат ушел на курсы повышения квалификации.
- Как встретили 9 мая 1945-го года?
- Я был, как уже говорил, на Сескаре. Там было только трое офицеров: я, командир пулеметного взвода, да еще лейтенант на небольшом аэродроме находился. В моем огневом взводе служило ровно 40 человек, я был сорок первым. Причем я назывался начальником гарнизона. На постах не было ни радио, ни даже телефонов. И вдруг утром 9 мая 1945-го года прибежал к нам пацан-связист, и рассказал, что поймал московскую радиостанцию, на которой услышал о безоговорочной капитуляции Германии. Потом нам официальную телеграмму о Победе дали. В общем, матросов поздравили, зарезали бычка, и хорошенько отпраздновали.
- Что было самым страшным на войне?
- Знаете, бывалому солдату или маститому полковнику страшно, потому что он знает, что это страшно. Но сопливым пацанам, курсантам, которые могли из-за девчонки нос разбить друг другу, чувство страха было неведомо. Я себя часто спрашивал, а почему тогда не испугался в рукопашной и быстро заколол фрица. Вот если бы мне сказали свинью заколоть, может быть, и неприятно было бы, но тут даже ничего не почувствовал. Откровенно говоря, помогло чувство ненависти, сидевшее внутри, оно все-таки сыграло роль. Но потом страх и во мне появился. Например, когда на горе Гасфорта установилось кратковременное затишье, то я подружился со своими подчиненными-моряками, ведь среди них был мальчишкой по возрасту. К тому времени немцы Камары взяли, а справа от нас оборонялась 11-я рота, наша была 10-й, и соседей противник сильно долбал с фланга, я даже туда высылал свое резервное отделение, чтобы помочь им остановить продвижение врага. Мы были уверены в том, что враги рано или поздно нас сметут, они уже стреляют нам в спину. И вот я все время думал, как же быть, а у меня во взводе служил крымчанин, он мне сказал: «Я тут все знаю, с отцом выходил каждую тропинку в горах, даже купался практически каждый день в реке Черной, я выведу, знаю, где хранили продовольствие для партизан». Поэтому у меня поселился страх – пусть и ранят, ладно, лишь бы не в ноги. Очень боялся, что тогда не смогу уйти со всеми в горы. И как назло, все ранения у меня были в ноги, и снова в ноги.
- Как относились к женщинам на войне?
- Рядовые бойцы и младшие офицеры, такие, как я, с большим уважением и даже преклонением. Ну, как может боец плохо относиться к девушке, которая, в два раза меньше весом, на плащ-палатке тащит его несколько километров до медсанбата, рискуя жизнью. Мы лелеяли их. Вы наверняка знаете о Нине Онилове, пулеметчице 54-го стрелкового полка 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. Она служила в роте, которой командовал мой друг, также курсант, Николай Бондарь, мы с ним вместе оканчивали эти знаменитые семидневные курсы офицеров. Он был назначен командиром пулеметного взвода, и вскоре стал руководить всей ротой. Эта дивизия располагалась по соседству с нашей 345-й стрелковой. Мой батальон находился на правом фланге, у нас своей бани не было, а у «чапаевцев» имелась баня, мы с ними договорились, и пошли помыться, и вдруг по дороге встречаю Колю Бондаря. Обрадовались сильно, ведь мы с ним еще с училища дружили, пошли к нему в ротную землянку. Выпили по сто грамм, поговорили, ведь на войне времени на разговоры обычно нет. И тут спускается какой-то солдатик, причем ушанка у него на голове завязана почему-то не на макушке, а на затылке. Думаю, такого я еще не видел. Подойдя к нам, этот солдатик женским голосом спрашивает: «Ребята, а не дадите закурить?» Тогда Коля мне говорит: «Познакомься, это Нина Онилова». Ну, две минуты постояли с ней, попрощались, и я ушел. Потом мне рассказывали, что 1 марта 1942-го года Нина была тяжело ранена, а в ночь на 8 марта умерла. В общем, мы к женщинам относились очень хорошо.
А вот генерал-майор Александр Георгиевич Русских каждые два-три дня менял девчонок из санитарной роты, или из роты связи. У него возле штаба стояла «эмка», вот он их в автомобиль таскал, и… Кто как к женщинам относился. У нас в разведывательном отряде 260-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота служило три девушки. Марта Бонжес, медсестра при враче, это была очень мужественная женщина, она была немножко старше меня. Вторая, по фамилии Огнецова, работала писарем и оформляла документы, а третья, Валя, жена Миши Голубя, являлась радисткой. Они с мужем жили отдельно, матросы к ним относились с большим уважением, и офицеры также. Любовь везде находила. Я, к примеру, знаю, что Марта вышла замуж за командира автомобильного взвода. Валя после Мишиной смерти демобилизовалась в Горьковскую область и родила ребенка. И третья девушка, писарь, также вышла замуж. Как разведчики мы не на передовой стояли, а неподалеку от штаба бригады, рядом находился медсанбат, рота связи, там девушек много было, где-то около семидесяти. Любовь была, большей частью с молодыми офицерами, но из порядочных ребят. Но находились на фронте и те, кто умел окрутить мужика, заместитель начальника тыла 143-й отдельной стрелковой бригады, майор, свою жену в эвакуации бросил и женился на молоденькой девушке, а некоторые не женились, хотя и обещали, как это обычно делается. Я лично всегда к женщинам на войне относился с большим уважением. Когда Дульцеву докладывал, секретарем у него была девушка, как-то мы притащили с той стороны что-то из трофеев и ей подарили. Она была очень ответственной и хорошей девушкой, но были и, чего греха таить, распутные девчонки. Под Сталинградом одна такая, как я уже говорил, окрутила заместителя по тылу командира бригады, у него уже дети были, такого же возраста, как и она. Женился на молодой. И дальше произошел интересный случай. Когда я на Эзеле командовал батареей, то меня однажды проверяла московская инспекция. Получил хорошую оценку, из орудийного каземата уже выходил проверяющий вице-адмирал, заместитель главкома по инспектированию, а наша 180-мм пушка, когда она поднимается, открывается верхнее основание, а его красят красным суриком, краской не покрывают. Этот сурик капает все время, разрешается сорок капель в час, и инспектирующий заприметил красные пятна на стволе орудия, и спрашивает меня: «А чего это у вас верхнее основание орудия ржавое?» Отвечаю: «Никак нет, товарищ вице-адмирал, это сурик». Тот потребовал: «А ну-ка, возьми совочек и ножичком наскреби, я посмотрю, сурик это или нет». Ну, мы же начальство встречали в парадной форме, полез я под казенную часть, бумажку взял и наскреб. Принес ему, оказалось, что это действительно сурик. Потом вице-адмирал поинтересовался: «А что это такое у тебя на спине?» Оказалось, там два пятна от сурика накапало, пока я лазил, а ведь парадная форма выдается на пять лет, только на парады и на праздники. Тогда инспектор говорит начальнику штаба сектора Петренко, мол, передай интенданту, что я, вице-адмирал, приказал этому капитану выдать новую форму досрочно. Тот ответил одно: «Есть!» Вице-адмирал уехал, я, как полагается, рапорт подал, в итоге меня вызвали в штаб. Как-то попутно добрался туда, захожу в кабинет, елки-палки, а там сидит заместитель по тылу нашей 143-й отдельной стрелковой бригады в качестве зама по снабжению островного сектора. Поздоровались с ним, узнали друг друга, обнялись, поздравили с тем, что живы на войне остались. Оказалось, с той девушкой у него уже родилось двое детей. Вот распутная распутной, а такой верной женой оказалась. Он ей позвонил, говорит в трубку: «Ты знаешь, кого встретил, помнишь командира разведроты?» Тоже меня вспомнила. И тут он говорит: «Рапорт твой посмотрел, все нормально, получишь форму, только пусть этот вице-адмирал поперек бумаги свою визу поставит о том, что разрешает и подпишется. И я тебе тут же парадную форму выдам». Я удивился: «Как так распишется, он уже давно в Москве». Тот ответил: «Ну ладно, хорошо, так уж и быть, ведь мы вместе воевали». И написал разрешение, а то бы не отдал форму.
- В чем заключались основные задачи вашей разведывательной роты?
- Конечно же, все говорят обычно о захвате «языков». Но не менее, если не более важное дело на войне – это наблюдение за передним краем противника. Нередко данное задание даже более важное, чем захват военнопленного, ведь найти запасной командный пункт противника, и определить, истинный он или ложный, далеко не простая задача. Немцы были большие мастера маскировки. Как только наш разведчик-самолет Р-5 появляется, тут же у выявленного вражеского командного пункта начинается движение, тут мотоцикл подъехал, потом уехал, появилась машина, затем взвод каких-то солдат пробежал с оружием. Наш разведчик улетел, опять наступает тишина. Это вызывает подозрение, похоже на имитацию активной деятельности. И ты наблюдаешь, например, у одного немецкого солдата горло перевязано, он промаршировал, один раз, вскоре смотришь, во второй раз в строю топает, опять все тот же с перевязанным горлом. Становится понятно, что это один и тот же солдат. Запоминаешь также и номер машины, потом вычисляешь, что вокруг командного пункта суетится группа имитации. Мы же не дураки, все-таки, мы разведчики.
 - Трофеи собирали?
- Трофеи собирали?
- Во время поиска, когда идешь на захват пленного, не до трофеев. Но в третьем взводе моей разведывательной роты было несколько осужденных к расстрелу, которым заменили смертную казнь на десять лет тюрьмы и отправили в разведку. Причем, если он был ранен в бою или участвовал в работе группы захвата, то ему снимали судимость. Или ранен, или убит, или сам брал «языка». А вот работа в группе прикрытия не засчитывалась. Среди таких «кадров» попадались самые разные, в том числе и мародеры, но мы их из разведки немедленно убирали. Так что никакие трофеи нас не интересовали, все разведчики знали одно – надо выполнить задачу и остаться живыми. Беречь людей – это одна из самых главных задач командира. В твоих мыслях первым пунктом всегда идет вопрос о том, как выполнить задачу, а вторым – как не допустить излишних потерь. Так делали все умные разведчики, а глупые погибали, ведь у меня погиб командир взвода Перепелица. Причем сгинул ни за что, по собственной глупости. До сих пор жалко, хороший парень.
За время послевоенной службы я командовал батареями 127-мм американских береговых орудий, полученных нами по ленд-лизу, 130-мм и 180-мм пушек, закончил с отличием годичные курсы повышения квалификации в Риге. После этого 14 лет отслужил на Дальнем Востоке, где командовал батареей сверхтяжелого калибра, в составе которой состояли три орудийные установки 356-мм, или 14-дюймовки. Таких пушек у нас в то время было шесть – три на Тихоокеанском флоте, и три на Балтике. Я служил комбатом в 12-й морской железнодорожной бригаде. И командовал достаточно успешно, наша батарея заняла первое место на боевых стрельбах в военно-морском флоте, мы даже получили специальный приз командующего флотом. Затем стал первым заместителем командира бригады, потом заместителем начальника боевой подготовки береговой обороны. В нашем ведении находилась огромная линия береговой обороны: Камчатка, Чукотка, Советская Гавань, Сахалин, Находка, Русский остров, Пригородная. Батарея на батарее стояла. Всего более 200 батарей. Потом перевелся на Черное море, где стал старшим офицером-оператором, окончил военно-морскую ордена Ленина академию. И последние семь лет военной службы провел в бухте Голландия, там находилось Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, назначили заместителем начальника учебной части, преподавал тактику морской пехоты. Написал книгу «Тактика морской пехоты», которая была издана первой в Советском Союзе, и четыре года все военно-морские учебные заведения жили по этой книге. Потом возраст, 54 года, и я демобилизовался, после чего еще 23 года проработал в мобилизационном отделе управления тыла Черноморского флота. Так что вместе с войной мой трудовой стаж составляет шестьдесят с лишним лет.
| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |