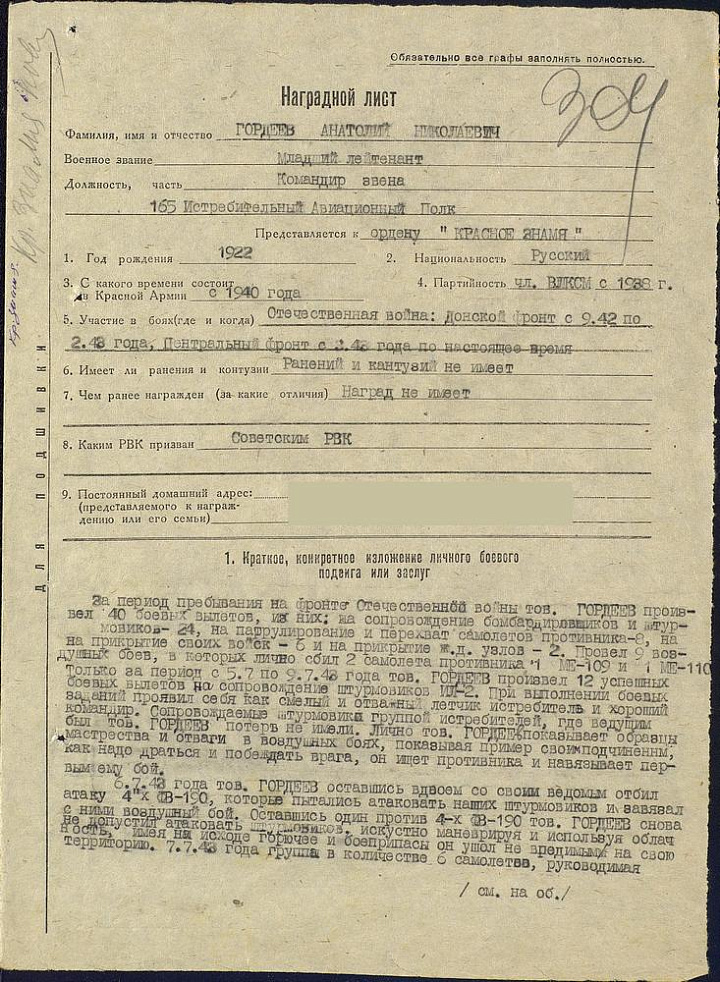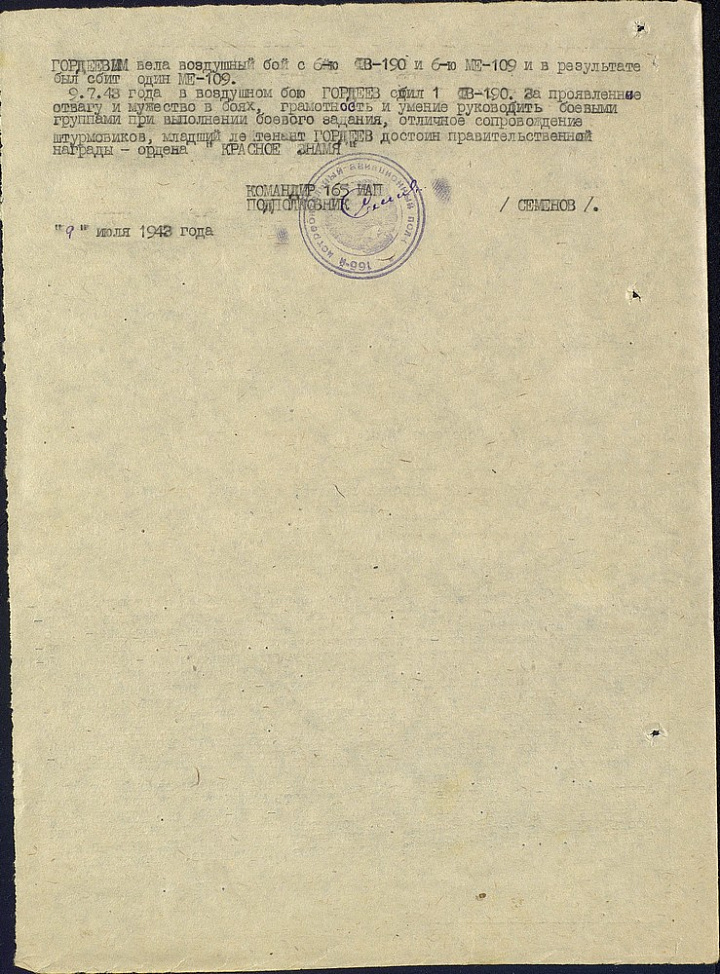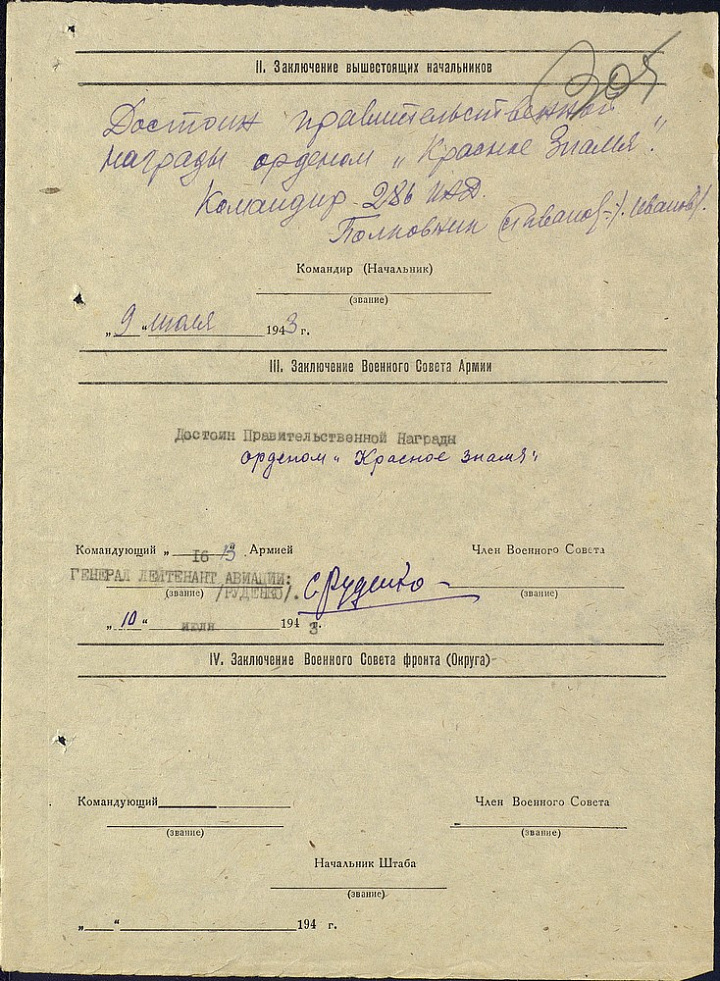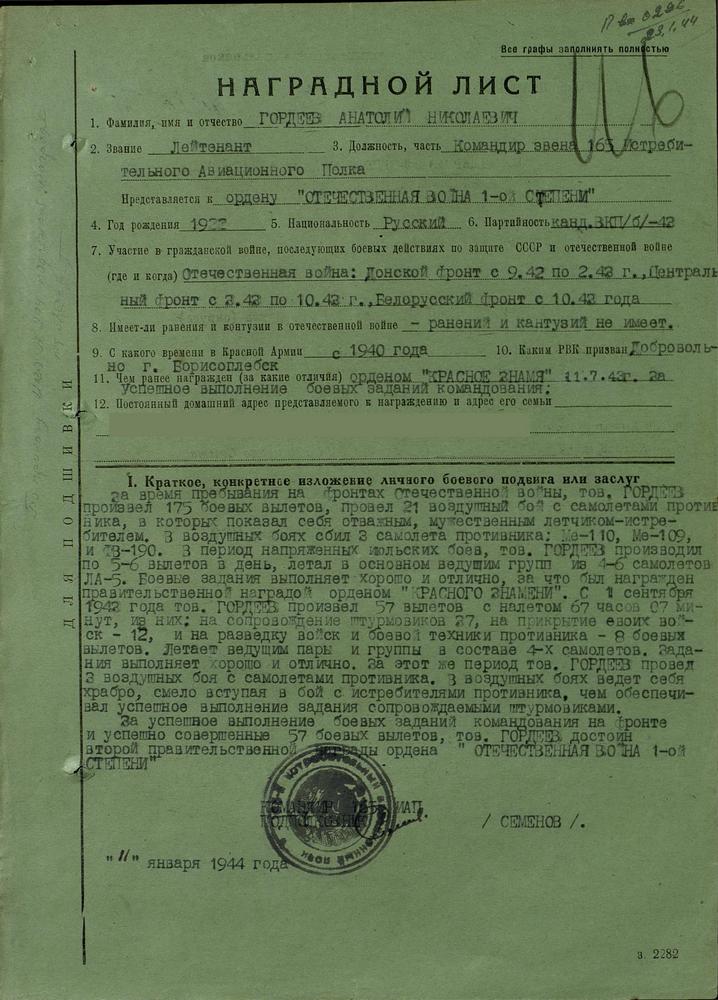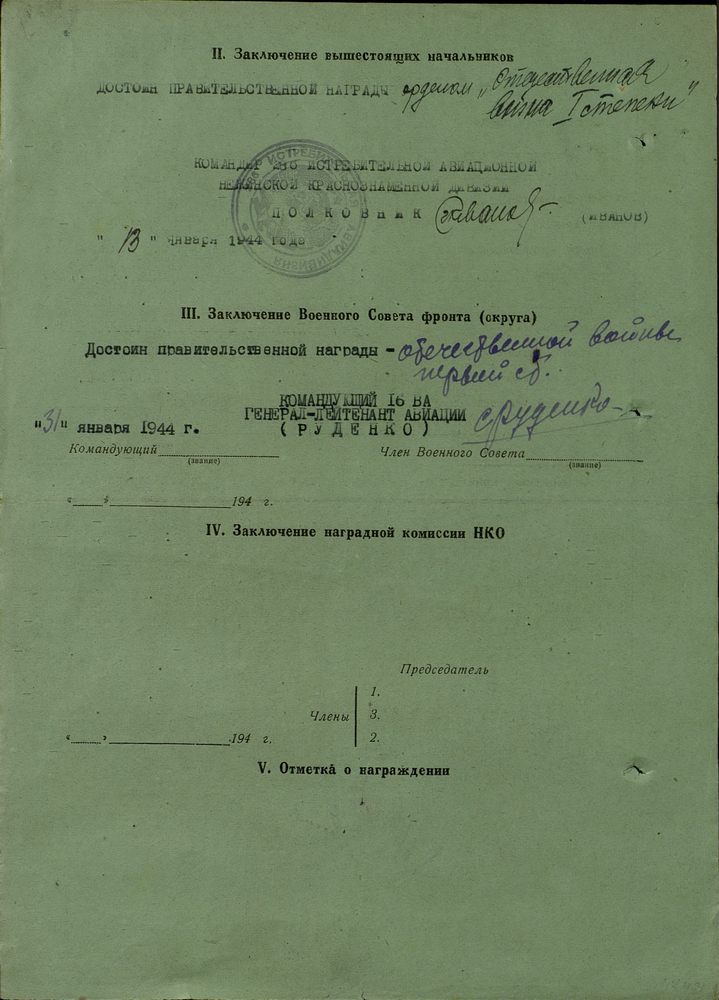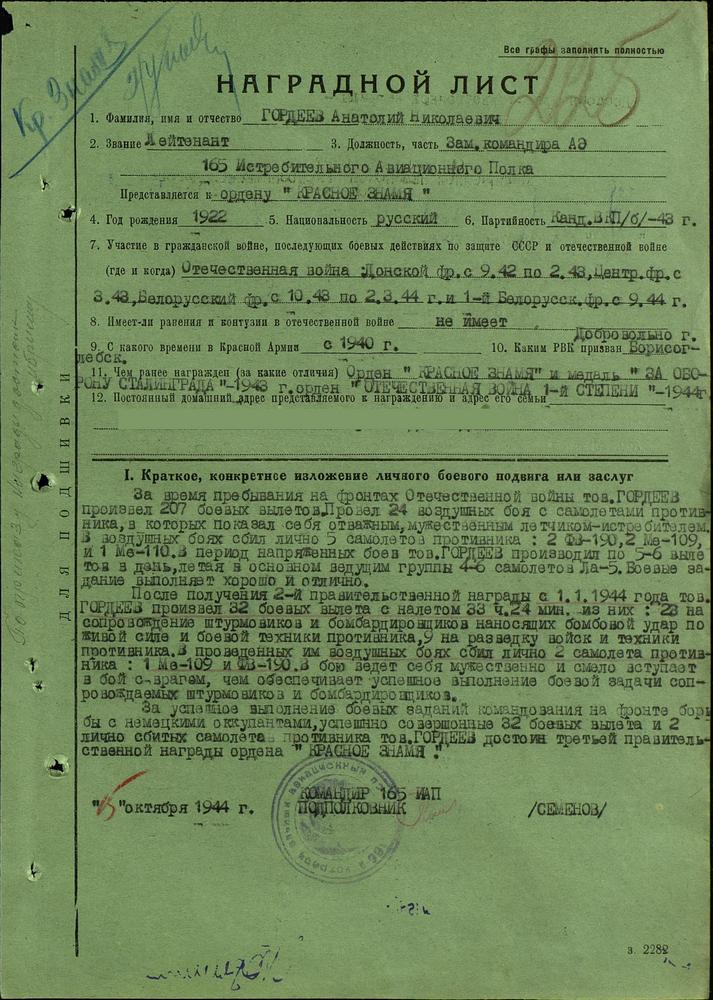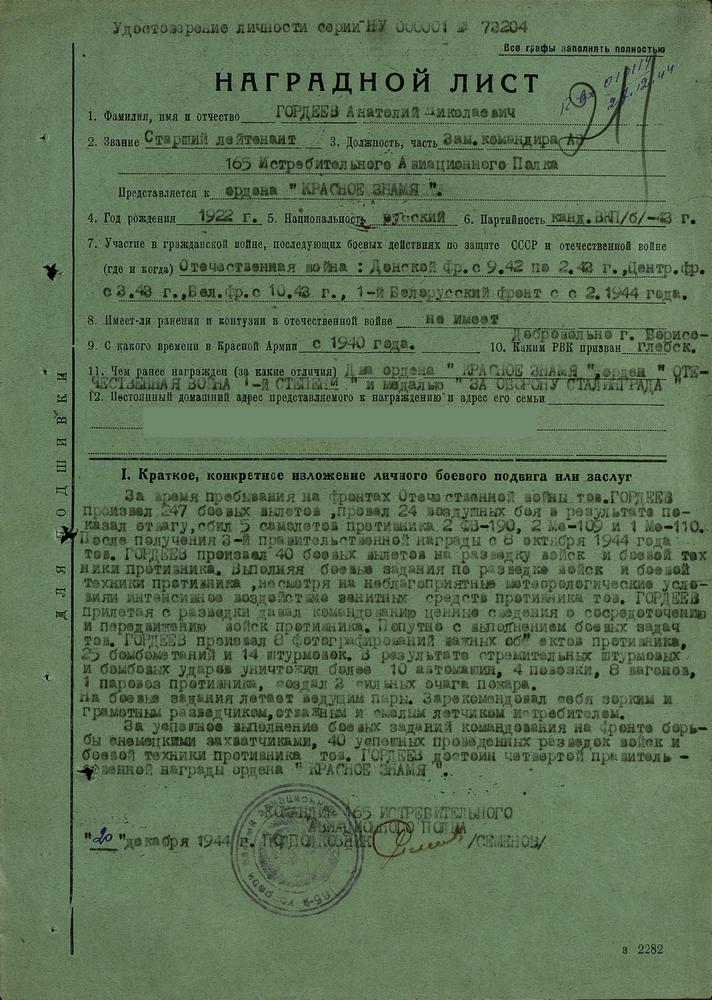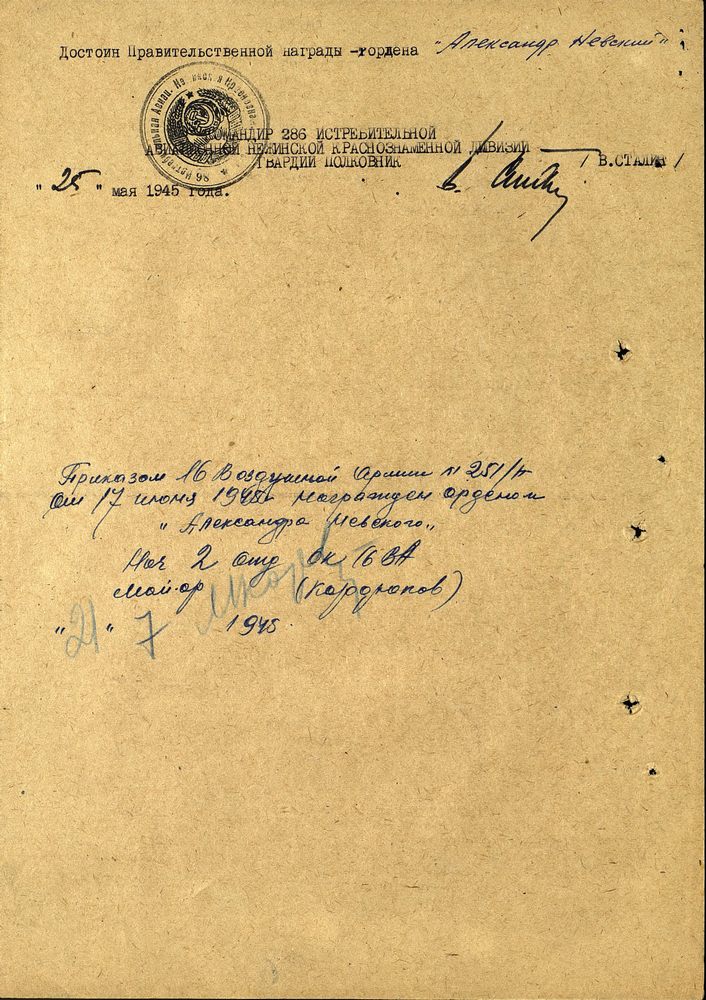Родился я в 1922 году в селе Городище Советского района Курской области. Рос, учился, стал комсомольцем. В то время, в 1930-1933 года, началось бурное развитие авиации в Советском Союзе. Вся молодежь очень этим интересовалась, как и вообще военным делом. Я познакомился с одним летчиком, нашим односельчанином Василием Гладких – он в отпуск приезжал. Василий рассказал об авиации, плюс печать роль сыграла, в которой бросили клич «комсомолец, на самолет!» – и я решил стать летчиком. Для этого, конечно надо было хорошо подготовиться, особенно физически, и я построил своими руками спортивный городок. В свободное от работы и учебы время занимался в этом городке и других ребят привлекал.
– Расскажите немножко о семье. Чем Ваши родители занимались?
Отец у меня служил в царском флоте, был машинистом на миноносце «Керчь». Участвовал в Гражданской войне в рядах Красной Армии. Он, правда, был беспартийный, но за советскую власть боролся все время и считал, что это самая справедливая власть, у которой большое будущее. В этом плане и детей воспитывал. Нас было пятеро, три брата и две сестры. К сожалению, после 1930 года начались голодные времена. Как потом нам стало известно, очень много выкачивалось из села для строительства тяжелой промышленности – Днепрогэс, Магнитогорск и так далее. Огромное строительство, на которое надо было большие деньги. Но мы все это как-то нормально воспринимали, как временные трудности.
– Отец кем работал?
Колхозником. Потом начали формироваться машинно-тракторные станции, а он, как бывший машинист, любил технику, помогал односельчанам в технических вопросах, и его взяли в МТС помощником главного механика. Отец готовил трактористов на трактора Харьковского и Челябинского тракторных заводов, ХТЗ и ЧТЗ. Я помогал ему, рисовал чертежи и схемы, за что он разрешал мне посидеть за рулем трактора. Это было для меня очень приятно.
– Мать домохозяйка?
Мать колхозница, все время работала. За ней, как и за каждым колхозником, был закреплен участок земли в колхозе, не помню, сколько соток, засаженный сахарной свеклой. Помимо работы в колхозе на уборке урожая пшеницы и ржи, люди выращивали свеклу каждый на своей делянке, которую сдавали в колхоз. Я помню, осень наступает, надо убирать эту свеклу, и мы, вся детвора, идем и помогаем обрезать ботву. Потом свекла машинами вывозилась на сахарный завод на станцию Кшень. Мать до пенсии работала в колхозе. Из детей я был старшим, дальше – брат Василий, он после армии и до самой пенсии работал механизатором, шофером, трактористом в колхозе. Сейчас на пенсии. Младший брат Геннадий служил на Северном Флоте. После увольнения уехал в Ленинград, там закончил технический ВУЗ и работал на заводе начальником производства. Сейчас его уже нет. Когда Советский Союз развалился, начались реформы, приватизация, он не смог смириться, у него случился инсульт. Обе сестры тоже ушли уже в мир иной, так что, нас двое с Василием осталось из пятерых детей.
– Немного голодно перед войной жили все-таки? Или к началу войны ситуация начала выправляться?
Перед войной у нас проблемы с хлебом были. А хлеб – это все для человека, живущего на земле. Скотину тоже надо кормить…
– Скотину держали?
Корова у нас была, овцы. Но, к сожалению, все облагалось налогом – приходилось многое продавать, чтобы его заплатить. Короче говоря, с продовольствием были большие проблемы накануне войны в нашей полосе, в Курской области.
– До войны предметами роскоши считались такие вещи, как велосипед, патефон, радиоприемник, часы наручные. Что-то из этого было у вас в семье?
Не было ни велосипеда, ни патефона. У нас была гитара, на которой играл отец, а позже и я научился. В общем, после 10 класса, в 1940 году, я подал заявление в военкомат о направлении меня в авиационное училище. Накануне я переболел малярией и немного ослаб. Колебался – идти на летчика, или нет, боялся, что не пройду медкомиссию. Все же решил идти. Подал заявление, прошел медкомиссию в районном военкомате и стал ждать вызова. Пока ждал, работал в колхозе – как раз убирали сено. И вот, пришла команда явиться в военкомат. В августе месяце меня родители проводили для поступления в летную школу. Был солнечный хороший день, и я не думал, да и никто не думал, что мы расстаемся на долгие тяжелые годы…
– До войны Вы домой не попали больше?
Нет. Меня направили в Рогань, это в районе Харькова, там была школа летчиков-наблюдателей.
– Вы хотели быть именно истребителем, или все равно было?
Я сначала не особенно разбирался, хотел летчиком быть, а каким – не важно. В роганском гарнизоне нам сообщили, что в Борисоглебском летном училище недобор, отобрали 100 человек кандидатов на поступление, в том числе и меня, и отправили туда. В Рогани я всего два дня пробыл, единственное, что запомнилось – очень вкусный борщ в солдатской столовой. Приехали мы в Борисоглебск, и началась медицинская комиссия.
– Более серьезная, чем в военкомате?
Специальная медицинская комиссия. Началась она утром, а закончилась поздно вечером. Как сейчас помню первый кабинет, замер силовых элементов – динамометр, становая сила, все прочее. Я показал отличные результаты, врач даже восхитился: «Ой, какой молодец!» Это меня немножко взбодрило. А потом кабинеты пошли один за другим, и мы заметили: если врач говорит идти в следующий кабинет – значит, по своей специальности замечаний не имеет, все в порядке, если говорит «свободен» – иди в казарму и собирай вещи. Меня все время отправляли в следующий кабинет. К вечеру я попал к зубному врачу, он посмотрел: «Вы свободны!» У меня все опустилось – что же у меня с зубами? Зубы у меня не болели никогда, более того, я на зубах мог висеть на веревке. Передо мной товарищ шел по фамилии Казачок, из Белоруссии – ему тоже сказали, что он свободен. И не додумались, что у нас это был последний кабинет, и нас просто отправили на отдых! Потом выяснилось, что медкомиссию мы прошли. Вечером старшина построил нас и говорит: «Чью фамилию зачитаю – десять шагов вперед!» Слышу: «Казачок!» Он вышел. «Гордеев!» Я тоже вышел, думаю – ну, не прошел! Старшина еще человек 20 вызвал, и командует: «Остальные напрааа-во! В казарму, шааа-гом марш! Собирайте вещи и поезжайте домой».
В этот же вечер нам выдали поношенное армейское обмундирование без знаков различия, и я подумал – неужели мы почти летчики? Вечером старшина говорит (кадровый был, хороший такой, требовательный, но заботливый): «Утром ничего не кушайте, рентген будет!» Ну, думаю – там еще можно погореть! Наутро сделали нам рентген, анализы какие-то взяли, и сказали – готовьтесь сдавать вступительные экзамены. На второй день начались экзамены. Сельская школа, сами знаете, не отличалась хорошим качеством. По математике и физике я задачи решил, по русскому написал диктант, и сдал это все. Наступила мандатная комиссия. Привели нас к штабу и начали по одному вызывать. В это время на центральном аэродроме начались полеты, и как раз на посадку И-16 заходит. Я любуюсь на него и думаю – неужели мне удастся на такой красивой машине летать??? Тут выходит первый – прыгает от радости, прошел мандатную комиссию. Второй выходит – тоже зачислили. Через какое-то время, вызывают: «Гордеев – на мандатную!» Захожу. Старшина нас проинструктировал, как докладывать, вплоть до того, что рассказал случай – надо докладывать: «Товарищ полковник, кандидат такой-то на мандатную комиссию прибыл». Один, говорит, перепутал: «Товарищ кандидат, полковник…» Его сразу убрали.
Я зашел строевым шагом, как умел, четко доложил, ничего не перепутал. «Садитесь!» Там такой длинный стол, девять человек сидят военных, и я один, сельский парень. Сижу, думаю – вот попал в компанию! Все меня внимательно рассматривают. Кадровик докладывает: «Экзамены, математика – хорошо, физика – хорошо, русский язык – неудовлетворительно!» Все зашевелились, полковник, председатель комиссии, спрашивает: «Как же Вам двойку поставили, или преподаватель не прав?» Я вспомнил преподавателя – у него очки такие были, в позолоченной оправе. Да нет, говорю – преподаватель прав, наверное. А у нас в селе на суржике говорили, половина слов по-украински. Я и диктант наворочал таким же образом, и преподаватель двояк мне поставил. Я говорю – преподаватель, наверное, прав, а сам думаю – беда! Полковник говорит – ну, хорошо, все ясно, можете идти. Я встал и пошел, и у двери слышу, он говорит – что с ним делать? Я вышел, ребята – ну как, прошел? Говорю – нет… Может, я слишком подробно рассказываю?
– Нет, нет, как раз хорошо!
Пошел в казарму, думаю – наверное, сейчас будет команда – домой. Решил, что домой не поеду, потому что в деревне будет срам сплошной. Поеду в Донбасс, у меня там родственники, буду работать до армии на шахте. Выходит Казачок – у него все в порядке, выходит еще один парень, со Смоленска, Наумов – тоже принят. Мы втроем на траву прилегли возле казармы, лежим, волнуемся. Ребята сочувствуют мне, конечно, и вдруг красноармеец в окно кричит: «Гордеев, к телефону!» Я, конечно, думаю – кто меня тут знает, однофамилец какой-то, наверное. Красноармеец продолжает кричать: «Гордеев, к телефону!» Казачок говорит – может, это тебя? Да кто меня тут знает, с села приехал в Борисоглебск! Меня к телефону – такого быть не может, я и по телефону ни разу не разговаривал! Ну, говорит, – ты все-таки пойди! Поднимаюсь на второй этаж, подхожу: «Я Гордеев, слушаю» – «Где ты ходишь? Я уже охрип, вон, на тумбочке телефон, возьми трубку». Я взял трубку наоборот, конечно. Красноармеец засмеялся: «Лапоть, переверни трубку!» Я повернул, и трубка заговорила: «Кандидат Гордеев, немедленно прибудьте в штаб для рассмотрения вашего вопроса!» Пришел в штаб, зашел в нужный кабинет и увидел майора, который докладывал на мандатной комиссии, он говорит: «Вашу судьбу будет решать начальник летного училища».
– Кто начальник училища был?
Честно говоря, вылетело из головы… Майор меня проинструктировал тщательно, как зайти, как доложить, как остановиться в трех шагах и прочее, сам пошел: «Я доложу, потом вас вызову». Через минуту-две вызывает. Я захожу, доложил и вижу – за столом сидит плотный, невысокого роста полковник, с орденами Ленина и Красного Знамени – я первый раз увидел ордена. Он полистал бумаги: «Ну, что же это, как так получилось, что вы двойку получили? Хотите летать?» – «Да, хочу быть летчиком!» Стал его убеждать. Он так посмотрел на меня, пристально: «А сколько Вам лет?» – «Семнадцать». «Ну, ничего, у Вас все впереди. Когда побываете в воздухе, Вам еще больше захочется летать». И пишет – зачислить! Я вышел от него на седьмом небе…
– На мандатной комиссии, как правило, еще происхождение разбиралось. Вашей семьи репрессии никак не коснулись в 30-хх годах? Если в семье были репрессированные, могли завернуть. У вас этого не было?
Не было. Хотя, нас в 1929 или 1930 году раскулачивали. Дед работящий был, сыновья его и их семьи – все работали и, конечно, имели определенный достаток. Собрали денег и купили оборудование для маслобойки. Эта маслобойка обеспечивала всю округу, до начала полевых работ перерабатывая всем подсолнечник и коноплю.
– Когда колхозы начали создавать, ее у вас отобрали?
Еще до колхозов началась система раскулачивания. Нашу семью записали в кулаки, так как мы имели более высокий уровень жизни. В итоге все забрали – маслобойку, скот – все абсолютно. Мы ждали высылки. Я сейчас помню, как мама сушила сухари и собирала теплую одежду, переживала, как бы малыши не померзли в пути. Как зима наступила, за окном скрип саней – все думают, что за нами едут. Отец тем временем ходатайствовал о приобретении документа, что он участвовал в рядах Красной Армии в Гражданской войне, против колчаковских войск в Сибири. Документ такой выдали, и нас оставили в покое, но маслобойку и скотину не вернули. Через год вернули корову. Как сейчас помню – все радовались очень. Потом начал формироваться колхоз, отец первым записался, так как считал, что это правильное дело.
– То есть, на мандатной комиссии Вам раскулачивание не припомнили?
Нет. После зачисления нас сразу переодели, выдали новое обмундирование и начали обучать, как надо наматывать портянки и прочему, что входило в курс молодого красноармейца. Я так решил для себя – коль мне так повезло, что я поступил, я должен сделать все возможное, чтобы изучить на отлично все, что мне будут преподавать. И я удачно начал учиться, через некоторое время стал отличником боевой и политической подготовки, портрет мой, наряду с другими, висел в доме Красной Армии.
Через некоторое время была сформирована летная группа, 8 человек, инструктором был назначен лейтенант Георгий Мишурный, отличный педагог – он сразу нам понравился. Как сейчас помню первый летный день и первый полет. Мне, сельскому парню, в то время подняться в воздух было то же самое, что сейчас в космос слетать. По сути дела, летная подготовка была еще одним испытанием – медкомиссия медкомиссией, но, когда человек побывает в воздухе, у него выявляются индивидуальные особенности организма. Я волновался – а вдруг в воздухе мне плохо сделается? Когда зимой 1940 года первые наши курсанты начали летать, я видел, как одного здорового парня, коренастого такого, после приземления начало рвать – что-то у него было с вестибулярным аппаратом.
Мороз был 10-15 градусов, ясная погода. Когда время подошло, я сел в кабину, Мишурный начал комментировать: «Выруливаем на старт… Взлетаем… Держитесь за управление легко, без нагрузки». Я помню, как сектор газа пошел вперед, мотор набрал полные обороты. Машина была на лыжах, УТ-2. Гляжу, оторвались мы…
– Погодите, у Вас первый полет на УТ-2 был? На У-2 не летали, сразу на УТ-2?
Сразу УТ-2. На У-2 я летал уже после войны, когда массово расформировали полки ночных бомбардировщиков, и самолеты в истребительные полки по несколько штук передали. В общем, план первого полета был такой – взлет, набор высоты 3000 метров, несколько фигур высшего пилотажа, и посадка – первое ознакомление с воздухом. Оторвались от земли, и самолет пошел в набор высоты. Все было настолько интересно! Смотрю, под нами проплыла заводская труба, я еще заглянул в жерло – что там? Потом, вдруг земля накренилась – я первый раз в воздухе, самолет накренился, и мне показалось, что земля наклонилась. Инструктор: «Делаем первый разворот». Через минуту-две опять земля накренилась: «Делаем второй разворот». Только уже в зоне, когда инструктор сделал переворот, и земля оказалась у меня над головой, я понял, что это происходит с самолетом.
– А задание какое-то было, допустим – запомнить наземные ориентиры?
Да, сказали – наблюдайте за показаниями приборами и смотрите характерные ориентиры по маршруту полета. Я как сейчас помню, над Борисоглебском летели – улочки маленькие, домики маленькие, а люди вообще как муравьи. Первый пилотаж – два глубоких виража, левый и правый, бочка, затем переворот, петля Нестерова, опять переворот, или, как тогда его называли, иммельман. На спуске, как сейчас помню, инструктор передает мне: «Уберите газ!» Я – ррраз, и мотор сразу так послушно затих. «Дайте газ!» – я двинул сектор вперед. После посадки я прыгал от радости, так мне понравилось, и вспомнились слова начальника училища: «Побываете в воздухе, и Вам еще больше летать захочется». Началась программа, я ее успешно осваивал. Мишурный очень был опытный педагог и летчик, никогда голос не повышал, никогда грубого слова не скажет – очень культурный. А потом у нас его забрали, в другую эскадрилью перевели – наверное, на повышение пошел. Дали молодого инструктора. Нас было трое, лидировавших в освоении программы, мы должны были скоро самостоятельно вылететь. Начались полеты с новым инструктором – никаких замечаний, летаем – он молчит. И получилось так, что ошибки накапливались, а потом он заявляет: «Вы не готовы к самостоятельному полету, вам надо дать еще десяток провозных». Контакта с этим инструктором у нас не было, и положение становилось все хуже и хуже. Вдруг приезжает командир звена старший лейтенант Кузнецов: «Какие проблемы?» Инструктор и говорит: «Да вот, курсанты такие-то, трое, стали плохо летать, ничего не хотят воспринимать, не поддаются обучению». Кузнецов тогда: «Курсант Гордеев, в самолет!» Я быстро сел. «Первый полет я делаю сам, Вы мягко держитесь за управление. Второй полет мы делаем вместе, третий полет выполняете самостоятельно». Сделали мы эти три полета, причем, в третьем он не вмешивался до самой посадки, вышли из самолета, он и говорит «Разрешаю Вам вылететь самостоятельно». На следующий день, рано утром, погода выдалась идеальной для первого самостоятельного вылета – солнечно, штиль полный. Мне вместо инструктора мешок с песком весом 80 килограммов положили в заднюю кабину, и я взлетел. Сделал круг, второй круг, сел точно у посадочного знака.
– Это когда произошло? Война еще не началась?
Уже началась, и началась для нас неожиданно…
– Расскажите подробнее, как начало войны встретили.
Мы не ожидали, что война будет, потому что ничего такого нам не сообщали. Мы летали с центрального Борисоглебского аэродрома, остальные эскадрильи базировались в летних лагерях. В воскресный день 22 июня я был в карауле – несмотря на то, что у нас началась интенсивная подготовка, от караульной службы нас не освобождали. Во второй половине дня, ближе к вечеру, смотрю – началось какое-то движение по военному городку, инструкторы бегают, красноармейцы бегают туда-сюда. Что такое – конец выходного дня, а тут такая суета? Когда сменился с поста и пришел в караульное помещение, ко мне подошел курсант Чечет – фамилия запомнилась. Говорит – началась война. Я не поверил: «Врешь, какая война!» – «Да только что Молотов из кружки сказал, что началась война!» Мы наушник приемника клали в металлическую солдатскую кружку, чтобы усилить звук. Молотов сказал, что Германия напала, что враг будет разбит, победа будет за нами…
– Что-то изменилось с началом войны в вашей подготовке, в быту?
Обычно после смены с караула мы чистили оружие и шли отдыхать, но в этот раз оружие поставили в пирамиды и побежали на аэродром рассредоточивать самолеты, стоявшие в линейку крыло к крылу по привычке мирного времени. Почти до полуночи раскатывали мы самолеты, после чего отправились спать. Все с нетерпением ждали завтрашнего дня, у нас было мнение, что Красная Армия уже перешла в наступление, что в Германии будет социалистическая революция, потому что рабочий класс воспользуется тем, что началась война, а Красная Армия ему поможет. Мы даже в какой-то степени сожалели, что нам не удастся повоевать, что все быстро закончится. Договорились с дежурным по роте, чтобы он раньше включил трансляцию – нам очень интересно было узнать, что происходит.
И вот за несколько минут до подъема приходит в наш кубрик дневальный. Откуда взялась такая фантазия – непонятно, но он сообщил то, что мы хотели услышать – что в Германии произошла социалистическая революция, Красная Армия уже наступает на запад и т.д. Мы восприняли это как должное. Потом зашипел репродуктор, и объявили, что германские войска напали на наши границы, что по всем направлениям атаки отбиты, и только в двух местах враг незначительно вклинился на нашу территорию, ведутся бои по его уничтожению. Тут же передали обращение Черчилля к советскому народу. В этом обращении нам очень не понравилось заверение, что Англия поможет советскому народу в борьбе с фашистскими захватчиками. Мы подумали – чего это он нам поможет, мы сами справимся!
Вскоре нас перевели на ускоренную подготовку. Есть такая методика, при необходимости переводить курсантов на программу подготовки ускоренного плана за счет уменьшения налета.
– Я читал о том, что в начале 1941 года в летных школах и училищах был отменен высший пилотаж из-за высокой аварийности. Решили, что пилотажу летчики будут в строевых полках обучаться.
Я по этому поводу вот что расскажу. Все это началось, когда наркома обороны Ворошилова сменил Тимошенко. Началась в авиации реформа. Нас собрали в доме Красной Армии, зачитали приказ Тимошенко, который нас сильно обескуражил. Вместо лейтенантов нас должны были выпустить сержантами, в авиации вводилась общевойсковая сухопутная форма одежды – много там было неприятных моментов. Но самое главное – урезали отработку фигур высшего пилотажа, вещь для истребителя основополагающую и в воздушном бою просто необходимую. Запретили делать петлю Нестерова, иммельманы, ранверсманы, бочки, а оставили только глубокие виражи, штопор, да и все. Такая усеченная программа, конечно, дала свои негативные последствия на фронте. Тут была еще другая беда – очень мало отводилось времени на отработку боевого применения.
– Групповой пилотаж, воздушные бои – тоже не отрабатывались?
Никаких воздушных боев. Даже по конусу не стреляли, только, по-моему, один раз по наземным щитам.
– Вернемся. После УТ-2 начали готовиться на УТИ-4?
Да, двухместный УТИ-4, а с УТИ-4 на И-16. Конечно, УТ-2 был самолетик очень комфортный, он позволял выполнять все фигуры высшего пилотажа. И-16 – наоборот, очень строгий, особенно на посадке, чуть только высокое выравнивание – он на крыло, и ломает шасси. Выпустили нас досрочно в октябре 1941 года.
– Какой на момент выпуска из училища у Вас был суммарный налет?
Часов 50-60 в сумме на УТ-2, УТИ-4, И-16 – очень маленький налет.
– Какой-то опыт довоенных конфликтов вам передавался – Испания, Халхин-Гол, советско-финская война?
Нет, кроме как положительно-пропагандистского плана – где наши войска кого-то разгромили, проявили героизм и так далее.
– А в профессиональном плане?
Нет, ничего не было. Судите сами – немецкие истребители имели пару как основную тактическую единицу уже в Испании, а у нас звено состояло из трех самолетов до начала 1942 года, по-моему, когда вышел приказ Сталина принять пару основной единицей, как у немцев.
В общем, в октябре 1941 года нас выпустили, 50 человек отличников, присвоили звание «сержант» и… оставили как аэродромную команду, никуда не распределив. Начались ранние холода, а мы оставались в летнем лагере Калмык, палатки засыпало снегом. Летать нам не давали, летали только те, у кого получалось хуже нас – подтягивали. Позже нас перевели в гарнизон, в теплые казармы – мы хоть отогрелись. Мы выполняли хозяйственные работы, в частности, демонтировали авиационные мастерские. Жалко было станки, силовые кабели – мы все выворачивали с мясом и отправляли на восток.
– К эвакуации готовили?
Да. Не было уверенности, что немцы не дойдут до Борисоглебска. Где-то в конце ноября пришел приказ отправить нас во 2-й запасной авиационный полк, который базировался вблизи станции Сейма, между Москвой и Горьким. Сформировали команду выпускников со всех эскадрилий, человек 90, назначили старшим какого-то капитана, дали продуктов на трое суток, посадили в плацкартные вагоны, и мы поехали в Сейму. Доехали до Балашова – и все, дальше пассажирского движения нет. Дальше ехали в пульмане с удобрениями, а там открытые люки – пыль летит, мы грязные как черти. На станции Ртищево, кажется, мы увидели в тупике два пассажирских вагона. Захватили их и прицепились к эшелону, который в направлении Сеймы шел. Голод у нас был страшный – продуктов на трое суток прошло, а мы ехали в итоге 17 дней. Только один раз, в Пензе, удалось поесть пшенной каши, и опять голодать – до самой Сеймы. Очень тяжелое время, вспоминать и то тяжело – ранняя зима, морозы, вокзалы забиты женщинами с детьми – массы людей эвакуируются на восток. Трагедия…
– Насчет продуктов – в целом, хорошо кормили в училище? С началом войны изменилась кормежка?
До войны питание было превосходное, с началом войны, через некоторое время, сильно ухудшилось.
– Не было ощущения, что можем войну проиграть? Первоначальное настроение, что скоро немцев разобьем, не изменилось?
Ни минуты не сомневались в конечной победе – считали все трудности временным явлением. Не может Германия завоевать такую огромную страну, как Советский Союз! Мы это понимали и сами рвались в бой, у нас одна мечта была – скорей попасть на фронт. Молодые были, пацаны…
Доехали до Сеймы – голодные, злые. Вечером вышли из вагонов, построились – холодно, мороз. А нас там никто не ждет! Разместили до утра в недостроенной землянке – окон и дверей нет, голые деревянные нары. Прижались друг к другу, кое-как переночевали. Утром нас отвели в баню, выдали белье, мы там отогрелись, помылись. После завтрака настроение вообще улучшилось. Вдруг команда поступает – с вещами прибыть на вокзал. Ну, думаем – опять начинается! Смотрим, стоит нормальный поезд, пассажирские вагоны, проводники. Зашли, чистенько все – мы поняли, что не везде хаос. Нас отправили в город Семенов, северо-восточнее Горького, и разместили в доме культуры.
– Что там находилось?
Дело вот в чем. Когда немец был под Москвой, командование решило заблаговременно создать базу в Семенове, чтобы при необходимости перебазировать 2-й запасной авиационный полк. К счастью, Москву отстояли, и мы весной, в марте месяце, снова вернулись в Сейму. В Семенове мы тренировались, летали на И-16, но летали мало, потому что самолеты были старые и изношенные – четверых товарищей потеряли в катастрофах из-за отказов матчасти. В полет над лесом отказывает мотор, и все – там кругом лес, настоящая тайга, сосны громадные, вековые. Спастись невозможно.
В общем, мы вернулись в Сейму, когда немцев отогнали. Кстати, когда ехали, прицепились к эшелону с сибиряками, какая-то дивизия с Востока перебазировалась. Мы посмотрели на этих крепких ребят – экипированные все, такие здоровяки, у всех прекрасное настроение. Пока они нас тянули, мы познакомились с некоторыми. Они говорят – мы наподдадим немцам под Москвой!
Вернулись в Сейму, но на фронт мы никак не могли попасть, потому что в Сейме не хватало самолетов. Там переучивались на ЛаГГ-3 с И-16 и «МиГов». Мы с И-16 не могли переучиться, потому что пришли пополнения, которые закончили школы на МиГ-3, который был все же ближе к «ЛаГГу», и им дали зеленую улицу. Мы опять остались в сторонке, опять начали мучить – аэродромная команда, наземные тренажи и прочее. И вот, однажды… Хотя, до этого я упустил момент – в стартовый наряд я ходил. Обязанности простые – два флажка, красный и белый, и этими флажками даешь разрешение на взлет. И вот, находясь в стартовом наряде, во время перерывов, – самолет на заправке, или какая–то неисправность, – я эти свободные часы стал проводить в кабине двухместного Як-7В. Изучал режимы полета, приборы, сравнивал – мы к тому времени уже начали теоретическое изучение ЛаГГ-3. И вот однажды кому-то пришло в голову дать нам, несчастным сержантам, по одному провозному на Як-7В в зону. Мы к тому времени уже окончательно превратились в аэродромную команду – И-16 списали, потому что после катастроф на них опасно было летать, а «миговцы» отсекли нас от формирования полков, которые пришли с фронта.
И вот, инструктор старший лейтенант Команденко начал по очереди поднимать нас в воздух. Делает в зоне пилотаж, а потом говорит по СПУ – бери управление и веди самолет на аэродром! Ну, ребята в новом самолете, кабины незнакомые – никто не смог выполнить задание. Подошла моя очередь, покрутил он меня в зоне. Я сразу понял, что «Як» сложнее в смысле пилотажа, чем И-16, в том плане, что у него более затяжные перегрузки и скорость значительно более. Команденко говорит – бери управление, веди самолет! Я, поскольку в этой кабине как дома находился, уверенно взял управление, довел, быстро нашел аэродром, начал снижаться. Когда уже подошли к кругу, Команденко говорит: «Все, я беру управление». Сели. Он спрашивает: «Вы летали на «Яке» раньше?» Я говорю – первый полет. «Странно. Зайдите ко мне с летной книжкой вечером!» Я не понял, к чему это все.
– Летная книжка при Вас была, или у адъютанта эскадрильи хранилась?
У адъютанта. Я пошел вечером, взял книжку, прихожу к Команденко. Он посмотрел, полистал: «Да, не летал. Что ж это такое, будто ты летал на «Яке»! Знаешь что, дорогой, я тебе завтра дам пару провозных вне плана. Будешь в стартовом наряде – приходи». Я вернулся в казарму: «Ребята, так и так. Не пойму, почему такое ко мне отношение?» – «Земляк, наверное, твой». – «Да нет, если б был земляк, я бы знал». В общем, никому не ясно. На второй день иду в наряд, взял с собой шлемофон на всякий случай – хотя не верил. Команденко целый день летает, учит людей, устает – и еще мне даст дополнительные провозные? А он сдержал свое слово. В конце летного дня дал мне два провозных, назавтра еще два провозных, а потом включил в состав летной группы «миговцев». Я не мог понять, что происходит. Потом стало ясно, что это мои тренажи мальчишеские, посиделки в кабине, дали такой эффект. Команденко же подумал, что я обладаю уникальными способностями, и решил подготовить меня вместо себя инструктором, а сам удрать на фронт. Это уже потом, когда я закончил куцую программу на ЛаГГ-3 и меня должны были зачислить в боевой полк, Команденко пришел ко мне в казарму, и говорит: «Вот что, Анатолий, давай сделаем так. Тебе на фронт рано – ну, что ты на фронте будешь делать? А я столько лет уже летаю! Давай так – ты останешься за меня, а я пойду в полк, воевать». Боже мой… Я не ожидал такого разговора – какой я инструктор?! У него сложилось впечатление, что у меня такие способности, что я уже могу быть инструктором. И я с болью в душе отказал ему. Он очень расстроился: «Жаль! Годик бы полетал инструктором, а уж потом на фронт. Ты бы себя там чувствовал увереннее».
Когда я программу на Як-7 закончил, Команденко отдал меня вместе с группой на проверку командиру эскадрильи – майор Матвеев такой был. Классный летчик, всегда подтянутый, высокого роста. Единственный минус – не блистал вежливостью, грубоват был, и все его побаивались. Каждый должен был взлететь, сделать два круга и выполнить посадку. Я смотрю – вместо двух кругов все по одному делают и садятся. Потом случайно услышал, как он одного засранцем назвал, говорит: «Вон из кабины! Следующий!» Ну, думаю – это летчики с «МиГов», а я с И-16, совсем мизерный налет, меня он хлеще назовет! Сел в кабину: «Разрешите…» Он таким раздраженным тоном: «Выруливай!» Вырулил на старт, взлетел, сделал круг – молчит, делаю второй круг – молчит. Я забыл, что у меня кто-то сидит в задней кабине, а потом в зеркало заднего обзора посмотрел – он куда-то в сторону смотрит. Зашел на посадку, расчет сделал правильный, но на пробеге рано самолет опустил на колеса, он взмыл и сделал «козла». Матвеев тут же взял управление и исправил ошибку, прижал самолет. Думаю – куда рулить, на старт или на стоянку? Он молчит, а я не знаю, как быть – надо же второй раз взлетать. Ай, думаю, что будет – то будет, и порулил на старт. Вырулил на старт, остановил самолет, затормозил. Матвеев мне: «Ты что же, сержант, усыпил меня в полете, а потом решил выбросить из кабины? Давай, второй полет, и будь внимательнее!» Я делаю второй полет, опять усыпляю проверяющего, захожу на посадку и опять опускаю самолет на колеса, но на сей раз ошибку сам исправил. Когда самолет опускается на колеса, надо ручку придерживать. Рулю на стоянку, думаю – ну, сейчас задаст мне! Молчит. Зарулил, выключил двигатель, вышел из кабины на центроплан: «Товарищ майор, разрешите получить замечания…» – «Замечания получите у инструктора!» Команденко подошел, Матвеев начал давать ему указания какие-то – мы стоим, прислушиваемся. Потом более громким голосом говорит: «А на проверку давайте мне таких ребят, как последний сержант! Чтобы больше не давали неподготовленных!» Мать честная… «Разрешаю ему на «ЛаГГе» летать!» На второй день я уже вылетел на ЛаГГ-3. Я, конечно, радовался, но в то же время думаю – наверное, переоценили мои возможности?
– Расскажите про ЛаГГ–3 – самолет, о котором у летчиков были очень противоречивые мнения?
Я Вам скажу – самолет был неудачный, по сравнению с «Яком», скажем. Он был тяжелее, особенно уступал в вертикальном маневре. Среди летчиков не пользовался авторитетом, даже изобрели такое выражение – «лакированный гарантированный гроб».
– Другое дело, когда появилась эта шутка – во время войны, или уже после?
В войну. Тем более, нам в полк дали «ЛаГГи» с 37-мм автоматической пушкой, плюс крупнокалиберный пулемет синхронный.
– Таких было очень немного!
Всего два полка. Потом ЛаГГ-3 сняли с вооружения.
– По сравнению с И-16 как Вы его оцениваете? Рассказывают, что летчики в 1941-1942 годах с фронта писали Сталину просьбы о возобновлении производства И-16 и снятии с производства ЛаГГ-3. Какое Ваше мнение?
«ЛаГГ» имел скорость почти на 100 километров в час больше. Конечно, И-16 был более маневренный, чем ЛаГГ-3, особенно на горизонталях, но скорость у него уже не отвечала требованиям времени. Кроме того, немцы в основном использовали вертикальный маневр, они с нами на виражах не вступали в бой, за редким исключением. У них тактика была такая: сверху, как правило, атакуют на большой скорости, сближаются до предела близко. Оружие мощное у них было, например, у ФВ-190 – четыре пушки и еще два пулемета. Рубанет, и вверх опять уходит. И-16, конечно, мог уйти под него, но это только оборонительный бой…
– А какие-то положительные качества у «ЛаГГа» назвать можете?
«ЛаГГ» на виражах тоже неплохой был. Потом, у него была очень прочная кабина – иногда падает самолет, разваливается весь, а кабина целая остается. Но истребитель, конечно, неудачный в целом.
– Вернемся. Как Вы попали на фронт и когда?
Когда Команденко дал мне зеленую улицу, я, конечно, не знал, что он замыслил меня вместо себя оставить. Полетел как-то в зону, а там какое-то время была такая практика – самолеты с горьковского завода пригоняли во 2-й ЗАП, там мы их облетывали, а потом отправляли в полки и на фронт. И вот, сажусь в новый самолет, взлетаю, набираю высоту и начинаю пилотировать – мне нравился пилотаж, особенно вертикальный. Я выполнил все заданные упражнения, посмотрел – время есть, еще дополнительно несколько фигур сделал, потом отвесно спикировал на Оку. Пацан был – увидел, лодка плывет с девчатами, и на них спикировал. Ну, конечно, заблаговременно вывел самолет, на 500 метрах. Сажусь, подхожу к инструктору за замечаниями. Смотрю – рядом с ним стоит офицер в авиационной форме, в хромовых сапогах – сразу видно, штабной. Инструктор мне замечания не стал делать. Этот штабной, оказывается, тоже наблюдал мой пилотаж, говорит Команденко: «Этого сержанта отправьте в 291-й полк». Я, когда услышал это дело, не поверил ушам. И вот, после разговора с Команденко, я прибыл в 291-й ИАП.
– Это когда было?
Конец августа 1942 года. Командир полка майор Индык, он потом Героем Советского Союза стал в другом полку. Летчиков с боевым опытом мало было, по пальцам посчитать – Макаров, Лобанов, Варлов – человек пять.
– Сколько вы успели на «ЛаГГе» налетать до этого момента?
Около четырех часов.
– Стрельбы не проводили?
Ни разу не стрелял, только взлет, посадка, пилотаж в зоне – даже парой не ходил. Все наше пополнение было примерно такого же качества, сержанты вроде меня. Было несколько офицеров довоенного выпуска, которые имели опыт боев на Волховском фронте.
– Летчики, которые имели боевой опыт, Вам что-то рассказывали о боях?
Знаете, как-то недостаточно они делились своим опытом. Так получилось – немцы уже под Сталинградом были, страна оказалась в тяжелейшем положении. Тут нам дали задание готовиться к уничтожению немецких танков – 37-мм орудие пробивало верхнюю броню у большинства из них. Меня взял ведомым лейтенант Николай Полегаев, опытный летчик. Я был очень доволен, что попал к фронтовику – большинство ведущих не имели боевого опыта. Так, командиром эскадрильи у нас был майор Денисов, переученный из бомбардировщиков в истребители, такой тучный человек, в возрасте – а на фронте не был. Из Сеймы мы перелетели в Богородск, там потренировались немножко – взлет, посадка, парой полетали, даже один раз Полегаев сводил меня на воздушный бой один на один.
Потом приказали перелететь в Ногинск, в Подмосковье – там был испытательный полигон авиационного вооружения, и на границе аэродрома стояли трофейные немецкие танки. Командир полка Индык объявил, что нам поставлена задача уничтожать танки, поэтому надо тренироваться в стрельбе. Я первый раз увидел эти чудовища с крестами. Какой-то специалист рассказал, где у них наиболее уязвимые места, и на второй день мы начали стрелять. Конечно, результаты были удручающие – по три снаряда нам давалось, и я ни разу не попал, как и остальные. Даже старики, и те промазали.
Приехал из Москвы какой-то инспектор, и нам сказали – сейчас он покажет, как надо стрелять по танкам. Мы сели на безопасном расстоянии. Он взлетел на нашем ЛаГГ-3, заходит – бах-бах-бах, огонь на броне танка, что-то отлетело от него. Два захода сделал и два раза попал. Мы побежали смотреть – там еще из пробоин дым шел. Командир полка говорит – видите, как надо попадать? А старики потом меж собой – да, не думали, что попадем в смертники… У нас же никакой защиты не было, даже лобовое стекло небронированное – обычный плексиглас! Мы, молодые, спрашиваем – почему в смертники?! Они отвечают: «Вы не представляете, какое немецкие танки имеют мощное зенитное прикрытие. Если мы будем заходить так, как этот мужик показал – на малой скорости, блинчиком, то нас посбивают сразу. Надо на большой скорости заходить, с первой атаки поражать танк и уходить». Я сделал шесть тренировочных полетов, прежде чем первый раз попал. У других тоже были успехи.
– Перебью. Пушка, которая на «ЛаГГе» стояла – сколько у нее боезапас был? Какова была ее надежность? Часто отказы бывали?
20 снарядов, в эллипсовидном таком барабане. Отказ один раз у меня был. Ну, в общем, танки – это хорошо, но мы же истребители, надо бы и в стрельбе по конусу потренироваться, а на это отводился всего один полет. Полетел я, нашел этот конус – гляжу, над лесом буксировщик тащит его. Вдруг у меня из-под кока винта стало выбивать масло, забрызгало лобовое стекло – а тут еще солнце, искрится на масляных каплях. Ой, как же мне не хватало умения зайти правильно, чтобы попасть в этот конус и не сбить буксировщик! Стреляли из крупнокалиберного пулемета, пули красили каждый в свой цвет. Я зашел, выпустил очередь, вторую, третью – 20, кажется, патронов давали – не помню. Потом, когда конус сбросили, оказалось, что в нем ни одной дырки… На этом отработка боевого применения была закончена, и поступил приказ лететь на Сталинградский фронт. Мы бодрились, молодежь – наконец-то на фронт! Мы им покажем! Сержанты, 19-20 лет – никто и не думал, насколько слабая у нас подготовка…
– Когда прибыли на фронт?
На фронт мы прилетели 17 сентября 1942 года, на следующий день прибыл технический состав. Линия фронта тогда с Воронежа шла на юг, потом на восток, и упиралась в Волгу. К моменту нашего прилета командование организовало фланговый удар по немецким войскам, с тем, чтобы немного облегчить положение войск, оборонявших город. Критическое положение было.
Сели мы на аэродром совхоза «Сталинградский» на правом берегу Волги, северо-западнее Сталинграда. Как только приземлились, нашу с Полегаевым пару подняли прикрывать аэродром. Взлетели мы, и я сразу аэродром потерял – степь кругом, ориентиров нет! Ладно, думаю – Полегаев приведет, патрулируем. Сейчас, анализируя все события на фронте, я думаю, что какая-то судьба есть у человека, что-то такое предначертано – должен он или не должен погибнуть! Тогда свирепствовали немецкие охотники. Они парами заходили в наш тыл, у них была отличная радиосвязь, прекрасная техника – «Мессершмитт» Ме-109Ф, самый лучший в то время истребитель. Летим мы. Полегаев идет, я от него в пеленге…
– Радиосвязь была у вас?
Только на прием работала.
– У Вас приемник, у ведущего передатчик и приемник?
Нет, у него тоже только приемник. Сигнализация покачиванием крыльев и другие знаки всякие. Я смотрю – слева ниже проскочил самолет, с креном в нашу сторону. Мне показалось, что это наш штурмовик Ил-2, которого я ни разу не видел, и что у него на плоскости какое-то повреждение. В этот день была сплошная слоистая облачность. На какую-то долю секунды я отвлекся, а потом смотрю – ведущего нет. Я завертел головой – куда он делся? Обернулся назад, и вижу – Полегаев и этот «штурмовик» на глубоких виражах крутятся. Я скорее развернулся, и туда, к ним. Гляжу – с правой стороны второй такой «штурмовик» появляется, и я у него на хвосте оказался. Он увидел, и сразу в облака ушел, и второй за ним. Я к Полегаеву подстроился, думаю – что же это такое? Оказывается, мы встретились с парой охотников, и они, заметив нас первыми, решили сделать хитрую штуку с нами. Один отвлекает – а бояться ему нечего, случись что – сразу в облачность, и скрылся – и, если мы идем за ним, второй подходит сзади и нас обоих снимает. Но, благодаря моей плохой слетанности, я сам оказался в стороне, и они поняли – не на тех нарвались! Решили, что мы тоже два аса, смылись и больше не появлялись. Это же просто какое-то везение…
Или, скажем, была у меня посадка на противотанковое минное поле на Курской дуге – по идее, я должен был взлететь на воздух. Сел с поврежденным мотором как будто нарочно на дорожку снарядных воронок. Когда самолет остановился, пыль в сторону ушла, я вылез на центроплан, осмотрел машину. Мать честная – радиатор оторвался, обшивка вся сорвана, закрылки в воронках валяются, а вокруг ровное, поросшее травой и дикой рожью поле. Думаю – вот надо же, чуть бы левее или правее, и машина винт погнула бы, и все! А потом, слышу: «Летчик, стой!!!» Что такое, откуда? Показываются два военных, и опять командуют мне: «Летчик, ни с места!!!» Я стою, ведомый надо мной виражит. На всякий случай расстегнул кобуру – может, это какие-то диверсанты? Вроде, форма наша. А потом подходят, и как-то странно они идут, я еще обратил внимание – ноги поднимают высоко. Подходят: «Ну, летун, ты ж в сорочке родился!» Я перед этим чуть не воткнулся в лощину, самолет шел вниз, но я ее перетянул и сразу сел – я думал, что он это имел в виду. Говорю – да, повезло!
– Вы не представляете, как повезло! Мы все ждали фейерверк!
– Какой фейерверк?!
– А вот, смотрите!
И показывает – впереди, в 40-50 сантиметрах от центроплана, дождем вымыло краешек тарелки противотанковой мины. Проползи самолет немного вперед, как раз мина сработала бы. Это просто везение…
В общем, 18 сентября прибыл технический состав, и 291-й ИАП был полностью готов для ведения боевых действий. Вечером командир полка устроил торжественный ужин, поскольку 19-го должна было начаться боевая работа. Перед каждым поставили банку из-под тушенки, наполненную водкой. А все мы молодежь – я, например, не пил ни разу. Командир полка произнес патриотический тост за успешные боевые действия, за то, чтобы бить захватчиков. Мы выпили и, не имея закалки в этом плане, немножечко захмелели. После ужина пошли гулять, увидели верблюдов и решили покататься, но верблюды не подпустили нас к себе. В общем, кое-как угомонились и легли спать. Только заснули, как показалось – и нас будят.
На аэродром приехали затемно, возмущаясь, что нас рано подняли. Нашему звену приказали заступить на дежурство. Голова трещит – никогда не пил, а тут такое количество сразу! Сел в кабину, командую: «От винта, прогреть двигатель!» Только мотор заработал, на меня из-под приборной доски посыпалась как горох орава мышей, боже мой! Они на теплом двигателе грелись, а как он заработал, стали прыгать через меня за бронеспинку, а оттуда через нишу хвостового колеса – на землю. Хорошо, что тогда катапульт не было, а то я бы катапультировался. Эта вакханалия несколько секунд творилось. Я прогрел мотор, огляделся. Оказалось, что мыши полностью сожрали аварийный бортпаек, который был в каждом самолете – галеты, плитки всякие. Уцелели только две банки консервов, которые я отдал механику, да шоколад , который я накануне в комбинезон убрал.
Минут сорок мы посидели в самолетах, после чего командир полка вызвал нас на КП. Эскадрилью построили: «Наши войска наносят фланговый удар по немецко-фашистским войскам в районе станции Котлубань, с тем, чтобы облегчить действия наших войск в городе Сталинград. Наша задача прикрыть войска, не допустить атак немецкой авиации». У нас планшеты с картами, Индык подошел, каждому ногтем прочертил, где линия фронта проходит. Прикрывать нас должна была группа Як-1 с аэродрома Семеновское, а наша задачей было уничтожение бомбардировщиков своими пушками. Взлетели мы эскадрильей, повел комэск майор Денисов. С нами полетел комиссар полка майор Лев Исаакович Бинов. Я был замыкающим. Правым пеленгом приходим на аэродром Семеновское, а «Яки» еще не взлетели. Денисов не стал их ждать и взял курс на Котлубань. Прилетели мы к линии фронта, и я увидел на земле разрывы, дым идет вверх. Как сейчас помню, еще подумал – это уже не кино… Пересекли линию фронта, повернули в сторону Дона, и по нам зенитка начала лупить. Немцы хитрые, у них разрывы зенитных снарядов черные, издалека заметные – решают задачу наведения авиации и облегчают прицеливание. Наши дымчатые, они теряются на фоне облаков, их не видно. Дошли мы до Дона, развернулись на 180 градусов и пошли к Сталинграду – за нами тянется хвост черный от разрывов. Не было никакого страха, только любопытство какое-то мальчишеское.
И вот, подлетая к станции Котлубань, я смотрю – слева самолет летит двухмоторный, за ним второй, третий. Крен сделал, вижу – желтые консоли. Немцы! Мы сразу развернулись и набросились на них. Оказывается, пришла группа бомбардировщиков, около 50 самолетов, чтобы ударить по нашим войскам.
– Вас распознавать типы немецких самолетов учили?
Очень поверхностно. Мы врезались в эту группу, и начался воздушный бой. Стрелки мы были никудышные. Я, например, забыл, что я ведомый, и, увидев справа бомбардировщик, чуть-чуть отвернул и взял его на прицел. Нажимаю гашетку – трассы 37-мм пушки прошли между фюзеляжем и центропланом. Взял другое упреждение, только нажал гашетку – и сам оказался под огнем. Я как-то инстинктивно толкнул ручку от себя, самолет провалился, и трассы прошли выше меня – это меня и спасло. Я поэтому не понял, попал сам или не попал, вернулся к ведущему, и дальше уже ведущий атаковал. В общем, воздушный бой такой крупный получился, что трассы образовали целую сеть, и среди них очень выделялись наши шары 37-миллиметровые. Мы носились среди бомбардировщиков, они рассыпались, кто куда.
– А тип бомбардировщиков какой был?
Смешанная группа была, «Юнкерсы» и «Мессершмитты» Ме-110.
– А Бинов не в этом бою таранил «Мессершмитта»?
Он таранил бомбардировщик. Причем, только я это видел, больше никто. Немцы были в панике, такой дикости их асы не могли перенести – стреляли мы плохо, но они очень боялись столкновений. Мы же в этом плане были как охотники, каждому хотелось непременно сбить, никаких команд с земли никто не слушал. К примеру, командир эскадрильи майор Денисов погиб в этом бою – он сбил один бомбардировщик, атаковал второй, и в это время «Мессершмитт» его сбил. С земли его пытались предупредить об опасности, но он не услышал. Мы в течение нескольких минут разогнали эту группу бомбардировщиков, и бомбы они побросали куда попало.
– Большие потери были в этом бою?
Когда бой закончился, я смотрю – из вылетевших 12 самолетов мы только ввосьмером идем. Сделали несколько кругов, но небо было чистое, и мы пошли на свой аэродром. На обратном пути нас атаковала шестерка «Мессершмиттов» Ме-109Ф. Я впервые их рассмотрел. Во-первых, обратил внимание на то, какая у них четкая слетанность пар, как они привязаны друг к другу. Во-вторых, удивила окраска – не такая, как наша, зеленая под цвет травы, а сероватая, мы потом тоже такую окраску применяли. Она маскировала и на фоне облаков, и на фоне местности – серо-голубая, с разводами. У нас тогда не было камуфляжа, покрашен самолет в зеленый цвет – и все.
– Ну, или черные пятна на нем…
Не было и пятен никаких, это потом уже додумались наводить камуфляж. Я продолжал быть замыкающим, и понял, что первая атака будет на меня – бьют всегда крайнего. Я, хотя и молодой был, но соображал – взял побольше интервал с ведущим. И точно, первая пара сверху пошла на меня. Я довернул на своего ведущего, ведущий в мою сторону – получились ножницы. Полегаев отбил атаку, немцы ушли вверх. Таких атак было несколько, то на ведущего, то на меня, и мы все ножницами отбили. Немцы как-то внезапно исчезли – то ли получили повреждения, то ли у них не было топлива. В общем, навязать нам бой они не смогли. Когда мы прилетели, у меня горючее на нуле уже было, на пробеге двигатель остановился. Вылез из самолета, ветерок меня обдал – стало полегче. Подъехали техники: «Ранен, нет? Что с самолетом?» Потом выяснилось, что топливо кончилось. Я все боялся, когда подлетали к аэродрому, что встанет двигатель, а там же балки всякие кругом – не дай бог, в эту балку попадешь. В бою наша эскадрилья сбила девять самолетов, но не вернулись с боевого задания майоры Денисов и Бинов, сержанты Маматов, Марченко и Некипелов – пять человек. Теперь, по поводу тарана – когда мы очередную атаку делали, я шел левее ведущего и видел, как в идущий чуть выше бомбардировщик буквально отвесно спикировал наш «ЛаГГ» и перерубил ему фюзеляж пополам.
– Не в крыло, не в оперенье, а прямо в фюзеляж?
Да. Ударил, у бомбардировщика отделилась винтомоторная группа и крылья, медленно кружась в воздухе, и хвост начал крутиться отдельно. Наш самолет с серым дымом скрылся внизу, в дымке от идущего на земле боя. Номера бортового не было видно, потому что ракурс неудачный был, и кто это был – так и не известно.
– Записали на Бинова?
Потом записали на Бинова, потому что он тоже вроде как столкнулся с самолетом. Но, по мне, так… Я тогда сержант был, мальчишка, не соображал – все-таки, перерубив фюзеляж, очень большие повреждения тот истребитель получил. Он как рубанул, так и пошел вниз – не крутился, ничего. Позже Бинов приехал на попутной машине, сержант Маматов вернулся, а Денисов, Марченко и Некипелов так и погибли. Вот такой первый воздушный бой был, и все это после той дурацкой водки.
После приземления привезли нам завтрак, но есть не хотелось, а тут приказ: «Готовиться ко второму вылету!» Повел четверку старший лейтенант Лобанов с ведомым, ведущим второй пары пошел, кажется, Лобзунов – получилось так, что полетели три опытных летчика, офицера, и меня взяли одного молодого. Пришли мы на линию фронта, а немцы там уже бомбят – мы их с ходу атаковали. Завязался бой, и, надо же, у меня пушка отказала, только крупнокалиберный пулемет остался – такая досада! В общем, в этом бою мы сбили три самолета и без потерь вернулись.
– Вам их на группу записали?
Я сержант был, этим вопросом не интересовался. Так, собственно, началась боевая деятельность 291-го истребительного полка. Потом командующий воздушной армией Руденко принял такое решение: в связи с тем, что на передовых станциях наведения были недостаточно подготовленные специалисты, не отличающие свой самолет от чужого, посылать на них летчиков сроком на 10 дней, чтобы они наводили, обстановку воздушную давали и прочее. Кроме квалифицированного наведения, мы должны были непосредственно следить за воздушными боями и перенимать их опыт – я считаю, что это была правильная затея.
Подошла моя очередь, и я поехал вдвоем с лейтенантом с аэродрома Семеновское. Целый день мы искали эту радиостанцию, под обстрел попали даже, пока не нашли. Сменили там двух летчиков, и они на этой же машине уехали на свой аэродром. Начали мы работать. Нам дали выносной микрофон и бинокль, а радиостанция РУС находилась в укрытии, расположенном между передним краем и артиллерийскими позициями. Местность такая, что вокруг видно все.
Я сразу раздобыл трехлинейную винтовку, потому что «Мессершмитты» нагло летали на малой высоте, и начал их обстреливать. После первого же моего обстрела приходит ко мне старшина из соседнего окопа, и говорит: «Ты что же это делаешь?! Увидят, развернутся и бомбу сбросят! Хуже будет!» - «Да этого быть не может, это истребители, они без бомб». Я его не убедил, пехота была затерроризирована немецкой авиацией, но и сам не послушался, каждый раз продолжал обстреливать самолеты. Как-то раз летит стая дроф на юг, крупные птицы, на большой высоте, величаво крыльями машут. Все начали лупить по ним, а они летят себе, как ни в чем не бывало. Вдруг высовывается этот старшина, выстрелил – и сразу одну дрофу сбил. Вечером приходит, принес нам мяса, угостил. Я ему говорю: «Вот, если бы ты так по самолетам стрелял!» После этого он перестал со мной ругаться. Я его прошу: «Достань мне противотанковое ружье, оно посильнее трехлинейки будет». Он пообещал попробовать, но их сменили, так и расстались.
10 дней, на которые нас с лейтенантом отправили на радиостанцию, закончились, но началась передислокация войск перед контрнаступлением, и про нас попросту забыли. Так мы на радиостанции просидели целый месяц! Сидим, я лейтенанту говорю: «Давайте, мы поедем, у нас же командировка на 10 дней!» – «Нет, я инструктаж получил, мы не можем без смены ехать!»
– Работу свою выполняли, наведение и связь вели?
Конечно. Наводили самолеты, наблюдали воздушные бои, подсказывали, радовались успехам. Другой раз и больно было, когда видели, как наших били…
– Общая ситуация в это время в пользу немцев складывалась, или как?
В это время силы почти уравнялись, уже одинаковые потери были – примерно поровну сбитых немецких и наших самолетов падало. Постепенно наша авиация завоевывала оперативное господство в небе Сталинграда.
– Когда вас сменили все-таки?
Ноябрь наступил. Лейтенант приехал в меховой куртке, он был старше по возрасту и опытнее, а я свою меховую куртку оставил технику, а сам приехал в легком демисезонном комбинезоне, начал мерзнуть. Потом вши появились – мы же ни на каком довольствии не стояли, ничего…
– А кто вас кормил?
Пехота снабжала питанием. Морозы начались, я лейтенанту опять говорю: «Давайте, поедем в штаб, у начальника какого-нибудь спросим, как нам быть!» Видно, он тоже уже почувствовал, что пора, тоже надоедать начало. Приехали мы в штаб, я не знаю, какой, но, вроде бы, штаб фронта. Нас принял полковник-авиатор. Лейтенант ему доложил, что нам пора домой, а смены нет. Полковник кому-то позвонил, и разрешил ехать домой, на свой аэродром. На попутных машинах добрались, холодные и голодные, до своих аэродромов. Меня там ждало неприятное известие: наш полк перелетел в Энгельс, на прикрытие Саратова и караванов барж, которые шли по Волге в сторону Сталинграда. Думаю – боже мой, как же добраться туда, это около 300 километров?! Потом какой-то техник говорит: «Я слышал, что У-2 хотят отправить в Энгельс, по каким-то связным делам. Пойди к командиру полка и попросись, может, тебя и возьмут». Там полк «Яков» стоял. Я иду, думаю – если откажут, для меня будет страшное дело. Встречаю командира полка – а это майор Бинов, за мое отсутствие его поставили командиром полка «Яков».
– Это 512-й ИАП был, по-моему?
Не помню. У него на груди уже орден Красного Знамени за таран. Встретил меня, как родного сына: «Как же так, ты жив, а мы думали, что с тобой что-то случилось». И дает команду, чтобы меня этот У-2 отвез. Прилетаю в Энгельс, захожу в штаб, там ребята увидели, остолбенели. Оказывается, на соседней радиостанции наведения погиб летчик, и, поскольку я не прибыл вовремя, посчитали, что это я. Полегаев обнял меня: «Ты жив!» В баню сводили, накормили, переодели – через день начал летать. 19 ноября началось наступление наших войск, мы к этому времени вернулись на свой аэродром в совхоз «Сталинградский». Начались боевые действия, но погода была нелетная, частые туманы. Нас, молодежь, немножечко берегли, в основном, летали опытные летчики. А потом, где-то в конце ноября, пришел приказ отправить 291-й ИАП на переформирование в тыл.
– Большие у полка были потери?
Нас, сержантов, оставшихся в живых, было человек шесть. Всех оставили на фронте, приказав, кому в какой полк лететь на уцелевших «ЛаГГах». Прилетаю вдвоем с товарищем в новый полк на своих ЛаГГ-3, командир полка как увидел: «Зачем вы прилетели?! Куда я дену эти самолеты?!» У них в полку «Яки», они от «ЛаГГов» как от чумы шарахаются. Я говорю – что мы можем поделать, нам приказано… «Ну, ладно, переучим вас на «Як»». Переучили на «Як» – мы рады были без памяти, что, наконец, будем воевать на самом лучшем отечественном истребителе.
– Кто был командир полка?
Василий Шишкин, Герой Советского Союза.
– Это 581-й ИАП был.
Сейчас не помню. Недолго мы радовались, что будем на «Яках» воевать – прилетел на фронт 739-й ИАП на ЛаГГ-3, и нас скорей сплавили туда вместе со своими самолетами. Так мы и не успели на Як-1 сделать ни одного боевого вылета. Правда, в 739-м ИАП нас встретили очень дружелюбно – свой брат на «ЛаГГе» прилетел! Я встретил там двоих однокашников по Борисоглебску.
Начались боевые действия, но летали мало из-за плохих метеоусловий. Особых приключений не было, хотя запомнились два вылета на сопровождение пикирующих бомбардировщиков из женского полка. Когда получили задание, мы подумали – женщины, сейчас прилетят, их трудно будет прикрывать, и прочее. И вот появляется над аэродромом девятка Пе-2, идут, как на параде – просто прелесть. Мы даже удивились – они это, или ребята там сидят? Мы их шестеркой должны были прикрывать.
Начали взлетать – из шестерки взлетело только трое, заместитель командира полка с ведомым, и я. Мой ведущий не взлетел. Пошли сопровождать. Перешли линию фронта, и смотрю – справа шестерка «Мессершмиттов». У меня, как сейчас помню, возникло какое-то чувство, похожее на инстинкт защиты женщины от бандитов – я был готов пожертвовать собой, но не допустить их к Пе-2. Я, наверное, там бы и погиб, если бы не помощь. Невдалеке оказалась наша группа «Яков», и командир этой группы, умница, над территорией противника заметил нас и атаковал этих «Мессершмиттов». Когда немцы зашли в атаку, на них навалились «Яки» и завязали бой, а мы ушли. Я потом посмотрел – один «Мессершмитт» загорелся и пошел вниз. Еще, помню, было любопытно – попадут или не попадут девушки в цель? Они вышли на какую-то балку, в которой скопилось большое количество немецких войск и техники – видно, задумали прорыв какой-то сделать. Пе-2 очень точно поразили цели, я просто был восхищен, думаю – вот это девчата, молодцы! Два вылета таких удачных я помню.
Когда закончилась Сталинградская битва, мы оказались в глубоком тылу. Недели две примерно ждали, потом получили приказ лететь на Центральный фронт. Прилетели под Орел, на аэродром Чернава, и оттуда начали боевые действия. Что интересно – когда летели на этот фронт, делали посадку в Борисоглебске. Там авиации много скопилось, было два больших потока – один шел на юг, под Харьков, другой из-под Сталинграда на Центральный фронт. Я встретил своих однокашников, первый раз летевших на фронт. Я уже при погонах, которые недавно ввели, старший сержант. Они, когда увидели меня, давай расспрашивать, что там и как. У меня, конечно, опыт маленький был, но я сказал – на фронте не так все просто, как вы до сих пор думаете…
– Сколько примерно вылетов под Сталинградом Вы успели совершить? Сколько сбитых Вам засчитали?
Около 25 боевых вылетов я сделал и сбил «Мессершмитт» Ме-110. Как я его сбил – я сам не видел, Лобанов видел и подтвердил. На центральном фронте на все тех же ЛаГГ-3 мы сопровождали штурмовиков и бомбардировщиков. Потом перелетели в Курск, на аэродром южнее города, а в один прекрасный день, в конце марта, нас отправили в Елец на отдых. Мы прилетели в Елец, там отдохнули, а потом дается команда – прибыть на аэродром Данков. Прибыли на аэродром Данков, где неожиданно меня вместе с группой летчиков перевели в соседний полк дивизии, 165-й ИАП, которым командовал подполковник Николай Васильевич Семенов. Второе известие было приятным: вдоль границы аэродрома мы увидели линейку новеньких самолетов Ла-5. Когда я сел в этот Ла-5, взлетел – совсем другая машина!!!
– Обычный Ла-5, не форсированный? Не Ла-5Ф или Ла-5ФН?
Нет, не Ла-5ФН, но уже фонарь зализанный, впереди и сзади бронестекло.
– На «ЛаГГах» под Сталинградом с открытым фонарем летали?
Не только под Сталинградом – все мы летали с открытым фонарем до самого конца войны. Наш плексиглас был не очень высокого качества, мутнел, а в воздухе кто первый противника увидел, тот наполовину победил. Фонарь открыт, очки наденешь и смотришь. Да, есть неудобства – шум, вибрация, но обзор хороший. Я садился потом на немецкие трофейные машины, у них плексиглас намного качественнее.
– На ленд-лизовских машинах довелось где-то полетать? «Харрикейны», «Киттихауки», «Аэрокобры»?
Нет, не приходилось, хотя однажды я чуть не переучился на «Кингкобру». В марте 1944 года меня направили на курсы в Высшую офицерскую школу штурманов ВВС, в Краснодар. Там самолеты Ла-5 были, старенькие – и начались летные происшествия, погиб очень опытный летчик капитан Волков. У него тяжелое ранение было, осколком череп рассечен. Он отказался от списания с летной работы, продолжал летать, после войны хотел заплаты себе поставить. Последний зачетный полет был с бомбами, на Ла-5 две бомбы по 50 килограммов подвешивали. Я следом за ним должен был лететь, и вот, опять не судьба мне была погибнуть. Он взлетает, я слышу – звук мотора какой-то не такой. Надо бы, думаю, прекратить ему взлет! Только он оторвался, как мотор обрезал, и он в капонир с двумя бомбами воткнулся – только вверх полетело все… Погиб.
Дали нам новенькие «Кингкобры», пригнали из Америки. Я посидел в этой машине – люкс! Фонаря как будто и нет, настолько стекло прозрачное, оборудование прекрасное, вооружение мощное. У нас там были ребята, которые прежде на «Аэрокобрах» воевали. Они первые вылетели в зону, и сразу говорят – ерунда. Во-первых, при пилотаже возникает вибрация сильная, неприятная, во-вторых, самолет очень охотно входит в плоский штопор и очень трудно из него выводится. Так погиб старший лейтенант Канищев – машина вошла в плоский штопор, он ее покинул с парашютом, но ему стабилизатором отрубило голову. И все, нам запретили на «Кингкобрах» летать. Я думаю – ну и хорошо, если бы переучился на «Кобру», в свой полк уже не попал бы…
– Давайте вернемся к Ла-5 – обычно его недостатком называют строгое пилотирование на взлете и на посадке?
Я бы не сказал, по крайней мере – я это не ощущал. Вот Ла-7, который мы получили перед Берлинской операцией – тот строже оказался, на пробеге был очень неустойчивый.
– Тепловой режим в кабине нарекания вызывал? Говорили, что очень жарко было, летчики угорали.
Открытая кабина вентилировалась, я не ощущал сильной жары. Конечно, мотор мощный, какое-то количество тепла попадало, но не такое, чтобы очень жарко было.
– Некоторые летчики рассказывают, что об рукоятку сектора газа руку обжечь можно было?
Ну, что Вы, нет! Все нормально было – ручка управления, сектор газа, все рычаги, альвеер…
– Давайте вернемся к получению Ла-5.
Самолет по сравнению с ЛаГГ-3 был намного мощнее в смысле скорости и вертикального маневра. В вооружении, конечно, немцам он уступал – две синхронные 20-мм пушки, стрелявшие через винт. Мне пришлось на этом самолете воевать почти всю оставшуюся войну – сражение на Курской дуге, освобождение Украины, Польши, Белоруссии. Когда мы уже вступили в Германию, командиром нашей дивизии назначили Василия Сталина. Он посмотрел, видимо, что у нас Ла-5 старенькие, и взялся за этот вопрос. Сначала на Ла-7 перевооружили 721-й ИАП, потом 739-й ИАП, а наш полк почему-то в немилость попал, мы на Ла-5 оставались. Но потом вдруг вызывают меня в штаб: «Срочно собирай летный состав, бери парашюты, садись на Ли-2 и лети в Брест». Под Брестом аэродром был, не помню, как называется, туда перегонщики Ла-7 пригоняли. Я от радости аж подпрыгнул!
– Вы в какой должности были на тот момент?
Я тогда уже был командиром эскадрильи. Мы прилетели, смотрю – стоят новенькие Ла-7, и у одного из них бортовой № 24. Я начинал воевать под Сталинградом на ЛаГГ-3 № 24, и здесь взял точно такой номер. Взлетел, опробовал – машина что надо, скорость заметно выше…
– Двухпушечные Ла-7 вам достались? Позже трехпушечные пошли, на фронт они не попали, наверное?
Говорят, что в полку у Кожедуба были Ла-7 с тремя пушками, но нам дали двухпушечные. Получилось так, что Берлинскую операцию наш полк начал в смешанном составе – две эскадрильи на Ла-7, а 2-я эскадрилья Александра Отлесного на Ла-5. Отлесный командиру полка был неугодный, он здорово зашибал все время.
– Насколько Ла-5Ф и Ла-5ФН были сильнее обычного Ла-5?
Вы знаете, у меня был Ла-5 карбюраторный – и он мне больше нравился, чем Ла-5ФН, на который я позже сел! Почему? Видимо, такая удачная машина попалась.
– То есть, особенности конкретной машины, хорошо собранной?
Именно так, каждый самолет имеет свои особенности! Помните, я рассказывал, как на минном поле сел – так я потом на этом самолете мало воевал. После ремонта он получился очень неудачный. Пока его ремонтировали, я летал на разных машинах, и все они отличались друг от друга. Мне все казалось, что мой № 92 был самый лучший…
– Вы бортовые номера хорошо помните. Какие полковые отличия в окраске самолетов были – цветные коки винтов, полосы на фюзеляже или оперении, еще что-то? Один полк от другого в воздухе по каким-то признакам можно было отличить?
У нас особо не увлекались раскрасками, основным элементом был цветные коки. Например, мы однажды стояли в Польше на одном аэродроме с полком, где Кожедуб был. Они уже в то время на Ла-7 были, у них красные носы были. А у нас, по-моему, голубые – точно не помню. У нас группа разведчиков была, и меня после окончания штурманских курсов включили в эту группу разведчиков.
– Это дивизионная группа? Или какая-нибудь корпусная?
Нет, это в полку группа была, работали в интересах вышестоящего командования. Так вот, мы летали на разведку, а они летали на свободную охоту на своих Ла-7. Я помню, один раз над территорией противника, где-то в 70 километрах за линией фронта, шли, и я случайно оглянулся. Смотрю – меня атакуют Ла-7. Хорошо, что я вовремя заметил. Они на большой скорости атаковали, а я развернулся навстречу и под них ушел. Они полезли вверх, я начал им звезды показывать. Ушли. Я потом доложил командованию – ну как так, смотреть надо! Они после этого стали внимательнее. Второй раз меня атаковала пара «Аэрокобр», они приняли нас за «Фокке-Вульфы», тоже пришлось от них уходить. А так, при встрече на разведке с истребителями противника главное было не прозевать, и они в бой не вступали. Как правило, встречи были пара на пару, у немцев уже в это время мало было самолетов. Они, если внезапности достичь не получалось, уходили.
– То есть, если в 1942-1943 годах бой они вели достаточно упорно, то в конце войны такого не было?
Вообще, немецкие истребители имели совершенную тактику. Они всегда вступали в бой тогда, когда у них было преимущество в высоте, а за счет преимущества в высоте у них было и большое преимущество в скорости. Как правило, атаковали сверху, на большой скорости, открывали огонь с малой дистанции, и затем резко уходили снова вверх. Эта тактика у них была отработана исключительно четко.
– Вы эту тактику перенимали?
Знаете, у нас работа была другая – мы сопровождали штурмовиков всю войну. Штурмовик для немцев самая неприятная машина, они больше всего беспокоили немецкие наземные войска, поэтому командование противника, видимо, не жалело сил на то, чтобы нанести штурмовикам как можно больший урон.
– Штурмовики сложнее было сопровождать, чем те же Пе-2, допустим?
Да, штурмовики сложнее. У них скорость небольшая, на маршруте примерно 320 километров в час, у нас, конечно, побольше – мы шли зигзагами. Особенно было плохо для нас то, что мы не могли «Илы» оставить. Другой раз выгодная позиция, можно немца преследовать и сбить, но нельзя от штурмовиков уходить, потому что собьешь немца, а за это время собьют несколько штурмовиков.
– За потери штурмовиков наказывали?
Особых наказаний не было – все зависело от того, как это случилось. При разборе учитывались все обстоятельства. Конечно, были потери у штурмовиков, но больше несли потери мы, истребители сопровождения.
– От огня зениток или от истребителей? Вы же, когда сопровождали штурмовиков, тоже шли на небольшой высоте?
Да. Поэтому зенитный огонь доставал и нас. Но самое неприятное было то, что бой всегда приходилось вести в невыгодных условиях. Противник имел важное преимущество – мог атаковать, выйти из боя и не бояться преследования.
– В какой момент немцы старались атаковать штурмовиков? На подходе к цели, на выходе из атаки?
Они атаковали в любое время. Как только заметили группу штурмовиков, над целью, или на отходе от цели, или до цели – атаковали по-всякому, шли на любые тактические хитрости. Например, один завязывает воздушный бой, атакуя сверху, а в это время другой на бреющем полете, на фоне земли, разгоняется, делает горку и атакует в брюхо. Мне дважды пришлось спасать штурмовиков от таких атак.
– Какой истребитель Вы считали более опасным, «Фокке-Вульф» или «Мессершмитт»?
Как сказать. Мне кажется, они были одинаково опасны, имели одинаковые тактические приемы. Это внезапность, прежде всего, которая культивировалась с самого начала войны. Видимо, у них использовалась современная надежная радиосвязь. Ну, а в общем, «Фокке-Вульф» был более неприятной машиной, конечно. В каком плане? Во-первых, у него было мощное вооружение, во-вторых, он был менее уязвим за счет мотора воздушного охлаждения, в-третьих, когда он появился на фронте, немцы посадили на него опытных летчиков, асов, с тем, что психологически подавить наш летный состав своим умением использовать этот самолет в бою. Потом мы его освоили, ФВ-190 – он на вертикали уступал нашему Ла-5.
Мне пришлось однажды оказаться в тяжелом положении. На Курской дуге я сопровождал группу «Илов». Благополучно пересекли линию фронта и вышли на две танковые колонны, которые сошлись с разных направлений на въезде на единственную дорогу и остановились – видимо, решали, кто пойдет первый. Группа «Илов» очень удачно накрыла их ПТАБами. ПТАБ, Вы знаете – бомба небольшая, всего 2,5 килограмма, но, попадая на броню, прожигала ее насквозь и поражала экипаж.
– Вы фиксировали результаты ударов штурмовиков? Я имею в виду – они вам запросы на подтверждение присылали?
Мы докладывали, что видели, но это не входило в наши обязанности. Значит, штурмовики накрыли эти две колонны ПТАБами, развернулись и пошли обратным курсом на свою территорию. Задымленность была большая, головой все время крутить приходилось – у немцев связь и наведение хорошо работали. Смотрю, с левой стороны появляются красные ракеты – одна, вторая, причем, видно, что они с борта выпущены – параллельно земле летят. Присмотрелся и вижу, что один штурмовик отстал от группы, и стрелок пускает ракеты. Думаю – что-то там случилось! Подошел ближе, смотрю – его настигают четыре ФВ-190. В таких случаях секунды все решают, и я рванул машину наперехват, с большой перегрузкой, и сразу открыл заградительный огонь из пушек. Прицеливаться было уже некогда, главное, что в их сторону пошли яркие вспышки трасс. Похоже, что они меня не видели, и поэтому отвернули. Вся группа ушла вперед, ведомый тоже мои резкие эволюции прозевал и отстал, я остался один – и вся эта четверка «Фокке-Вульфов» на меня навалилась.
Мне ничего не оставалось, как принять бой – их четверо, не уйдешь. Началось маневрирование, вижу – крепкие ребята попались. Я все время пытался набрать высоту. Бой начали на 500 метрах, а где-то на высоте около 4000 метров я смотрю – стрелка бензиномера подходит к красной черте. У меня настроение упало, думаю – все, конец! Муть в небе такая, что землю не видно вообще, никаких ориентиров – даже непонятно, куда тянуть. И вдруг выскакиваю вверх, а там чистейшее яркое небо, и впереди меня, буквально рукой подать, один «Фокке-Вульф» подставился. Я только и нажал на кнопку огня, ни доворачивать, ни прицеливаться не пришлось – настолько рядом он оказался, что могли даже столкнуться. Снаряды попали в цель, и «Фокке-Вульф» этот сразу перевернулся и ушел опять в эту муть. Я следом ушел, потому что остальные трое рядом были. Оказалось, что это после наземного сражения на высоте 4000 метров образовался слой гари, плотное одеяло, выше которого было чистое небо, а ниже плотная муть.
На душе сразу легче стало – до этого я не знал, в какой стороне наши войска, потому что мы все время маневрировали. Они по мне стреляют, я по ним стреляю – больше они по мне, конечно. За счет моего пилотажа с большими перегрузками им не удавалось меня сбить, но пробоины были. Когда я увидел чистое небо, сразу посмотрел на бортовые часы и солнце, и сориентировался, где север, где юг. Ну, думаю – теперь я с ними буду более-менее уверенно драться, стану тянуть на свою территорию. Вскоре заметил, что немцев осталась одна пара – я так понял, что повредил или сбил ведущего, и его напарник тоже ушел.
Поскольку бензин уже был на исходе, я невольно стал о плене думать – для меня это было страшно, очень боялся плена. Начал использовать эту гарь – выныриваю вверх, немцы выныривают за мной, я сразу вниз и отворачиваю в сторону. В итоге, не смогли они меня поймать и ушли. Я стал прикидывать, дотяну до линии фронта или нет – стрелка бензиномера совсем к нулю подходит. Наконец, увидел на земле разрывы, характерные для линии фронта, немножко пролетел, и мотор начал давать перебои. Думаю – надо планировать подальше, чтоб артиллерия на земле не расстреляла. Затяжелил винт, чтоб меньше лобовое сопротивление было, планирую, а сам думаю – куда же я упаду? И опять везение – смотрю, впереди полоса! Настоящая полоса! Я на эту полосу – плюх, и сел.
– На шасси? Это ведь опасно, на самом деле?
На шасси, выпустил шасси и сел. Думаю – как это так повезло? Почему я сел на такое ровное поле, не скапотировал, ничего?
– Скапотировать не боялись? По инструкции Вы на брюхо должны были садиться?
Конечно, я должен был садиться с убранным шасси, но само собой так вышло, механически – увидев ровное поле, я шасси выпустил. Вылез из самолета, стал рассматривать пробоины. Думаю – где я нахожусь? Смотрю, ко мне «Виллис» мчится. Подъезжает офицер, поздоровался, спрашивает – что случилось? Отвечаю – топливо кончилось. «Садитесь, к генералу поедем». Подъезжаем к окраине поля, там замаскированный блиндаж, оказывается, в нем авиационный генерал и несколько офицеров. Оказалось, что я сел на аэродром подскока. Генерал расспросил, что и как, поблагодарил меня за то, что я спас штурмовика. Оказывается, тот отстал, фотографируя результат удара, и потом благополучно долетел домой. После вопросов генерал отпустил меня. Подъезжаю к своей машине, а возле нее уже топливозаправщик стоит. Оказывается, на этом аэродроме заправлялись самолеты, летающие в тыл противника со всякими спецзаданиями.
– Со штурмовиками дружили, или бывали разногласия, когда теряли друг друга, допустим?
Очень часто мы не знали, куда они летят.
– Базировались на разных аэродромах?
Даже если на одном аэродроме базировались, все равно не знали!
– Общая постановка задачи не практиковалась?
Задача ставилась в форме «прикрыть штурмовиков» – и все, а куда они летят, где и какие цели – нет. Это была большая недоработка штабов, которая приводила к потерям и всяким недоразумениям. Ведешь воздушный бой иногда, противника отгонишь, надо штурмовиков догнать – а мы не знаем, куда они пошли. Взаимодействие было слабо отработано даже в Берлинской операции – мы сопровождали Пе-2 в первом боевом вылете в Берлинскую операцию, и все равно не знали, куда летим.
– А вообще, на земле встречались? В столовой или где-то еще пересекались со штурмовиками?
Да, вечером встречались. У них, конечно, вся грудь в крестах – мы беднее в плане наград были немного. Не случайно летчики говорили – страшнее наказания на фронте для истребителя нет, чем сопровождение штурмовиков, все время находишься в невыгодном положении, в обороне.
– Какие-то по этому поводу байки и шутки были?
Всякое бывало – сейчас не помню.
– Вас сбивали в воздушных боях?
Нет, в воздушных боях не сбивали, но зенитная артиллерия два раза подбивала. Первый раз на Курской дуге на брюхо садился, я рассказывал, а второй раз меня подбили в Польше, южнее Варшавы. На аэродроме в районе Демблина, где мы стояли, немцы при отступлении оставили склад боеприпасов, на котором было много бомб. У нас родилась идея отвезти немцам их обратно. Наши вооруженцы быстро приспособились к трофеям и начали нам их подвешивать по две пятидесятки, а точнее, шестидесятки. Командование разрешило бомбить и штурмовать не в ущерб ведению разведки, и мы, по сути дела, терроризировали транспортное движение в ближнем тылу у немцев – по сути, что они в 1941 году у нас делали, теперь мы делали у них. Обстреливали легковые машины с начальством, грузовики с живой силой и грузом. И вот, один раз рано утром я полетел на разведку в паре с ведомым. Пересекли линию фронта и вышли на железную дорогу Варшава – Радом…
– У Вас ведомый постоянный был, или разных брали?
В основном, постоянный, но они менялись, сегодня он ведомый, а завтра вырос и уже ведущий. Пополнение приходит – нового ведомого берешь. Выходим на железнодорожный разъезд, а там идет разгрузка эшелона – большое количество людей, много всякой техники. Кругом лес. Штурмовиков я вызвать не мог, да и пока они долетят, немцы все расползутся. Я ведомому даю команду – будем штурмовать! Первым заходом сбросили бомбы, потом из пушек прошлись. Зенитного огня не было, но на третьем заходе появилась где-то батарея, видимо, не сразу развернулась, и открыла по нам огонь. Высота малая была, облачность низкая. Слышу, ведомый докладывает: «Командир, за Вами тянется шлейф дыма!» Ох, ты ж! Я повернулся, посмотрел – точно, есть дым. Следом красные искры начали появляться в кабине. Я сразу разворачиваюсь в сторону своего аэродрома, а сам молю бога, чтобы дотянуть, чтобы мотор не заклинило – до Вислы, за которой наши войска, километров 40 было. Высота 500 метров, а она позволяет вести огонь по самолету из любых средств, и стрелкового оружия тоже.
Гляжу, Висла появилась. Думаю, не упасть бы в воду – она широкая там! Двигатель тянул, но уже начал как-то работать по-другому, тон изменился. Масло постоянно забивало очки, приходилось их все время вытирать. Ведомому дал команду выйти вперед и вести меня, потому что совсем плохо видел. Проскочили Вислу – слышу, ведомый кричит: «Командир, выпускай шасси, впереди аэродром!» Какой аэродром? Под нами лес, по моим данным, не было там никакого аэродрома. Он настаивает – выпускай шасси! Я выпустил. Опушка леса кончилась, я очки протер хорошенько, смотрю – впереди действительно аэродром. Убрал газ, и на малых оборотах винт встал – двигатель заклинило, и машина посыпалась. Удержал я ее все-таки, посадил нормально. Остановился, вылез из самолета, смотрю – от носа до хвоста весь фюзеляж в масле, на землю капает. Ну, думаю, слава богу – мотор вышел из строя, а самолет целый. Оказывается, была повреждена маслосистема. Ведомый сделал круг и ушел. Через несколько часов прилетел По-2, привез техников. Они определили – надо мотор менять. Потом поставили другой мотор, и я продолжал летать на этом самолете.
– В чем летали, в каком обмундировании?
До 1944 года мы летали в комбинезонах, да и просто так, в хлопчатобумажных гимнастерках. Зимой гимнастерки были шерстяные. В 1944 году нам выдали очень симпатичную и удобную американскую форму. Такая легкая, теплая, брюки с молнией сверху донизу.
– Эти штаны и куртки, как правило, шли в комплекте с импортной техникой.
Может быть, Василий Сталин побеспокоился – обмундирование у нас было шикарное.
– С орденами летали? Документы брали с собой?
Да, ничего не снимали. У меня первый орден Красного Знамени об лямки парашюта немного стерся. Их еще и переделывали, чтобы не потерять, колодки снимали и винт под гайку припаивали, чтоб не отрывались.
– Фронтовые 100 граммов каждый вечер наливали? Строго 100 граммов, или от количества вылетов зависело?
Каждый вечер. Полагалось 100 граммов, но когда потери идут, получают и на выбывших. На Курской дуге первые три дня были очень большие потери, так нам по 150-200 граммов доставалось.
– Любители, которые излишне увлекались, были?
Знаете, как-то и времени не было на это. Мы утром затемно выезжали на аэродром, вечером уже в темноте возвращались. Уставали сильно, так что не до пьянки было. Когда погода плохая, полетов нет, тут иногда и могли…
– Чем еще занимались? На танцы ходили, в карты играли?
Нет, в карты не играли – в домино. Вечером там, где это возможно, ходили в клуб. Был такой смешной случай, произошел под Сталинградом. Мы сидели на аэродроме Пичуга, 25 километров севернее Сталинграда. Вечером решили пойти в кино. Там девчат было много из подразделений обслуживания, из БАО – такие красивые все, в военной форме, подтянутые. Мы в военторге купили одеколон, освежились, как следует, вышли, потушили свет – у нас керосинка была. Сержант Сережа Маматов вышел: «Ребята, подождите, я забыл поодеколониться!» Вернулся, идет, мурлыкает какую-то мелодию. Заходим в здание, где кино должно быть, куртки сняли, смотрим – все на нас оборачиваются. Кто рукой показывает, кто смеется. Девчата лицо закрывают руками от смеха. Оказывается, Маматов в темноте схватил впопыхах вместо одеколона пузырек с чернилами, да и полил на себя от души. Я на него глянул – как черт! Смеху было…
– Летчики считаются народом суеверным. Были у вас какие-то приметы в полку?
Мы перед полетом не брились. Но один раз случилось так, что эта примета не сработала. Я уже разведчиком был. Погода стояла никудышная – низкая облачность, облака космами до земли свисают, дождь идет. Во второй половине дня я решил побриться, только закончил – вызывают на КП полка. Прихожу, начальник штаба майор Пономаренко говорит: «Вам задание. Надо пробиться на станцию Блоне, западнее Варшавы. По данным, которые имеются в штабе воздушной армии, там большое скопление количество эшелонов – надо выяснить, что там происходит. Из других частей разведчиков посылали, но из-за погоды они не смогли пробиться. Попробуйте, но на рожон не лезьте, если что». Думаю – вот это да, я ж только побрился!
– Отказаться не было возможности? Некоторые летчики говорили, что командиры не посылали в таком случае на вылет.
Приказ есть приказ. Может, где-то и было такое, но я полетел. Ведомым мне дали лейтенанта Перминова из другой эскадрильи – летчиков мало было. И вот, летим мы на высоте 50 метров, дождь, видимость отвратительная, местами облачность до самой земли опускается. Мы ее обходим, пробиваемся. Я вспомнил, что Пономаренко сказал вернуться, если совсем прижмет. Думаю – нет, все же попробуем! В общем, дошли мы до станции Блоне, но нас там встретили. Чтоб точнее выйти на станцию, я сначала нащупал железную дорогу, и по ней уже вышел на Блоне. Видимо, где-то по дороге засекли наш пролет и передали на станцию.
– «Компас Кагановича», было у вас такое выражение?
Да, это использовали. Такой по нам огонь открыли, фейерверк настоящий! Я сделал круг, фотографировать нельзя было – высота маленькая, да и освещенность слабая, мрак. Посмотрел внимательно, что происходило на этой станции, и решил уже уходить, гляжу – ведомого нет. Я разворачиваюсь, лечу в обратном направлении – может, влетел в облако, оторвался? И там его нет. Вернулся я без ведомого, доложил результаты разведки. Оказалось, что разведка получилась очень ценная. Сам все про ведомого думаю – как же так, куда он мог деться? Подумал, что он оторвался в такую погоду, не нашел свой аэродром. Через пару дней улучшилась погода, и Перминов прилетел. Оказалось, что он улетел аж на 4-й Украинский фронт, и там на последних литрах топлива сел на случайно попавшийся аэродром. Что с ним случилось? Когда мы делали облет этой станции, бронебойный 37-миллиметровый снаряд, болванка, попал в кабину, срезал шнур шлемофона и оставил в фонаре дыру. Если бы Перминов сидел в кресле ровно, то ему оторвало бы голову, а он наклонился вперед, всматривался в лобовое стекло, и это спасло его. Я думаю – ну, теперь я в эту примету не верю, буду бриться!!!
– А про примету не фотографироваться перед полетами слышали? Только вечером, после вылетов?
Да, такое тоже у нас было.
– Вы не только визуальную разведку вели, но и фотографировали?
У нас фотоаппараты сзади стояли, АФА-И, снизу в фюзеляже было вырезано отверстие под объектив. Фотографирование – испытание нервов страшное, заходишь на фотографирование, надо держать постоянные скорость, курс и высоту, а для зенитчиков это то, что надо.
– С каких высот фотографировали?
Примерно, 1000-1500 метров, скорость при этом порядка 350-400 километров в час. Фотоаппарат – щелк-щелк-щелк – дает полосу снимков с наложением, с перехлестом.
– Новые самолеты приходили уже с фотоаппаратами, или техники в полку ставили?
Нам, когда в сентябре 1944 года сформировали разведгруппу, прислали фотоаппараты, и техники сами устанавливали их в фюзеляжи и монтировали управление в кабине. Теоретические занятия провели по использованию, много фотографирований было.
– Сколько у Вас всего боевых вылетов?
311 боевых вылетов, из них 103 на разведку, порядка 30-35 воздушных боев, 6 сбитых. Остальные вылеты на сопровождение, и только несколько боевых вылетов на прикрытие войск. При вылетах на разведку я произвел 90 бомбометаний.
– Ну, понятно, у каждой части своя специфика была.
В Берлинскую операцию командир дивизии Василий Сталин получил задачу сопровождать пикирующие бомбардировщики Пе-2. Я своей эскадрильей на Ла-7 сопровождал полк пикировщиков. Встречались с асами берлинского неба, не дали им сбить ни одного бомбардировщика.
– «Асы берлинского неба» – это название такое? Или вы среди себя их так в шутку называли?
У них же там аэродромы ПВО, они всю войну защищали Берлин от американской авиации. Ну, а потом пришлось им с нами иметь дело. Это очень запоминающийся период войны, Берлинская операция. Я помню, когда мы получили задание бомбить Берлин, точнее, сопровождать бомбардировщиков, и я прокладывал маршрут, конечным пунктом которого был Берлин, то даже почувствовал себя как-то по-особому. Начал вспоминать Сталинград, Курск, Днепр, Польшу, думаю – а ребятам не удалось дойти!!! Я и сам не думал дойти до такого великого события, как ударить по логову фашистов. По заданию мы были должны обойти Берлин с севера и ударить по западной окраине, но, когда подлетели к Одеру, ведущий полка бомбардировщиков запрашивает меня: «Вы не будете возражать, если мы пойдем прямо через центр города?» Ну, конечно, я не стал возражать, думаю – молодец! Хотя, безусловно, это рискованно было, ПВО мощная, но на Берлин очень хотелось посмотреть. Мне в этот напряженный момент вспомнились слова курсантской песни: «За вечный мир в последний бой лети, стальная эскадрилья». Слышали?
– «Пропеллер, громче песню пой, неся распластанные крылья», ага.
Я подумал тогда – еще до войны курсантами строем ходили, пели браво эту песню, и никто не думал, что через пять лет в Берлине все это закончится. Ну, конечно, «Пешки» как долбанули по западной окраине города, песочная и кирпичная пыль покрыла все пространство. Вышли на юг. Потом второй боевой вылет…
– Много вылетов на Берлин было?
Нет, не много. Через несколько дней наши войска вышли на окраины города, и бомбардировщиков вообще перестали пускать туда. Штурмовики, по ходатайству наземного командования, действовали без оружия, просто летали над городом. Как только образовывался какой-то очаг сопротивления, они туда пикировали, немцы прекращали вести огонь и прятались, чем наши бойцы и пользовались.
– Я такого не слышал, очень интересно!
Запомнилось, как в День Победы, 9 мая, Василий Сталин поздравил нас и приказал ехать в Берлин, к рейхстагу. Мы стояли на аэродроме Фюрстенвальде, это 30 километров восточнее Берлина. Сели мы на грузовики, летный состав, и поехали. Приехали в город – развалины сплошные. Регулировщицы были такие лихие девчата, флажками показывали дорогу – кое-как добрались до рейхстага. У Бранденбургских ворот наши ребята гуляют – все виды вооруженных сил – пехота, авиация, танкисты. Небо чистое, день такой погожий, гармонь играет, все поют, обнимаются, и над куполом рейхстага красное знамя. Решили мы пройти вовнутрь, но не получилось, у входа везде стояла комендатура, охрана. Оттуда еще дым шел, внутри что-то горело. Говорят – там еще небезопасно. Ну, я, как и остальные все, на стене нацарапал свой автограф. Вернулись на свой аэродром, написал домой письмо: «Не волнуйтесь, я жив и здоров».
– Вопрос такой. Василий Сталин – личность очень противоречивая, с одной стороны, говорят, был самодур, от него можно было чего угодно ожидать. Другие говорят – очень заботился о летчиках. Вы что-то о нем можете рассказать, какое Ваше мнение?
Я могу сказать следующее. Он у меня проверял технику пилотирования на спарке УЛа-5. Я, неплохо летал, и он поставил отличные оценки. Это мне очень понравилось, конечно. Это свидетельствует о том, что он знал летное дело, сам летал и знал, кто как летает. Второе, что я о нем могу сказать – Вы правильно заметили, он проявлял заботу о летчиках. Когда планировалась война с Японией, командир соседней эскадрильи Отлесный заболел, уехал в госпиталь, и мне приказали принять его эскадрилью и ехать на Забайкальский фронт. Пока штабники возились с оформлением, время было упущено, и эшелон, который мы должны были занять, ушел. Мне приказали с эскадрильей ехать самостоятельно. А после войны такая на дорогах творилась кутерьма! Сталин мне выдал документ: «Комендантам железнодорожных станций. По маршруту Берлин – Чита обеспечить незамедлительный проезд команды капитана Гордеева. Василий Сталин». Подпись, печать. Мы до Варшавы доехали на попутном эшелоне, высадились на перроне, смотрим – стоит экспресс Варшава – Москва, вагончики блестят. Картинка! Ребята говорят – вот бы на таком прокатиться до Москвы! Я и подумал – давай, попробую?! Пошел к коменданту станции с этой бумагой, а там группа старших офицеров толпится – никто не может попасть к нему. А я капитан! Ну, кое-как пролез, удалось войти в кабинет – а там пять полковников стоят.
Комендант как увидел меня: «Товарищ капитан, выйдите отсюда!» Я не выхожу. Один полковник-пехотинец, с красными погонами, говорит: «Вы что, хотите под трибунал? Вы не знаете, что за неповиновение бывает?» Я думаю – если сейчас выйду, тогда все, точно заберут. Подхожу к столу и кладу эту бумагу. Комендант видит, что я как-то странно себя веду, взял эту бумагу. Честно сказать, я не ожидал такого, что произошло дальше. Он сразу подобрался весь, вытянулся: «Товарищи офицеры, прошу всех выйти, а Вам, товарищ капитан, приказываю остаться». Все зашумели – как же так? Но с комендантом вступать в споры никто не захотел, в конце концов, всем надо получить посадочный талон – и вышли. Он оправдываться начал: «Извините, пожалуйста! Знаете, такая собачья должность! Вы не докладывайте, пожалуйста, товарищу Сталину». Я пообещал не докладывать. Он выдал посадочные талоны, пожелал счастливого пути. Я выхожу, ребятам говорю – едем! Они – урррааа! И мы сэкономили четверо суток, на экспрессе приехали в Москву. Я думаю – надо, наверное, использовать это время с пользой, чтобы спустить деньги! У летчиков и за сбитые самолеты, и за другие всякие достижения положены деньги были…
– Денежка была в кармане?
Да, денежка была. Короче говоря, кто домой отослал, кто в ресторанах погулял – за четыре дня карманы опустели. А у меня отец служил в Москве, в Наркомате Военно-Морского Флота, в команде матросов, которая несла там караульную и прочую службу. Я решил с ним повидаться, приехал, но там сказали, что мой отец уже демобилизован и отправлен на сборный пункт. Я нашел это сборный пункт, нашел отца. Он подумал, что я в отпуск еду, обрадовался – поедем домой вместе! Нет, говорю – рановато мне еще. Сказал, куда я еду. Он помрачнел. Ну, говорит – желаю тебе успеха! Вот такая забота Василия Сталина – не дай он мне эту бумагу, я не знаю, как бы добирался…
– Его фамилия делала свое дело, открывала все дороги.
Когда на Дальнем Востоке закончились боевые действия, я с этой бумагой обратно приехал в Германию. Нам воевать с японцами не пришлось, потому что нас готовили для боевых действий по островам. Когда начались боевые действия, они настолько успешно проводились, что Хирохито хватило ума капитулировать – не то, что Гитлер, который до конца бессмысленно воевал. Японский император капитулировал, и поступил правильно, хотя и воинственный самурай.
– А к чему вас там готовили? Опять к сопровождению штурмовиков?
Задача сопровождения, да. Там Ла-7 были и «Аэрокобры», их туда понагнали массу.
– Еще вопрос. Зачастую отношение к политработникам и особистам у фронтовиков негативное было. У вас политработники летали?
У нас не летали. Хотя, нет – Бинов летал. В некоторых полках летали политработники, у нас не летали.
– Отношение к ним нормальное было? Некоторые летчики говорили – сам не летает, а летать учит, ушел бы лучше и не мешал!
Да, не сильно уважали. А вот, скажем, командир полка летал – я ведомым ходил несколько раз с командиром полка. Конечно, это очень ответственная задача, потому что, если собьют командира полка – лучше домой не возвращайся. Полковник Иванов, командир дивизии до прихода Сталина, тоже летал, и у него я бывал ведомым.
– Николай Васильевич Семенов, командир 165-го полка – расскажите про него?
Спокойный, порядочный человек, мы его батей звали. Правда, один раз он немножечко показал себя. Это был эпизод Берлинской операции, первый день. Мы приехали на аэродром. Обычно предварительное задание уже готово, а тут ничего не было известно. Темно еще было, и я разрешил ребятам добрать немного, поспать, да и сам тоже возле телефона задремал. Вдруг кто-то меня будит, прибежал посыльный со штаба: «Командир, «Пешки» на подходе!» Я смотрю – светло, и сразу дал команду: «По самолетам!» Все проснулись, побежали. Слава богу, у нас все готово было к запуску. У меня ведомый был молодой, лейтенант Дзема, молодец – смотрю, тоже за мной успевает. Запустил двигатель, выруливаю на взлет – а там батя стоит с пистолетом, ругается, матерится. Я догадался, что матерится, потому что его не слышно, конечно – двигатель шумит, но он пистолетом размахивает! А мне надо развернуться на полосу, взлетать надо – «Пешки» вот они уже, подходят на высоте 1000 метров, четыре девятки. Если без сопровождения уйдут – это же катастрофа! Ну, что делать? Я затормаживаю левое колесо, даю газ, разворачиваюсь почти на месте – и струя воздуха от винта сдувает его вместе с пистолетом. Мы с ведомым быстро взлетели, Пе-2 не надо даже было делать ни петли, ни круга. Смотрю вниз – из желтой, глинистой пыли как из катапульты выстреливают в чистое небо истребители. Пересчитал – все 12, все собрались, встали на свои места, пошли. Куда летим – не знаю, смотрю – слева Франкфурт, крыши красные. Над Франкфуртом тут появилась группа «Аэрокобр», по ним начала лупить зенитка, и, смотрю, прямое попадание в одного – видно, в топливный бак. Взрыв – и первая жертва, которую я увидел в Берлинской операции. Потом, когда Франкфурт пролетели, я понял – летим на Зееловские высоты. «Пешки» там отбомбились. Атаковали нас несколько раз «асы берлинского неба», но у них ничего не получилось. Я ожидал, что они более воинственные будут!
 – Ну, им уже не больно хотелось в последние дни погибнуть, наверное?
– Ну, им уже не больно хотелось в последние дни погибнуть, наверное?
Наверное, они уже думали, что не стоит головы складывать.
– Кстати, не было такого ощущения, что обидно было бы пройти всю войну и погибнуть в последние дни? Не было желания поберечь себя?
Вы знаете, нет. Было какое-то возбужденное состояние, инстинкт самосохранения был притупленным.
– Слышал, что летчики, которые 2-3 года воевали, говорили в последние дни и недели войны – я свое отвоевал, пусть молодежь воюет, которая только что пришла и в бой рвется…
Нет, такого не было. Почему? Потому что мы видели нашу мощь. В Берлинской операции участвовало более 7000 наших самолетов, кругом была наша мощь, на земле и в воздухе. Машины у нас были новые, Ла-7 – появилось чувство превосходства и уверенности. Было только желание добить врага быстрее. И когда Пе-2 отбомбились и пошли на свой аэродром, – мы в определенном месте от них отходили, – я вспомнил про переполох на взлете. Ну, думаю, сейчас прилечу, что будет? Сели, начали самолеты готовить ко второму вылету, а я пошел на КП, докладывать результаты вылета начальнику штаба. Спрашиваю – почему такой переполох получился? Не было же предварительного задания, как обычно утром. Он мне: «Идите, готовьте эскадрилью к повторному вылету, все нормально». Думаю – сейчас батя меня вызовет, пропесочит за то, что я его уронил, но он промолчал, ни слова не сказал.
– Значит, правоту Вашу чувствовал. Скажите, особистов в полку побаивались?
В общем-то, это были особые люди. Старались подальше от них держаться, чтобы лишний раз не ляпнуть чего-нибудь. Каких-то примечательных случаев, связанных с ними, у нас не было.
– Спасибо за интересную беседу, Анатолий Николаевич.
| Интервью и лит.обработка: | А. Пекарш |