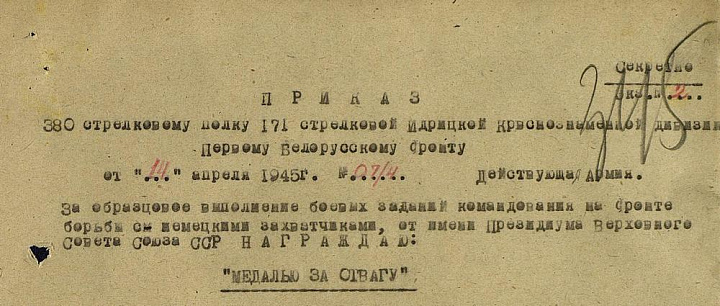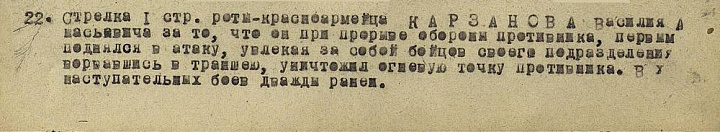Ветеран, интервью с которым предлагается вашему вниманию, - один из последних участников штурма рейхстага в апреле 1945-го года. К сожалению, в 2013 году по ошибке умерший в Санкт-Петербурге Николай Беляев был назван последним участником взятия рейхстага. На самом деле от двух дивизий, участвовавших в этой операции, по нашим данным, сейчас (по состоянию на июль 2017 года) осталось в живых как минимум около десяти ветеранов. Из тех, кто воевал в тот период в составе 171-й стрелковой дивизии и действовал в составе батальона К.Я.Самсонова, нам известны трое, это — Игорь Павлович Воровский (1922 года рождения, бывший командир минометного взвода минометной роты 380-го полка, его воспоминания есть на сайте), Василий Афанасьевич Корзанов и Григорий Дмитриевич Дайнеко. Их воспоминания также опубликованы на нашем сайте.
В.К. Я родился 9-го мая 1926-го года в селе Семцы Почепского района тогда еще Орловской области. Мой отец, Афанасий Демьянович Корзанов, родился еще в 1899 году. Когда началась Гражданская война, он в таком же, как и я, возрасте, или же немного постарше, призывался в только что созданную Красную Армию. Кажется, это произошло в 1918-м году. Воевал он на деникинском фронте.
И.В. О войне он рассказывал?
В.К. Рассказывал. Помню, когда однажды я пришел со школы, то стал выполнять задание учителей. Я тогда по их указанию заклеивал в учебнике портреты первых советских Маршалов Александра Егорова и Михаила Тухачевского. Как только отец это увидел, то спросил: «Что это, мол, такое?» Я ответил: «Нам в школе так сказали: заклеить их фотографии, потому что это «враги народа». Отец, помню, этим очень сильно возмутился: «Да как такое может быть? Если они «враги народа», то как мы могли под их началом воевать? Тухачевский у меня был командиром полка, а Егоров — командиром дивизии. Разве мог «враг» делать такие дела?» Короче говоря, он очень этому удивился. Это произошло в период 1937-1938 годов. Вообще тема гражданской войны в те годы считалась чем-то модным и героическим. Василий Иванович Чапаев — это для нас, молодежи, была самая настоящая легенда.
Еще, вспоминая Гражданскую войну, отец рассказывал о том, что когда он воевал на Южном фронте, они влились в какое-то большое соединение и остановились недалеко от Тулы. Так вот, там в каком-то месте перед ними выступал тогдашний председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий. Отец рассказывал о его выступлении. «Мы стояли два часа и слушали его, - поведал мне он. - Он был большой такой оратор. Он говорил нам такую речь: «Мы Тулу не можем сдать. Что для нас Тула? Тула — это у нас оружейные заводы и прочее». Видимо, этот эпизод, связанный с Троцким, ему очень хорошо запомнился. Еще он вспоминал о том, что когда они стали дальше наступать на юг, то у них что-то было плохо с питанием. А они же шли тогда по Украине, где стояли сахарные заводы. Сахар там делали кусковой, крепкий. Так их, рассказывал отец, эти куски сахара здорово выручали. Кроме того, отец рассказывал и такие вещи: бывало, проходишь разными местами, как встречается повешенный на телеграфном столбе солдат, а на нем висит табличка - «Земля и воля». И так они дошли до Крыма. В Крыму, как вспоминал отец, белогвардейцы цеплялись за корабль, чтобы только на нем уехать. Не так давно, когда я находился в Москве в качестве председателя Нарвского городского Союза ветеранов Великой Отечественной войны, то встречался с нашими соотечественниками-эмигрантами. Так они были потомками тех самых белогвардейцев. Но я, честно говоря, не питаю восторженных чувств по отношению к потомкам белых. Мой отец был простым крестьянским мужиком и о белогвардейцах был не лучшего мнения.
После того, как война закончилась, отец демобилизовался. Он вернулся в свою деревню — село Семцы, стал вести хозяйство. В 1929 году началась коллективизация и организовались колхозы. Отец вступил в колхоз. Тогда же все жили вместе. Вместе с моим отцом жили мой дедушка, его отец, и брат отца. Это только потом все стали разъезжаться по разным домам. Так как отец был человеком, хорошо знавшим сельское хозяйство, его как специалиста избрали заместителем председателя колхоза. В таком «чине» он пробыл до начала Великой Отечественной войны. В Финскую компанию его опять забрали в армию, но на непосредственный фронт не направили. Их сколько-то там продержали, как вдруг эта война закончилась. Во второй войне, как и я, он тоже участвовал. Но попал в плен. Мать мою звали Александра Мартыновна.
И.В. Чем вам запомнилась довоенная жизнь?
В.К. Я ее провел в деревне. Надо сказать, именно это обстоятельство меня и закалило на очень многие годы. Сегодняшнему поколению трудно себе представить, что такое ходить босыми по лесу. Но мы во время летних каникул ходили по лесу и собирали там ягоды и грибы. Особенно много росло земляники. Такая шла у нас, подростков, жизнь. А если корова давила копытом землю, оставляла след, в котором собиралась дождевая вода, то мы ее от жажды частенько пили. Но от этого никто у нас не болел и ничем не страдал.
Раньше, пока была жива моя жена, я каждый год ездил к себе на родину. Сейчас так уже не поездишь. Не так давно мне прислали фотографию родительского дома. Напротив, через улицу, жила сестра, которая три года тому назад умерла. Теперь ее дом приватизировала младшая дочка. Старшая же ее дочка вышла замуж и уехала на Донбас. Три года назад, когда был день памяти сестры, эта дочка приехала в родное село и некоторое время там пожила. Потом мне прислали фотографии. Оказывается, они реставрировали наши могилы. Обычно в Эстонии люди идут на кладбище на Троицу. У нас же это бывает на Радоницу. В этот день на кладбище бывает просто не пробиться, чтобы хоть как-то прибраться на могилках. Поле того, как мне прислали фотографии четырех могил — сестры, ее мужа, мой матери и моего отца, я спросил сестру по телефону, которая живет в километрах 18 или 20 оттуда, в городе: «Сколько вы за это заплатили?» Она сказала: «Двадцать тысяч». Раньше могила была как будто бы одна и обносилась забором. Сейчас на каждого сделали такой, понимаешь ли, колпак.
Во времена моего детства, конечно, все было по-другому. Сейчас все понятия обо всем изменились. Так, у нас в деревне росла конопля. Но никому и в голову не приходила мысль ее курить. А сейчас, сам знаешь, ее каждый кому не лень курит. Дома у меня находится фотография, на которой были засняты моя мать и жена Катя во время уборки той самой конопли. Дело было вечером. Мы с женой тогда как раз приехали в отпуск домой к родителям. Это конопля оказалась высокая — быть может, была чуть пониже мамы и моей Кати ростом. Но встречалась, впрочем, конопля и повыше. Помню, когда начиналось время работ, женщины начинали копать картошку или еще что-нибудь. Для этого следовало убрать коноплю. Так у нас, как правило, вечером убирали эту коноплю, а днем делали другие работы на огороде. Помню, когда мы были школьниками, то приходили и, когда жгли эту коноплю, крутили жгуты — чтобы она не очень-то быстро сгорала. Жгли мы ее для того, чтобы нашим маменькам было видно, где ее собирать. Бывает, возьмешь связанную в пуки коноплю, подержишь над огнем кость с семенами и поджаришь. Она становится такой маслянистой. Ты ее как следует натрешь и жуешь. Но вот какая штука: с нами ничего не было, никакой дурман на нас не находил. А конопляное масло, кстати говоря, получалось тоже очень вкусным. Помню, оно очень приятно пахло.
Мне часто в иной раз вспоминается моя довоенная жизнь в деревне. Помню, у нас в селе стоял большой колхозный двор. Мы от него жили совсем недалеко. Там при входе располагался колхозный клуб. Дальше шел коровник, потом — одна, другая, третья кладовые, в которых хранились зерно, мед и прочее. Затем следовали овчарня и несколько конюшен. Посреди самого двора стоял колодец, из которого поили скот. Тут же находились телеги и повозки. В расположенной рядом кладовой лежал различный сельскохозяйственный инвентарь. Так вот, в середине того самого колхозного двора располагался небольшой домик. При входе там стояла мазаная печь с котлом, в котором варили картошку и прочие продукты для скота. Но всех, как говорят, не накормишь. Поэтому кому-то давали сырые продукты, кому-то — вареные. Как сейчас помню, в этом самом доме находилась маленькая комнатка, метров на шестнадцать, в которой у нас собирались местные мужики. У нас ее называли сторожкой. Собираясь, они рассказывали, как участвовали в войне, что им рассказывали их деды, которые участвовали в заграничных походах вместе с нашими главнокомандующими и пробыли сколь-то в других странах, вспоминали, какие там имеются обычаи. Одним словом, всех их в основном и больше всего интересовала военная тема. Затрагивали они и интимные вопросы. Гражданская война тоже обсуждалась, но не так активно, как заграница и всякие скабрезные истории. Порой мужики допускали матерщину. Они, конечно, не хотели моего присутствия там и из сторожки выгоняли. Но я забирался наверх и не дыша их подслушивал. В качестве «вознаграждения» за это я стал приносить домой клопов. Ведь они, бывает, натопят дом, становится тепло и туда сбегаются эти паразиты. Ведь чтобы натопить большой дом, требовалось очень много дров. А для такого домика много было не нужно. Эти клопы там обильно водились. Но в нашем доме их почему-то не бывало. Хотя мой отец участвовал в Гражданской войне, он туда не ходил. А эти мужики часто вспоминали не столько за себя, сколько за старика, который где-то в свое время бывал и им что-то рассказывал...
И.В. Работать вам приходилось в колхозе — помогать родителям, выполняя какие-то легкие работы?
В.К. Только во время каникул. А потом что-то очень быстро у нас началась немецкая оккупация.
И.В. Как для вас началась война?
В.К. В воскресенье, 22 июня 1941 года, наши деревенские жители, как обычно, отправились на рынок в районный центр — город Почеп, с тем, чтобы что-то продать и что-то купить. Но ведь на этот рынок приходили люди не только с нашего села, но и с других деревень и населенных пунктов. Естественно, что люди делились друг с другом информацией. И вот, как сейчас помню, возвращаются с района наши люди и сообщают всем нам страшное известие: «Война!» Уже потом в нашем селе установили громкоговоритель, по которому передавали знаменитое выступление Молотова. Потом всех мужчин, кого успели, забрали в армию. Но я об этом еще расскажу. При этом особо отмечу, что из 44 моих односельчан, призванных в армию и отправленных на фронт, вернулись домой только шесть человек. Остальные остались там. В основном они числятся без вести пропавшими.
После этого прошло какое-то время. Однажды в маленькое гречишное поле прямо на моих глазах упал советский самолет. Мы позвали двух мужчин спустить фонари, чтобы все это можно было рассмотреть. После того, как я увидел трупы двух наших летчиков, я несколько дней не мог заснуть. Такое впечатление на меня произвел этот горький запах смерти. Вот так мы были подготовлены к войне. Мы были, можно сказать, мальчишки.
Вскоре после того, как началась война, у нас стали призывать людей в армию (тех, которые не были призваны ранее, еще до войны). Это случилось 16-го августа. Так как в то время начались бомбежки, призывников записывали не в городе, а в лесу, где у нас размещались призывные пункты. Так вот, когда всех наших колхозников-мужчин забрали в армию (село наше было большое, в него входило несколько колхозов), то мне, 15-летнему пареньку, пришлось их сопровождать на пункт призыва. Для них я запрягал лошадь. Они клали туда свои сумки с сухарями и прочим, а я должен был их отвезти и потом вернуть лошадь. Что интересно: когда мы проезжали по лесу, отец рассказал мне такую историю. Он сказал: «Знаешь, в 1914-м году я 15-летним мальчишкой точно так же сопровождал наших мужиков, которые были призваны на Первую мировую войну». Он их до самого леса по этой же дороге, по которой ехал теперь и я, сопровождал в сторону города Трубчевска. Мужики, которых он сопровождал, были тогда уже стариками. Пока находились в пути, они между собой спорили. Одни говорили: «Пока мы доедем до места, наверное, и война кончится». Другие, наоборот, оспаривали это мнение. А один мужик показал на моего отца и сказал: «А знаете что, мужики? В этой войне и он будет участвовать». Так он предсказал ему судьбу. Ему пришлось воевать в Гражданскую. И точно такая же история повторилась и со мной. Ведь мне тоже в течение почти двух лет пришлось участвовать в боях.
От себя добавлю, что в ту пору служба в армии считалось очень почетным делом. С этим, кстати говоря, были связаны многие деревенские поверия. Они, конечно, были очень странными. Расскажу об одном таком случае. У нас еще до революции в нескольких километрах от села работал ликеро-водочный заводик. Когда в 1917 году началась революция и везде стали кричать о том, что все, что когда-то принадлежало помещикам, теперь считается народным достоянием, у нас один мужик набрал на этом заводе спирта или водки. Пока возвращался домой, помалу набрался и в пути Богу отдал душу. После этого проходит много лет. Наступает пора, чтобы кому-то жениться. А раньше с этим было как? Собираются родственники и говорят: «Пойдем сходим к той или той». Но у тех - свои правила. Говорят: «Нельзя, дедушка от водки отпрягся». Тогда они идут в другие дома. Там им говорят: «Нет, не отдадим. Раз в армию парня не призвали, значит, у него какой-то дефект». И сватам жениха ничего не оставалось, как идти в следующие дома.
В том же 1941 году у нас началась страшная жизнь под немцем, которая продолжалась где-то два года.
И.В. Расскажите о своей жизни на оккупированной территории.
В.К. Из жизни в оккупации мне вспоминаются многие моменты. Так, когда советские самолеты налетели колонну немцев бомбить, рядом проходила одна очень красивая девушка. Так она погибла. Перед тем, как к нам пришли немцы, около нашего села развернулись самые настоящие бои. Между прочим, тут же, прямо на месте, хоронили убитых наших бойцов. К примеру, на окраине нашего сада был похоронен один боец. Хоронил его наш сосед-мужчина. Это случилось уже после того, как немцы пришли к нам. Они заявились к нему и сказали, чтобы он похоронил лежащего у них в окопе бойца. Тогда сосед затащил его во двор и отдал ему последние земные почести. Сам погибший оказался родом из Смоленской области. Об этом я узнал благодаря находившимся при нем документам. Я их оставил себе. Но они, к сожалению, у меня не сохранились. Ведь мы два года находились в немецкой оккупации, была сплошная партизанщина, мы жили какое-то время в погребах. Короче говоря, все это пропало.
Как у нас началась фашистская оккупация? Все это я прекрасно помню. Еще когда немцев не было, а через деревню проходили наши войска, в нашем доме разместилась группа советских разведчиков. Мама подслушала их разговор и все мне передала. Они говорили о том, что между нашим районным центром городом Почеп и нашим селом (на этом расстоянии проходил километров на семь лес, а перед самым селом протекала речка, через которую был мост), у немцев что-то разместилось. Прошло какое-то время, и однажды вечером над нашим селом начали рваться снаряды, которые называли шрапнелью. Они, помню, летели в воздухе с таким поросячьим визгом и взрывались. После этого мы побежали в лес, но не в тот, в котором стояли, как нам говорили, немцы, а в противоположном направлении — за поселок Красная гряда, где был наш тыл. Как только наступило утро, мама вспомнила об одной важной вещи. Дело в том, что когда отец уходил в армию, он маме говорил: «Если будет угрожать какая опасность и вы будете вынуждены покинуть село, покидая родной дом, раскрывайте во всех сараях двери. Это нужно для того, чтобы не сгорел скот». А мы, как назло, оставили в селе все закрытым.
Ночью с некоторыми своими товарищами я ушел в село. В то время в селе уже находились немцы. Куда ни пойдешь, тебе говорят - «Стой!» И на каждом шагу останавливают. Но я все же пролез огородами к своему дому. Там я взял свою корову. Мои товарищи тоже взяли своих коров. Но тут приключилась новая напасть: нас не выпустили из села. Но огородами мы все же ночью из него вышли. Днем я смотался снова в село, а когда вернулся в поселок Красная гряда, то свою маму и трех сестер не застал. Дело в том, что когда я в первый раз пришел в село, на нас налетели немецкие самолеты. Я в это время находился в селе, в крытых окопах, которые мы сами делали, и насчитал на небе 36 немецких самолетов. В результате этого загорелся колхозный ток, на котором молотили пшеницу и рожь. Все это горело. Оттуда я убежал ночью и отвел коров.
Днем, оказавшись снова в селе, я вновь попал под бомбежку. Тогда я прибежал в поселок Красная гряда, но не застал там своих родных. Они убежали в лес. Почему? Расстояние от нашего села до этого поселка составляло каких-то полтора километра и никак не больше. Для самолетов, бомбивших село, развернуться и нанести уда по поселку не составляло проблемы. Для них это была ерунда. И так как над их головами нависла опасность, то они пошли дальше. А потом они оттуда вернулись в деревню. Поэтому когда я вслед за ними побежал в лес, то их уже не застал. Но там я застал своего дедушку по отцу — Демьяна Корзанова. Что же касается дедушки по матери Мартына, то он остался в селе и был убит у себя во дворе. Когда мы вышли на дом лесника, то там нам сказали: «Твои мама и сестры действительно были здесь, но еще вчера ушли в село». Через какое-то время в этих местах появилась женщина, искавшая свою сестру. Она нам сказала, что в селе уже находятся немцы. Мы с дедушкой решили возвращаться в село. Подходя к своему селу, увидели на улице маму, брата и трех сестер. Как только я к ним подошел, мама сразу же расплакалась. Они считали, что я попал под бомбежку и пропал. Появился немец, стал спрашивать: «Что это такое?» Ему показали на плачущую мать и объяснили: «Это муттер, муттер. Она плачет, что увидела своего сына». В то время, как я уже тебе говорил, немцы располагались в нашем доме.
Одним словом, после боя за деревню, который шел всю ночь и день, деревня оказалась занята немцами. Забегая вперед, отмечу, что в течение двух недель на наших полях проходила линия переднего края. Потом все-таки немцев выбили из села и фронт переместился на семь-девять километров. Это продолжалось где-то полтора месяца. Но потом наша армия снова отступила. Мы снова оказались под немцем, но на этот раз надолго: на два года.
Поскольку мужчин в деревне осталось очень мало (их забрали в армию и отправили на фронт), нам приходилось все делать самим. Сначала, как я тебе только что рассказал, немецкие самолеты сожгли село, в том числе и колхозный ток, где было сложено много скирд с урожаем. Потом начались бои. По этому полю стали ездить танки. Все это вдавило землю. Но некоторые колоски нашим все же удалось собрать, хотя что-то и осыпалось. Надо сказать, во время оккупации мы поступили таким образом: разделили землю по числу душ в каждой семье. Мне попал участочек, на котором был посеян овес. Сам он осыпался, а весной взошел. Мы успели собрать этот овес. Потом его обменяли на что-то. Затем сами стали что-нибудь сажать. Стоит отметить, что уйти далеко от села нам не предоставлялось никакой возможности, потому что немцы за это нас преследовали. Ведь рядом находились наши партизаны. Мы пахали и сеяли. Во время этих работ мне самому приходилось быть специалистом по посеву. Бывало, приходили солдатки, так у нас называли солдатских жен, мужья которых или погибли, или находились на фронте, и просили меня где-то вскопать, вспахать и посеять пшеницу и рожь. К сожалению, пахать было нечем. Лошадей не хватало. Помню, летом мы убрали картофельные поля и нормально перезимовали. Короче говоря, оказались полностью обеспеченными продуктами на следующий год. А потом наступила продолжительная весна. Никаких налогов немцам мы не платили.
У меня было три сестры (одна старшая и две других помоложе) и младший брат, появившийся на свет ровно через десять лет после меня. Вместе мы долгое время скитались по погребам. Немцы почти все село сожгли, но наш дом каким-то образом сохранился. Продолжительное время около нас стоял фронт. Потом немцев выбили из села. Но они все равно находились в 7 километрах от нас и посылали нам свои снаряды. Потом они снова пришли. Со временем, еще при немцах, мы вернулись в село. В результате всех этих скитаний мой брат Николай, видимо, простудился и перед самым приходом Советской Армии умер. Ему было семь лет.
И.В. Немцы в самом начале полностью сожгли ваше село? Где вы жили?
В.К. Село Семцы почти все сгорело. К счастью, наш кусочек улицы каким-то чудом все же сохранился (осталось два-три дома). Впрочем, во время пожаров при бомбежке такие вещи бывают обычным явлением: почти вся улица выгорит, а несколько домов все равно стоят. У нас семьи тех людей, дома которых сгорели, стали жить в специальных погребах, которые, как правило, находились немного в стороне от дома. Делались они по следующему принципу. Вырывалась яма, которая обставлялась по бокам и сверху бревнами. Наверху ставили такой, как у нас говорили, дуб: так в деревне называли дубовые пластины. В таких погребах или же в землянках наши люди и жили во время немецкой оккупации. Помню, когда во время бомбежки мы с моим дедушкой прятались в лесу, оказалось, что там уцелели какие-то колхозные постройки. Мы с дедом что-то от них притащили и построили в деревне жилой домик. В этом доме в конце войны мой дедушка уснул и не проснулся. А до того, как умереть, он мне еще писал на фронт письма.
И.В. А в лес жить не уходили от немцев?
В.К. А куда ты там денешься? Если ты там окажешься зимой, то непременно замерзнешь. Собственно говоря, мой братишка Коля потому и умер, что жил в подвале. Там он простудился, получил воспаление легких и в возрасте шести-семи лет ушел из этого мира. А самая старшая сестра скончалась совсем недавно: три года тому назад. Стоит отметить, что наша местность, по сути дела, являлась партизанской. Дело доходило до того (это началось после 1942 года), что ночью в деревне находятся партизаны, а днем — немцы. Веселое было время. Рядом находился поселок. Так его так и называли — партизанский поселок.
И.В. Как немцы вели себя в деревне?
В.К. Я помню только, что они приходили в дома и говорили: «Яички, яички давай!» Конечно, разговор о нашей жизни в оккупации может быть очень долгим. За два года мне пришлось многое испытать. Вспоминаются всякие подробности. Больше всего немцы, конечно, зверствовали в районном центре. Причем за свою деятельность они не несли вообще никакой ответственности. Помню, как-то раз шел я со своим другом, с которым учился в одной школе, от его дома к дому, в котором мы жили. Стали проходить кладбище. Рядом уже рассыпались все деревья. Потом смотрим: раздался хлопок, после которого побежал пригнувшись в сторону какой-то человек. Оказывается, немцы взяли одного мужика, привели на кладбище и заставили копать себе могилу. И вот он в снегу вырыл себе могилу. Тогда немец подвел его туда и выстрелил. Его родной брат согнулся и побежал. Когда мы шли, то увидели, как ему навстречу помчались немец и переводчик. Они, оказывается, что-то стреляли в этого мужика. Он жил в селе на порядочном от нас расстоянии.
Или еще, к примеру, случай. Километрах в 15 от нашего села в одну сторону располагался районный центр — город Почеп. Очень, между прочим, некрасивое название. Я не знаю, почему мои земляки до сих пор его терпят. Может, берегут его как историческое наименование, а может — делают это по каким-то другим причинам. В другую сторону, в 25 километрах в сторону Белоруссии и в 30 километрах в направлении на Россию расположен Трубчевск. Так вот, однажды в этом Трубчевске немцы вывели большую колонну арестованных и стали сопровождать их на реку Десну. К тому времени предусмотрительные фашисты прорубили на Десне во льду ров. Все пленники стояли чуть в стороне со связанными назад руками. А дальше происходило следующее. Какой-то немец, который стоял совсем недалеко, забирал одного, второго, третьего арестованного и толкал в этот проход во льду. Так один наш невольник со связанными руками рассчитал свои действия таким образом, что когда его специальный человек подвел к проруби для того, чтобы его толкнуть, оторвался, подскочил к нему и его кинул (а там же охрана стояла), а сам со связанными руками полетел на него сверху. У него были такие, видимо, мысли, что сам, мол, погибну, но и его с собой утащу.
По каким принципам немцы расправлялись с нашими людьми, никто не знал. По национальному признаку они это мало делали. Исключением были, правда, евреи. Мою первую в школе учительницу Раису Львовну расстреляли только за то, что она была еврейка. Помню, в 1941-м году, когда шло окружение наших войск и прорывались танки, у нас стали появляться наши солдаты. Они возвращались к семьям домой и куда-то разбегались. У нас, например, таким образом оказался Кошелев. Раньше, когда он воевал в Красной Армии, он был по званию лейтенантом. Все они переодевались в гражданскую одежду и разбредались кто куда. Так вот, этот Кошелев примкнул к партизанскому отряду. Кошелева назначили его командиром. Надо сказать, этот отряд отличался своим героизмом. Боясь этого Кошелева, немцы объявили местному населению: «Тот, кто покажет на Кошелева и его выдаст, тот получит большое вознаграждение в виде лошадей и прочего». Это означало что лошадей отберут у меня и у других. Через день после того, как немцы толкали в прорубь людей, по городу были расклеены листовки с такой надписью: «Кто сегодня лапти покупал на рынке, тот Кошелева видал». Как тут быть? Получилась какая-то издевка.
Этот Кошелев погиб уже в то время, когда в наши края вступала Красная Армия. Вообще-то говоря, Кошелева как командира партизанского отряда знала вся наша округа. Но в нашем районе действовал, кроме того, еще и партизанский отряд имени Ворошилова. У нас обычно 12-го июля, в Петров день, нанимали для скота пастухов. Далеко они его не угоняли. Рано утром по деревне шел пастух. Женщины выходили за порог и отправляли со двора коров. Моя мать тоже отправляла коров на пастбище. А тут вдруг наши женщины взглянули: а пастухи-то оказались незнакомые. Оказывается, эти «пастухи» пришли из отряда имени Ворошилова. Они что делали? Заманивали коровок в лес и там их резали. Так вот, когда Красная Армия уже подходила к нам, командир отряда имени Ворошилова послал своих бойцов, кажется, разведчиков к Кошелеву. Они пришли к нему и стали с таким гонором с ним разговаривать. Тогда этот командир приказал обложить дом Кошелева и расстрелять. Кошелев представлялся за свои действия к высоким наградам, но так бездарно погиб. Тогда командира Ворошиловского отряда судили. Но что с ним сделали, я так и не знаю. Потом, когда после этого прошло сколько-то времени, некоторые из наших женщин моим односельчанам поведали, что в деревнях осели какие-то коровы. Тогда наши ходили туда, забирали их и приводили к себе домой.
Из нашего села люди тоже частично уходили в партизаны. Так, например, у меня был дядя, который участвовал в Финской войне пулеметчиком и там обморозил себе руку, из-за чего ему ампутировали кисть. Его признали инвалидом войны. О Финской войне он почти ничего и не рассказывал. Говорят, финны на этой войне зверствовали. Но откуда он мог что-то знать? Он об этом ничего не говорил. Когда в одно прекрасное время у нас появились партизаны, то он с ними ушел в отряд. А дело в том, что еще до войны дядя работал на заводе в расположенном недалеко от нашего села поселке. Там пилили доски и выполняли прочую работу. И уже потом, когда началась война и немцы стали в нашу сторону продвигаться, наши инкогнито спрятали недалеко от лесозавода оружие. Дядя знал, где лежит это оружие, и так как партизанам оно было очень нужно, то ушел вместе с ними.
Немцы после этого сазу же забрали его семью - жену, дочку, двух сыновей-малолеток — и посадили в тюрьму. Это происходило в период знаменитого Орловско-Курского сражения. В то время немцы сняли из Африки какое-то соединение и бросили к нам на борьбу с партизанами. Они ходили по брянским тылам и наводили порядок. Посадили в тюрьму и семью дяди. Они сколько-то там находились. Евреев к тому времени уже всех расстреляли, а их пока еще нет. И однажды, когда к ним пришли их забирать, в основном это были, как правило, те местные, которые прислуживали немцам, жена дяди на них набросилась. Она им сказала: «Ничего, наша армия еще вернется и с такими, как вы, которые прислуживают немцам, рассчитается. Все вы — немецкие прихвостни». Одним словом, тетя решила, что дальше терпеть издевательства невозможно и поэтому пусть уж лучше фашисты быстрее ее кончают. «Все равно, - видно, решила жена дяди, - у нас безвыходное положение, отсюда уже не выйти. Так пусть это скорее свершится. Отсюда уже не выйдешь никак. Так пусть это все поскорее закончится со мной и моими детьми». В камере с ней сидел один старик. Так он на нее закричал: «Ну, сукина дочь! Как ты так могла?» «Пускай кончает!» - ответила она ему.
На второй день в камеру зашли несколько полицейских надзирателей и один немец. Что характерно: на руках этот немец держал маленькую собачку. Надзиратель тут же показал на нее. «Ну все, - решила она, - значит, участь моя уже решена. Сегодня меня уже прикончат!» Те ушли. Проходит после этого какое-то время, как вдруг к ним приходит полицейский и говорит: «Собирайтесь!» После этого ее, всех детей вывели на улицу и отпустили домой. Что это было такое? Все настолько, конечно, этому были удивлены. Это произошло после того, как в камере побывал немец. «Я не знаю этого немца, - рассказывала она уже после. - Я помню, что он был в форме и держал на руках маленькую собачку. И только это могу сказать. Полицейский стал нам говорить: идите, цу хаус. Мы не поверили своим ушам. Но нас отпустили».
У тети был брат, который через этого немца с собачкой носил ей свои передачи. Воевать ему так и не пришлось. В начале войны он выходил из окружения. Но в армии служил и к тому времени демобилизовался. Когда закончилась война, брат моей тети, у которой было трое детей, уехал в Москву и устроился там работать на стекольный завод. И однажды от него пришло письмо. В нем он сообщал, что видел того самого немца, который выпустил из тюрьмы тетю и был с маленькой собачкой. Как только он его встретил, то стал за ним следить. В общем, он смог выяснить, где он живет (идя за ним), где работает и прочее. В каком месте он точно работал, я уже сейчас и не помню. Потом сказал об этом моему дяде. Дядя поехал к нему и вместе они его встретили. Немец, конечно, их узнал и пригласил к себе в гости. Но при этом сказал: «Только жене ничего не говорите о моем прошлом. Смотрите, не проговоритесь». Как я понял, он работал на нашу разведку. А разведчики, знаешь, своих фамилий не имели — они проходили под какими-то другими фамилиями. Фактически он спас семью моего дяди. Ведь тете от фашистских тюремщиков грозила самая настоящая смерть. После того, как их отпустили, она все равно жила под страхом: только бы день протянуть...
Конечно, каждый из нас имел возможность уйти в партизаны. Но если ты был молодой, то должен был при этом понимать: с твоей семьей в таком случае будет покончено. Поэтому уходили или те, у кого никого не оставалось, или целыми семьями. Например, как только семью дяди отпустили домой, она перешла к нему в отряд.
И.В. А евреев когда у вас расстреляли?
В.К. Я тебе, кажется, рассказывал про то, что во время оккупации была расстреляна моя первая учительница Раиса Львовна: только за то, что она была еврейка. Еще до войны, в годы советской власти, недалеко от нашей деревни действовало учреждение, которое называлось птицекомбинат. Там держали курочек и других пернатых птиц. Когда началась война, на этом месте наши стали копать противотанковый ров. В это время немцы стали бросать на них листовки, которые оказались следующего содержания: «Девочки-беляночки, не ройте эти ямочки. Эти ваши ямочки проедут наши таночки». Уже потом, когда этот район заняли немцы, они на этот птицекомбинат согнали всех евреев. Но, насколько мне помнится, не только евреев. Но семью моего дяди забрали после и здесь она не находилась. Дело происходило зимой. Там же немцы и расстреливали людей. Местные мне потом рассказывали о том, что там творилось. Женщина несет на руках своего ребенка. Подходит немец, бьет прикладом ребенка, женщину — в затылок, и они падают в противотанковый ров. Но вот что меня больше всего удивляет. Ведь у нас жили евреи, которых немцы сначала не расстреляли. Они шили для фашистов шапки-ушанки или еще что-нибудь. Потом наступило время, когда немцы стали расстреливать и всех остальных. С нашей стороны и близко к городу подходил лес. Эти евреи могли запросто уйти в лес к партизанам. Но хотя евреи знали о том, что их будут расстреливать, ни один из них туда не ушел. Они продолжали сидеть до тех пор, пока немцы их не собрали и не расстреляли.
Так что, находясь в оккупации, мне пришлось пережить самый настоящий ужас. Именно поэтому, когда, уже пройдя фронт, я в честь Дня Победы выступал на митинге в своем полку (мне тогда было всего 19 лет), про меня сказали: «А сейчас выступит самый молодой ветеран полка, который два года прожил в оккупации». Но я, честно говоря, не понимал только одного. Во время войны у нас в части проводились показательные расстрелы тех, кто струсил в бою или куда-то на время подался. Зачем это было нужно? Меня не было никакой нужды агитировать идти воевать против немцев. Сама жизнь в оккупации и так меня на это сагитировала.
Из жизни в оккупации мне, например, помнится и такой эпизод. В октябре 1942 года, когда у нас стали появляться партизанские отряды, а мы жили в это время в погребах или землянках, шел дождь со снегом. И однажды часов в 11 вечера, в довольно-таки темное время, мы увидели такую картину: вспыхивает ракета, за ней — пулеметная очередь, потом поднимается вторая ракета и за ней вновь следует пулеметная очередь. Через какое-то время все это прекратилось. А утром местные полицаи стали ходить по нагим домам и что-то искать. Оказалось, что накануне немцы зашли в деревушку, которая располагалась на опушке леса, и пригнали туда за восемь километров женщин, стариков и детей. Всех этих жителей они расстреливали в эту слякотную погоду под вспышки ракет у канавы. Утром они спохватились, что у них не хватает одной головы. После окончания войны я узнал, что единственной выжившей оказалась семилетняя девочка, которая прошла два километра через улицы нашего села. Она пришла к своей тете, которая ее и спасла.
И.В. В полицаи шли ваши местные жители?
В.К. От них толку было мало. Честно говоря, я бы не стал злобствовать по поводу полицаев. Как правило, у нас чаще людей вынуждали идти в полицию. Мне, например, и моему товарищу повезло в том отношении, что наш возраст не позволял становиться ими. Ведь когда нас освободили от немцев, нам только исполнилось по 16-17 лет. А у тех возраст от нашего сильно отличались. Они, между прочим, прямо всем заявляли: «Кто не с нами — тот против нас».
Часто немцы выгоняли наше население на работы. Как только наше село заканчивалось, за ним шел поселок. В этом месте дул обычно сильный ветер. Так немцы приказывали нам эти места очищать лопатами от сугробов. Делали они это так. Тебе, положим, отводили участок и говорили: «Ты должен столько-то на дороге очистить от снега, чтобы по ней могли проехать солдаты немецкой армии». Кроме того, они отправляли у нас людей на принудительные работы в Германию. Один раз как-то, помню, отправили партию людей. У нас даже и не знали, что это такое. Потом отправили во второй раз. На дороге в это время взорвалась мина. Погибла одна молодая девчонка. Потом ее одежка долго болталась на деревьях. На второй день немцы собрали наше местное население и тем людям, которые держали у себя лошадей, приказали запрячь бороны и бороновать эту дорогу. Потом был еще случай, когда они попытались угнать у нас группу людей. В это время из леса их обстреляли партизаны. Они не успели никого и увидеть. Полицаи с немцами тут же разбежались кто куда, люди — тоже...
Расскажу об одном случае из жизни в оккупации, который мне надолго запомнился. У нас в деревне жил бургомистр, который считался старостой нашего участка. При нем все время находился переводчик, немец. Его у нас все почему-то называли «пан Толмач». Однажды проходит он мимо нашего дома со своей свитой, останавливает меня (а мне тогда было лет шестнадцать, не больше) и спрашивает: «Мать дома?» Говорю: «Дома!» «Позови мать!» Я, конечно, ее позвал. Они подошли к ней и попросили, чтобы она принесла бутылку самогонки. От таких приказов нашим местным было никуда не деться. Они прекрасно знали, что все у нас гонят эту самогонку. Даже у меня это дело получалось. Ведь в то время советские деньги не имели никакой ценности. Немецкие деньги тоже не шли. Они, конечно, были, но практически никто их не видел. Поэтому в большинстве случаев договаривались кто зерном, кто чем. Самогонка же считалась самой хорошей «монетой». За нее можно было хоть соль приобрести. В таких условиях мы жили. Короче говоря, мы добывали себе продукты или еще что-нибудь путем обмена.
Мать, как только они это ей сказали, пошла за самогонкой. А деревенская жизнь была, знаешь ли, таким образом устроена, что мы всегда знали, кто сегодня выгоняли самогонку. Помню, когда я ее делал, я только выводил ее, чтобы она забродила. А потом из всего старался взять хоть кружку браги. В то самое время, о котором я говор, самогонку в нашем селе выгоняла соседка Варвара. Мать ее попросила и она ей принесла. Они сели за стол, стали разговаривать и прихватили еще с собой меня. Ведут они всякие разговоры, а меня не отпускают. Один из них говорит: «Пан Толмач, вот скоро победа, скоро те-то и те-то побегут...»
Все это было в 1943-м году. К тому времени уже рухнул Сталинград, приближалась Орловско-Курская битва, а они так распелись насчет своей победы, что я, как говорят, не выдержал и бузнул. А дело в том, что у нас в городе Клинцы издавалась немецкая газета на русском языке. Как-то раз мне попал на руки один из ее экземпляров. Там говорилось о том, что после того, как окончательно завершилась Сталинградская битва, состоялось выступление Гитлера. В нем он говорил о том, что во время этих боев немецкие солдаты вели себя достойно, что почти никто не пошел и не сдался в плен, но Паулюс сдался со своей армией в плен. А заканчивалась опубликованное выступление Гитлера такими словами: «В этой войне не будет ни победителя, ни побежденного, останутся только пережившие да погибшие». И когда кто-то из них начал говорить «о, пан Толмач», как только разошлись после того, как «клюнули» самогонки, я им сказал: «Да, вы больше Гитлера знаете». Они меня — сразу в оборот. Я взял и процитировал эту статью. Они стали приставать к бургомистру: «Пан Толмач, пан Толмач!» Они думали, что за такие слова пан Толмач сразу же меня прикончит. Почему они так думали, я после скажу. А пан Толмач ответил: «Да, фюрер так сказал!» Через какое-то время так сложились обстоятельства, что ночью они уходили из нашего села.
Конечно, им некогда было читать газеты, этот вопрос их особенно не интересовал, и поэтому ничего о выступлении Гитлера они не знали. А почему они могли меня расстрелять, я сейчас расскажу. Однажды, откуда-то возвращаясь, они подошли к дому мужика по фамилии Кажорин. Он, кажется, вышел из окружения. Жил он на конце улицы. У себя он держал лошадь. А бургомистру как раз для того, чтобы куда-то поехать, понадобилась лошадь. Заходят они к нему, говорят про лошадь, а он сидит и никак на это не реагирует. Потом он стал жаловаться на то, что лошадь у него больна, повреждены копыта и прочее. Пан Толмач сел. Сзади дома был заборчик. И вот, прямо над этим заборчиком взлетел петух и закричал «ку-ка-ре-ку». Тогда пан Толмач встает и чуть ли не в упор расстреливает этого петуха из пистолета. Посыпались только перышки. После этого, не говоря ни слова, пан оставляет этого мужика в покое, поворачивается и идет к себе, а за ним плетется его свита. Так вот, они думали, что пан Толмач сделает мне так же, как и этому петуху, и спрашивали его: «Пан Толмач, пан Толмач!» А пан Толмач им ответил: «Да, Гитлер так сказал».
После этого прошло какое-то время. Я стал от немцев скрываться. Вдруг ночью у кого-то во дворе гусь закричал. Потом еще послышался шум. Оказалось, что немцы стали покидать наше село. Они размещались в школе. Так вот, уходя, фашисты подожгли за собой деревянный мост. Все эти полицейские и старосты остались в селе и никуда не ушли. Когда к нам пришла Советская Армия, четырех из них повесили как предателей, остальных куда-то забрали. Меня призвали в армию. Проходит много времени. Я уже какой-то период находился на фронте. Вдруг подходит ко мне командир роты и говорит: «Корзанов, пройдите по этой тропиночке метров пятьдесят. Вас там ждут». Я пошел по ней. Смотрю: на пеньке сидит какой-то незнакомый мне капитан. Я ему обо всем доложил. Он начинает меня о том-сем расспрашивать. Про себя я, помню, тогда же подумал: «Это что, вербовка какая-то?» Через какое-то время вдруг он меня спрашивает: «А кому вы сказали, что в этой войне не будет ни победителей, ни побежденных?» «Товарищ капитан, - сказал я ему, - если бы вы мне сказали, кто вам это сказал, я не знаю, как был бы вам благодарен. Понимаете, я вполне могу предположить, что бургомистр или староста во время допроса как-то на меня показали и проговорились: мол, этот пацан больше знал, чем мы...» Но у меня по поводу этого были, впрочем, свои мысли. Я полагаю, что этот пан Толмач являлся нашим разведчиком. Капитан, конечно, не назвал своего информатора. Да и откуда он мог что-либо знать? Это все уже, как говорят, пошло по разным инстанциям.
И.В. Как началась служба в армии?
В.К. 22 сентября 1943 года наша местность была освобождена от немецкой оккупации. Не успели мы от этого как следует и опомниться, как у нас в районном центре организовался райсовет. Вскоре начал свою работу военкомат. Он располагался в том же самом здании, что и раньше. Его сумели каким-то образом сохранить. Через этот военкомат нам прислали повестки для призыва в армию. Меня досрочно призвали в ряды Красной Армии 9 октября 1943 года. Что характерно, ровно два года спустя, 9 октября теперь уже 1945 года я был демобилизован из армии (как имеющий три ранения).
Сначала меня хотели направить в военное училище. Мне прямо так тогда и сказали: «В военное училище!» Но из-за того, что я находился в оккупации, это решение, видимо, отменили. Вместо этого я оказался в учебно-пулеметном батальоне в Брянске или, как его называли, учпульбат. Должен сказать, что все сорок четыре — сорок шесть ребят, призванные вместе со мной, оказались в запасных полках. Итак, я попал в учпульбат. По сути дела, пулеметом мы там занимались очень мало. В основном или изучали техчасть (как говориться, знакомились с пулеметами), или же работали на очистке аэродрома, куда в ночное время прилетали наши самолеты. По ночам нас бомбили немецкие самолеты. Что мне еще запомнилось из того периода — 6 ноября, накануне праздника Октябрьской революции, у нас проводилось торжественное собрание воинских частей. На нем я выступал как делегат от своей части. Помню, я говорил там тогда такие слова: «Сегодня наши доблестные войска 1-го Украинского фронта освободили город Киев!» (Город Киев был освобожден утром 6-го ноября). В этот день на улице было тепло, хотя шел дождь.
Однажды ночью, это случилось в конце ноября 1943-го года, вдруг нам объявили тревогу и отдали приказ: «Шагом марш за семь километров!» Нас отправили пешком на станцию Бежица. Надо сказать, пришли мы туда еще в гражданской одежде. В самой Бежице мы пробыли до утра, находясь в очень плохих условиях. Город к тому времени оказался разгромленным. Там располагались сталелитейный завод и паровозно-строительный завод. Оба предприятия, хотя и находились в Бежице, считались брянскими. Затем нам подали эшелон. Нас в нем набралась уйма людей. Он оказался полностью переполненным. В таком виде мы отправились на восток через Москву и Волгу.
В одном из таких мест наш поезд остановили. Прозвучала команда: «Выходи строиться!» Мы вышли, посмотрели на обстановку. Кто-то из наших сказал: «Ребята, тут уже на Октябрьскую выпал снег!» Это было связано с тем, что когда мы выезжали из Брянска, там еще только шел дождь. Оказалось, что мы прибыли в город Мелекесс Ульяновской области. Город был пустынным. Война есть война. Кругом — лозунги: все для фронта, все для победы. Когда мы проходили через какой-то рынок, кто-то из наших разведал и сказал: «Ребята, пудель 16 килограмм стоит четыре тысячи рублей». Нам было голодно и холодно. Пройдя через весь город, мы остановились в лесу. Там, как сейчас помню, стоял небольшой холмик, в одну сторону дороги располагался дом, в другую — баня. Впрочем, баня оказалась домом лесника. Вдруг оттуда выходит франтоватый капитан и смотрит на наш строй. Рассматривает каждого. Берет одного, другого, и отдает приказ: выходи. А нас же было в Мелекессе несколько тысяч. Наконец очередь дошла и до меня. Капитан подходит ко мне, спрашивает: «Ваше образование?» Говорю: «Семь классов!» «Зрение?» «Нормальное! Не жалуюсь». «Выходи!»
Так этот «покупатель» выбрал среди нас 250 человек. Напомню, что на фронте покупателями звали тех людей, которые приезжали отбирать людей для пополнения своей части. Отобранных бойцов снова построили и повели дальше в лес. Там стояла землянка, в которой находилось пять человек. Нас туда привели. Появился сержант, который весь наш состав записал. Как только нас записали, сделали построение. Самых высоких поставили первыми, чуть пониже ростом — следующими, и так далее, в порядке убывания по росту. Распределили по взводам. Затем, когда вся эта процедура была окончена, нам объявили: «Вы зачислены в снайперскую роту!»
В снайперскую роту попала в основном молодежь 1926 года рождения. Численность нашей роты составляла 250 человек. Командовал ротой капитан Сахаров. Также у нас было три младших лейтенанта, занимавшие должности командиры взводов, и девять человек сержантов — командиров отделений. Вот, как говориться, и все наше командование.
Начались дни нашей учебы. По сути дела, весь наш преподавательский состав в снайперском деле ни хрена не смыслил. Поэтому изучали мы в основном материальную часть оружия. В нашем случае это были старые винтовки-трехлинейки образца, если я не ошибаюсь, 1898-го года. Честно говоря, вся наша учеба не имела для нас никакого значения. Ведь за все время пребывания в этой учебке мы не сделали ни одного выстрела и не истратили ни одного патрона. Больше всего времени уделялось строевой подготовке. Как говориться, выше ножку и так далее. Кроме того, у нас проходили занятия по тактике. Фактически эта тактика ничего из себя не представляла, кроме постоянного шастанья по лесу. Что же касается снайперской тактики, то ее мы практически и не видели. Как сейчас помню, занятия по этому предмету у нас проходили следующим образом. Тебе дают винтовку и ты целишься. Товарищ с укладочкой стоит около листа с дырочкой. Когда ты целишься, то ему говоришь: ниже, выше, левее, правее. То есть, ты наводишь винтовку так, как будто ты поражаешь эту дырочку. Этот товарищ отмечает все данные карандашом. Бывает, смотришь на дырочку, он что-то отмечает, а ты его корректируешь: «Нет, ниже, нет, выше, нет, немножечко еще чуть сюда». И если таким путем ты попал и он поставил точку, если, как говориться, разброд получился небольшой, уже считалось, что ты снайпер и что у тебя есть владение прицельным огнем. Никаких оптических прицелов у нас тогда не было.
Все это время мы усиленно рвались на фронт. Кормили нас в Мелекессе очень плохо. Честно говоря, этот период жизни не очень-то и хочется вспоминать. Хуже, чем в Ульяновской области, нас нигде не кормили. Может быть, об этом нельзя и писать, но я хочу об этом тебе рассказать следующее. Один из моих сослуживцев по снайперской роте написал по этому поводу такую формулу: «Аш два о, плюс - пшено, минус — жиры, равняется — чем хочешь, тем и живи». Это являлось абсолютной правдой. Ведь когда нам давали рыбу, от нее было одно название. В рыбном супе находились одни только кости. Нам оставалось есть один только бульон. Порой к нам попадала картошка, которую выдавали при минус сорока градусах мороза. Помню, из-за этого мороза нам попадалось на улице очень много померших птичек. Так вот, эту картошину можно было разрубить только после того, как ты ее сварил. Иначе ее было не раздавить. Она была замерзшая и зеленая. Кроме того, нам по рациону полагались 650 грамм хлеба. Но он оказывался не допеченным. От него хорошо когда оставалось 300 грамм настоящего хлеба.
Нам настолько надоели голод и эти бесполезные занятия по тактике с их «выше», «левее» и «правее», что стали звучать такие высказывания: «Лучше бы отпустили домой на неделю, а потом — сразу на фронт». В такой обстановке я, как самый «умный», имевший опыт в написании писем, написал от себя и от нескольких товарищей рапорт, где было сказано: «Просим нас досрочно отправить на фронт». Рапорт этот передали куда следует. В то время в армии существовал такой порядок. Значит, когда ты обращаешься с какой-то просьбой к высшему начальнику, ты не должен это делать поверх голов. Сначала ты отдаешь рапорт своему командиру отделения, сержанту, тот передает командиру взвода, взводный — командиру роты, ротный — командиру батальона, и так далее. И все же мой рапорт дошел до высокого начальства. Вдруг меня вызывают в землянку и спрашивают: «Что, это вы писали рапорт?» Я смело отвечаю: «Я». Мне тогда говорят: «А что, вы умнее, чем командование? Вы, стало быть, умнее командования? Вы думаете, командование не знает, когда вас нужно отправить? Трое суток ареста!»
После этого я в течение троих суток отсидел на гауптвахте, в специальном помещении. В это время я ничего не делал, ни с кем не общался и все время находился под охраной конвоя. С питанием были проблемы. Если только, бывает, что-нибудь принесут товарищи, это как-то вручало. И так нам в учебке было голодно, а здесь — еще тем более. Правда, пока мы находились на гауптвахте, нас, таким образом наказанных солдат, гоняли за несколько километров в лес тащить дрова. Если где-то было сваленное полено, нам следовало его подобрать и притащить на речку Черемша. Стоит отметить, что на этой речке всегда находилось отделение наших солдат. Там была прорубь. Так они для того, чтобы там не замерзала вода, где наши солдаты брали воду, постоянно жгли костер.
Весной 1944 года наша учеба наконец закончилось. Утром, где-то в девять или десять часов, нас погрузили в эшелон и повезли. Помнится, с нами тогда ехал такой сержант Милашкин, который к нам попал после ранения. Его вместе с нами тоже отправили в маршевую роту. Так вот, как только мы оказались в вагоне, он прочитал свое стихотворение. Я запомнил такие из него строки:
Прощайте горы,
Прощай лес,
И ты, проклятый Мелекесс.
Это стало неким подъемом для всех нас. Стали читать стихотворения другие. Я запомнил последние строчки из еще одного выступления:
И тогда поймут все бабы,
Как с военными гулять.
Они сядут и уедут.
Их им больше не видать.
Конечно, ни у кого из наших курсантов не было никаких связей с женщинами. Мы только грезили этим делом. Тем более, ходить в город оказывалось не так-то просто...
День стал дольше. Проехали мы сколько-то времени, как вдруг днем нас снова останавливают. Никакой станции там не располагалось. Это был просто мелкий лесок. Нам подали команду: «Выходи строиться!» У всех от этого как-то испортилось настроение. Мы вышли из вагонов, прошли через сосновый лес и оказались в военном городке. Там уже стояли землянки. На улице были скамейки. Нас завели в чистую и очень хорошо досками обделанную казарму. Через некоторое время повели кормить. Кстати говоря, кормить здесь нас уже стали по девятой норме, а это было намного лучше, чем в учебке — там у нас была третья голодная норма.
Ну и чем же все это закончилось? Опять нас на фронт не посылают. Начальство, вероятно, почувствовало, что мы недовольным своим положением, и написало объявление: «Сегодня состоится вечер проводов наших товарищей на фронт». Начинается вечер. Мы приходим на него и размещаемся по скамеечкам. Выходит заместитель командира полка по политчасти (попросту говоря, замполит) и говорит такие слова: «Уважаемые товарищи! Сегодня мы провожаем своих товарищей, которые отправляются на фронт. Многие из них отдадут за Родину свои жизни и никогда не увидят родную землю». Получается, что он нас ужа заранее оплакивал. Потом был концерт.
Наступает следующий день. До нас доходят слухи о том, что нет вагонов для того, чтобы отправить нас на фронт. Для нашего брата опять организуют вечер проводов на фронт. Выходит тот же самый замполит и опять говорит то же самое: мы провожаем, мол, на фронт своих товарищей, которые отдадут свои жизни за нашу страну и никогда не увидят своей родной земли. Такие вечера и замполитские выступления повторялись у нас три или четыре раза. Потом нам все-таки подали вагоны и мы поехали. Всю дорогу мы спали.
Через какое-то время я действительно попал в действующую армию, в состав 380 стрелкового полка 171 стрелковой дивизии. Фактически мы на фронт прибыли неподготовленными. Спасло нас то, что прямо на фронте заместитель командира дивизии подполковник Бакеев организовал для нас курсы снайперов. Руководил ими капитан Пирогов, который впоследствии командовал нашим батальоном и стал мне близким другом. Должен сказать, что я до сих пор «молюсь» на Бакеева: именно благодаря ему я смог сохранить себе жизнь на фронте. Надо сказать, он был очень активен в проведении подобных мероприятий — сборов. Когда я только прибыл в дивизию, он организовал вот эти сборы снайперов. После этого проходит какое-то время, как снова объявляют: «Бакеев организовывает сборы младших командиров». В основном такие сборы проводились в то время, когда на переднем крае образовывалось какое-то затишье. Хотя, когда мы находились на сборах, через нас порой пролетали вражеские снаряды. Нам тогда было кому 18 лет, кому — чуть побольше. И с нами, таким молодняком, занимались старослужащие. Короче говоря, «деды», которые сейчас в армии унижают молодых солдат, делились с нами своим фронтовым опытом. Их собрали со всей дивизии. Среди них встречались как действующие снайперы, так и бездействующие. Если бы не они, то наши дни на передовой были бы сочтены. Сборы проходили в течение нескольких дней. Деды делились с нами своими умениями и просили о них не забывать. Мы, будучи недоучками, их с огромным вниманием слушали. С каждым из них, в том числе и с известным в нашей дивизии снайпером капитаном Ивасиком, можно было встретиться и поговорить. Кроме того, нам предоставлялась уникальная возможность послушать рассказ бывалых снайперов: о том, как действуют немцы, и прочее.
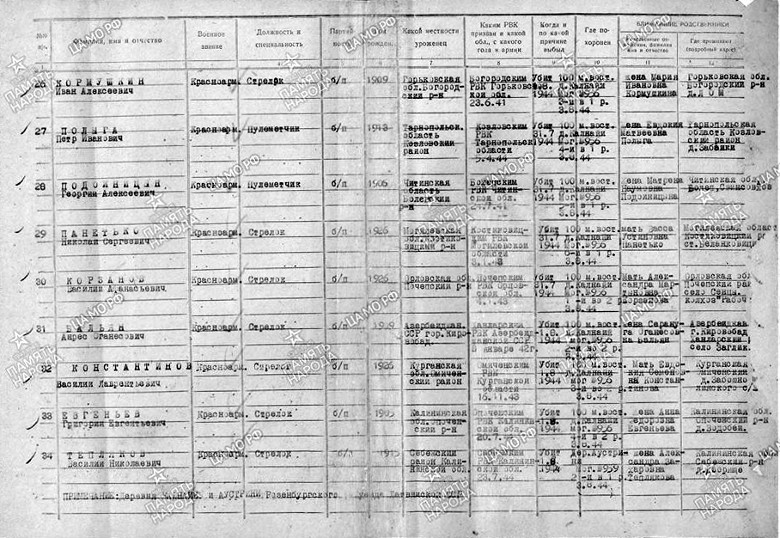 |
И.В. Где проходили ваши первые бои?
В.К. В боях под Старой Руссой мне, конечно, участвовать уже не довелось. Первые бои, в которых мне пришлось бывать, проходили в районе Идрицы, Себежа, Пустошки. Как я уже говорил, в первый раз на передний край я прибыл в качестве снайпера. Когда это точно было, я не помню. Могу только сказать, что было это весной. Помню, наши солдаты тогда уже ходили в валенках. Мы тогда стояли в обороне. Особенно мне запомнилось, что сразу после прибытия на фронт мне навязали трассирующие пули, которые стреляли разными цветами. Поначалу я очень их боялся. Думал: а вдруг они не подойдут? Но они подошли. Этими пулями я впервые спровоцировал немцев на бой. Я видел, что они около небольшого лесочка, состоявшего из нескольких деревьев (в нашем понимании это очень походило на кладбище), немцы крепко держат оборону. И они в открытую и нагло ходили и занимались своими делами. Я по ним стрельнул и они все разбежались. Утром гитлеровцы решили отплатить мне за мой «героизм»: они устроили за мной охоту в кустах на полпути от того места, где я находился раньше. На помощь пришли артиллеристы, которые стали мне говорить: «Снайпер, снайпер, скорее сюда». Я скорее по траншее подбежал к ним. Они все кричали: «Там немец, немец!» Я им сказал: «А что вы, немца никогда не видели?» Потом им сказал: «Есть ли у кого-нибудь что-нибудь блестящее и светящееся?» «Ну а что?» - спрашивали меня бойцы. «Ну, например, зеркальце». Нашелся такой солдат, который мне и в самом деле предложил зеркало. Я его спросил: «Не жалко?» «А что?» Говорю: «Если я по неосторожности его разобью?» После этого мы все засели в траншее. Я этим ребятам сказал: «Не высовываться». После этого на палочке тихонько поднял за бруствер зеркало. Прозвучал выстрел, от зеркала посыпались стекла. Все обошлось, смерть меня миновала.
А первый и, по сути дела, серьезный бой произошел у нас в районе реки Великой. У нас тогда как раз началось наступление. Оно проходило в лесистой местности. Прошло после этого какое-то время, как вдруг я услышал команду: «Справа немецкие танки! Всем выйти из леса». Я тогда еще подумал: пристрелить бы того, кто отдает такие команды. Ведь и в самом деле, как можно давать во время боя такую команду — выйти из леса? В таких случаях, пожалуй, говорят наоборот — найти себе от танка укрытие в лесу. Кроме того, у нас были противотанковые гранаты, которыми мы могли в случае чего воспользоваться. Ведь это же удобный был случай! Так вот, когда некоторые из наших все же вышли из леса, ими почему-то стала командовать группа штрафников. Штрафники кричали: «Вперед, вперед!» Одним словом, они командовали уже обычными бойцами. Один из штрафников бросил гранату то ли через голову, то ли снизу. В результате он и еще один оказались убиты. Они были без погон и без звезд. Так я в своей жизни в первый раз увидел штрафников.
Дальше проходила река Великая, за которой находилась высота, которую мы, солдаты, называли Лысая гора. Она несколько раз переходила из рук в руки. Штрафники в дальнейшем форсировали реку и брали эту высоту. Короче говоря, она стала нашей. Фактически это был один из моих первых боев. В то время я исполнял обязанности снайпера.
Потом мы стали воевать в Прибалтике (в Латвии). Стоит отметить, что с местным латышским населением мы, как правило, проблем не испытывали. Зато были у нас неприятности с местными русскими староверами. В связи с этим мне вспоминается следующий случай. Когда мы воевали в местечке Таконандани, нас, несколько человек, уже потрепанных в тяжелых и изнурительных боях, придали артиллеристам. Считалось, что мы их как будто бы охраняем. Это были мои ровесники — ребята 1926 года рождения. Чтобы мы как следует после боев отдохнули, нас разместили в одном доме. Там же я встретил латыша, который мало, но все же говорил по-русски. Мы с ним затронули религиозную тему. Точнее говоря, он мне об этом говорил. Как сейчас помню, он мне сказал следующее: «По нашей религии предсказывается, что Россия еще будет воевать и в таком-то году эту войну закончит». Этот разговор на меня, конечно, очень сильно подействовал. Однако не успел я с этим латышом разговор закончить, как вдруг ко мне подбегают ребята, называют меня по имени и говорят: «Вася, слушай, вот в этом доме (и они показали) фашисты живут! Самые настоящие фашисты. Давай гранату». Я им говорю: «Ребята, подождите меня. Я сейчас приду. Но не смейте без меня ничего предпринимать». Собственно говоря, там получилась такая вещь. Один из наших солдат решил у этих людей от углей печки прикурить. Они его из своего дома вытолкали. Тогда, видя, что у них есть вода, он попытался напиться из колодца. Так они не дали ему и попить: тоже оттуда с силой прогнали.
После этого я мигом отыскал того самого латыша, показал на дом, в котором случилась эта неразбериха, и спросил: «Кто в таком-то доме живет?» Этот латыш мне сказал: «А там — староверы живут». А все дело в том, что от своего деда я многое слышал о староверах. Мой дед был очень религиозным человеком. Именно у него, а не в школе, я впервые научился читать. Правда, не на русском, а на церковно-славянском языке. При всем при этом мой дед по принципиальным соображениям не посещал церковь. Сами мы жили совсем недалеко от церкви. Так вот, когда на Пасху проходил крестный ход и колонна людей проходила мимо нашего дома, дед вскакивал и демонстративно закрывал калитку и говорил какие-то, хотя и цензурные, ругательства. Причиной его столь необычного поведения являлось то, что когда у него в свое время умер отец, священник за отпевание и за похороны потребовал от него что-то очень много денег. Дед за это на него рассердился. Но, во всяком случае, дед религию знал очень хорошо. И про веру старообрядцев (или староверов) он мне тоже рассказывал очень много чудных вещей. Поэтому я, как только узнал, что это староверы, своим солдатам сказал: «Ребята, не смейте туда соваться. Там живут староверы. У них есть свои религиозные убеждения. На вас они напали на религиозной почве. Вы ни в коем случае не смейте туда соваться. Это будет неприятность, выйдет скандал на всю матушку Россию...»
Конечно, война в определенном смысле на меня очень сильно повлияла, прежде всего - психологически. В ней всегда были события, которые не забудутся никогда и ни при каких обстоятельствах. Например, мне очень памятен такой эпизод, произошедший под городом Резекне. Когда мы воевали еще на нашей земле, наш батальон, можно сказать, погиб. От него осталось только 12 человек. Прошло после этого какое-то время, и мы вступили на территорию Латвии. Нас передали новой армии. Вернее сказать, тогда нас еще не передали, а только определили в ее состав. Нам прислали одного младшего лейтенанта, вокруг которого образовался взвод из этих самых 12-ти человек. И так как его «присватали» нам как командира взвода, то присвоили ему звание младшего лейтенанта. Он был совсем еще молоденький парень.
24-го июля был незабываемый день. Рано утром, когда начало вставать солнце, мы поднялись на лужок. Впереди нас находился хутор. Мы стали к нему приближаться. Хорошо, что мы находились впереди. Нам пришлось разрозненно идти в атаку. Оказалось, что на этом хуторе уже были какие-то подразделения. Когда мы к нему стали подходить, вдруг начался артиллерийский налет. В результате на земле осталось лежать много убитых. А когда мы, как говорят, уже вступили на этот хутор, немцы, отходя, повредили улей пчел. Потом начался снова артналет. В это время я укрылся за каким-то сараем, а мой товарищ — за грудой сложенных кирпичей, которая была рядом. И вдруг на него набросились те самые пчелы. Они настолько сильно его искусали, что он стал предаваться отечности и опух. Дальше шли ржаное поле, высотка и другой хутор, за который уже начался жестокий бой. Порой наши пехотинцы, находившиеся на ржаном поле (рожь, кстати сказать, была довольно зрелая), переползали и натыкались друг на друга и сталкивались лбами. Этой ржи там было черт знает сколько. Слева от нее проходил лес. Мы редко когда из-за нее вставали, шли в основном согнувшись или ползли ползком. Бой во ржи продолжался до вечера. По нам стреляли минометы. Мы из-за этого понесли какие-то потери. Ночью мы продвинулись на какое-то расстояние вперед. Слева нам стал уже виден фруктовый парк хутора, на который мы вели наступление. Это все происходило недалеко от города Резекне. Хотя, честно говоря, мы в то время не очень разбирались в местности, через которую проходили. Много появилось раненых. Тем же вечером, уже ближе к ночи, нашим все же удалось занять тот хутор, где летали пчелы. Во время тех боев мы настолько устали, что я даже немного вздремнул.
Наступило 25-е июля. Оказалось, что мы лежим среди раненых немцев. Я стал искать всех, кто остался в живых. Тогда же я еще обратил внимание на то, что рядом в канаве лежат раненые немцы. А дело в том, что когда перед началом этого наступления наши захватили немецкого пленного, он нам сказал следующее: «Лучше бы вы не наступали в этом месте, потому что здесь наступает подразделение, которым командует старший сын хозяина этого имения (по-немецки оно называлось фольварком). У них есть приказ: до вечера или до следующего дня не отходить и не отступать. Поэтому они будут всеми силами держаться за свои позиции». Короче говоря, мы поняли, что здесь свои держат оборону. Помню, на этом хуторе был еще парк. А вот откуда я узнал про допрос пленного, сейчас, увы, и не вспомню. Скажу только, что тогда нам стало ясно, что оборону немцы будут здесь удерживать, по крайней мере, до вечера и до этого времени нам его никак не сдадут.
Подошло утро. Нам предстояло снова начинать свои атаки. Мы тогда заняли новую позицию — в плодовом саду, за которым шел лес. Через какое-то время из леса пришли наши разведчики. Они стояли неподалеку от нас и по телефону докладывали командиру дивизии или начальнику штаба о том, что они дальше хутора никак не могут пройти. Оказывается, рядом с ними находился сад, за которым метров на 150-200 шла полоска леса, а за ней — поле и еще один хутор, на который этим разведчикам нужно было пройти. Но, как они сообщали командиру полка, они не могли туда проникнуть в связи с тем, что там находится немецкий снайпер. Они своими автоматами так и не смогли его поразить: расстояние, с которого они могли поражать противника, составляло максимум 200 метров. Одним словом, была очень низкая прицельность.
Дело было днем. Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно было ликвидировать обстреливавшего их снайпера или просто стрелка с винтовкой с оптическим прицелом (точно это было неизвестно). Через какое-то время они обо всем сообщили по полевому телефону нашему командованию. «Нам никак нельзя пройти, - говорили они. - Тут где-то действует немецкий снайпер». Когда информация дошла до комдива, он это передал командиру батальона. Тогда разведчикам сказали: «Тут как раз есть наши снайперы!»
А снайперов в нашем батальоне служило всего два — я и мой товарищ Миша Щемелинин, мой ровесник — с 1926 года, который жил до войны в деревне всего полтора километра от меня. Нас, вообще-то говор, из 250 бойцов, окончивших снайперскую школу, в дивизию попало совсем немного. В то время на фронте создалась такая обстановка, что борьба шла буквально за каждого солдата.
Командир батальона вызвал нас, выделил нам еще двух человек и дал задание: «Снять немецкого снайпера!» Сделать это нам предстояла в том самом лесочке, который считался нейтральным, но точно это установить не удалось. Наших бойцов там не было. Но разведчики показывали кому-то из своих, чтобы нас охраняли с тыла. Мы с Мишей приползли по опушке леса туда, куда нам было нужно, и начали наблюдать за хутором. Его площадь занимала где-то 600-800 метров. Около дома сначала не наблюдалось никаких движений. Через какое-то время мы заметили, как на дереве, стоявшем между домом и каким-то сараем, качнулись ветки. Видимо, этот самый снайпер, о котором нам столько говорили, оступился. Там, как я еще заметил, была приделана какая-то веревочная лестница сбоку. Она чуть оттуда выглядывала. Погода на улице стояла тихая, так что видно все было хорошо. Дальше ничего существенного не происходило. Вызвать на огонь этого снайпера у нас никак не получалось. Ничто не заставляло его себя обнаружить. Но мы его все же взяли. Вдвоем и почти одновременно мы стали стрелять в сторону того самого дерева. Снайпер этот был или просто стрелок, я не знаю, но с дерева после наших выстрелов что-то упало. Поразил я его или нет, не знаю. Но больше огня на нашем направлении не наблюдалось. Между прочим, обнаружить снайпера — это было очень трудное дело на войне. Это у нас, русских, такое случалось, что если чуть что случилось, то снайпер со своих позиций уходит. А у немцев снайпер замаскируется на дереве и до самого конца продолжает выполнять свои обязанности. Потом в нашу сторону сбоку кто-то бросил шишкой. Я оглянулся: разведчики мне машут, чтобы я возвращался обратно. «Ну что?» - спросил я. «Да там немцы», - сказали они. После этого весь батальон прошел через этот лесок для того, чтобы атаковать близлежащий хутор.
На какое-то время мы отошли, а потом перешли всем батальоном в наступление. Нам нужно было пройти довольно узкую полосу леса и пойти атакой на хутор. Но не успели мы дойти до хутора (до него было еще далековато), как на поле напоролись на немцев. Они находились сбоку и во весь рост окапывались: делали себе траншею или что-то в этом роде. Когда у нас, как обычно в таких случаях делается, закричали «вперед», немцы стали по нам стрелять из пулеметов и автоматов. Пока наши побежали, я стал наблюдать за тем, что происходит вокруг хутора. Немцы побежали влево и вдруг куда-то попадали. Они как будто сквозь землю провалились. Видимо, у них там находилось укрытие. Тогда мы побежали в сторону хутора. А служил у нас пулеметчиком боец по фамилии Пахольчук. Так я (почему-то это особенно врезалось в память) показываю ему и кричу: «Пахольчук, бей по этому сараю!» А все дело в том, что когда мы наступали, я видел, что немцы сосредоточились не у дома. Они почему-то бегали взад и вперед по траншее, которая вела под этот сарай. Я решил, что все они находятся именно там (что там — сосредоточение немецких войск). И когда ему крикнул, то пальцем показал на то, как из-за сарая высовывается пулемет.
Но не успел я от своих слов, как говорят, как следует опомниться, как вдруг почувствовал, что мне обожгло левую ногу. Пятка стала горячей. Я не придал этому значения и пробежал еще несколько метров. Там же проходили следы от танковых треков или гусениц. Я решил, что, наверное, наскочил на противопехотную мину. Потом приподнял ногу, взглянул. Вроде ничего не разорвано, каблук не оторван. И вдруг через какое-то время у меня начала совсем отказывать нога. То есть, она немела и меня не слушалась: двигалась в совершенно другом направлении, чем я того хотел. Внезапно я почувствовал, что не могу даже ею никуда ступить.
Я понял, что в таком состоянии не боец и крикнул несколько раз: «Санита-ар! Санитар! Санита-аар!» У нас в полку обязанности санитаров на переднем крае исполняли только мужчины. Дело в том, что формирование полка проходило в основном из лыжных батальонов. Поэтому санинструкторами являлись мужчины. Они на передовой только перевязывали раненых, а вывозили их уже другие. Тогда санитара почему-то на месте не оказалась. Я поскакал дальше в лес. Потом санитар все-таки появился. С ним мы отбежали немного назад от того места, где до этого я находился. В окопе он перевязал мне рану и сказал, что у меня слепое пулевое ранение. Но откуда он мог все знать?
В это время на нашем участке готовились к тому, что немцы вот-вот могут перейти в контратаку. Это по всему чувствовалось. Из-за этого я решил сам из этого места уходить. Шел по знакомым дорожкам через сад-парк, потом за хутор, а дальше — как придется. В ходьбе опирался на снайперскую винтовку: нога тогда у меня стала совсем отказывать. Когда прошел через сад, то вышел на дорогу, на которой лежал совсем недавно убитый боец. Кровь от него так и сочилась. Недалеко располагался сарай из бутового дикого камня. Чтобы немножко отдохнуть, я за ним укрылся. А там, как оказалось, находился минометный расчет наших войск. Тут же стояла повозка, на которой для расчета ездовый подвозил мины и снаряды. Разгрузившись, этот ездовый собирался уже ехать обратно, как вдруг на этом месте оказался я. Он взял меня с собой. «Я сейчас тебя подвезу! - сказал он.- Обстрел кончится и мы поедем!» Когда же обстрел кончился, он мне сказал: «Давай на повозку!» Я сел на повозку и он быстро погнал в деревню, где располагалась санрота. По дороге я узнал о том, что он совсем из другой части. В итоге он меня привез в санитарную роту совсем другого полка.
Там меня продержали до вечера. Санрота — это было самое первое место, где оказывалась медицинская помощь. На поле боя санинструктор мог только перевязать рану. Правда, больше всего это мы делали сами. Но обстоятельства на фронте бывали самые разные. Случалось и такое, что сам боец не мог себя перевязать. Поэтому в таких случаях перевязку делали товарищи. А санрота считалась первым таким важным пунктом по оказанию медицинской помощи. Располагалась она или в доме, или в палатке. Обычно там работало несколько человек: врач, инструктора и прочие. Но так оказывали помощь именно в полевых условиях. В этой самой санроте я пробыл лишь только до вечера. Там у меня посмотрели ногу (а я еще кальсоны носил) и сказали: «Слепое ранение! Пуля осталась в ноге».
После этого меня положили на повозку и повезли дальше — в медсанбат. Там уже работали с ранеными специальные люди. Прибыл я туда уже вечером. Помню, когда меня туда везли, на другой повозке мне встретился солдат, который ехал сменять пополнение. Я его знал. Это был мой земляк Коля Степыка. Раньше мы с ним находились в одной снайперской роте. Он очень сильно заикался. С ним потом на фронте я еще раз встречался, но расскажу об этом потом. «У, Вася! - сказал он мне. - Ты раненый!» Говорю ему: «Да, Коля!» «Ну как там, страшно, на фронте?» «Да ничего, - ответил я на его вопрос. - Ты только, Коля, не поддавайся ничему». Когда же я прибыл на новое место для лечения, то там вдруг обнаружилось, что у меня не слепое, а сквозное ранение. У меня полностью осмотрели всю ногу. И оказалось, что пуля попала чуточку ниже колена и немного выше ступни. То есть, прошла через всю голень.
С этим ранением мне пришлось пройти через несколько госпиталей. Первым моим госпиталем был не то полевой госпиталь, не то — эвакогоспиталь. Когда ты в такие места прибываешь, кстати, не важно в какое время, то первым делом проходишь через санпропускник. Какая бы вода там ни была, тебя там мыли. Делали это, как правило, молодые девочки. А представляешь, если ты из села и тебе едва исполнилось 18 лет? Это не то что сейчас. Когда ты раздеваешься голым на глазах у девочек или сам раздеваешься, пока они помогают тебе мыться, ты испытываешь жуткое стеснение. Тут же ходят хирург, врачи. Если пуля или осколок осталась в ноге, руке или еще где-нибудь, ее извлекают. Потом все кромсают. После этого тебя переводили куда-нибудь в другое место, скажем, в стационарный госпиталь. Он должен был быть с палатами. Но палат не было. Все лежали вместе.
Через какое-то время у меня начала пухнуть нога. Припухает — и все. А ведь в то время в госпиталях когда делали какие-либо операции, не давали никаких наркозов. Раненые, бывает, орут и прочее. Так я пока лежал, сам массажировал себе ногу. Работники госпиталя приходили и не верили: как это так пуля могла пройти и не задеть кость? А я им всем доказывал, что не испытываю никакого ощущения боли. Я их, конечно, тогда обманывал, так как боялся, что у меня отнимут ногу. А ведь в госпитале бывали случаи, когда у солдат начиналась гангрена.
В госпиталях существовал такой порядок, что там долго не держали. Бывало, дня два пробудешь, а то и того меньше, как тебе объявляют: «Вы сюда попали не по профилю. В этом госпитале должны находиться раненые не с такой степенью ранения». После этого тебя отправляют в другой госпиталь, третий. Едва на новом месте ты прошел санобработку, как через несколько часов ты оказываешься в следующем госпитале.
Помню, я оказался в госпитале в какой-то деревне. Через какое-то время вдруг всем нам объявляют: «Большая часть раненых попала сюда не по профилю. Поэтому все, кто попал сюда не по профилю, идите в следующий госпиталь». Этот госпиталь располагался от того, в котором мы находились, в полутора километрах, в соседней деревне. И там, и там госпиталь размещался в деревенских домах. Где-то его оборудовали в палатах. Но в деревнях он располагался в основном в домах. Потом нам объявляют: «Транспорта нет. Будет не скоро. Так что большинство из вас, кто ранен в руки и может ходить, идите туда пешком». По существу раненым в ногу оказался один только я. Поэтому мне дали в руки костыли. А я что, на костылях куда-нибудь ходил, что ли? Нет, конечно.
Как сейчас помню, идем мы по деревушке, где лежали в госпитале до этого, к выходу. Деревня заканчивается. Оттуда видна уже деревня, в которую нам нужно прийти. Навстречу нам идут с полевых работ женщины с граблями и с косами, кто с чем. Для них появление нас — это же новость. Ведь не все время у них стоял госпиталь. Каждый госпиталь, как правило, все время находится в движении. Они как только нас увидели, так запричитали: «Ой, ой, ранен, такие бедняжки!» Потом одна из них как посмотрит на меня и говорит: «Ой, бабоньки, посмотрите, какой молоденький идет». В это время я , молоденький, раскрыл рот. Костыль у меня за что-то зацепился. Я приземлился. Господи, какой подняли они после этого вой. Говорят: «Вот, когда там воевал на фронте, был нужен, а сейчас, когда ранен, значит, уже больше не нужен?» Это они подняли крик из-за того, что меня не подвезли на машине. Мне так стало из-за этого стыдно, что я и сейчас не могу без содрогания об этом вспоминать. «Они же, - подумал я, копают землю лопатами. Что обо мне они сейчас подумают? Что такой-то упал...» После этого я немного подхватился на эти костыли и бодренько зашагал дальше. Этот стыд, как я уже сказал, навсегда остался в моей памяти. Это происходило на территории тогда еще Великолукской области. Тогда эти деревни только-только были освобождены от немцев.
Через какое-то время нас привезли в город Великие Луки. Мой товарищ, коллега-снайпер, как оказалось, погиб. Меня положили в госпиталь 10-76, расположенный в 29 километрах от Великих Лук. Там, кстати говоря, я и узнал о гибели Щемелинина. Около Великих Лук я встретил бывшего связного командира батальона, который мне сказал: «Твой друг убит!» И рассказал об этом случае во всех подробностях. «Я тогда бежал от командира роты к командиру батальона с какими-то своими донесениями, - рассказывал он. - И видел своими глазами, как он убитый лежал во ржи».
Потом я долго размышлял над случившимся. Хотя с Мишей мы считались земляки, я его до того, как мы попали на фронт, никогда не видел. А оказывается, он был родом из деревни Красная гряда, которая относилась к нашему сельсовету. В школу он ходил мимо моего жилья. Но я, повторюсь, не знал его тогда. В то время мимо нас многие проходили. Но потом мы оказались вместе в одной снайперской роте в городе Мелекессе. На фронте в их семье никто, кроме Миши и его отца Кузьмы, не воевал. Отца его сразу взяли на войну. Тогда, можно сказать, людей у нас поголовно призывали в армию и отправляли туда. Почти никто из них не вернулся. Большинство из них числились пропавшими без вести. В том же 1941-м году он тоже пропал без вести. Что же касается Миши, то у него была довольно молодая сестра. Так вот, как только она узнала, что его убили и я с ее братом сначала служил вместе в снайперской роте в Мелекессе, а потом воевал на фронте, она стала посещать на родине мою мать и моих сестер. Мама моя даже говорила: «Ну если Вася вернется, мы обязательно его женим на этой девочке». Но так у нас ничего и не сложилось.
В Великих Луках было мое самое продолжительное пребывание в госпитале. Но там со мной случилась одна любопытная история. Представь себе, когда я уже стал более-менее поправляться и уже передвигался с палочкой, меня из госпиталя выписали. Все это случилось из-за того, что я огрызнулся с главным хирургом. Помню, я ему тогда сказал такие слова: «Я лучше шестнадцать раз в атаку схожу, чем к тебе лягу на стол!»
И.В. А из-за чего возникли с хирургом такие разногласия?
В.К. Это была долгая история. Еще когда меня отправляли из медсанбата в госпиталь, то дали сопроводительное письмо, где было написано, что у меня получилось повреждение мягких тканей. А мягкие ткани должны были за несколько дней зажить. У меня этого не произошло. И хирург, посмотрев на рану, сказал: «Надо будет делать рассечение». Я понял, что он будет делать рассечение всей левой ноги, и мол, только тогда, по его словам, начнется только выздоровление. «Интересно, что тут можно рассекать?» - подумал я про себя. - Тогда, наверное, они мне всю кость заденут. Выходит, у меня повреждение не мягких тканей получилось?» И когда хирург повел разговор о том самом рассечении, я ему ляпнул: «Я лучше шестнадцать раз в атаку схожу, чем лягу к тебе на стол». Хирург почему-то этому обрадовался и, ехидно улыбаясь, ответил: «Вот, вот, вот и хорошо. Давай ходи в атаку». Откуда я взял это число шестнадцать, и сам не знаю.
А вдохновила меня на это дело, по сути дела, одна девчонка, работавшая при госпитале. С ней я незадолго до этого познакомился. Она была не медсестрой и даже не санитаркой, а заведующей офицерской столовой. Помню, к нам каждый вечер (чаще всего именно в это время) по узкоколейной железной дороге приезжала санитарная летучка и привозила раненых. Пока те проходили санпропускник, то есть, пока их мыли, смотрели врачи и делали какое-то первое заключение, она привозила на лошади еду, чтобы их как-то подкормить. Однажды я шел по улице. Мимо меня проезжала повозка, запряженная в лошадь. Вдруг она останавливается. На ней я вижу сидящими двух девушек в военной форме. Одна меня спрашивает: «Далеко едете?» Я сказал, что мне нужно добраться до того дома, в котором одновременно размещаются почта и библиотека. «Садитесь!» - прозвучало предложение. «Оууу!» - откликнулся я. Я, конечно, с радостью сел. Через какое-то время одна девушка спрыгнула с повозки и ушла куда-то по своим делам, которые ей нужно было делать. Осталась девушка, управлявшая лошадью. Ею оказалась никто иная, как заведующая офицерской столовой. «А вы часто по этой дороге ходите?» - вдруг спросила она меня. «При первой возможности хожу», - ответил я ей. «А сами вы где находитесь? Откуда идете?» Говорю: «Пятидесятая палата. Лежачие!» Тогда она мне и предложила: «Когда в следующий раз будете идти, так выходите к этой столовой. Там подождите меня. Я вас на лошади подвезу».
И стала она после этого меня подвозить. Потом мы начали с ней уже прогуливаться на повозке по полям. Через какое-то время мы оказались очень друг к другу близки. Она мне сказала, что к ней очень неравнодушен хирург моего госпиталя. Задетый за живое, я на почве ревности и бухнул ему такое: я лучше шестнадцать раз схожу в атаку, чем лягу к тебе на стол. А он, вместо того, чтобы меня долечить, с какой-то радостью ответил: «вот и замечательно: ходи в атаку». И меня с открытой раной выписали.
И.В. Он догадывался о ваших теплых отношениях с заведующей столовой?
В.К. Этого я не знаю. Возможно! Расскажу тебе еще одну историю из того периода, которая, вероятно, что-то прояснит в этом вопросе. Так как я лежал в госпитале летом, однажды я взял что-то, видимо, вроде матраса, вытащил на улицу на лужок и лег на него. В палате были открытые окна. Оттуда я и услышал один странный разговор. Говорила пришедшая в палату медсестра, которая была, между прочим, по национальности еврейкой. Она спрашивала раненых: «А что это солдат спит еще и на улице? Что он, наверное, поздно пришел? Видно, гуляет». И приплела к разговору имя одной девички, которая не имела ко мне никакого отношения. Надо сказать, эта девица находилась у наших органов под подозрением, так как была по национальности финкой. Про нее шли разговоры, что она «вознаграждает» некоторых офицеров, лечащихся в нашем госпитале, венерическими заболеваниями вроде гонореи и прочего. Потом ее за это дело судили. На всех это, конечно, произвело впечатление. Однажды я этой девушке, которая меня подвозила и заведовала столовой, что-то про нее сказал. Она стала у меня допытываться: «А кто тебе про нее сказал и прочее?»
Потом меня стали из госпиталя выписывать. Это на всех, конечно, очень сильно подействовало. Многие переживали из-за меня, говорили: «Вот, бойца прямо с открытой раной выписывают!» Но я все равно из госпиталя уехал. И, к счастью.
И.В. Почему же «к счастью»?
В.К. А кто этого хирурга знает, что бы он начал делать дальше? Они могли запросто мне ампутировать ногу. А так, через какое-то время после того, как я выписался из госпиталя, из ноги у меня вышел кусочек раздробленной кости и рана стала закрываться. А ведь у меня было ранение не слепое, а сквозное. И когда в госпитале узнали, что я, неприметный солдатик в обмотках, выписываюсь, все провожали как родного.
Между прочим, из-за этого ранения я считался погибшим на фронте. Звучит, конечно, невероятно, но это действительно так. Дело в том, что после этого самого ранения на меня домой пришла похоронка. Узнал я уже об этом намного позднее. Когда в 1945 году я демобилизовался как имеющий три ранения, то вернулся в свою родную деревню. Там у нас работала секретарем сельсовета Маруся Юрченко. Однажды она меня попросила о том, чтобы я зашел к ним в сельсовет. «Приходи, - говорит она мне, - на тебя есть интересное извещение». Но через какое-то время мне нужно было срочно побывать в Москве. Ехать туда следовало всего 400 километров. Наша группа ехала прямо на крышах поездных вагонов. Я этой Маше тогда сказал: «Нет, я не могу сейчас к тебе зайти. В следующий раз появлюсь». Когда предоставилась такая возможность, я к ней зашел. И оказалось, что на меня пришло извещение как на погибшего. Так как я у матери оставался единственный сын, то она побоялась ей ее показывать и придержала у себя в столе. И вот как это событие впоследствии мне аукнулось! Спустя несколько десятилетий меня как убитого на фронтах Великой Отечественной войны включили в «Книгу памяти». Копию из этой книги мне прислала сестра, если не ошибаюсь, в 2005-м году. Там обо мне были такие строки. Я их зачитаю тебе: «КОРЗАНОВ Василий Афанасьевич, рядовой, 1926 г.р., Почепский р-н, русский. Призван Почепским РВК, 380 СП 171 СД. Погиб в бою 31.07.1944. Похоронен: д.Канлайн, Латвия». Всего же в «Книгу памяти» по нашему Почепскому району включено 480 погибших. (В именном списке № 1 о безвозвратных потерях личного состава 380-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии за период с 16 июня по 28 июля 1944 года говорится о том, что красноармеец Корзанов убит 31.7.1944 и похоронен в 100 метрах восточнее деревни Калнайи, могила № 956 1 и во 2 ряду — 3 августа 1944).
Потом я долго размышлял над тем, почему я все-таки был записан как погибший во время войны. В своих рассуждениях я пришел, в частности, к следующим выводам. 380-й стрелковый полк, в которую я попал весной 1944-го года, в основном состоял из здоровых ребят, которые были немного постарше меня — 1923-го и 1924-го годов рождения. В прошлом они служили в лыжных батальонах. И как такое могло случиться, что меня записали погибшим? Может быть, погиб санитар? Но ведь поскольку через три или четыре недели после своего ранения я вернулся в свой полк, они запросто могли сообщить о том, что я жив. Во время своих размышлений над случившейся ошибкой я пришел только к одному выводу. Потом его уже подсказала сама жизнь. Дело в том, что на фронте так уж было заведено, что если человек получал ранение, то его, как правило, доставляли вместе с оружием. В санроте его уже забирали. С убитого, как говориться, уже ничего не спросишь, поэтому у погибших оружия не искали. У нас в батальоне имелись две снайперские винтовки — моя и Мишки Щемелинина. Как я уже тебе говорил, эвакуировал меня в санроту ездовый из минометной роты, которая была не с нашего, а с совсем другого батальона. Так как ездовый был не наш, он ничего не знал про меня: откуда я, что и чего. Кроме того, я попал в санроту совсем другого полка. Разбираться им со мной было некогда. И так как пропала моя винтовка, меня, как и Щемелинина, списали как погибшего. Видимо, решили: сейчас ничего не отыщешь. Хотя Щемилинин погиб на самом деле, а я — нет. Только так я могу объяснить то обстоятельство, что на меня в родное село прислали в 1944-м году извещение о гибели.
Но есть, как мне кажется, еще одна причина, по которой меня записали в погибшие. Я уже рассказывал тебе про моего земляка Мишку Щемелинина. Так получилось, что в нашем батальоне его никогда не называли по фамилии. О нем всегда говорили так — друг Корзанова. Почему они так его звали, я не знаю. Видимо, им не нравилось произношение фамилии? Но когда я прибыл на фронт, то ихнюю четвертую роту, в которой он числился, отправили на сеноуборку. Поэтому я в батальоне немного раньше его «обозначился». А потом, как я уже говорил, я оказался в Великих Луках. Там остановился поезд и из него вышел связной командира моего батальона. Он мне и сказал о Щемелинине: «Твой друг убит. Я был ранен, пробегал и видел, что он лежит убитый во ржи». А поскольку Щемелинина называли не иначе как друг Корзанова, его и могли по оплошности принять за меня. Кроме того, повторюсь, у нас в батальоне были только две снайперские винтовки — его и моя, которые находились на особом учете. Винтовки были старые, образца 1898 года.
Совсем недавно моя родная внучка Наташа сделала для меня «сюрприз». Прихожу я после работы домой (а я по мере сил руковожу Нарвским городским Союзом ветеранов, дежурю вместе с секретарем три раза в неделю, сейчас у нас на учете состоит около 60 ветеранов, хотя в 2002 году, когда я заступил на эту должность, их было 700, а вообще в 1975 году в нашей ветеранской организации их насчитывалось больше 2-х тысяч человек), как вдруг мне звонит внучка и сообщает о такой вещи. Оказывается, есть такое положение, по которому граждане Эстонии могут беспрепятственно пересекать границу. Точно я этого не знаю. Может, можно и мне точно таким же образом пересечь границу Эстонии вместе с ИД-картой (удостоверением личности вместо паспорта). И они с мужем, моим, получается, зятем, который работает дальнорейсником, решили поехать в Польшу со своим сыном, который еще совсем молод и только сейчас пошел учиться в первый класс. Путь их проходил через Латвию и в частности к городу Резекне. Поскольку об истории с моей похоронкой им хорошо известно, они и решили съездить на мою могилу. Там, как оказалось, находится небольшое захоронение. Они поставили и зажгли свечи погибшим. Когда они остановились перед моей непосредственной могилой, к ним подошли местные латышки и сказали: «Мы регулярно ухаживаем за этими захоронениями!» Так что мой правнук, совсем еще, можно сказать, пацаненочек, побывал на месте моего якобы захоронения.
И.В. Что было после госпиталя?
В.К. Хотя обычно после лечения в госпитале солдат не направляли в свои родные части, я почему-то волею судьбы оказался снова в своем родном 380-м стрелковом полку 171-й болотно-непромокаемой, как про себя мы говорили, дивизии. Снайперской винтовки после своего возвращения в часть я уже больше не видел. Теперь я был назначен командиром стрелкового отделения. У нас шли бесконечные бои, которые сменяли друг друга. Однажды, когда мы заняли немецкую траншею, я решил в ней переобуться. Размотал, как сейчас помню, портянку-обмотку и вдруг, к своему полному удивлению, увидел на своей ране какой-то белый нарыв. Помнится, из-за этого очень сильно перепугался. Подумал: «Наверное, уже все - пошла гангрена. Придется возвращаться в госпиталь». Но когда дотронулся до своего нарыва, то обнаружил, что он упал. Оказалось, что у меня через рану вышел маленький кусочек кости. Со временем рана вообще стала закрываться.
После этого случая миновало сколько-то времени. Мы по-прежнему воевали в Латвии. Однажды мы вышли на территорию какого-то сожженного хутора. Кругом стоял один лес. По сути дела, этот хутор находился на одной высотке. Мы на него вышли, пройдя через траншеи фашистов. Я тут же откопал себе глубокий окоп. Рядом со мной находилась какая-то группа солдат. Ведь, как я уже тебе сказал, меня после выписки из госпиталя назначили в батальоне не снайпером, а командиром отделения. Находившиеся в моем подчинении солдаты были рядом со мной. Еще утром, встречаясь с с командованием своего батальона, я по каким-то каналам узнал о том, что еще ночью в нашу часть прибыло пополнение из нескольких человек. Среди вновь прибывших солдат, как мне сказали, оказался мой земляк. Правда, он, как впоследствии выяснилось, жил далековато от моих родных мест. Но мне назвали его фамилию и сказали, что он точно родом из Брянской области. Через какое-то время я его окликнул и передал, чтобы он подошел ко мне. Он пришел. Мы с ним присели в окопе. Я стал его спрашивать, откуда он родом и прочее. Но не успел я его обо всем расспросить, как услышал чей-то голос: «Ребята, пе-ре-бежками, перебежками!»
Тогда я поднялся из окопа и увидел, что за разрушенным сараем или баней стоит заместитель командира дивизии по строевой части подполковник Михаил Васильевич Бакеев и отдает эти команды. Я уже тебе говорил о том, что он оставил у меня о себе добрую память на всю оставшуюся жизнь. Ведь когда весной 1944 года мы прибыли со снайперской роты прямо на фронт, то оказались очень плохо подготовлены. Тактики мы, можно сказать, не знали никакой. Конечно, у нас на курсах была и снайперская винтовка, и оптический прибор, и прочее. Так вот этот Бакеев, пока дивизия стояла в обороне, прямо на передовой организовал сборы снайперов всей дивизии. Все это продолжалось короткое время, пока дивизия временно не участвовала в боях. Высота, которая находилась рядом, переходила из рук в руки. На этих сборах деды нас учили правильному обращению со снайперским оружием. Если бы не они, меня бы на второй день нахождения на переднем крае немцы бы засекли и убили. Короче говоря, они передали нам свой опыт. И хотя немцы устраивали за нами охоту, я уцелел.
И вдруг, к своему полному изумлению, я вижу прямо на передовй того самого Бакеева. Про себя я тогда подумал: «О-ооо, надо же, и Бакеев здесь». Оказалось, что из леса выходили солдаты с другого полка. Бакеев им кричал: «Вперед, перебежками!» «Что это такое? - размышлял я над происходящим. - Для чего это нужно?» Позади нас проходила низменность, на которой стояли копны с урожаем из полей. Было тихо. До нас не доходило никаких выстрелов. И вдруг поступил этот странный приказ — вперед, перебежками. Мы никого из этих солдат не знали. Так как нас разбирало чувство любопытства, то мы высунулись из окопа. Через какое-то время выглянули солдаты еще с одного окопа. Тогда немецкий расчет не выдержал и с небольшого орудия прямой наводкой прямо ударил по нам. Мой автомат сразу разбило. Он упал на бруствер. Мне обожгло шею, сжало челюсть. Через какое-то время я обнаружил, что совершенно не мог разжать свои зубы. Едва я коснулся челюсти, как у меня по руке потекла кровь. Тогда я сквозь зубы закричал рядом сидевшему солдату: «Жалнин, Жалнин!» Но он совершенно на мои слова не прореагировал. Когда я стукнул его по спине, то он обернулся и так дико на меня посмотрел, что мне сделалось не по себе. «Что это с ним? - помню, подумал я тогда. - Он совсем уже рехнулся что ли? Впрочем, кто его знает!» Из всего мной увиденного я сделал вывод, что он получил контузию и совсем отключился.
В это самое время из соседнего окопа послышался смех какого-то солдата, который мне кричал: «Вася, Вася!» «Вот же сукин сын! - подумал я тогда. - Мне попало в челюсть, а он смеется, что его эта участь миновала». Тогда я достал полевую сумку и написал на бумаге своему контуженному соседу: начерти, большая ли у меня рана. Он нарисовал такой довольно-таки порядочный кружок. Солдат из соседнего окопа продолжал кричать: «Вася, Вася». На его смех я едва сквозь зубы ему отвечал: «Ранен, ранен!» А он — хоть бы что. Я, конечно, не хотел тогда из окопа уходить. Даже и мысли такой не допускал.
И вдруг об этом узнал комбат. А комбатом у нас не так давно стал капитан Пирогов. Кстати говоря, бывший начальник снайперских курсов — сбора снайперов дивизии. Его на эту должность поставили после того, как он прибыл к нам после ранения. Долгое время он служил при дивизии. И вдруг его послали к нам комбатом. Так вот, как только он узнал о моем ранении, то сказал: «Передайте Корзанову: чтобы немедленно уходил в медсанбат!»
Мой сосед был контужен. Кстати говоря, тот солдат, который смеялся, тоже получил, вероятно, сильную контузию или потрясение. Почему? Потому что я сам видел, как солдат, некогда со смехом кричавший мне «Вася», перед тем, как убежать оттуда, рвал свеклу в огороде хуторянина, грыз ее и смеялся. Короче говоря, он находился в такой тяжелой форме.
К вечеру, когда уже стало темно, я оказался в медсанбате. Он размещался в лесу в палатках. Там собирали всех раненых с нашей части. Я тогда, помню, находился в слишком напряженном состоянии. И вдруг, проходя около палаток, я услышал женский разговор. Он был следующего содержания. Одна женщина называла фамилию какого-нибудь солдата, а другая ей что-то отвечала. Одна, помню, про какого-то солдата примерно в таком ключе говорила: «Его сейчас, при первой же возможности, надо эвакуировать, а этого подождем». Наконец очередь дошла и до моей фамилии. Первая женщина говорит: «Корзанов!» Вторая ей отвечает: «Эвакуируем утром. Если доживет». «Ничего себе! - подумал я тогда. - У меня с зубами проблемы, я не могу разжать челюсть, а мне уже такое приписывают». В темноте я достал из полевой сумке бумагу и на треугольничке наощупь, как мог, стал писать патриотическое и прощальное письмо матери. Очень жаль, что оно так и не сохранилось до конца войны. Тогда я, помню, подумал: если со мной что-то случится, то это письмо опустят в полевую почту.
Наступило утро. Я благополучно до него дожил. Но я отказался куда-либо уезжать и остался при этом медсанбате. Здесь я пробыл девять дней. Оказалось, что осколок у меня прошел совсем близко от сонной артерии и чуть ее не задел. Если бы он попал в сонную артерию, то мне была бы явная смерть. В таком случае я бы с траншеи уже бы не вышел.
Через девять дней я вернулся в батальон. После этого опять прошло какое-то время, бои шли за боями, и батальон снова, по сути дела, почти весь погиб.
В этих боях, в самом начале ноября 1944 года или даже, наверное, в конце октября погиб наш комбат капитан Пирогов. Я с ним находился в очень близких отношениях. Больше того, я даже считаю, что мы были друзьями. Сам он был, кажется, родом с города Невеля, из под Великих Лук. Помню, он немного хромал, так как вступил в командование батальона после госпиталя, где находился на излечении. Произошло это при следующих обстоятельствах. В Латвии в то время, как известно, находились в нашем окружении 36 немецких дивизий. Мы шли вперед с такими, как бы сказать, рывками. Однажды наше подразделение зашло в какой-то лесок. Там было тихо. Выпал даже снег. Когда мы подошли к какому-то хутору, то послышался шум. Мы были этим, конечно, очень сильно встревожены. В батальоне у нас в то время насчитывалось 70 человек или, может быть, чуть немножко больше. И оказалось, что в лесу окопались немцы.
Рядом располагался латвийский хутор, из которого шла щель в окопы. На хуторе загоняли в хлев скот. С хозяином этого хутора нам пришлось даже разговаривать. Он хорошо говорил по-русски. Все остальные на нашем языке не понимали ни слова. Этот хозяин сказал нам (он, конечно, говорил с акцентом), что когда-то он служил в царской армии и что он, мол, хороший солдат. Надо сказать, через этот хутор проходила важная прифронтовая дорога. Ночью прямо на ней нам удалось захватить большой немецкий обоз, который был на конной тяге. Мы его взяли и он, как говорят, остался за нами. Помню, ездовые немцы, которые были при нем, начали отстреливаться.
Через какое-то время нам удалось немцев на этом направлении несколько отбросить. Потом прибыло подкрепление. Через какое-то время немцы нас с этого хутора выгнали. Но мы снова его заняли. Потом стало ничего не слышно. Мне было непонятно, в каком мы находимся положении. У нас не было соседей ни справа, ни слева. Тогда ко мне подошел комбат Пирогов и завязал со мной следующий разговор. «Наши действия дальше! - сказал он мне. - Ну-ка скажи мне сейчас!» Я подумал и сказал: «Наверное, у нас есть проблемы с вооружением и боеприпасами!» «Вот! - оживился на этих словах Пирогов. - Ты можешь сейчас пробраться туда, откуда мы ушли и где наши тылы расположены. Значит, так. Бери двух солдат и тащи оттуда то, что считаешь нужным: гранаты, боеприпасы и прочее. Не исключено, что противник снова появится. Так что бери боеприпасы и действуй!»
Все это находилось в тылах нашего полка. Но пока мы добирались до своих тылов и почти уже до них дошли (но нам, если мне не изменяет память, еще оставалось сколько-то пройти) для того, чтобы достать боеприпасы, на том направлении, откуда мы ушли, разгорелся жаркий бой. Собственно, поэтому мы быстренько и пополнили свои запасы. Все это происходило на рассвете. Мы вернулись на то место, где располагался наш батальон. Стало рассветать. Все это происходило при низких тучах, которые, проплывая над хутором, касались чуть ли не макушек деревьев. Было темно. В иной раз и сейчас бывает так же пасмурно. Никого из батальона мы не обнаружили. Мы только видели, как на поле боя лежат убитые солдаты, причем русские вперемешку с немцами. За время пребывания на передовой мне впервые пришлось увидеть такую ужасающую картину. Ведь немцы, как правило, всегда убирали своих погибших. А тут они не убрали свои трупы. Другое дело, что когда мы их преследовали и они отступали, им становилось не до этого. Так как никого из своих на месте мы не обнаружили, то запрятали все боеприпасы, которые понесли, а сами вернулись обратно в полк. Короче говоря, почти весь батальон там погиб.
После этого вдруг меня вызывают в отдел контрразведки «СМЕРШ». Один из сотрудников стал меня спрашивать: «Вы капитана Пирогова знали?» «Отлично и хорошо его знал! - признался я. - Я даже считаю, что мы были друзьями». Тогда этот сотрудник указал мне на своего коллегу, у которого оказались погоны старшего сержанта. Но он был, конечно, постарше меня по возрасту. Он сказал: «Сейчас пойдете с этим старшим сержантом. Задание вам дается такое: любыми судьбами, где бы что бы не происходило, разыщите капитана Пирогова, во всяком положении, живым или мертвым. В плену или где, вы должны его обнаружить в любом положении». После этого мы с ним отправились на задание. Мы вышли в поле, посмотрели на все положение... Мысли в голову приходили всякие. «Что же нам делать? - сказал тогда я. - Как мы можем его разыскать? Ведь для этого мы должны взять этот хутор, пленить этих немцев? А об этом нечего и думать». Тогда этот старший сержант мне предложил: «Знаешь что? Нам надо достать мешки. В них мы будем собирать документы. Разделим все это по частям».
Рядом с нами был углубленный, но не глубоководный ручей. Находясь около него, мы решили, что как только начнет темнеть, пойдем на дело. В то время темнота наступало рано. Как только над нами нависли низкие, я бы сказал, свинцовые тучи, мы подождали, пока наступит темнота, и поползли, имея намерение собрать на поле боя у убитых документы. У местных жителей-латышей мы достали пакеты. Затем приступили к делу: переворачивали убитых и искали у них документы. В основном, конечно, забирали или красноармейские книжки, или же комсомольские билеты. Партийные билеты нам почему-то не встречались. Часто немцы освещали поле ракетами. Как только они их бросали, мы ложились вместе с убитыми и притворялись мертвыми. Как только все это заканчивалось, мы продолжали свою работу. Трогая убитого за шинель, мы уже знали, кто он есть. Если она была тонкая, мы соображали - значит, перед нами немец, и мы его не трогали, а если же под шинелью оказывалась то фуфайка, то еще что-нибудь, мы уже знали, что это наш солдат и мы начинали у него искать документы. Но что интересно: как тогда, так и за все время войны я не встречал на фронте ни одного человека, у которого в кармане гимнастерки был бы жетон или медальон, где бы указывались фамилия, имя, отчество и место его проживания. В основном в боковом кармане гимнастерки оказывались красноармейская книжка и комсомольский билет. По полю мы долго ползали. Часто, как я уже сказал, притворялись мертвыми.
И чем же закончились наши поиски? Старшему сержанту, когда он ползал, попалась полевая сумка офицера, которая, по-видимому, принадлежала капитану Пирогову. Он взял ее и положил в мешок. Мне же попала нога человека в сапоге. Должен сказать, что в то время у нас в батальоне мало кто носил сапоги в строю. Когда мы закончили свои поиски, то вышли не той дорогой, откуда пришли, в лес сбоку. Этот путь показался нам ближе, чем ползти по дороге, по которой мы пробирались вперед. Как же мы тогда устали! Ведь мы сновали по полю взад и вперед и, стараясь охватить всех погибших, хватали каждого за ноги и обыскивали.
Когда же мы шли по лесу, то натолкнулись на одного раненого солдата, который, как нам стало известно, служил в отделе СМЕРШ. Он нам рассказал обо всех обстоятельствах гибели капитана Пирогова. Когда немцы пошли в атаку, то вместе с ними шел танк. Они стали с этого хутора выходить в лес. Этот солдат запомнил, как впереди бежал какой-то капитан. Потом последовал взрыв, и его не стало. А он, так как был ранен, побежал в горячке дальше и упал в лесу. Эта ситуация была мне хорошо знакома. Ведь я сам бежал с перебитой ногой. Сначала все шло очень даже ничего: в горячке я все бежал и бежал. Потом нога начинала все больше и больше неметь. Короче говоря, они убегали из хутора, но оказались бессильными перед немецким танком. Укрытия у них никакого не было, боеприпасов — фактически тоже. Мне очень было жаль капитана Пирогова. Ведь мы с ним стали, можно сказать, на фронте друзьями. Я, правда, все время его звал так - «капитан».
Когда мы со всем этим «богатством» вернулись, то принесли все в отдел. Сумка, правда, к тому времени уже была разорванной. Я стал вспоминать и рассказывать о том, каким образом мы на поле боя провели поиски. «Никаких документов капитана Пирогова я не нашел, - говорил я контрразведчикам. - Есть полевая сумка, которую нашел старший сержант. А я в каком-то месте нашел чью-то ногу в сапоге. Еще ожидал, пока стемнеет, а потом возвращался и ее тащил». Как после выяснилось, полковой сапожник доказал, что этот сапог и нога принадлежат действительно капитану Пирогову. Эти сапоги он ему шил в то время, когда Пирогов был инструктором по снайперскому делу в дивизии. И он сказал: «Эти сапоги шил я!» А после его прислали к нам в качестве комбата. Пирогова, видимо, немцы убили с прямой наводки: снаряд его буквально разнес на части. Первое время наши контрразведчики, видимо, считали, что его уволокла немецкая разведка. Но потом этот вопрос прояснился.
Через какое-то время, когда я проходил через этого поле, где погиб капитан Пирогов, там стоял большой холм земли. В этом месте похоронили всех погибших. Если не ошибаюсь, название этого хутора было Каллас. Видимо, нашел там сво йпокой и капитан Пирогов.
Так как в результате тех самых боев от нашего подразделения почти ничего не осталось, то меня перевели в другой батальон. Затем мы снова оказались в пекле. Нас бросили против так называемой курляндской группировки немцев. В этой группировке, если мне не изменяет память, сосредоточилось 36 немецких дивизий. Я об этом тебе уже рассказывал. Они были блокированы. Нам была поставлена задача: «Расчленить эту группировку!» Мы стали готовиться к предстоящим боям. Для этого через какое-то время к нам в батальон дали пополнение. В основном это были мужики старше 50 лет. Ими, как правило, в основном оказывались снятые с должностей ездовых тыловики. Это были, как правило, люди самых разных национальностей. Из молодых были только, может быть, пулеметчик и некоторые командиры отделений. Меня после этого назначили на должность помкомзвода (помощника командира взвода). Но так как командира взвода не было, его обязанности выполнял фактически я.
В этот же день — 19-го ноября, в праздник Дня Артиллерии — мне вручили комсомольский билет. Мне этот день запомнился на всю жизнь. Мы находились на переднем крае, около небольшого и свободного лесистого участка, который просматривался немцами и обстреливался их пулеметным огнем. Короче говоря, немецкий пулеметчик совершенно не давал нам покоя. Едва я прибыл на передовую, как наши старшины принесли наркомовский спирт. Стоит отметить, что его постоянно к нам на фронт привозили. Бывает, немножко его хлебнешь, снежком заешь, и почувствуешь какую-то бодрость. Я свою норму выпил. Вдруг подходит ко мне мой подчиненный солдат, из того самого пополнения азиатов, и говорит: «Товарищ командир, моя не пьет. Выпей за меня». Ну что ж? Я за него выпил. Спустя какое-то время то же попросил еще один солдат. Потом я выпил норму за третьего бойца. После этого прошло некоторое время, как вдруг я почувствовал себя пьяненьким. Ведь я как минимум выпил более 300 граммов спирта.
Через какое-то время меня вызвали к телефону. По нему мне сообщили, что меня вызывают на командный пункт батальона. Мне предстояло проскочить через то самое открытое пространство. Я этот участок удачно прошел, упал на какой-то куст, как вдруг услышал «р-р-р» - это, как оказалось, раздалась пулеметная очередь. Смерть меня миновала. Но это было еще пол-беды. Потом я вдруг почувствовал, что я хожу не по земле, а по небу: мне казалась, что земля находится где-то вверху. Это сказался выпитый алкоголь. Когда я добрался до того места (наш КП располагался в лесу), куда мне нужно было идти (кто-то перед этим об этом сообщил), там мне сказали: «Вас вызывают в штаб полка. Вот идет линия, провод (мне на нее показали)? Так вот, вы идите по этому проводу. Он вас и приведет туда, куда вам нужно». Идти по нему, конечно, было опасно. Ведь около этого провода могли свободно шастать немецкие разведчики, охотящиеся за «языком». Но что делать? У меня не оставалось иного выхода. По этой нитке я вышел на дом лесника. Впрочем, что там, в лесу, другое могло быть? Захожу туда, там находится большая длинная комната (где-то метров 16), в которой стоит большой и длинный, чуть ли не вовсю комнату стол. Этот стол был, видимо, бильярдным, так как я заметил на нем специальные приспособления. За столом в конце сидел какой-то майор. Я подхожу к нему поближе и говорю: «Товарищ майор! Рядовой Корзанов по вашему приказанию прибыл». Тогда этот майор мне и говорит: «А вы знаете, зачем вас вызывали?» Говорю: «Нет!» «Вы приняты в ряды ленинского комсомола, - говорит он. - Вручаю вам комсомольский билет и поздравляю». Я говорю: «Служу Советскому Союзу!» И пошел служить.
А дело в том, что я до этого сам не проявлял никакого интереса к своему вступлению в ряды ВЛКСМ, хотя мне не раз это предлагали. И тогда мою проблему решили таким образом ликвидировать. Ведь я считался в роте довольно уже известный боец, а ходил не только в беспартийных, но и не состоял в комсомоле. Так в ноябре 1944 года я стал комсомольцем. Между прочим, этого майора я потом встретил еще раз, в Берлине, в горящем рейхстаге, но я об этом еще расскажу.
И.В. А в партию вам не предлагали вступать?
В.К. Господи, какой я был партиец, которому было всего 17-18 лет? У нас в партию принимали уже где-то после 26-ти лет.
И.В. А как так получилось, что пришлось командовать взводом, будучи рядовым?
В.К. Во время войны такое случалось очень часто: что, скажем, в полку оставался всего лишь один батальон, в батальоне — одна рота. В результате этого многие подразделения объединяли. И если не оставалось ни одного офицера, то, конечно, приходилось брать командование на себя. Настолько становились после боев малочисленными наши подразделения. Командиры постоянно менялись. Забегая вперед, скажу, что когда в ноябре 1944 года нашим комбатом стал Самсонов, он так до конца и не менялся. Все время продолжал командовать батальоном. Мне часто приходилось с ним сталкиваться. Но у него очень редко появлялся настрой, когда он был расположен вести какой-то разговор. Чаще всего оказывался не в духе.
Однако взводом я командовал временно, из-за нехватки офицеров. Официально я был утвержден в должности помощника командира взвода.
Потом нас на какое-то время с батальона отозвали, потому что нужно было переформировываться. В то время мы собирали все свои силы для того, чтобы пойти в наступление и расчленить курляндскую группировку. Затем наступил день, когда нам нужно было в него, как говорят, перейти. Началось с того, что еще вечером четвертая рота выкатила из леса и пошла в наступление на хутор, который мы хорошо знали. В районе хутора тогда сосредоточилось что-то около 500 немцев и проходила сплошная оборонная полоса. Этот хутор находился немного правее от нас на высоте. Четвертая рота находилась как бы с правой стороны подковы этого хутора, его выступа. Там же был и наш батальон. Тут я прежде всего имею командование и штаб. С нашей правой стороны этого выступа дальше шел лес. О том, чтобы каким-то образом окопаться, не могло идти и речи. Ведь все это проходило в болотистой местности. Кругом, буквально перед нами, стояли редкие деревья. Все это были последствия взрывов. Кстати говоря, пи взрыве любой мины у нас редко когда обходилось без потерь. Помнится, там же был сделан завал из деревьев. То ли их свалила буря, то ли что-то еще в этом роде. За этим завалом у нас находился полевой телефон. Как-то раз рано утром мимо нас прошел какой-то военный. Погон я его не рассмотрел. Среднего роста и худощавый, он был одет в стеганую куртку — фуфайку. На голове у него была простая солдатская шапка. Он прошел вперед. «Наверное, кто-то с артиллеристов или разведчиков», - подумал я. Потом я все-таки не удержался и спросил у одного из наших командиров, кажется, командира роты (хотя точно не помню): «А кто это такой?» Он мне ответил: «Это заместитель командира батальона по строевой части старший лейтенант Самсонов!» После этого я не стал этим вопросом больше интересоваться. Хотя меня все же удивило, что он пошел в том направлении, где впереди находились немцы. Но он через какое-то время вышел оттуда. А то перед этим мы сильно забеспокоились. Ведь от немцев можно было ожидать чего угодно. Так я впервые встретил Константина Яковлевича Самсонова, которому в будущем будет суждено стать Героем Советского Союза и активным участником штурма рейхстага.
Рота, которая шла на хутор (он находился чуть левее), как тогда считалось, поводила разведку боем. Она была расстреляна. Когда мы безо всякой артподготовки ринулись туда, надежды на моих солдат не было вообще никакой. Разговоры с ними проходили примерно на таком уровне: «Товарищ командир, моя не слышит», «Товарищ командир, моя не видит». Это были азиаты, которые по-русски не знали почти ни одного слова. Только оказался у них один с Урала, который был у них командиром отделения и фамилия его начиналась на букву К. Если мне не изменяет память, он был откуда-то с восточных районов. Если бы мне кто-то назвал его фамилию, я тут же бы ее вспомнил. Но сейчас, к сожалению, забыл. У него было звание сержанта. Так вот, он по-русски говорил. Мы с ним, правда, были знакомы совсем короткое время.
Ночью мы пошли в наступление, чтобы занять этот хутор и продвигаться дальше. Когда мы с этим К. выскочили, немцы открыли по нам огонь. Тогда еще вперед пошли мы одни. Других солдат еще на месте не было. Перед хутором стоял большой камень-валун. С этим сержантом мы заметили, что у них по прямой поставлен на ночной бой пулемет. Оказалось, что он определенно держит сектор обстрела. Правее же нас около леса в немецкую сторону шла полоса, где никаких движений не наблюдалось. Короче говоря, правее они не вели огня. Тут же постоянно пролетали трассирующие пули, нам было никак вперед не продвинуться. Мы видели, как они периодически переменяли свои патроны: то стреляли обычными, то разрывными, то — трассирующими, которые светились. Сейчас я на сто процентов уверен: если бы мы тогда пошли прямо на них, то напоролись бы на огонь их пулемета. Это, впрочем, выяснилось уже потом.
Кстати говоря, нам тогда дико повезло. Дело в том, что когда наша четвертая, кажется, рота попыталась атаковать этот хутор, немцы, ожидая, что с нашей стороны начнется наступление, увели своих солдат куда-то в укрытие. На месте они оставили несколько установленных на ночную стрельбу пулеметов.
Тогда мы пошли ближе к лесу и оказались с боку этого самого хутора. Мне потом сказали, что там находилась на самом деле баня, а не дом. Построенная из бутового камня, она была окружена второй стеной, где немцы сделали, как это тогда считалось, огневую точку. Тут же проходили траншеи. Когда мы подошли к немецкой траншее и потом сзади к этой бане, то в районе, расположенном между нами и нашими наступающими частями, застрочил немецкий пулемет. Во время вспышек мы увидели немецкие каски и то, как заработал их пулемет. Мой азиатский товарищ мне предложил: «Давай, мол, на них бросимся». «Стой! - сказал я ему. - Да ты что! Не бросай пока гранаты. Поди знай, кто там и сколько их. А нас же только двое и мы ничего не видим в темноте». «А гранаты!»
У меня была граната, но я не успел привести ее к действую. Только выдернул чеку... Что сделал товарищ, не знаю. Короче говоря, мне неизвестно, смог ли он своей гранатой воспользоваться. Дело в том, что в этот самый момент вдруг перед этими немцами разорвался снаряд. Осколки пошли прямо на нас. Едва я прилег к бане (прижался), как я почувствовал, как будто меня что-то обожгло. Начался жар. Дальше я потерял сознание. Через какое-то время я очнулся и обнаружил, что лежу в траншее. Мысленно я представил, где я мог быть, и пошевелился. Меня кто-то схватил. Оказалось, что рядом со мной находится мой товарищ, с которым я участвовал в наступлении. Он поднес мою руку к своей руке. У него была фактически перебита кость. Кроме того, ему почти оторвало руку: она у него как-то там болталась. На улице стояла тьма. Ведь все это происходило в конце ноября. Тогда я его раздел и немного перевязал. Через какое-то время он меня стал дергать и показывать, чтобы мы скорее бежали. Мы с ним выскочили и побежали по той же дороге, по которой сюда не так давно шли. Потом вышли на нейтралку.
Мой товарищ уже почувствовал, что мне тяжело его тащить. Ведь меня тогда контузило. Он понимал, что если меня будут отвлекать артиллеристы, я все равно ничего не услышу. Я тогда уже разделся. Ему же попал осколок в спину. Это произошло не то когда мы бежали, не то раньше. Тогда я нашел какую-то разорванную палатку и в нее завернулся: в том месте, где мы перед этим несколько дней стояли. Так я пролежал до утра. Видел, как рвутся огоньки и мелькают на деревьях. Но мне все это было безразлично. Я ничего не слышал. В голове все шумело и гудело. Было не понять, что и к чему. Кстати говоря, пока мы по лесу бежали, мне, как и моему товарищу, даже немного попало в спину. Но, честно говоря, я тогда получил легкое ранение. Страшнее оказалась контузия.
Утром приехали старшины и привезли завтраки для того, чтобы нас как-то подкормить. Они дальше почему-то не могли продвинуться. То ли наши солдаты заняли хутор, то ли находились в поле, - насчет этого я тогда пребывал в полном неведении. Еду старшины вынесли недалеко от меня. Меня после этого увели санитары. Своего товарища я увидел уже в медсанбате. Он лежал там совсем бледный и едва шевелил губами. Стонал он или не стонал, я не знаю. Мне как контуженному это было совсем безразлично. Но губы, как я уже сказал, шевелились. Я его потрогал и он открыл глаза. Может быть, он что-то говорил, но я все равно ничего не слышал. Ему тогда уже ампутировали руку. Потом нас развели. Его отправили в тыл в госпиталь.
Меня же отправили несколько позже в армейский госпиталь 3-й Ударной армии № 19-19. Разместили нас в Латвии в каком-то населенном пункте. Как он назывался, я не помню. Могу только сказать, что размещался он в полуподвальном помещении бывшего спиртзавода, территория которого оказалась довольно большой. Впрочем, размещались мы не только в помещениях этого завода, но и в рядом стоящих домах барачного типа. Так как я был контужен, то с самого начала прибытия в госпиталь никак не мог найти себе места. Такое нашло на меня состояние, что мне нигде не было покою. Я искал себе места, куда можно было бы приткнуться. То ли давление сказывалось, то ли еще что-нибудь. Как-то раз зашел я в библиотеку госпиталя и взял почитать себе книгу. Один раз почитал, другой. Потом солдат, который выдавал книги, вдруг мне говорит: «Слушай, прими от меня библиотеку. «Да ты что? - удивился я. - Тебе что, не нравится здесь?» Он сказал: «А я уезжаю в военное училище!» После нашего разговора прошло сколько-то времени. Подумал: «Начну этим делом увлекаться и буду спокойно себя чувствовать». Я взял и принял у него библиотеку.
Но потом переменилась погода и я вновь стал себя неважно чувствовать. Мало того, что болела голова, я еще очень и очень плохо слышал. Тогда я решил, что в таком состоянии мне все-таки придется библиотеку оставить. А дело в том, что когда я еще принимал библиотеку, туда иногда заходил заместитель начальника госпиталя по политчасти капитан Петр Давидович Приставкин, грузный мужик и по-существу — ровесник моему отцу. До войны он работал, по-моему, третьим секретарем Смоленского обкома партии. Когда он в очередной раз ко мне зашел, я ему признался, что на этой работе очень плохо себя чувствую. «В таком случае, - сказал он мне, - подыскивайте себе того, кто вас заменит». Когда нашелся для этого дела товарищ и я уже стал передавать ему дела, Приставкин мне сказал: «Когда передадите, придете ко мне и доложите». И что же? Он предложил мне идти к себе в помощники.
Суть моей работы заключалась в следующем. В госпитале лечились два командира дивизии, которые служили в нашей 3-й Ударной армии, но находились в каком-то частном доме. Наши разведчики притащили им трофейный радиоприемник на батарейках. Так вот, рано утром я вставал, шел к ним, прослушивал Сводки Совинформбюро, где говорилось о том, что произошло за сутки или за ночь на фронтах, и все это записывал. Сейчас я уже не помню, как с ними познакомился. Могу только сказать, что нашлись люди, которые меня с ними свели. Мне это было, конечно, очень нужно. Они отнеслись к моей инициативе очень положительно. Ведь такие вещи поднимали боевой дух наших солдат. Когда-то я помнил их фамилии. Но теперь, к сожалению, я их позабыл. Помню только, что их дивизии воевали в составе нашей 3-й Ударной армии. Я старался как можно больше схватить нужной мне информации. Свои «каракули» я передавал свои капитану Приставкину. Впрочем, для себя оставлял тоже экземпляр с записями. На основании моих записок Приставкин читал политинформацию для легко раненых и контуженных, проходивших лечение в госпитале. Моей обязанностью являлось чтение политинформации для медперсонала: врачей и медсестер. Раненые с нетерпением ждали нашего появления. И когда мы зачитывали сводки, где говорилось о том, что наши войска взяли такие-то и такие-то города, люди очень сильно радовались.
Честно говоря, на мои беседы чаще приходили медсестры. Врачи были заняты своей работой и к этому относились как-то не очень. Но все ж таки и они появлялись. Потом в этот процесс у меня втягивалось все больше и больше работников госпиталя. Работа у меня получалась. Ведь я еще до войны много читал книг, а 19 ноября 1944 года буквально перед последним боем мне вручили комсомольский билет (был я в этот день, кстати говоря, немного пьяненьким).
Короче говоря, работа у меня шла довольно хорошо. А потом в жизни нашего госпиталя стали проходить какие-то странные изменения. К нам приходит сначала одна, потом вторая комиссия. Ее члены проверяют состояние здоровья раненых. Тех, кому предстоит пройти более продолжительное лечение, отправляют в другие тыловые госпиталя. Тех же, у кого здоровье более-менее поправилось, выписывают и отправляют в свои части. А меня, смотрю, держат и никуда не отправляют. Таких набралось у нас несколько человек. Среди них, между прочим, оказалось два моих земляка, с одного района. А то все были с Псковской области.
Через какое-то время нас всех собирает начальник госпиталя подполковник Концевой и объявляет: «Нашей 3-й Ударной армии в Прибалтике больше уже нет. Она где-то в другом месте. Мы как армейский госпиталь должны следовать за ней. Куда мы едем, я не скажу. Скажу другое: когда мы будем проезжать, где бы мы ни находились и что бы ни делали, никому ничего не рассказывайте. Ни за что не говорите, куда и откуда мы едем, что у вас за воинская часть. В военной форме человек будет спрашивать или нет, вы ничего не знаете. Ни с кем не вступайте в разговоры. Мы об этом предупреждены, а куда едем - сами ничего не знаем. И лучше, чтобы у вас не было никаких газет: ни армейской, ни дивизионной». Делалось все это, как я понимаю, для того, чтобы немецкая разведка не знала о том, что идет передислокация наших войск и чтобы она не зафиксировала факт нашей переброски на другой рубеж. Ведь у нас, по сути, оголялся тыл. Поэтому для того, чтобы они не воспользовались этим обстоятельством и не стукнули по нам, соблюдались такие меры предосторожности.
Мы погрузились в эшелон и поехали. Наш путь продолжался трое или четверо суток. На мою долю выпало дежурить сутками по эшелону. Бывало, едем, как вдруг — чух-чух, паровоз останавливается. Нам говорят: «Нет топлива!» Тогда мы выходили на улицу и старались запастись каким-нибудь горючим. Если в лесу нам попадалось какое-нибудь сваленное дерево, мы его брали. Короче говоря, старались любое бревнышко прихватить. Так же брали доски от построек. Всем этим машинисты топили паровоз. Ехали мы довольно медленно. В итоге мы оказались под Варшавой. И если раньше входили в состав 1-го Прибалтийского фронта, то теперь вошли в подчинение 1-го Белорусского фронта. Разместились мы в населенном пункте, которое поляки почему-то называли Джары. Но мы туда, по правде говоря, попали не сразу. Нас до него повезли после остановки поездом на машине. Наше командование прибыло на место раньше нас. Я же оставался с нашим госпитальным имуществом. Ведь вместе с личным составом госпиталя должны были прибыть госпитальные товары: книги из библиотеки, игральные предметы вроде шахмат и домино. Я ожидал, когда все это хозяйство пребудет на машинах, чтобы потом все доставить до того места, где размещался наш госпиталь.
Между прочим, первым местом, которое я посетил в городе Джары, стало здание костела. Но, как я потом узнал, в то время оно выполняло еще и функции какого-то клуба. Почему? Дело в том, что когда я там появился, там выступали с театральным представлением дети младшего школьного возраста. Темой их выступления стало Рождение Иисуса Христа в городе Вифлееме. История эта была и мне известная. Значит, когда родился будущий спаситель, царь Ирод приказал уничтожить всех новорожденных детей и чтобы таким образом выйти на Иисуса. И мне показалось, что в этой постановке была связь с Гитлером, который так же, как и Ирод, уничтожал людей.
И тут вдруг я встречаюсь со своим земляком и сослуживцем по снайперской роте Колей Степыка. Теперь он тоже, как оказалось, находился при госпитале. Он получил ранение: осколок угодил ему прямо в половой член. Он немножко заикался. По поводу ранения он мне потом говорил: «В-в-вася, как я теперь ж-ж-жениться буду?» А когда мы впервые снова встретились, он мне сказал: Вася, з-з-знаешь? К-к-капитан Приставкин снял там квартиру. И с-с-сказал, что для т-т-тебя тоже, что и т-т-ты там будешь жить. Ох там полячка! Красивая, красивая!» А дело в том, что когда мы только в Польшу приехали и стали разгружать свое имущество, с рядом стоящего дома вышла очень молодая и красивая блондинка, которая буквально поразила меня своим видом. Я почему-то подумал: «Уж не она ли это?» Но когда мы разгрузили машину в штаб нашего госпиталя и меня привели на квартиру, то оказалось, что это совсем не она. Вообще-то полячки все были очень красивыми. Но та полячка, брюнетка, была не в моем вкусе. Впрочем, какой мог быть вкус в 18 лет?
Наступил вечер. Собралась вся семья. Из кого она состояла? Был хозяин дома — пожилой поляк. У него и его жены, которую мы тогда увидели, был сын. Но дома его не оказалось. Он служил в это время в какой-то армии. Также с ними жила их невестка (жена сына) со своим сыном, маленьким мальчишкой. Кроме того, с ними жила эта девица-полячка, которую звали Христя. Для того, чтобы попасть в комнату, которую мне выделили, я должен был идти через одну комнату. Я там почему-то задержался. Ко мне подошла эта полька и предложила поиграть с ними в шахматы. Сам я неплохо понимал то, что они говорят. Но сам разговаривать на их языке не мог. Речь мне казалась немного прескверной. Начали мы играть. Но, между прочим, я довольно быстро обыграл хозяина. А потом про себя подумал: «А хорошо это или плохо? Правильно ли обижать хозяина? Но с другой-то стороны получается что? Разве я глупый российский солдат?»
Через какое-то время эта девица начала переводить поляку то, что я ему говорю, на его родной язык. Потом сама стала что-то по-русски выдавать. Я ей сказал: «Вы так хорошо понимаете и говорите по-русски?» «Не только говорю, - ответила она мне, - но и пишу». Тогда она взяла рядом лежавшую тетрадь и написала на ней: «Здравствуй, милый друг». Короче говоря, девка оказалась грамотная. «Что это значит? - подумал я. - Она мне показывает, что может писать или же на что-то намекает?»
Потом у нас началась какая-то романтика. Она меня стала увлекать. Но тут возникла странная ситуация. Она почему-то проявлять ненависть к капитану Приставкину, который у них в доме вместе со мной находился. А все дело в том, что они почему-то принимали его за еврея. А к евреям поляки очень плохо относятся, ведь они — жуткие антисемиты. К капитану, как сейчас помню, приходила одна медсестра. Бывало, придет и сидит. Забыл, как ее звали. Что-то слишком она к нему навязывалась. Так Приставкин в иной раз мне говорил: «Вася, возьми автомат и проводи ее». Тогда я брал автомат и провожал ее до того пункта, где находились медсестры. В то время ходить без оружия по Польше не представлялось возможным. На каждом шагу нас подстерегали опасности. Однажды Приставкин мне сказал: «Вася, чего ты с ней связался? Вот есть же у нас хорошая девочка — лаборантка Лида». «Так а что же? - говорю. - Вы же ее приглашали? Это без моей воли».
Потом полячка что-то слишком стала разыгрываться. Она мне, например, сообщила, что хозяева, с которыми она живет, не ее родители и что ее настоящий отец — польский офицер. Ей, конечно, хотелось, чтобы я подольше у них задержался. Со мной ей было как-то веселее. Но при этом она говорила: «Меня здесь никто не поддержит, потому что это — не мои родные». К ней часто приходили какие-то местные ребята, постарше ее и поздоровее. Она с ними общалась. Я же с этими молодцами не вступал ни в какие разговоры. Глядя на все это, я ее спрашивал: «Христя, когда у тебя свадьба? Я хотел бы посмотреть, как у вас проводят свадьбы». А мне однажды довелось слышать рассказ о том, как в Подмосковье проходят свадьбы. Сам я, правда, на ней не присутствовал. Приходят сваты. Девушка становится на большую скамью и ходит по ней. Следом за ней идет ее мать, держит перед ней развернутую юбку и приговаривает: «Скачи, скачи, моя деточка, в вечный хомут. Скачи, деточка, в вечный хомут...» А она ходит взад и вперед и говорит ей: «Хочу — скачу, хочу — нет. Хочу — скачу, хочу нет». Мать снова ее приглашает: «Скачи, деточка, в вечный хомут!» Когда же она со скамейки все-таки прыгает, мать надевает на нее юбку. Это становится знаком, что девушка согласна на брак. Я уже забыл, в каком районе Московской области была такая традиция. Так вот, Христя, когда я ей все это рассказал, отказывалась признавать, что они к ней сватаются. «Нет, - говорила она, - они никакие мне не женихи».
Однажды захожу я к них дома, как она мне сообщает (я в то время отсутствовал): «Приходили к тебе. Сказали, что как только ты появишься, сказать тебе, чтобы ты пришел на комиссию». Я начал собирать свои вещи. «А что это такое — комиссия?» - поинтересовалась Кристина у меня. «Ну как? - говорю. - Я же должен поехать на фронт и освобождать вашу Варшаву». «А капитан?» «Ну а капитан в своей части находится. Я-то ведь здесь временный». Когда я пришел в госпиталь, то узнал, что меня выписывают. Стало быть, я должен возвращаться в свою часть. Прихожу я к ней и говорю: «Я, Христя, уезжаю к своим друзьям солдатам, хотя не знаю, есть в живых они или нет, в свою часть. Меня отсюда выписывают».
Тогда она пустила слезы и изобразила на своем лице что-то непонятное. Своему капитану я так и не успел перед этим сказать, чтобы он уходи с этого дома, так как его здесь не любят. Пока шел, думал: если встречу — то обязательно его об этом предупрежу. В конце концов, решил я, капитан может и какое-нибудь другое жилье себе найти. В Джарах ведь еще дома находились. Как только приехала за мной машина - «эмка», появляется этот капитан. Открывается дверь машины. «Вася, что?» - говорит он. «Я уезжаю уже!» - говорю. «Я знаю. Ох как жаль мне с тобой расставаться». Я так растерялся, что ничего ему не сказал. А надо было его все-таки предупредить о грозящей ему опасности.
Насколько мне известно, у него была семья в Смоленске. В этом городе он работал, кажется, третьим секретарем горкома партии. С началом войны его призвали в армию. Как только немцы заняли его город, он потерял с семьей всякую связь. Он не знал о ней ничего. Через какое-то время он как бы приженился на одной медичке в нашем госпитале. Но потом разыскалась его семья. Он узнал о том, что его сын, такой же, как и я, солдат, служит в какой-то части, но только не на нашем фронте. После этого он перестал сожительствовать с нашей медичкой.
Уже после того, как я демобилизовался, я встретил этого Степыку у себя на родине. Дело было в районном центре, на рынке. Он уже к тому времени женился. Не знаю, как у него с таким ранением получилось. Видимо, вылечился. По сути дела, из всех своих однополчан после войны я его только и встретил. Он был с другого села, но с нашего района. Потом мы еще несколько раз встречались. Когда я из госпиталя возвращался обратно в свой 380-й полк, он еще оставался. Так вот, когда мы встретились с ним на рынке, он мне сказал: «После того, как ты, Вася, уехал, дня через два или три после этого, пропал капитан Приставкин! Никаких следов от него не стало».
После окончания войны я написал одно или два письма в Смоленский обком партии. Там говорилось: «В ваших рядах, по-моему, на должности третьего секретаря, но точно я этого не могу сказать, работал Петр Давидович Приставкин. Не сообщите ли вы мне о том, как сложилась его судьба?» К сожалению, ответа на свое письмо я так и не получил.
И.В. А почему Христя плохо относилась к Приставкину?
В.К. Как я понял, у них закралась мысль о том, что он еврейской наиональности. А поляки были жкуткими антисемитами.
Ну и что было дальше? Затем я уехал на новое место, стал проходить комиссию, хотя, собственно говоря, этого тогда уже не требовалось. Одним словом, я был выписан из госпиталя. Прибыл я снова в свой 380-й стрелковый полк, который теперь размещался в лесу под Варшавой. Это произошло уже под вечер.
Свое возвращение в часть я досконально и во всех подробностях запомнил. Тогда в боевых порядках нашего полка как раз проходило распределение нового пополнения. В ту пору к нам в основном поступали бывшие жители только что освобожденной от немцев Западной Украины. Нас привезли на машине уже поздней ночью. Было холодно, на дворе стояла зима. Часть, как я уже говорил, располагалась в лесу. Когда нас привезли, я заметил шалаши из елок (хвои). Собственно говоря, в них и проживали солдаты и офицеры 380-го стрелкового полка 171-й дивизии. Меня привели в полковую землянку, в которой, как я узнал, проходила регистрация вновь прибывшего пополнения. Там, как потом выяснилось, регистрировал солдат и направлял их в роты старший сержант Сергей Серпов, служивший у нас в полку писарем. Сам он оказался немного постарше меня, с 1924 года рождения, и был родом с Ленинграда. До призыва в армию работал учителем. Когда очередь дошла до меня, я положил свою красноармейскую книжку на стол. Он взял ее, посмотрел, улыбнулся и после этого схватил трубку полевого телефона и кому-то сказал: «Корзанов прибыл!» «Боже ж ты мой! - подумал я про себя. - В чем может быть ко мне такой интерес. Тем более, что этого человека я знать не знаю». Ему что-то сказали, он положил трубку.
Через какое-то время к землянку зашел один солдат. Этот сержант Серпов показал на меня: «Вот Корзанов!». Солдат сказал мне: «Пойдемте со мной!» Мы пошли. Кругом стояли шалаши. Солдат завел меня в какую-то землянку (ее, по всей видимости, быстро делали) и сказал: «Располагайтесь здесь!» Вход в нее проходил вниз по земле. Кроме того, в земле к ней был сделан проход. В качестве освещение горела гильза от снаряда сорокапятки: этот намоченный фитиль давал свет. Она пыхтела. Ее, по-моему, обмакивали в какую-то жидкость. В самой землянке лежал человек в военной форме. Помнится, тогда я еще подумал: «Тут, наверное, еще появятся люди. Землянка же рассчитана не на одного человека. Интересно, почему меня пригласили в эту землянку? Почему вообще мне устроили такой прием? Всех распределяют непонятно куда, а меня поместили в землянку». После этого я помылся и сразу же у входа лег спать.
Прошло какое-то время. Вдруг открывается дверь и в нашу каптерку заходит немного поддавший человек. Как потом я узнал, это был командир полковой разведки лейтенант Агапов, немного старше меня по возрасту. Он закрывает за собой дверь, что-то про себя мычит, потом идет вперед к тому человеку, который лежит, и начинает его тормошить за ногу. Он, конечно, с мороза. «Ахмадуллин! - говорит он Агапов. - Ты меня любишь?» Тот уставшим голосом не говорит, а мычит ему в ответ: «Лю..м-б-лююю...» Через какое-то время он снова его спрашивает: «Ахмадуллин, ты меня любишь?» Тот опять ему устало проворчал: «Люблю». Агапов еще раз его спрашивает: «Ахмадуллин, ты меня любишь?!» Тогда тот вскакивает и говорит: «Люблю, еб твою мать, люблю!» Тут я не выдержал и рассмеялся. Как только Агапов мой смех услышал, так сразу обратил на меня внимание и подошел ко мне. Подумал: теперь мне придется провести с ним остаток ночи. У нас завязался разговор. Он мне рассказал о том, что в Курляндии они наступали на один хутор, его ранили, что мало кто остался жив и очень много погибло людей. «В Курляндии погиб командир полка майор Житков, - говорил он. - Сейчас у нас — новый командир полка. Погиб он, когда была летняя пора». Еще я узнал о том, что через две недели после того, как погиб капитан Пирогов, они пошли в наступление. К ним поставили комбата Иванникова. Но он тоже погиб. Я его больше не спрашивал обо всем этом.
А потом я слышал об этом такой разговор. Когда мы воевали в Прибалтике, наш 380-й полк сняли с переднего края. И во время того самого перехода машина, которая вывозила почту, случайно на него наехала и убила. Дело было ночью. Кстати говоря, когда командир разведки подошел ко мне, я подумал, что меня, наверное, хотят взять в разведку. А на фронте встречались такие командиры, которые хлопотали за незнакомых им людей. И хотя у меня была очень хорошая умственная и зрительная память, я не мог припомнить того, чтобы мы где-то встречались с командиром разведки. Куда мне там!
Но оказалось, что совсем нет. И еще он мне сказал такие слова: «Ты через какое-то время будешь или искалеченный, или убитый». Между прочим, Агапова после того самого случая я ни разу не видел. Что же касается солдата разведки Ахмадуллина, то я его встретил на одной высотке, когда нам, как сейчас помню, нужно было прямо на глазах у немцев сняться.
Когда наступило утро, я получил свое назначение. У нас в полку как раз проводилось построение. Тогда же я обратил внимание, что во главе нашего батальона стал тот самый товарищ, про которого в лесу в Курляндии, буквально перед самым ранением, мне сказали, что это заместитель командира батальона по строевой части старший лейтенант Самсонов. На этом же построении я увидел уже нового командира полка. Но его, честно говоря, я не успел запомнить, так как через некоторое время его убрали за какую-то провинность. Тогда этот подполковник, назначенный в наш полк командир, пришел на построение в пьяном виде. На нем, как сейчас помню, была венгерская шуба такая. «Вы знаете что? - начал он нам говорить. - Я вам — батька. Я беспокоюсь о том, чтобы вас накормить, чтобы у вас были и обувь тепленькая, и валенки (а мы, солдаты, носили валенки за спиной, а когда останавливались на отдых, они нас выручали). А вы — сукины дети! Вот кончится война, будете проходить с собачкой на цепочке и не обратите на меня внимания». На третий день после этого выступления его забрали. Вместо него обязанности командира полка стал временно исполнять Виктор Дмитриевич Шаталин. Еще я на построении увидел некоторых ребят, которых помнил по Прибалтике, а также некоторых знакомых артиллеристов и минометчиков.
Через какое-то время к нам приехал сам командующий армией генерал-лейтенант Николай Павлович Симоняк. С ним даже мне довелось немного пообщаться. Он подошел ко мне задал, кажется, два вопроса. Правда, их я сейчас уже не припомню. Я еще запомнил, что хотя сам он оказался ниже меня ростом, на нем была очень высокая папаха. Если бы не эта папаха, он бы выглядел намного ниже. Это произошло под Варшавой. Потом его убрали, а на его место поставили Василия Ивановича Кузнецова.
Уже числу к 12-му мы числе мы вошли в район Праги, это предместье Варшавы. Мы находились на восточном берегу. Вечер мы пробыли на снегу в лесу, а утром двинулись на Варшаву через реку Висла. Тогда она была долбленая (лед долблен снарядами). Правее нас находился мост. Таким образом, мы вступили в Варшаву.
Когда мы вошли в польскую столицу, то были жутко уставшими и едва держались на ногах. Город оказался очень красивым. Правда, ни одного стекла в окнах мне видеть не приходилось. Как я уже сказал, пришли мы в город слишком изможденными. Тем более, что бой за Варшаву проходил в лютую морозную зиму. Надо сказать, поляки оказались очень странным народом. Что его не спросишь (вплоть до того, что интересуешься, как пройти в туалет), он отвечает: «Пшиска-пшиска герман зАбрал!»
Стоит отметить, что из-за того, что наши солдаты друг друга называли славянами, у поляков возникла путаница. Конечно, о нас ходили самые разные анекдоты. Помню, такой, например, ходил в Латвии. Загоняет бабка овец в хлев, а наш солдат ей говорит: «Закрывай, бабушка, закрывай овец в хлев!» Ее спрашивают: «А как же за рубежом?» Впрочем, кажется, в свои 90 лет я забыл его окончание. Там что-то было связано со славянами. А с поляками связан не столько анекдот, сколько реальные с ними разговорами. Бывает, как только он начнет тянуть свою волынку про то, что «пшиска герман забрал все и упер», ты его спрашиваешь: «А как тебе русские солдаты?» Он отвечает: «Русские солдаты - хорошие солдаты. Только у вас в России есть славяне. Так те какие-то другие. Или своруют что-нибудь, или еще что-то не то сделают». И поэтому вскоре наши стали полякам говорить, когда они на кого-то из нас жаловались: «Ну, бабушка, тетенька, так это ж славяне!»
Помню, находясь где-то в Польше, мы оказались около предприятия, на котором производили масло. Его там сбивали. Происходило какое-то вращение. От него оставались отходы — что-то вроде сыворотки. Так вот, я хорошо запомнил, как группа полячек выносила нам попить эти вкусные остатки от масла. Было очень приятно. Вообще-то говоря, полячки были очень любвеобильными девушками. Немки, в отличие от них, вели себя несколько скромнее. Помнится, в одном месте находилась мука. Так там полячки прямо на месте за два часа выпекали хлеб. Растворяли ее, потом еще что-то делали. Эта «операция» у них каким-то образом получалась. И я, находясь в одном населенным пункте, как только узнал об этом, то прихватил вместе с ездовым Задорожным муку и поручил тем самым полячкам испечь нам хлеб. Они действительно нам его испекли. Потом эти буханки хлеба я разрезал пополам и раздал своим солдатам. После этого пошел слух об этом самом хлебе. Начали говорить: «Почему только в такой-то роте солдатам раздали хлеб?» Тогда я, честно говоря, немного струхнул. Подумал, что меня за эту инициативу поволокут в особый отдел. «В таких вопросах надо быть осторожнее», - решил я. Но все, к счастью, обошлось.
Сколько-то походив по самой Варшаве, мы остановились почти что на окраине Варшавы. Там размещалось какое-то хозяйство, стоял сарай, здесь же поляки держали каких-то своих животных. В одном большом сарае, как потом оказалось, лежали сено и солома. Все это принадлежало какому-то институту. В это время я шел через его двор с заданием: мне нужно было дать строевую записку в штаб о том, сколько нас здесь находится, для того, чтобы знать, сколько человек следует кормить. Прохожу я мимо сарая, как вдруг слышу, что орет русский человек.
Недалеко от меня находился ездовый Задорожный. Тут мне хотелось ненадолго отступить и рассказать про этого сержанта. Он оказался намного старше меня — родился чуть ли не в 1909-м году. Сам он был родом с Украины, но не с самой, а с Запорожья. Он называл себя казаком. И хотя он носил сержантское звание, находился какое-то время в моем подчинении. Это произошло после того, как у нас не стало командира роты. Считалось, что его повозка с лошадьми, на которой он был ездовым, находится на моем попечении. Никто не имел права его никуда от меня забирать. Он испытывал какие-то проблемы. Поэтому его держали на этой должности. В случае чего, если это требовалось, он мог кого-либо подвезти. Однажды, помню, когда мы были страшно усталыми, Задорожный будит меня и спрашивает: «Вася, как же ты спал! Ты что, не слышал ничего?» Говорю: «Нет». Оказалось, что когда мы подошли близко к берегу Балтийского моря, где нас стали обстреливать с немецких судов, он в одном месте случайно соскочил. В результате лошади меня одного пронесли по полю. Но потом он все же догнал мою повозку.
Так вот, увидев, что случилось такое дело, я этому сержанту крикнул: «Задорожный, с автоматом за мной!» Поле этого вместе с ним мы прибежали в сарай. Заскакиваем мы, значит, туда и видим такую картину. На сене лежит один сержант, а под ним — девка-полька. Она его грызет и кусает, а он орет. Задорожный мне показывает: «Ты что?! Делай что-нибудь, чтобы их освободить». Увидев, что он взял ее за ноги и попытался их растянуть, я взял ее за руки. Не знаю, как я с этим справился. Наверное, все-таки вывернул руки и задел палец. Когда же мы их все-таки освободили, она встала, заплакала и пошла. Меня это, конечно, очень сильно удивило. Ведь если бы такая вещь сложилась у меня на родине (скажем, застали мужчину и женщину в таком положении), они сразу бы прекратили свое занятие. А эта, наоборот, упорно за него держалась. И когда встала, на ее лице появилось какое-то недоразумение: мол, что это такое. Потом вскочил тот самый солдат и тоже куда-то подался. Наступила ночь. Мы с этим сержантом пошли дальше. Уже потом я рассказал об этом случае начальнику штаба батальона капитану Бушкову.
А с сержантом, которого мы освободили из под польки, случилась следующая история. Как-то ночью раздался хлопок. Все сразу всполошились, стали говорить: «Что такое?» И оказалось, что этот сержант какими-то путями «сумел» в кармане своих галифе взорвать капсюль от гранаты. Я не знаю, как это можно вообще физически сделать. Но это, конечно, была не такая уж страшная вещь. Правда, тогда ему повредило пальцы. Его отправили в госпиталь. Но при этом капитан Бушков отправил вместе с ним в госпиталь сопроводительную записку, где было сказано: «Считать происшествие вызванным случайностью».
После освобождения Варшавы наши войска, в особенности механизированные, двинулись в сторону Берлина. В то самое время в Польше было много окруженных городов. Так как от нас отставал 2-й Белорусский фронт, мы приняли направление правее — так называемый район Померании, с целью выхода на Балтийское море. Таким образом, мы отрезали те войска, которые противостояли 2-му Белорусскому фронту.
Стоит отметить, что в Померании дело у нас доходило фактически до партизанской войны. Например, у нас случалось такое, что один край какого-нибудь населенного пункта занимаем мы, а другую часть — немцы. Фашисты построят мост. Мы его днем сожжем. Утром снова появляются немцы. Творилась страшная неразбериха. Такие жестокие сражения шли чуть ли не за каждый населенный пункт.
Потом мы отошли, получили пополнение и стали готовиться к немецкому контрнаступлению. В то время нам стало известно о том, что немцы сняли многие свои подразделения из Прибалтики (речь идет о курляндской группировке фашистов, против которой я воевал в свое время в Латвии) и перебросили их в Польшу и Германию: с тем, чтобы ударить в тыл тем нашим частям, которые или форсировали Одер, или вышли на Одер. Как нам стало известно, немцы готовили свое наступление на 23-е февраля. Но этого не произошло, так как 23-го февраля во второй половине дня мы сами перешли в наступление. Потом мы опять снимались, снова получали пополнение и уже форсировали Одер.
Кстати говоря, когда мы только после освобождения Варшавы мы вышли на правый фланг 1-го Белорусского фронта (2-й Белорусский фронт подотстал в районе Гдыни) и вышли на берег Балтийского моря, то мне запомнился такой случай. С левой стороны от нас располагался залив, с правой — само Балтийское море. Как мне говорили, оно удалялось от нас где-то, наверное, километра на четыре. Там же располагался какой-то городок. В этом районе сильно шумели какие-то моторы. Когда до нас стал доходить этот звук и мы стали этим интересоваться, нам сказали, что там приземляются гидросамолеты. Площадь этого небольшого перешейка, ставшего перед нами, занимала где-то 400 метров. Нам туда оказалось никак не пробиться. Он находился на горе, покрытой какой-то колючей растительностью. Она была хуже, чем колючая проволока. Ведь если, бывает, за нее зацепишься, то потом никак не оторвешься. В расположенном рядом поселке были разбросаны какие-то домики. Что интересно: когда мы подошли к морю, то нам были видны дымы и силуэты нескольких немецких кораблей. Бывает, один из них подойдет ближе к нашему поселку и откроет по нему огонь. В домах, где мы разместились, были подвальчики. Если кто-то по рации заговорил, немецкий корабль своим выстрелом тут же перевернет этот дом. Они вели довольно точный по нам огонь. Поэтому никто у нас не разговаривал по телефону. Нам было приказано: «Ни в коем случае не разговаривать по рации».
Потом начались бои. Тут со мной произошел интересный эпизод. Когда немцы пошли на нас в контратаку, мне нужно было отлучиться из строя. Меня по какому-то делу вызывали в тыл. И вдруг из строя вышел наш ручной пулемет. Тогда у его забрал у своего товарища, а сам отдал ему автомат. Решил, что в тылу решу неисправность. В то время, представь себе, у нас тылом считалось расстояние в 200-500 метров от переднего края. Пробегаю я со своим пулеметом по хутору, как вдруг мне встречается Самсонов. «Ты откуда?» - говорит он мне. «Вот оттуда-то и оттуда», - отвечаю ему. «Как так? А кто тебе разрешил выходить оттуда? Расстреляю!» Вот у него на все случаи жизни существовал такой ответ: расстреляю! И был он почему-то всегда каким-то нелюдимым. «Ни хрена себе! - подумал я тогда. - Кто я такой, чтобы меня расстреливать. Боже ж ты мой!» Тогда я ему попытался ответить: «Товарищ лейтенант, вот, заменил оружие. Сейчас решу неисправность». Тогда у него вырывается: «А кто будет за батальон отвечать?» А кто я такой, чтобы отвечать за батальон? После этого я, конечно, сразу ушел. Но этот разговор с Самсоновым оставил в моей душе странный осадок. Это произошло где-то в феврале 1945-го года. С этим Самсоновым я служил еще шесть месяцев, вплоть до своей демобилизации в октябре 1945-го года.
Кстати говоря, во время тех самых боев мы понесли очень много потерь. Помню, к нам вместе с пополнением только что прибыл из училища молоденький лейтенант Исидор Воронцов. Его назначили у нас командиром роты. Так вот, его убило: попало чуть выше переносицы. Он с нами воевал очень короткое время. Я его, конечно, знал, но не сказать, что бы очень хорошо. Его за что-то сильно уважали наши ездовые. Когда его убило, они набрали несколько не струганных досок и сколотили в виде ящика ему гроб. За время войны на моей памяти это были единственные такого рода похороны. У нас кто-то схватился за руной пулемет, кто-то — за другое оружие. Мы начали стрелять. Поляки, как только это увидели, побежали. Они решили: фашисты пошли в контратаку. Никаких фашистов, конечно, они не видели. Это мы так салютовали своему командиру.
И.В. А вообще ведь, по идее, такими мероприятиями должны заниматься были похоронные команды.
В.К. У нас, по правде сказать, где-то в полку существовала команда. Но мы ничего о ней не знали. Нас это, как говориться, не касалось.
Как я уже сказал, во время тех самых боев немцы наступали на нас с севера: чтобы отрезать все те наши войска, которые наступали на нашем направлении. Мы должны были, как говориться, это наступление отразить. Но фашисты в назначенное наступление не перешли. 24-го или 25-го февраля в наступление на них пошли мы. Перед его началом, кстати говоря, был такой интересный эпизод. Нам удалось захватить одного пленного. В это время мне повстречался командир полка майор Виктор Дмитриевич Шаталин. Не путай его только с человеком с похожей фамилией — полковником Шатиловым, который воевал в 150-й стрелковой дивизии. Вообще-то говоря, по должности он был начальником штаба нашего 380-го полка. Но у нас с ним была одна интересная штука. У нас часто меняли командиров полка. Только пришлют к нам командира полка, он какое-то короткое время пробудет у нас, как его за непочтение от нас убирают. Шаталин остается за командира. Потом командира полка снова заменяют. Шаталин по прежнему остается на должности командира полка. Если память мне не изменяет, он даже мне что-то говорил. Немец что-то ему говорил, а сам Виктор Дмитриевич что-то не понимал по немецки.
А потом, это случилось где-то в марте месяце, у нас началось большое наступление в Померании. Кругом стояла жуткая грязь. Ведь это происходило в низменной местности. Помню, тогда нам что-то изменили маршрут. Меня вызвал начальник штаба батальона капитан Бушков. Получается, что, будучи капитаном, он находился в подчинении старшего лейтенанта Самсонова, человека младше его по званию. Вообще-то говоря, все его заместители были его по званию старше, все имели звания капитанов: например, его заместителем по политчасти был капитан Исмаилов. В то время я, несмотря на свой юный возраст, считался старожилом полка. Многие меня знали, понимали мои возможности. Поэтому меня вызвал к себе капитан Бушков и сказал: «Вот, выдвигайся вперед. Там еще находится наш хозвзвод. Передай командиру о том, что изменяется маршрут и чтобы мы по такому-то маршруту следовали...» При этом мне было запрещено вообще кому бы то ни было говорить об этом изменении, кроме командования. Это изменение задачи было связано с тем, чтобы никакие разведки противника точно не знали о том, в каком направлении мы будем следовать.
Однако мне с выполнением этого приказа пришлось немного задержаться. Дело в том, что наши танки, участвовавшие в наступлении, запрудили дорогу. Пройти какими-либо другими путями оказалось невозможно. В это время я встретил нашего полкового врача лейтенанта Виктора Скоробогатых. Он был в шапке и двигался на повозке. Я ему объяснил положение: что, мол, направлен с заданием. Он мне сказал: «Так садись, поехали». Сам он прибыл к нам, если не ошибаюсь, с Дальнего Востока. В то время к нам в часть в основном прибывало пополнение с Дальнего Востока. Когда ехать на лошади стало невозможно, я опять спешился и вышел вперед. Затем я дошел до поселка городского типа и встретил там, к своему удивлению, командира нашей дивизии полковника Алексея Игнатьевича Негоду. Он был невысокого, чуть выше среднего роста. Я подошел к нему и сказал: «Товарищ полковник, разрешите обратиться!» «Обращайся!» - последовал ответ. Я ему объяснил все положение, в каком оказался наш 380-й полк и в частности наш батальон. Как только я окончил свой доклад, Негода сделался очень участливым. «Здесь, - сказал он мне, - стоит 525-й полк. Продолжай идти. Сейчас ваш полк выполняет отдельно задание. Сейчас мы в боях не участвуем. Но скоро мы сойдемся все вместе и тогда будем в них участвовать».
16-го апреля началось генеральное, как тогда говорили, наступление на Берлин. Некоторые войсковые соединения, такие, как, скажем, 5-я Ударная армия, задержались на Зееловских высотах. А мы шли чуть правее и задели эти высоты лишь крылом. Мне на всю жизнь запомнился день 20-го апреля. Кстати говоря, день рождения Гитлера. Наша задача, которую нам в этот день поставили, состояла в том, чтобы занять одну высотку, которая располагалась на опушке леса. И когда мы на нее бросились (после всех наших многочисленных потерь), то немцы, на стороне которых было явное преимущество в численном отношении, бросили высотку и покатились как бы вниз. Где-то через 300-400 метров находилась насыпь железной дороги. Причем проходила она перпендикулярно нам. Немцы сначала за эту насыпь зацепились. Но мы тоже стали к ней подходить и они ее покинули. После этого мы оказались в довольно отчаянном положении. Ведь теперь высотка, которую мы освободили, была у нас в тылу. Сбоку, с фланга, шел лес, который подходил к высотке со стороны немецких позиций. В такой обстановке я подумал: «Достаточно немцам прийти хотя бы в количестве нескольких человек и с пулеметом, и мы окажемся в окружении». Мы тогда воевали сравнительно маленькой группой. Потом мы соединились с группой какого-то другого подразделения.
Затем я послал двух человек заданием: чтобы они проникли в лесок. Они вернулись и сказали, что там ничего не обнаружили, кроме сбитого советского самолета. Я этим заинтересовался. Ведь мне было тогда всего лишь 19 лет. Все мы, молодежь того времени, грезили авиацией и небом. Думаю: дай-ка схожу. И я одного товарища с ручным и еще одного автоматчика решил оставить на высотке. Подумал: «Оставлю их. В случае какого нападения с фланга они отразят атаку. И если будет совершено нападение, то мы это почувствуем». Сержанту я оставил наказ. В то время я продолжал выполнять обязанности командира взвода. Хотя по своей численности он был, возможно, и ротой. Но вся штука была в том, что с нами не находилось тогда ни одного офицера.
Короче говоря, заинтересовавшись этим самолетом, я пошел вперед. Им оказался самолет-истребитель. Я в марках тогда не разбирался. Запомнил только, что когда пришел в лес, на фюзеляже этого самолета было нарисовано много звездочек. Видимо, он горел и при падении сбил пламя, потому что рядом валялись куски обгоревшего обмундирования летчика. Я понял, что это наша советская форма. Циферблаты в кабине были тоже советскими, но обозначения для показаний оказались написаны на непонятном для меня языке. Летчика почему-то закопали не я яме, а наверху. Об этом свидетельствовала кое-как набросанная могила, над которой сверху стояла лопата. Чувствовалось, что это сделали немцы, так как наших войск в этом районе до этого не наблюдалось.
Потом до нас дошел глухой шум быстро приближающегося мотора. Мы еще подумали: «Интересно, какая это техника пошла на нас? Танки, что ли?» Мы отошли к высотке, где до этого сосредоточилось определенное количество немцев. Тогда, как я тебе говорил, едва только мы из лесу высунулись, как они бежали. Я еще подумал: «Что они, завлекают нас туда, затаскивают?» И вдруг теперь я вижу, как на этом самом месте из леса выскакивает одна наша артиллерийская установка на прицепе. Потом выкатилась вторая пушка. Их из лесу вышло несколько. Затем наши бойцы начали эти орудия разворачивать. Это, конечно, очень сильно подняло наш боевой дух. Ведь появилась надежда, что артиллерия нас поддержит. Тут же последовала команда: «Расчеты, к бою!» Когда же я вышел из леса, то увидел несколько наших орудий с длинными стволами. Видно, артиллеристы очень быстро оборудовали свои позиции. «Это они, наверное, случайно сюда попали, - подумал я. - Ведь за высотой находятся немцы. Если их больше нас, если их количество значительно большее, чем нас, как мы будем им сопротивляться? Артиллеристы ничем нам не смогут помочь, потому что высотка их заслоняет, они как бы внизу разместились».
И вдруг я слышу команду: «Дивизион, прицел такой-то! (он давал какие-то точные команды). По Берлину, огонь!» И дальше шли еще какие-то данные. Я выскочил. Грянул залп. Когда я подбежал к этому месту, то увидел, что командует стрельбой какой-то майор. Я подошел к нему и обратился: «Товарищ майор, неужели по Берлину?» Он посмотрел на меня и сказал: «Да, сержант, уже по Берлину!» Потом достал планшет и показал по нему, где мы находимся: вот — Берлин, а вот — мы. До Берлина оставалось 9 километров. Это произошло 20 апреля 1945 года, в день рождения Гитлера. Дальше у нас происходил такой ружейно-пулеметный бой. Но мы пошли дальше вперед. И уже на второй день оказались на окраине Берлина. И после этого у нас продолжались бои вплоть до самого штурма рейхстага.
Между прочим, это событие отозвалось для меня спустя тридцать лет. В то время я уже жил в Нарве, работал на комбинате «Кренгольмская мануфактура». А тогда, знаешь ли, Советы ветеранов были организованы не по территориальному, а по производственному принципу. То есть, на каждом предприятии и в каждой организации города существовала своя ветеранская организация. Я, например, был заместителем председателя, а потом, в 1982-м году, стал председателем Совета ветеранов всего текстильного комбината «Кренгольмская мануфактурв». Мы подчинялись городскому Совета ветеранов. Его председателем являлся Теодор Августович Мизна, воевавший командиром батареи Эстонского стрелкового корпуса, полковник запаса, а место секретаря занимал Андрей Антонович Ткач, тоже полковник запаса, который окончил войну в звании майора и в должности начальника штаба артиллерийской бригады, которая участвовала во взятии Берлина. Между прочим, Ткач был отмечен двумя орденами Красного Знамени. На наших ветеранских встречах я Андрею Антоновичу и еще кое-кому рассказывал об этом эпизоде. В то время наш «штаб» располагался в центре города, на Петровской площади.
После этого прошло какое-то время. Андрею Антоновичу неожиданно предоставили что-то вроде отпуска или командировки. Возвращается он оттуда и рассказывает такую историю. Оказывается, в городе Харькове проходил слет бывших артиллеристов 3-й Ударной армии, в которой он принимал участие. На этой встрече, как рассказывал Ткач, вдруг объявили: слово предоставляется артиллеристу, Герою Советского Союза, командиру артиллерийского дивизиона (он назвал его фамилию), который первым произвел выстрел по рейхстагу и Берлину. Он вышел на сцену и стал рассказывать: «Нам было дано задание: выехать в лес и нанести удар по Берлину. Мы выехали. Рядом находилась высотка. И только я дал команду и прозвучал выстрел, как подбежал молоденький боец и спросил: «Товарищ майор, неужели по Берлину?» Я ему сказал: да, боец, уже по Берлину». Ткач, как только об этом услышал, так сразу ему и сказал: «Этот молоденький боец сейчас живет в Эстонии, в городе Нарва, и является председателем Совета ветеранов комбината «Кренгольмская мануфактура». Уже потом, после выступления, этот Герой Советского Союза сказал Андрею Антоновичу: «Передайте ему привет. И скажите: я при первой возможности с ним свяжусь». Но связываться с ним мне, увы, не пришлось. Такой был интересный случай! Уже после того, как развалился Советский Союз, Ткач уехал в город Сосновый Бор Ленинградской области. Там он не так давно умер.
И.В. Расскажите о вашем участии в боях непосредственно на территории Берлина. Что запомнилось?
В.К. Знаешь, сражения в Берлине происходили повсюду. Правда, в городе оказалось много каналов с высокими берегами (нам попадалось несколько таких мест). Так мы их брали без всякого сопротивления. Где-то в районе аэродрома и на некоторых других улицах у нас проходили с немцами особенно жестокие бои. Они нам оказывали достаточно упорное сопротивление. Из-за того, что мы вышли не с фронта, то есть, не с восточной стороны, а с запада, когда мы наступали, нам прямо в лицо светило солнце. Это отчасти препятствовало нашему продвижению.
Когда мы только вошли в Берлин, самым первым зданием, которое нам встретилось, оказалась тюрьма Старый Моабит. Нам его пришлось освобождать. Запомнилось, что там была одна камера, полностью заполненная немецкими фуражками. Заключенных к тому времени оттуда уже вывели.
В центре города, помню, протекали река Шпрее, которую нам также пришлось форсировать. Мы подошли к ней со стороны моста, который назывался Мольтке. Правее от него, метрах, наверное, в 500, находилась тюрьма - «Новый Моабит». Между прочим, перед этим нам также довелось участвовать в ее освобождении. Мне тогда, помнится, запомнилось, что во дворе этой тюрьмы лежал немец, видимо, кто-то из охранников, из головы которого торчал большой кинжал.
Сначала нам было никак не пройти по мосту, так как он обстреливался фашистами. Тогда мы сделали под опорами этого места проход: поставили какой-то настил и так перебирались. Но перед этим, когда мы находились внизу, еще до того самого форсирования, мне запомнилось следующее. Мы обратили внимание на то, что на улице где-то сбоку стоят железнодорожные вагоны, в которых лежат какие-то продукты. Я пробегал рядом с ними. Меня, помнится, так и тянуло посмотреть, что в этих вагонах. Они были забиты разными вещами. В то время была Пасха. И в этих вагонах, как я понял, лежали пасхальные подарки, предназначавшиеся для немецких офицеров: куличи, швейцарские часы и прочее. У меня они, между прочим, были, но сейчас уже не сохранились. Кстати говоря, когда я в первый раз туда сунулся и попытался в эти вагоны пройти, мне преградила путь женщина, наша военнослужащая, оказавшая медсестрой. Она бросилась мне на шею и закричала: «Не ходите туда, там снайпер действует. Вы не пойдете туда, нет!» Дело происходило ночью. Потом через какое-то время мы его все же взяли. В вагоне оказалось много коробок, в каждой из которых хранилось по семь штук этих швейцарских часов. И когда мы проходили под мостом Мольтке и таким образом форсировали Шпрею, два или три человека из числа политработников, выставленные около него, каждому, кто проходил в сторону рейхстага, дарили эти часы. Причем, делали это, невзирая на звания.
Мы пробирались среди домов и по дворам. Потом мы вышли в местечко, где дома заканчивались. Это была какая-то площадь, на которой немного вдали стоял небольшой отдельный дом. Честно говоря, он не внушал нам никакого доверия, так как казался приплюснутым и низким. Это при всем при том, что рядом стояли высокие дома на несколько этажей. Кажется, он состоял из четырех этажей. Но это было, по сути дела, цокольное помещение. Там имелся высокий подвал. Кроме того, к нему были сделаны всякие надстройки по углам. Сам он выглядел круглым. Нам предстояло его взять. Сначала никаких действий со стороны немцев не ощущалось. Но потом почувствовали, что немцы ведут по нам огонь. Только потом нам стало известно о том, что мы вышли на рейхстаг. По правде говоря, не каждый из наших бойцов знал, что это такое. Нашелся какой-то боец, который сказал, что это дом, в котором находятся четыре «гэ»: Гитлер, Геринг, Гиммлер и Геббельс. После того, как нам нам стало известно, что это и есть главное место фашистов, у наших бойцов начался самый настоящий подъем. Нам захотелось во что бы то ни стало покарать четырех «гэ» за все то, что мы испытали от них в свое время и за то, что мы видели в годы своей жизни в оккупации.
Где-то в первой половине дня наступило время для штурма этого здания. Но огонь с рейхстага заставил нас немного отступить. Кроме того, наше продвижение затруднялось наличием у рейхстага рва. Оказывается, немцы незадолго до этого начали открытым способом проводить метро. Он был заполнен водой. Все это, как говориться, встало на нашем пути. В то время, впрочем, и в самом рейхстаге имелось уже много пробоин. Из рейхстага шел огонь. Нам пришлось залечь.
Примерно где-то в 2 часа дня наша атака повторилась. Мы бросились и ворвались в рейхстаг. Но дело в том, что еще ночью или вечером двое наших минометчиков (из нашего 380-го полка) Еремин и Савенко поползли к рейхстагу с флагом. Потом, как оказалось, одному из них вражеская пуля пробила мочку уха. В дороге ему перебинтовали рану. Потом они почувствовали, что по ним ведется прицельный огонь. Тогда, вероятно, один из них понял, что бинт вынужденный. Он вынужден был его снять, чтобы не обращать внимание немцев на себя. Они все же доползли до рейхстага. Насколько мне помнится, Савенко был смоленский, а Еременко из Горьковской области, воевал у нас еще с Прибалтики. В рейхстаге они привязали на колонну флаг и через какое-то время вернулись назад. Немного левее нас находилось какое-то сооружение в виде трансформаторной будки. Вдруг мы видим такую картину. Из этой будки выскакивает один немец, бросает автомат и идет в нашу сторону. За ним пошли десять-двенадцать человек. Так пулеметный огонь из рейхстага их всех положил. Все они, конечно, погибли. Еще я помню, что со стороны рейхстага вышли два немецких танка. Но один был подбит нашей артиллерией, а второй стал пятиться задом и ушел восвояси.
Короче говоря, мы все-таки ворвались в рейхстаг. Наш участок в рейхстаге был левее. Несколько наших бойцов через пробоины наскакивали друг на друга, прижимали к стенке. В рейхстаге нам попадалось очень много коридоров. Как я потом узнал, это здание состояло из более чем 500 комнат. А откуда я мог располагать всеми этими сведениями о рейхстаге? Ничего этого я не знал.
Потом через открытые двери загорелся сам рейхстаг. Горел пол (вернее, его покрытие) и некоторые стенки. Когда на второй день я пробегал по коридору в подвале рейхстага, то вдруг через открытую дверь услышал знакомый голос: «А вот и он!» Я заглянул в комнату и увидел, что там наш комбат Самсонов стоит и разговаривает с санинструктором и с тем самым майором, который еще 19-го ноября 1944-го года вручал мне комсомольский билет. Он меня поманил к себе. Я подскочил. Тогда он мне сказал, что наш начальник штаба капитан Бушков находится в тяжелом положении (получил тяжелый приступ аппендицита и требуется срочная операция), что он сейчас эвакуирован и надо к нему пробраться и выполнить все, что он скажет. Как я понял, он находился у моста Мольтке на берегу реки Шпрее, в здании, кажется, швейцарского посольства. Но для начала я должен был его разыскать. Не вдаваясь ни в какие подробности, я побежал выполнять приказ своего командира. Он просил меня оказать ему помощь и содействие. Хотя главным был другой приказ: забрать штабные документы, которые находились у Бушкова. Ведь Самсонов знал, что нас связывают очень хорошие отношения, часто видел меня в его обществе и поэтому решил, что он мне сам предложит передать все документы по нашему батальону, что ему было так нужно.
Как же мне тогда не хотелось из рейхстага уходить! Ведь немцы могли мне запросто сверху палить в спину. А в то самое время, оказывается, на рейхстаге висело наше знамя. Но нам ничего этого было видно. Ни о чем таком мы не знали и не догадывались. Выскочив из рейхстага, я быстро побежал через эту площадь. И в одном месте, где мне пришлось пробегать, лежали две небольшие трубы, не сломанные и не убранные. Тут же проходил ров. Я быстро юркнул в подвал, через который мы выходили, и теми же обратными путями вышел к берегу Шпреи и зашел в дом, где располагалось посольство какой-то страны. Вроде это было посольство Швейцарии. Такой, во всяком случае, между нами шел разговор. Я заскочил в подвал. Там оказалось тихо, ничего было не слышно. И вдруг до меня стал доходить разговор на русском языке.
Я сразу же ринулся на этот шум. Бушкова я там, правда, не нашел. Там сидели около восьми-десяти наших солдат. Они были вооружены каким-то незнакомым для меня оружием, находившимся у них сзади в ранцах. Они мне сказали, что сами они огнеметчики и что они должны были выкурить немцев из рейхстага, но им этого делать не пришлось. В виде стола у них был сооружен какой-то ящик, накрытый газетной бумагой. На нем они разложили печенье. Это оказалось совсем не солдатское кушанье. Считай, деликатес. «О, - сказал я этим ребятам. - Хорошо живете, славяне!» Они мне ответили: «Так сегодня же праздник!» «Какой праздник?» - удивился. «Первое мая! - сказали они. - А ты что, не знаешь?» А откуда мне было знать, когда на войне мы потеряли всякий счет всем числам. Тогда же, помнится, я подумал: «Вот бы сейчас добраться до рейхстага!»
Так как в подвале никого не обнаружилось, я поднялся на первый этаж и пошел по коридору. Дойдя почти до самого его конца, я приоткрыл одну дверь и увидел в комнате такую картину. Там стояли кровать и стол. Под окном была дырка. Видимо, еще когда мы отступали, ее пробил танк. Но она оказалась небольшой, так как через нее я не мог выбраться. Я продолжал стоять на месте, хотя сам повернул голову направо. В это время по коридору шел заместитель командира нашего 380-го полка по строевой части подполковник Лебедев, симпатичный и стройный мужик. Вообще-то говоря, он прибыл к нам совсем недавно. Едва я этого Лебедева увидел, как он вдруг стал куда-то пропадать. Прогремел сильный взрыв в подвальном помещении. Рядом со мной стало происходить как будто бы какое-то волшебство, причем все — в какую-то долю секунды. Какая-то неведомая сила бросила меня в эту раскрытую комнату. Она оказалась узкая и видная. Земля подо мной дрогнула. Падая, я почувствовал, как что-то посыпалось мне на ноги. Но когда я падал, ноги не особенно придавил. Упал я хорошо. Однако из-за этого поднялась пыль и стало ничего не видно. У меня был очень красивый немецкий кортик. Сам задыхаясь, я с помощью этого кортика все же смог выбраться. Вероятно, все, что падало на меня, задержалось и обрушилось на стол и на кровать.
После этого я через окно (все же через окно, так как пробоину этот взрыв не мог сделать) выскочил на улицу. Пока из здания выбирался, слышал стоны в подвале. Тогда я побежал в противоположную сторону. Стонали огнеметчики, те самые солдаты, которые незадолго до этого праздновали день 1-го Мая. Весь запыленный, я побежал в противоположную сторону. Недалеко находилось здание тюрьмы «Новый Моабит». Тут же на улице, в уголке, я еще заприметил маленький магазинчик. Когда я туда направился, дверь была приоткрыта. Сбоку подбежал какой-то майор. Говорит: «Стой, куда бежишь?» Я в ответ махнул ему рукой: сам, мол, разбирайся в этой обстановке. Когда я прибежал в этот магазин, то увидел, что на бутылке написано - «Вассер». О стойку я отбил горлышко бутылки и оно отлетело. Затем я cтал полоскать этой водой рот, но выпить, по-моему, не выпил. Майор продолжал стоять на улице в руках с пистолетом. Когда я оттуда вышел, то сказал ему: «Ну, майор, пошли со мной». Он ничего не сказал.
И.В. А Бушкова вы тогда нашли?
В.К. Нашел. Его потом успешно дальше эвакуировали. Правда, никаких бумаг он мне не передал.
Затем я снова побежал до рейхстага. На мосту, около Шпреи, меня обстреляли. Били дальнобойные орудия (с той стороны). Когда вперед я бежал через мост, то там никого еще не было. Теперь обстановка изменилась. Помню, на мосту лежал наш военный. Звания я его не смог опознать, так как по мосту прошли танки и настолько смяли его лицо, что можно было видеть только его волосы и обмундирование. Больше по нему оказалось нельзя ничего сказать. Но мне было некогда этим заниматься. Я не имел права задерживаться даже на минуту. Я помчался дальше.
Затем я прибежал к своим ребятам в рейхстаг. Зашел я в него сбоку. Немцы в то время еще продолжали оказывать нам сопротивление. Так что ночь прошла у нас в боях. Должен сказать, что нам повезло из-за того, что немцы в своем большинстве оказались в подвале. Эти подвалы нам удалось блокировать. Нам была поставлена задача: «Не допустить того, чтобы немцы, которые укрываются в подвалах, оттуда вышли». Там, правда, в своем большинстве находились раненые. Хотя за ночь всякое случалось. Бывало такое, что площадь внутри рейхстага нами занята, как вдруг непонятно откуда появляются немцы. Видимо, у них существовали какие-то дополнительные, хотя и незначительные, пути выхода.
Наступило утро следующего дня. Тогда немцы выбросили белый флаг, а нас отсюда, с рейхстага, сняли. Тут остались, по сути дела, другие части. Наш же 380-й полк вывели и отправили дальше на восток, как нам сказали — в правительственный район. Все это время с мирным населением мы не очень сильно контактировали. Ведь ясное дело, что там, где проходят война и фронт, населения особенно и не увидишь. Мы, конечно, встречали людей, но довольно редко. Мы все время находились в порядках переднего края и нам это не представлялось возможным.
Помнится, когда мы шли на восток и утром 2-го мая проходили мимо Бранденбургских ворот, то там стояло очень много немецкой техники и машин, которые сгруппировались в огромную кучу. Это был правительственный в район. Разместившись в этом районе, мы в нем простояли где-то, наверное, со 2-го по 7-е мая.
Рано утром 7-го мая, еще когда не наступил рассвет и на улице было темно, нам объявили: «Подъем! Тревога!» Мы построились и направились снова к рейхстагу. В то время в здании, когда-то олицетворявшем главный символ гитлеровской власти, разместился командный пункт нашего полка. Я туда заходить не стал, так как за все это время мне очень сильно очерствел этот рейхстаг. Там была сырость и влажность. Но что интересно: почему-то росписей наших бойцов я на его стенах не обнаружил. Вероятно, или из-за темноты, или же из-за того, что имел слабое зрение (во всяком случае, не прекрасное), или же был в то время ко всему безразличный. Потом я видел снимки со стен рейхстага. Но все это происходило потом, уже после 10-го мая. А когда брали рейхстаг, наша братва писать не могла. Мы расписывались автоматами, гранатами и прочими принадлежностями.
Мы ожидали того момента, когда выйдет командование нашего полка, и для этой цели перешли уже через дом Гиммлера, который несколькими днями раньше тоже брали. Теперь там находились тоже наши тылы — хозвзвод и прочее. Там мы, собственно говоря, на какое-то время остановились. За эти несколько дней я успел побывать на том месте, где похоронили тех, кто погиб во время штурма рейхстага.
Когда еще мы только подошли к «Дому Гиммлера» (после всех этих боев), к нам пришел один старший сержант из недавнего пополнения. Надо сказать, к нам все время шло пополнение. Небольшим, правда, количеством. Этот старший сержант, наверное, был из сельской местности. Кругом зеленела трава. Он сел на нее, как вдруг в это самое время прогремел взрыв. Его еще живым подобрали и отправили дальше в тыл.
Затем 8-го числя, где-то во второй половине дня, из «Дома Гиммлера» нас сняли и направили в западную часть Берлина. По сути дела, мы проходили по Берлину теми же путями и дорогами, что шли раньше. Проходили по пустынной улице, где не встречалось никакого гражданского населения. По сути дела, как я уже сказал, мы его не видели. Правда, как-то один раз, находясь на подступах к рейхстагу, недалеко от тюрьмы и магазина, мне повстречался какой-то мужик. «Сынок? - спрашивал он меня. - Где тут фронт?» «Вот тут, - сказал я ему, - батя, и есть фронт». Наверное, он оказался из тех, кого немцы угнали к себе в Германию на принудительные работы.
Полдень, 8-го мая. На одной из пустынных улиц Берлина стоял наш танк. Когда мы к нему приблизились, открылась его башня и оттуда высунулся наш танкист. Он сказал: «Славяне! Только что сообщили по внутренней связи, что в Берлин прибывают представители наших союзников для подписания акта о капитуляции Германии!»
Мы прошли несколько сот метров и вышли на школу, в которой до этого находились пленные французы. Но к тому времени они давно разбежались. Мы расположились в этой освобожденной школе. Здесь же 9-го мая 1945-го года мы и отмечали Победу. Когда об этом стало известно, утром был объявлен митинг. На нем, между прочим, пришлось выступить и мне. Выступали разные люди, но сколько их было, я совершенно не придал этому значения. Помню, ко мне подошел замполит и сказал: «Готовься. Речь говорить будешь». Так что это было не первое в моей жизни выступление. Раньше мне приходилось говорить речь разной направленности. Потом объявили: «А сейчас выступит самый молодой ветеран нашего полка сержант Василий Корзанов!»
После того, как закончился митинг, я бок о бок столкнулся с нашим почтальоном. О, как мы ждали писем от родных людей! Находясь на фронте, я постоянно вел переписку со своими родными (они приходили таким треугольничком; правда, ни одно из своих писем я, к сожалению, так и не сохранил). Ведь письма от любимых и родных являлись для нас высшей наградой. Мы больше желали их, а не каких-то медалей. Из объемистой сумки с почтой и отобрал несколько писем. Трое из них предназначались мне: от дедушки, который меня в письме спрашивал о том, как мои дела, и от сестры, которая писала, что дедушка умер. Также я не удержался и вскрыл два чужих письма. Первое было адресовано Миколе Галанжи. Этот Микола прибыл к нам с пополнением под Варшаву из Западной Украины, когда эти районы только что были освобождены от немцев. Запомнился же мне этот Микола следующим. Мы совершали изнурительные марши по 80 километров в сутки, с полным боевым обмундированием. Вечером мы валились на снег как убитые. Самым тяжелым для нас было подняться утром. Но когда добряк Микола Галанджи брал губную гармошку и начинал на ней играть, то своей игрой поднимал нас лучше всякого приказала. Мы вставали и шагали опять, до следующего привала. Когда же мы оказались на берегу Балтийского моря, мы должны были выйти и занять какой-то участочек. Рядом было слышно, как приземляются морские самолеты на немецкие корабли. И вот на этот участочек, который мы заняли, в окоп, в котором находился Микола, случилось прямое попадание мины. Мы его даже не стали оттуда доставать. Присыпали землей из бруствера и все. Светлая ему память. А письмо к нему было такое: «Микола, пишет тебе твоя жинка, пишут тебе твои дитки. Микола, чего ты молчишь?» А Микола к тому времени лежал в земле на побережье Балтики.
(Николай Ануфриевич Галанжи родился в 1902 году в селе Слободка Струсовского райвоенкомата Тернопольской области. В армию был призван 3 мая 1944 года. Убит 14 марта 1945 года. Похоронен в городе Гросманкель (Померания, Германия), могила № 663, 2 ряд, 4. По данным «ОБД Мемориал». - Примечание И.В.)
Второе прочитанное мной письмо предназначалось для Федора Сабурова. Он был старше меня всего лишь на год (родился в 1925-м году). К нам он прибыл под конец войны с пополнением. Кстати говоря, вместе с ним прибыли к нам молодые младшие лейтенанты. Это было уже в 1945-м году. Мне тогда, помню, поручили сформировать стрелковую роту с его участием. Я его расспросил про его военную специальность. Из разговора с ним я узнал, что он, оказывается, освобождал мою родину от немецко-фашистской оккупации. В боях на Орловско-Курской дуге попал в плен. Тогда на Орловщине проходили действительно очень серьезные бои. Положение у нас складывалось такое, что мы знали о том, что немцы пойдут наступление. Было принято решение о том, что мы должны защищать Орел и уничтожить как можно больше немцев, а потом перейти в наступление. В этих боях он и получил ранение, а после угодил в плен. В итоге его загнали в Германию. Невольно я сравнивал свою судьбу с его судьбой. Ведь если я два года находился в немецкой оккупации, то он два года пребывал во вражеском плену. Его, кстати, в последнее время где-то даже держали в подвале. Сам он оказался родом из Удмуртии. Мать его жила где-то далеко, в восточных районах. Брат служил в армии. Во время того самого разговора я его спросил: «Матери письмо писал?» Он ответил: «Нет». «А почему же, - говорил я ему, - ты маме не сообщил, что освобожден из плена?» «А все равно бесполезно, - сказал он мне. - Она мне написать не может. Моего адреса у нее нет». Тогда я ему и говорю: «Давай записывай наш адрес: полевая почта 02228». Так как он прошел через такие испытания, я постоянно за ним следил. Короче говоря, как мог его берег. Не спускал с него глаз буквально в каждом бою. Сабуров всегда находился рядом со мной, вплоть до Рейхстага. Но до конца его уберечь, к сожалению, мне его так и не удалось. Когда при штурме я побежал помогать начальнику штаба батальона Бушкову, он оставался в том месте, над которым этажом выше не хотели сдаваться немцы. Когда 2-го мая я вернулся в рейхстаг, то спросил своих ребят: «А где Сабуров?» Мне сказали: «Да вот, на ступеньках рейхстага лежит». И вот я прочитал письмо, отправленное на его имя. Там его мать с радостью писала: «Сыночек, какими судьбами ты остался живой!» Она, конечно, не могла поверить своему счастью: что сын ее жив. К сожалению, ей предстояло на него получать снова похоронку (ведь в 1943-м году она успела получить извещение, что он пропал без вести).
(Речь идет о Федоре Гавриловиче Сабурове, о котором известна следующая информация. Он родился в 1925 году в деревне Калинята Кулигинского района Удмуртской ССР. Отец — Гавриил Григорьевич. В Красную Армию был призван 1 января 1942 года (или 19.1.1943) Воткинским райвоенкоматом Удмуртской области. Воевал в составе 1132-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии. Попал в плен 23 ноября 1944 года в Житомирской области. После освобождения из плена, состоявшегося 6 марта 1945 года, был назначен командиром отделения 380-го полка 171-й стрелковой дивизии. В боях за Берлин успел отличиться, за что был представлен к ордену Славы 3-й степени. Представление было написано 4 мая. Но к тому времени он погиб. Числится второй раз пропавшим без вести с 20 апреля 1945 года. Скорее всего, после этого на него пришла официальная похоронка. По данным «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа». - Примечание И.В.)
10-го или 11-го мая мы пошли дальше на Запад. Через какое-то время вышли на реку Эльбу. Но если американцы находились на западном берегу, то мы — на восточном. Никаких контактов у нас с союзниками не было. Нам еще не разрешали выходить на берег. На этом месте мы простояли долгое время. Обстановка там складывалась непростая. Как только наступало утро, прямо над Эльбой на низкой высоте и на малой скорости пролетал американский самолет и покачивал крыльями. Потом скрывался. Нам тогда уже нужно было быть ко всему готовым.
А потом, кажется, это случилось 1 августа, мы переправились на лодке через приток Эльбы. Этот приток был довольно широкий и глубокий и шел нам параллельно. Там же был луг, площадь которого, наверное, составляла где-то 300-400 метров. Там мы несли свою службу и выставляли секреты.
Так получилось, что за участие в штурме рейхстага меня не отметили никакой наградой. Дело в том, что за это дело у нас стали награждать только через год. Так, мой комбат Самсонов получил «героя» лишь только в мае 1946 года. А я уже в октябре 1945 года демобилизовался как трижды раненый. И поэтому, когда проходило награждение, я находился уже у себя дома. А пока я служил, никаких героев у нас в части не было. Только помню, что Самсонова очень часто вызывали в Москву. Там шли разборки между нашей дивизией и 756-м полком 150-й стрелковой дивизией. 9 октября я демобилизовался. Прошло какое-то время, и на следующий 1946-й год, в аккурат ко Дню Победы, присвоили звания Героев Советского Союза нескольким участникам штурма рейхстага. Потом я слышал разговор о том, что был приказ наградить всех, кто участвовал в штурме. И если бы я на тот момент находился в армии, свою награду я, безусловно, получил бы. Потому что у нас, например, были посмертно награждены те, кто погиб за его взятие.
Но тут случилось еще одно обстоятельство. Когда должны были всех награждать за штурм рейхстага и все к этому шло, на меня очень сильно разобиделся начальник штаба полка капитан Бушков. Ведь я вскоре после этого демобилизовался. А они не хотели, чтобы я уходил из армии и посылали перед этим на краткосрочные курсы офицеров административной службы. Но ничего не получилось.
Между прочим, у меня в то время еще произошел с политработниками конфликт. Служил у нас заместителем командира батальона по политчасти капитан Истомин. У старшего лейтенанта Самсонова все заместители являлись капитанами, то есть, считались старше его по званию. Его заместитель по строевой части Исмаилов был тоже капитаном. Да и Бушков тоже имел такое звание. Так вот, эти политработники стали мне отдавать какие-то глупые приказы. Сначала — один раз, потом — второй, третий. Началось все с полевой кожаной сумки, которая досталась мне от немцев. Она была хорошей, из желтой кожи и мне понравилась. Они начали склонять меня к тому, чтоб я ее им отдал. Говорят: «Как успели-то?» Я им говорю: «Если бы вы пошли со мной раньше туда, где был я, то и у вас была бы точно такая же». Потом они мне стали говорить: «Надо выполнить и написать прочее-прочее». К тому времени я выполнял многие обязанности: мало того, что мне отдавал поручения Бушков, так и они взяли меня в свой «в оборот». Я тогда обратился к капитану Бушкову: «Сергей Пантелеймонович, что-то они слишком на меня наседают».
После этого я стал на политзанятиях задавать всякие каверзные вопросы. Ну и пошло-поехало. Они стали прижимать меня все сильнее и сильнее. Из-за этого возникли некоторые неприятности. Как-то раз к Бушкову зашел Истомин и начал насчет меня придираться: что этот, мол, сержант не выполняет такие-то и такие-то его приказания. Они давали мне задания. Бушков сказал: «Он находится сейчас в непосредственном подчинении мне. Обращайтесь ко мне». Он ему на это стал еще что-то говорить. Бушков ему: «Кругом! Шагом марш отсюда!» В общем, возникла такая ситуация, когда капитан пошел на капитана.
А сам капитан Самсонов к тому времени, по сути дела, уже и не находился в батальоне. Он что-то болел. Зачастую бывал в отлучке: то в Москве, то еще где-нибудь. А у нас редко когда появлялся.
После моей демобилизации прошло некоторое время. Участники штурма рейхстага были уже награждены. И вдруг я получаю письмо от незнакомого мне сержанта Виктора Лошкарева, который жил в какой-то области на берегу Черного моря. Он мне написал несколько писем. Я его совсем не помнил в войну. Нигде наши пути не пересекались. Он уже в то время демобилизовался. Так вот, он написал, что после войны у них в полку создали моторизованный батальон, которым тогда командовал Самсонов.
И.В. Правда ли, что когда в Берлин вошли наши войска, многие немцы выбрасывались из окна и поканчивали с собой.
В.К. Это все выдумки. Во всяком случае, когда мы вошли в Берлин, такого не наблюдалось. Да и откуда люди, которые такие нелепицы говорят, могли об этом знать? Правда, один подобный случай я все же встречал. Помню, мы вышли тогда на берег Балтийского моря. Берег оказался очень высоким. Мы были тогда сильно поджатые. Боев как таковых у нас не происходило. И вдруг немка, увидев, что из-за кустов появляемся мы, закричала: «Уууу, рус-с!» И прямо на наших глазах выбросилась с берега в пучину морскую. При каких это произошло обстоятельствах, я не знаю. А больше подобных вещей мне встречать не приходилось. Тогда у нас наступило какое-то затишье. Мы стояли на берегу Балтийского моря.
И.В. Устраивали ли наши бойцы в Германии самосуд над немцами?
В.К. Понимаешь, когда мы только-только вступили на территорию Германии, там началась такая херня. Скажем, наш солдат поджигает у немцев дом и говорит: «За мой сожженный дом!» А что от этого толку? Дураки везде были. Я, например, по Германии помню такого придурка, который вышел из магазина (магазин тогда продолжал работать), отцепил за ручку дверь и потащил за собой по улице какую-то ткань. Ну не дурак ли? Ведь как на него посмотрят иностранцы или хотя бы те же немцы? Так что такая печально известная картина первое время при нашем вступлении в Германию все же наблюдалась. Но потом последовал жесткий приказ, в котором говорилось о том, чтобы за такие выходки людей наказывать вплоть до расстрела на месте. И это, как мне кажется, было сделано правильно. Ведь что это такое: отомстил за сожженный дом своих родителей, зуб за зуб и прочее? Так что подобные вещи происходили в самом начале, когда мы только-только оказались в Германии. Помню, перед самой демобилизацией к нам поступил вообще такой приказ: «За территорию воинской части ни в коем случае не выходить!»
И.В. Встречались ли вам в Берлине подростки из «гитлерюгенда»? Оказывали ли они вам сопротивление?
В.К. Оборона этих, по сути дела, малолетних подростков не отличалась стойкостью. А потом мне пришлось видеть и такую картину. Идет какой-то наш солдат, а они к нему подстраиваются и поют: «Страна моя, Москва моя!» Таким и был этот «Гитлерюгенд».
И.В. Какими были ваши потери во время войны? Ведь вы все время находились в пехоте. Есть мнение, что среди пехотинцев командир роты жил сутки, а командир отделения и того меньше.
В.К. Эти статистические данные не охватывают всей войны. Они говорят о том, что было в среднем. Конечно, много погибало наших солдат. Отвечая на твой вопрос, я хотел бы рассказать о следующем случае, на мой взгляд — довольно необычном. Во время войны к нам на должность писаря прибыл один молодой солдатик, который очень отличался своим внешним видом. На нем, как сейчас помню, была бородка, как у Михаила Ивановича Калинина. Сам он до попадания к нам в часть служил в штрафной роте. Но потом с него сняли наказание. Так он оказался у нас. Мне приходилось у него бывать. Когда-то я помнил его фамилию, но сейчас, к сожалению, забыл. Как-то раз во время боя он нам что-то показывал и говорил: «Вот там есть убитые. Немцы атаковали нас. Это с вашей роты». Конечно, ни хрена он ничего не знал. Потом началось наше предпоследнее наступление. Ни траншей, ни чего такого у нас не было. Приехала кухня и нас начали кормить. И вдруг мы замечаем, что наш писарь убит. Никакой раны на нем не было вообще видно. Но когда мы стали более подробно интересоваться этим вопросом, то оказалось, что пока мы стояли в обороне, ему в ногу попал небольшой осколочек. Мы его обнаружили после того, как сняли его сапоги. Так что после попадания этого осколка он уже лежал мертвый перед нами.
И.В. Как часто вам приходилось подниматься в атаку?
В.К. А хрен его знает, сколько раз. Случалось и такое, что нам за день приходилось несколько раз ходить в атаку. Мы не могли всего этого фиксировать. Ведь одно дело — танкист или летчик. Когда они выходят в рейд или вылетают, у них все это записывается. А у пехотинца ничего этого нет. Там только за один день черт знает сколько раз поднимешься в атаку. Скажем, близко от тебя находятся немцы. Тебе отдают приказ: «Встать и пойти вперед!» И ты идешь и, ничего не разбирая, стреляешь по противнику. Бывало такое, что немцы начинают наступать, как у них начинается обстрел. Так мы сразу на них бросались, чтобы на что-то их вынудить или как-то припугнуть. Поэтому, повторюсь, для пехотинца невозможно было вести подобные, как у летчиков и танкистов, отчеты. Их и награждали чаще, чем нас, пехоту. Помню, когда мой двоюродный брат, воевавший танкистом, вернулся после войны, я очень удивился, что у него так много орденов. А у меня ничего нет, кроме нескольких медалей - «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Потом, правда, как трижды раненый в годы Великой Отечественной войны, уже в 1985-м году, я получил «Отечественную войну» 1-й степени.
Так как я сейчас возглавляю Союз ветеранов, на такие праздники, как 9-е мая, нам приходится выходить со знаменем Победы. Но мы идем просто с красным знаменем. Когда у нас выходят со знаменем Победы, на котором написано «150-я стрелковая дивизия З УА», я с этим категорически не согласен. Это какая-то херня. Причем здесь дивизия? Воевал за Победу весь народ, а не какое-то соединение под командованием Шатилова.
И.В. Проверяли ли вы как снайпер результаты своей стрельбы?
В.К. Нет. Как можно это было делать во время боя?
И.В. По подвижным целям стреляли?
В.К. Конечно!
И.В. Поправку на боковой ветер делали?
В.К. Конечно, нам ничего не оставалось, кроме как делать поправку именно на боковой ветер. А знаешь, если честно об этом говорить, то ни хрена мы этого не делали. Этот вынос шел какие-то доли. Мы сразу, как только появлялась цель, старались стрелять.
И.В. Какими были у вас оптические прицелы?
В.К. Наверное, они какую-то марку имели, но я этого не запомнил. По сути дела, они все являлись одинаковыми.
И.В. Как снайперам засчитывали убитых?
В.К. Знаешь, у нас для этого существовали специальные снайперские книжки, в которые нам заносили какие-то отметки. К сожалению, моя снайперская книжка так и не сохранилась. Между прочим, она у нас еще как-то иначе называлась. Но я не думаю, что мы сделаем ошибку, если назовем ее только снайперской книжке. Тот, кто подтверждал убитого мною немца, в этой книжке расписывался.
И.В. С какого обычно расстояния вы стреляли?
В.К. Максимально — где-то с 800 метров. То есть, мы стреляли с такого расстояния, где можно было хоть как-то рассмотреть и увидеть человека. Тогда уже можно было на что-то надеяться.
И.В. Биноклем пользовались?
В.К. Конечно. Но нам было достаточно и обыкновенного прицела.
И.В. Ночью работали?
В.К. Конечно, работали. Поэтому, если появлялось возможность в темное время кого-то рассмотреть и уничтожить, то мы это делали. Так, например, капитан Ивасик, известный снайпер, уходил всегда вечером, как он говорил, «на охоту».
И.В. Не могли бы вы рассказать о капитане Ивасике несколько подробнее. Ведь, насколько мне известно, Ивасик входил в число самых лучших снайперов-асов. На его счету было более 300 уничтоженных немцев.
В.К. Вообще-то говоря, сам он у нас воевал командиром батальона. А со снайперской винтовкой он работал в свободное время, как он нам говорил — выходил «на охоту» (смеется). Мне приходилось с ним встречаться и общаться, правда, не часто. Помню, когда в районе Мадоны мы попали в немецкое окружение, нас оттуда вырвалось несколько человек. В результате оказались на открытой местности, где не проходило никакой обороны. В каком направлении мы бежали, я сейчас точно не помню. Потом я все-таки встретил остатки нашего батальона, впереди которых, как я узнал, шел батальон того самого Ивасика. То есть, мы шли за ним. Тогда я подбежал к капитану Ивасику и сказал: «Наш второй батальон погиб!» После этого позвучала команда: «Батальон, к бою!» И была закрыта образовавшаяся брешь. Потом Ивасик погиб. Уже посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В одном из городов Прибалтики, кажется, в городе Мадоне, его именем была даже названа улица.
И.В. Кто лично вами, как снайпером, командовал?
В.К. Командир роты.
И.В. Действовали всегда в паре?
В.К. Нам это рекомендовалось. Если было с кем, то мы, конечно, старались работать в паре. В последнее время в паре со мной находился Миша Щемилинин. Впоследствии он погиб, а я, как получил ранение, с тех самых пор больше снайперской винтовки не видел. Но стреляли мы не всегда в паре.
И.В. Одевали ли снайперы камуфляжную форму?
В.К. У нас, конечно, ничего этого не было. Я, правда, воевал в качестве снайпера только летом. Может быть, зимой наши снайпера и одевали белые маскхалаты. Но мне в это время быть снайпером уже не приходилось. Больше того, после того, как я получил первое ранение, я не встретил в дивизии ни одного снайпера и ни одной снайперской винтовки. Когда же я «работал» с оптическим прицелом, снайперы у нас ходили в обыкновенной гимнастерке. Впрочем, это зависело от того, в каких частях ты находился и какое у тебя было командование. Ведь в каждом месте — свои порядки. Скажем, у нас одни, в Совете ветеранов города Кохтла-Ярве — другие, у ветеранов поселка Усть-Нарва — третьи. Тем более, многое зависело от командира полка. У нас в полку считался довольно известный снайпером Герой Советского Союза капитан Ивасик. Но я, честно говоря, сколько его не встречал, никогда не видел на нем камуфляжной формы.
И.В. Какая была у вас, как у снайперов, тактика?
В.К. Могу сказать, что ее мы стали изучать непосредственно на фронте. Во время нахождения в снайперской роте нас с этой темой вообще не знакомили. Должен сказать, что тактика немецких снайперов отличалась от нашей, это было совсем другое дело. Раз уж ты задал такой вопрос, хочу еще раз выразить свою благодарность своему спасителю подполковнику Бакееву. Ведь это было огромное счастье, что он, занимая должность заместителя командира дивизии по строевой части, организовал у нас фронтовые сборы снайперов. Между прочим, они проходили прямо на передовой. Недалеко от нас располагалась так называемая Лысая гора. Так она несколько раз переходила из рук в руки. Бывает, наши ее возьмут, как через некоторое время немцы нас оттуда сбрасывают. Так вот, в такой непростой обстановке бывалые снайперы-бойцы делились с нами своим опытом кто чем может: и тактикой, и тем, как можно замаскироваться. Одним словом, от них мы научились применять по отношению к немцам свои разные хитрости. Если бы не они, меня бы в первые дни нахождения на фронте фашисты бы уничтожили.
И.В. Какие были ваши любимые позиции? На дереве?
В.К. Нет, нам, снайпером, в основном приходилось ходить по земле-матушке.
И.В. Часто охотились на немецких снайперов?
В.К. Нам это делать приходилось. Я уже тебе рассказывал об одном из таких случаев. Однажды в расположении нашего подразделения оказались наши же разведчики. Какая это была разведка, я не знаю, но думаю, что полковая. Впрочем, точного этого я сказать не смогу. И как только увидели меня с Мишкой Щемелининым, моим снайпером-напарником, так по телефону сразу же передали своему командованию: «Тут есть наши снайперы!» После этого сразу же последовал приказ: снять немецкого снайпера, который засел на хуторе. Мы пошли на задание. Командир роты дал нам даже двух своих солдат, которые охраняли нас со спины.
И.В. В штыковых боях приходилось участвовать?
В.К. Ты знаешь, штыкового боя как такового мне видеть не приходилось. У нас редко когда возникали условия, когда мы вступали в подобную схватку с немцами. Все это зависело от того, какие предоставлялись условия. Случались всякие моменты. Но такого, чтобы у нас шел батальон на батальон, я припомнить не могу.
И.В. Были ли на вашем счету пленные?
В.К. Почему не были? Были. Но это мы как-то не запоминали и не фиксировали. Как говориться, сдался к нам в плен немец, ну и сдался.
И.В. Как было с питанием на фронте?
В.К. Во всяком случае, на фронте нас кормили лучше, чем в снайперской роте. Там жизнь вообще шла впроголодь. А тут уже можно было что-то взять от немцев.
И.В. Вы нападали на немецкие обозы?
В.К. Лично мне этого делать не приходилось. Но от немцев нам всегда что-то доставалось.
И.В. Насколько мне известно, рейхстаг вам не дали окончательно зачислить. Бывший командир минометной роты 380-го полка вспоминает, что им на смену вроде пришли НКВД-шники.
В.К. Рейхстаг нам действительно зачистить не дали: сняли и перебросили на другое место. Насколько мне помнится, это было уже рано утром.
И.В. Огнеметчиков приходилось видеть в рейхстаге. Был эпизод, когда они подожгли макет самого рейхстага...
В.К. Их, как я тебе уже сказал, я видел, но не в рейхстаге, а в здании, кажется, швейцарского посольства.
И.В. Вам, наверное, как участнику штурма рейхстага, будет небезынтересно ознакомиться с воспоминаниями об этом вашего бывшего командира полка Виктора Дмитриевича Шаталина, который умер совсем недавно — в 2001-м году. Вот что он писал:
«Дорогие товарищи! Я, Шаталин Виктор Дмитриевич, подполковник в отставке, участник штурма Рейхстага в роли командира 380 стрелкового полка 171 стрелковой дивизии и участник Парада Победы 24 июня 1945 года в качестве знаменосца своего полка, полностью согласен и одобряю материал «Знаменосцы Победы», опубликованный в «Правде» 30 апреля 1990 года.
30-го апреля 1945 года, находясь на своем НП в здании швейцарского посольства, примерно в 14.30 по телефону меня спросил командир 79-го стрелкового корпуса генерал Переверткин – вижу ли я Красное знамя (флаг) на крыше Рейхстага? Я доложил, что на Рейхстаге его нет и быть не может, потому что там немцы, а мои солдаты и соседние справа ведут бой еще на подступах к Рейхстагу.
Помолчав 2-3 секунды, генерал Переверткин сказал мне несколько «крепких слов»… Он мне не поверил. Я понял, что кто-то доложил ему преждевременно о водружении знамени. Продолжая держать трубку телефона у своего уха, я отчетливо слышал, как генерал, кому-то докладывая, говорил от том, что в Рейхстаге наши ведут бой и на Рейхстаге водружено Красное знамя. Я был, конечно, удивлен и озадачен всем услышанным. Еще раз внимательно осмотрев Рейхстаг, который я видел от фундамента до макушки, убедился в правоте своего доклада и дополнительно звонить не стал.
Дождавшись наступления полной темноты, я перенес свой КП в Рейхстаг в ночь с 30-го апреля 1945 ода. На 1 мая 1945 года. Там в это время уже были подразделения старшего лейтенанта Самсонова (комбат 1 батальона 380 полка) и подразделения полка полковника Зинченко (150 стрелковая дивизия). Не вдаваясь в подробности обстановки и боя, скажу лишь, что до утра 2 мая 1945 ода. я, заместитель командира полка по политчасти майор Ш.Х.Килькеев, командир штурмового отряда (комбат 1 батальона 380 полка) старший лейтенант Самсонов, командир минометной роты капитан Сахаров и другие командиры подразделений 380-го полка находились в южной части Рейхстага, отражая контратаки, ведя бой.
Обо всем этом и о разговоре с генералом Переверткиным я рассказал на совещании в ноябре 1961 ода. в Москве. Возражений и замечаний по моему выступлению не было. Велась стенографическая запись, можно прочитать. До вашего интервью в «Правде» от 30 апреля 1990 ода. я не знал, кто же преждевременно доложил о якобы захвате Рейхстага. Теперь я и все мы знаем, что это сделал генерал В.М.Шатилов. Он и в своей книге «Знамя над Рейхстагом», мягко говоря, неточен в свою пользу, занимается самовосхвалением. Спасибо вам за эту публикацию, давно пора назвать автора ложного доклада, внесшего путаницу в историю штурма Рейхстага, в результате чего немало наших воинов погибло…С уважением, Виктор Шаталин, 18-го мая 1990-го года». Как вы все это прокомментируете это письмо?
В.К. Я считаю, что он написал абсолютно все правильно. Все на самом деле так и происходило. Помню, я о чем-то подобном читал в воспоминаниях Неустроева, который за участие в штурме рейхстага также удостоился звания Героя Советского Союза. Там, кажется, командир корпуса звонил комбату из 150-й стрелковой дивизии и выяснял, почему рейхстаг до сих пор не взят, знамя не водружено, в то время как о взятии рейхстага известно нашим союзникам. Ведь на войне, как говориться, все очень быстро распространяется. Там же все схватывается по пятам. Генерал говорил: «Узнает Жуков и нам с тобой несдобровать!» Что интересно: после войны шли вражда между командирами 150-й стрелковой дивизии и 171-й стрелковой дивизии. И я очень понимаю негодование нашего командира. Ведь комдив 150-й дивизии все прибрал к своим рукам, вместо того, чтобы воздать всем по справедливости.
И.В. Если я не ошибаюсь, в вашей дивизии было всего несколько героев. За рейхстаг это звание получил один только Самсонов. А в 150-й была награждена целая группа людей.
В.К. Вот-вот, я об этом тебе и говорю. Помню, после войны мне довелось слышать радиопередачу, посвященную штурму рейхстага. В ней участвовали командир полка Зинченко и Егоров. Этот Зинченко, видимо, находился в поддатом состоянии. Он сказал прямым текстом Егорову: «Ты помнишь, Миша, как я тебе сказал: водрузить знамя над рейхстагом и ты это сделал?» Ведь это ложь чистой воды. Я, помню, тогда этим сильно возмутился. Сейчас о рейхстаге говорят очень много неправды. Возьми хотя бы наши художественные фильмы об этих событиях. Оказывается, если судить по ним, рейхстаг брали с развернутым знаменем. Да кто же из немцев мог такое неслыханное дело позволить?
Но хорошо, что наш полк был награжден орденом Суворова. Помню, когда во время войны у нас проходило построение, на котором присутствовали все офицеры (к нам иногда даже приходил командир дивизии Негода), к нам обращались: «Здравствуйте, товарищи суворовцы!»
И.В. Если вы находились не в армии, то вас, как участника штурма, должны были награждать работники военкомата. У вас кто был военкомом?
В.К. А хрен его знает. На эту тему там со мной никто даже и не разговаривал. Лишь только в 1946 году, когда прошло, по сути дела, полгода после того, как я демобилизовался, я впервые прочитал в газете сообщение о том, что награждены участники штурма рейхстага. Правда, когда после войны я оказался здесь, в городе Нарва Эстонской ССР (я прибыл сюда в 1952-м году), то встретил в военкомате офицера — подполковника Владимира Александровича Василенко, тоже 1926 года рождения, который во время боев за рейхстаг находился в отдельном саперном батальоне 79-го стрелкового корпуса. Так вот, когда мы с ним познакомились, первый вопрос, который он мне задал, звучал так: «Тебя Негода палкой бил?» А у него, между прочим, была такая особенность. В Эстонии я являлся фактически единственным участником штурма рейхстага. Правда, в Таллине жил офицер, который в прошлом занимал должность начальника политотдела 150-й стрелковой дивизии. Таким образом, в Эстонии проживало два участника штурма рейхстага.
И.В. Как вы считаете, почему Еремин и Савенко, которые оказались в рейхтаге раньше Егорова и Кантария, так и не получили звания Героев Советского Союза? Им дали только по Боевому Красному Знамени.
В.К. Понимаешь, в чем тут дело? В то время они очень уж скромничали. Партийные работники полка, конечно, больше всего были этим не довольны. Они вели себя так, как будто их и не было.
И.В. Как вам кажется, почему выбор пал именно на них?
В.К. Никто конкретно ими не занимался. Как-то так получилось, что они случайно оказались на глазах у нашего начальства. Им предложили водрузить знамя. Они дали согласие. После этого их на это задание и направили. Я их знал и видел не раз. Это были обычные солдатики.
И.В. Один из ваших сослуживцев — Игорь Павлович Воровский — вспоминает, что перед штурмом рейхстага каждому из солдат выдали флажки, на которых были обозначены фамилии тех, кому их выдавали.
В.К. Ни хрена подобного не было! Я, конечно, помню, что у нас в батальоне готовились флажки и что их выдавали. Но чтобы кто-то мог на них написать, кто он, что он и откуда, я что-то не припоминаю. По сути дела, эти флажки стали для нас таким, как бы сказать, призывом: идем на Берлин. Все было распланировано. Так, перед штурмом рейхстага нас поставили в известность, что наш участок находится у входа с левой стороны этого гигантского здания. Когда мы уже штурмовали рейхстаг, наверное, я видел бойцов не только своей, но и 150-й дивизии. Но это было где-то после.
И.В. Встречали ли вы случаи применения немцами фаустпатронов?
В.К. Да, конечно. Фаустпатроны — это была такая гадость, от которой оказывалось некуда деться. Между прочим, немцы применяли их против нас не только у рейхстага, но и вообще по Берлину.
И.В. Я читал, что в самом рейхстаге были двойные бойницы.
В.К. Ты знаешь, нам к окнам что-то не приходилось присматриваться. Мы считали: ну окна — и окна. Правда, некоторые оказались закрытыми кирпичами. Но таких встречалось мало. Кроме того, перед рейхстагом был выкопан ров. Все это находилось на подходе. Немцы, конечно, прилагали все усилия к тому, чтобы мы не смогли в рейхстаг войти. Но мы как-то тогда не обращали на это своего внимания.
И.В. Что вы можете сказать о Самсонове и о других командирах, с которыми вам приходилось воевать?
В.К. Мне не раз с ним лично приходилось общаться. Но при этом мне бы хотелось отметить, что он был не таким уж и общительным человеком. Еще во время войны он чем-то болел. И, кроме того, у него были проблемы с семьей. Когда он в 1943-м году находился в окружении, его жена ушла к другому (выходила замуж). Как мне Костя рассказывал, до войны он работал слесарем на заводе в Москве. Сам он был, вообще-то говоря, москвич. Кроме того, он был очень непростого характера. При мне у него с командиром роты Иваном Степановичем Полетаевым происходил такой разговор. Самсонов ему говорит: «Поведешь роту туда-то и туда-то». Полетаем ему отвечает: «Я туда своих людей не поведу». «Как так не поведешь? - возмущается Самсонов. - Расстреляю!» Тогда Полетаев достает из кобуры пистолет и говорит: «Вот видишь, и мне родина вручила». Все это происходило прямо на моих глазах. Они сидели, помню, тогда в каком-то лесочке. Уже после того, как окончилась война, Самсонова несколько раз вызывали в Москву. Из-за этого он очень редко бывал в батальоне. Про одну из таких поездок он мне рассказывал. Приходит он к себе домой, а во дворе у него сидит инвалид войны, которому негде жить. Так он поднялся в квартиру к жившей в его доме актрисе и сказал: «Освободите комнату для инвалида войны!» Потом он пошел в Кремль. За ним двинулись люди в зеленых фуражках. Он прошел за ворота. С ним там поговорили. Никаких последствий не было.
Очень теплые воспоминания у меня остались от начальника штаба батальона капитана Сергея Пантелеймоновича Бушкова. Именно поэтому, когда во время взятия рейхстага его схватил приступ аппендицита, Самсонов послал меня к нему. Так что в самом рейхстаге он не был. Он относился ко мне очень и очень доброжелательно. Правда, иногда любил меня подколоть: подшутить, подтрунить надо мной или что-то в этом духе. Когда я после войны какое-то время служил писарем в роте, он подходил и говорил: «Ты — разгильдяй». Также в шутку он про меня говорил: «Вот он — самый недисциплинированный в роте боец. Какой он, такая и вся рота». Конечно, он сам прекрасно знал и понимал, что я, наоборот, считался в роте самым дисциплинированным сержантом. Ведь я во время войны выполнял даже обязанности командира взвода.
Он был, конечно, очень хорошим офицером, хотя, честно говоря, имел одну слабость — был падок на женщин. На этом «фронте» он также был довольно активен. У нас в полку, пока мы находились заграницей, многие болели гонореей. В этом вопросе не являлся исключением и Бушков. Уже после демобилизации мне писали в деревню мои сослуживцы: «Сейчас капитан Бушков находится в госпитале, лечится от гонореи, пишет, что все колят и колят — задница превратилась в радиатор». Так что он был большим любителем насчет женского пола.
После войны, когда я служил в роте писарем, мы частенько с ним разговаривали. Бывало, подойдет и спросит: «Ну как, живую видел?» Я отвечаю: «Нет». «Ну врешь, - отвечает. - Вот это ты врешь». Как-то раз мы стояли уже на границе, в небольшой деревеньке. Вечером я уехал по какому-то заданию. Перед этим у меня состоялся примерно того же самого характера разговор: мол, видел я или не видел «живую». Штаб нашего батальона располагался в 500 метрах от деревушки, у лесной дороги. Между прочим, ездить по этой дороге было довольно опасно. Ведь по ней проходили группы немцев или кого-то, черт их знает. Мало ли что в пути могло произойти. Поэтому я выехал из штаба на «лисапеде», развил на нем большую скорость и поехал до деревушки. А когда ты подъезжал к этой деревне, с правой стороне от нее чуть ли не на высотке стоял лесок. Стоит отметить, что в то время в этом лесу водились лисицы. Я доехал до дома, который оказался огражден металлическим забором (не сплошной решеткой). Он мне как раз был нужен. Я к нему проехал, как-то запыхавшись, и резко тормознул. Вдруг меня останавливает дневальный дежурный и просит: «Помогите мне, пожалуйста». Спрашиваю: «Что такое, что случилось?» Он мне и говорит: «Позвонили со штаба и попросили, чтобы я разбудил офицера. Ему приказано рано утром явиться в штаб». «Ладненько, - сказал я ему. - Утром ты меня разбудишь и мы вместе к нему пойдем. Сейчас пока еще рано». Я с ним остался. Когда подошло для этого время, солдат меня разбудил. Мы подошли к дому. Он постучал в окно. Но нужный нам командир роты не ответил. Подошла какая-то женщина и стала спрашивать: «Кто? Кто?» Оказалось, что это к командиру роты приезжала какая-то его жена. Когда я заглянул в окно, то увидел ее. Она была совершенно голая — в чем мать родила. Но все это происходило летом, ей было, видимо, тепло. Тогда я ей ответил: «Передайте капитану, что его в такое-то время вызывают в штаб». Собственно говоря, на этом история и закончилась. Капитан же так ничего и не сказал: когда он увидел, что к нему пришли, он «онемел», не мог и слова проговорить. Он не знал, что ему делать. Я же с этим солдатом посмеялся и поехал обратно.
Едва я вернулся в штаб батальона, как Бушков подходит ко мне и по старой привычке задает вопрос: «Ну как, живую видел?» Говорю: «Видел!» Говорит: «Ты что, разгильдяй, продолжаешь мне врать. Я тебя спрашиваю: живую видел? Где ты мог ее увидеть? Ведь ты ночью ушел отсюда». Я ему и рассказал о приключившейся со мной истории. Фамилии этого капитана я не помню. Могу только сказать, что он был, кажется не русской национальности. Потом я демобилизовался из армии как имеющий три ранения. Это случилось уже в октябре 1945-го года. Прошло какое-то время, и Бушков рассказал обо мне тому самому капитану: что я рассказал ему, как видел голой его женщину. Как этот капитан в мой адрес бесился. Говорил: «Уу-ууу!» Но к тому времени я уже находился дома.
И.В. Вы наверняка знали о командире роты Гончаренко, который участвовал в штурме рейхстага.
В.К. Ты знаешь, я про него не хочу даже и вспоминать. Этот старший лейтенант Гончаренко командовал, насколько мне помнится, четвертой стрелковой ротой. Когда мы в Прибалтике надолго задержались, к нему прямо на передовую приезжала жена. Работала она в госпитале. Все мы знали, что если Гончаренко опять ранен или контужен, или же с ним еще что-то произошло, то он снова подался к жене. Она его, как говорят, принимала в госпитале, он часто туда к ней попадал. Так, например, когда мы воевали в Латвии и занимали очень ответственный участок, Гончаренко, видишь ли, снова получил ранение или контузию. И все уже знали, что это никакое не ранение, а Гончаренко вновь захотелось повидатьcя со своей подругой. У нас в полку его не очень любили. Почему? Представь себе положение: роте нужно идти в бой, а ее командира опять нет. Причем он еще был очень привередливый. Приведу тебе такой пример. У нас в батальоне зачитывают списки. Дело доходит до его фамилии. Произносят: «Гончаренко!» Так он на это никогда не смолчит, а поправит: «Гх-онча-рэээнко я!» Обязательно повторит и скажет, как звучит его фамилия, если ее прочитают просто по-русски. Помню, у него был адъютант Рыжий. У Самсонова же было несколько таких адъютантов.
И.В. Как вас награждали во время войны. Насколько я понимаю, с наградами у вас, несмотря на то, что вы провоевали два года в пехоте и брали рейхстаг, что-то не очень густо. В чем была причина?
В.К. Ты совершенно точно это заметил. Среди боевых медалей у меня есть только «За отвагу». Но я ее получил еще до того, как мы брали рейхстаг. Но все дело в том, что когда я служил после войны в армии, у нас никого за это дело не наградили. Разбирались с Самсоновым по поводу его участия в штурме рейхстага. В октябре 1945-го года я демобилизовался. Так вот, в мае 1946 года, уже находясь на гражданке, я узнал, что участники штурма рейхстага были отмечены наградами. Мой комбат Константин Самсонов получил «героя». Но я не знал, куда обращаться по поводу награждения. Да меня, собственно говоря, этот вопрос тогда не так сильно интересовал. Думаю, что если бы я позднее демобилизовался, меня бы наградили за участие в штурме.
И.В. Но ведь вы, кроме всего прочего, были трижды ранены во время войны. А после войны существовало такое указание: награждать по линии военкоматов за каждое полученное ранение орденом Красной Звезды.
В.К. Это было все же после войны. Но меня это как-то не коснулось. Во время же войны до нас вообще никакие награды не доходили. А все дело в том, что у нас начальником наградного отдела в период моего нахождения на фронте являлся один, по сути дела, мальчишка, младший лейтенант, еврейчик. Я об этом узнал уже после войны. Так у нас никто у нас почти не получал никаких наград. Я к нему, помню, заходил за какой-то справкой.
 |
Василий Корзанов на военных сборах в 1959 году |
И.В. Кого вам приходилось встречать из высшего командного состава?
В.К. Я уже говорил тебе о том, что видел командующего армией генерала Симоняка. Запомнилось, что на нем была папаха на уровне моего роста. Потом вместо него кого-то еще прислали. Так я, думаю, наверное, на построении, которое проводил он, где-то рядом находился командир нашего 79-го стрелкового корпуса генерал Переверткин. Но мы редко встречали больших начальников, так как чаще всего и больше всего действовали в составе батальона.
И.В. Кто из союзников более доброжелательно к вам относился — американцы или англичане?
В.К. Кажется, американцы относились доброжелательнее, чем англичане. Хотя англичан я не знал. Я вообще союзников встретил только на Эльбе. Их пустили уже после того, как взяли рейхстаг.
И.В. Приезжали ли к вам на фронт бригады артистов?
В.К. Знаешь, один только, кажется, раз, когда мы воевали в Прибалтике, мне доводилось видеть приезд артистов к нам на передний край. Они были молодые и пели некоторые наши песни, играли. Помню, тогда один наш солдат в шапке-ушанке вышел (дело было осенью) и сказал: «Вот за это и воевать надо!»
И.В. На фронте общались по-уставному?
В.К. По-разному это дело было. Вот, например, мои отношения с командиром батальона капитаном Пироговым были чуть ли не дружескими. Все, впрочем, зависело от обстановки и от ситуации. Скажем, меня, хотя я был всего лишь рядовым, называли: «Товарищ командир!» И делали это солдаты, которые оказывались намного старше меня по возрасту. Конечно, к командиру батальона обращались «товарищ капитан», панибратства не было. В то же самое время не вытягивались и не козыряли. Попробуй в окопе козырнуть. Тебе снайпер так «козырнет», что мало не покажется. Хочу сказать, что когда я начинал служить в снайперской роте в городе Мелекесс Ульяновской области, то там складывались строгие отношения между командирами и подчиненными. А на фронте было все совсем по другому: там всех нас ровняла прежде всего сама жизнь.
И.В. Велась ли на фронте среди немцев агитация — чтобы они сдавались к нам в плен?
В.К. Ее обязательно вели. После этого немцы пытались, как правило, нас накрыть.
И.В. Воевали ли у вас украинцы-западники?
В.К. Да, в нашем полку служили ребята, призванные в 1944 году с Западной Украины. Про одного из них я тебе рассказывал: это был погибший на Балтике Микола Галанжи.
 |
Василий Афанасьевич Корзанов сегодня |
| Интервью: | И. Вершинин |