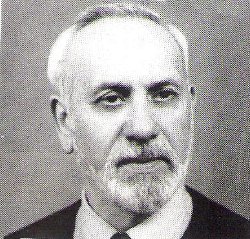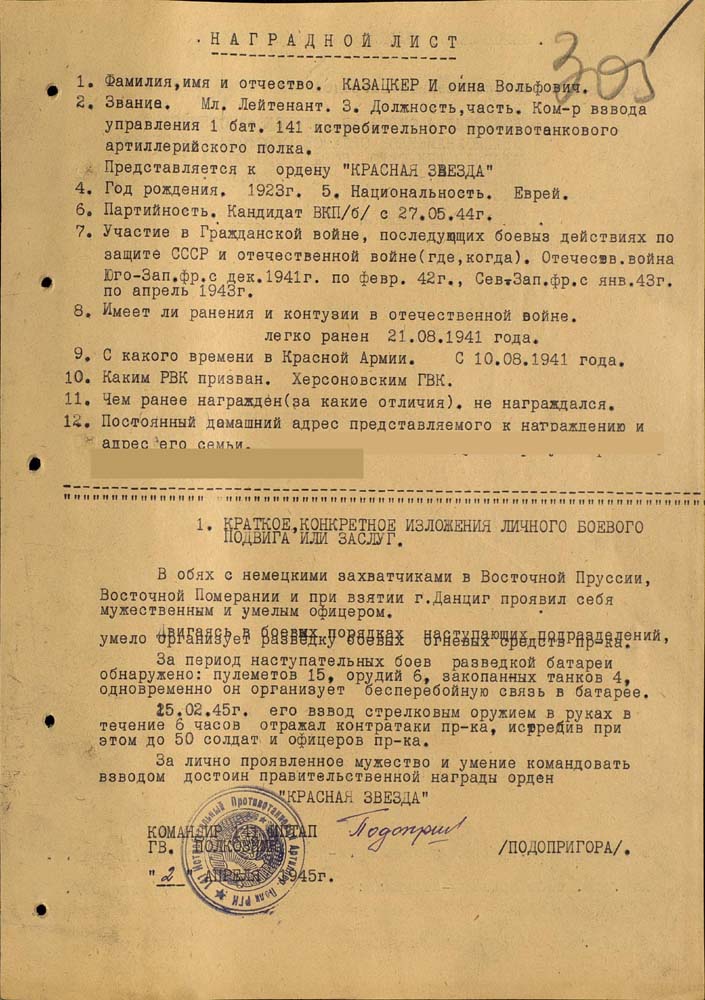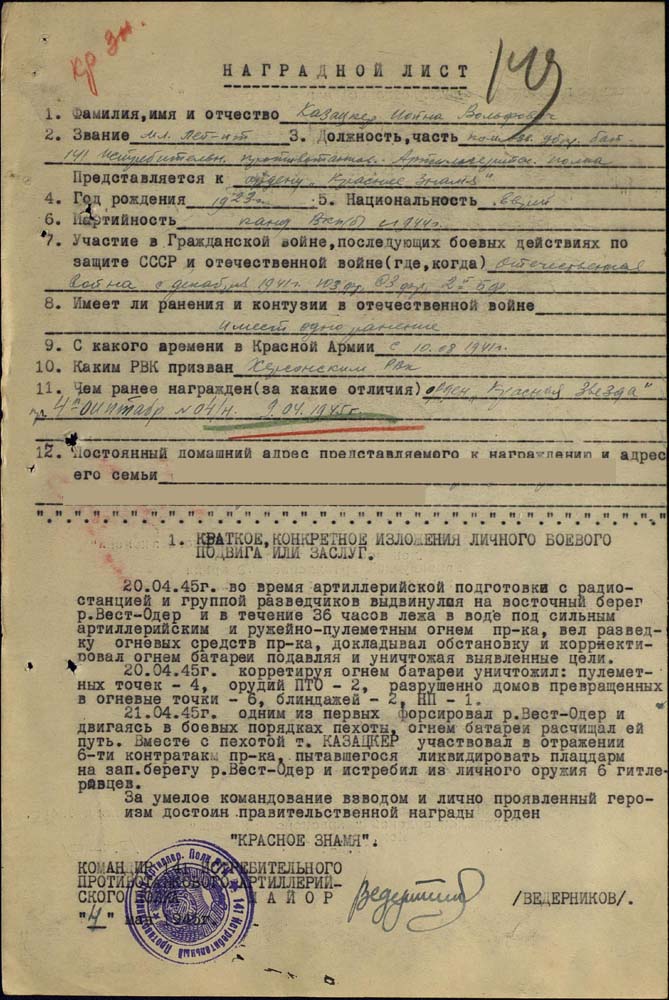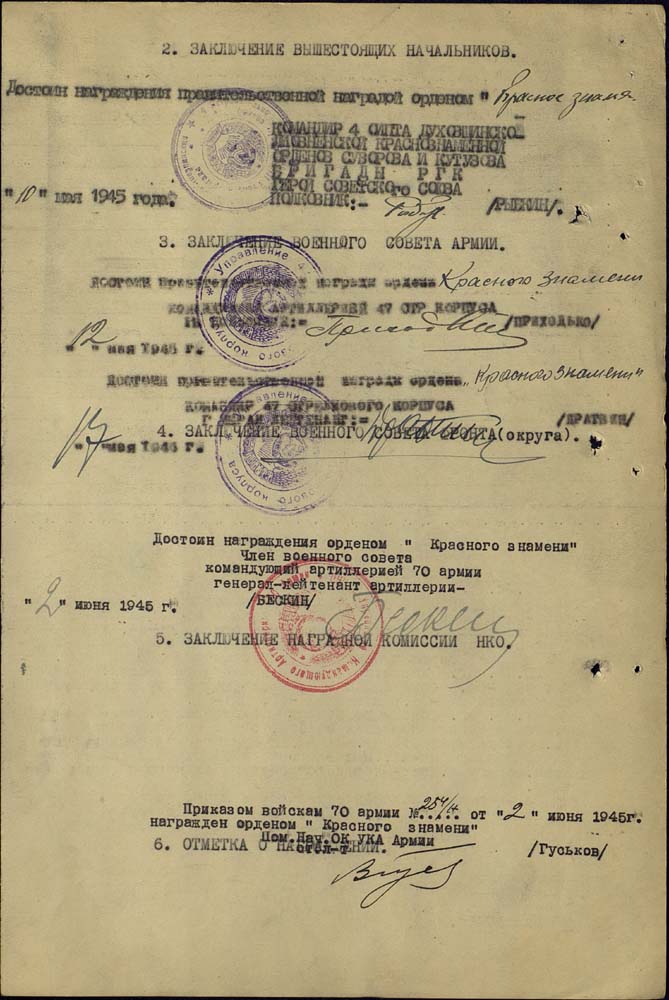ПРИБЛИЖЕНИЕ ВОЙНЫ
ПРИБЛИЖЕНИЕ ВОЙНЫ
Война пылает вдали от нас, а может быть рядом? Идёт битва на границе, а называют это "инцидентом". Нам преподносят события на озере Хасан и Хал-Хин-Гол в романтической обёртке; военный дуэт фашистов и коммунистов - как сообщников в развязывании Второй мировой войны, как невинный процесс освобождения братьев украинцев и белоруссов. Настоящую войну с Финляндией выдают за зимнюю кампанию по упорядочению границ с соседней страной. Касательно прибалтийских стран дело обстоит проще простого: литовцы, латыши и эстонцы слёзно молили великого восточного соседа помочь им освободиться от буржуазного ига, включив их в семью союзных республик.
С Бессарабией абсолютно ясно: Румынии вручили ультиматум о возврате незаконно аннексированной Бессарабии в 1918 году, разделив на две части молдавский народ. В целях восстановления исторической справедливости Румыния обязана освободить Бессарабию, а иначе...А "иначе" я могу свидетельствовать, как очевидец происходившего 28 июня 1940 года. За неделю до ввода огромных вооружённых сил СССР, 21 июня 1940 года на правом берегу Днестра, рядом с селом Устье, расположенным точно против Дубоссар, появилось несколько десятков человек с лопатами, которые демонстративно начали копать траншею. Чтобы ещё больше "напугать" СССР (может быть два десятка землекопов не убедили советские власти в готовности румынского правительства принять самые решительные меры), водили взад и вперёд вдоль берега пару быков, впряженных в передок 76-миллиметрового орудия на деревянных колёсах. А на левом, советском берегу, уже сконцентрировались соединения пехоты, кавалерии, танков, а также огромные автотранспортные обозы с боеприпасами, питанием, фуражом и другим имуществом, полки связи и штабы - это против 76-миллиметровой пушки... Да и это ещё ничего: в два часа дня, после того, как мы услышали прочитанный ультиматум СССР Румынии, у быстро наведённого понтонного моста всё загудело, и эта мощная военная армада ринулась на правый берег Днестра, оказавшись до исхода дня на левом берегу Прута - новой государственной границе между СССР и Румынией. Не было ни одного выстрела. Одновременно с движением через мост , небо задрожало от гула звеньев бомбардировщиков и истребителей. Я это наблюдал и гордился мощью родной страны Советов. В кинотеатрах демонстрировали вновь смонтированные ленты хроникальных журналов о бесконечной радости двадцати трёх миллионов жителей, освобождённых и присоединённых к великому Советскому Союзу, чьё население уже достигло ста девяноста трёх миллионов. Показывали встречу двух братьев - крестьянина юга Бессарабии и наркома обороны СССР Тимошенко, которые были в разлуке двадцать два года. Свободные граждане, жители освобождённых территорий, плача, рассказывали о своей тяжкой доле под гнётом польских панов, крупных латифундистов Прибалтики и домнулей Румынии, а танцами и песнями своих народов выражали свою благодарность Советскому Союзу, оплоту всемирного пролетариата, большевистской партии и лично Иосифу Сталину, вождю и учителю трудящихся масс всего мира. Прошло меньше полугода, и мне удалось увидеть, как "осчастливлены" люди своими "освободителями", услышать слова "восхищения" жителей Бессарабии хамством, бескультурьем и взяточничеством новоявленных руководителей всех рангов и величин. Во время финской кампании, чтобы не вводить карточки на хлеб, его продавали по спискам из расчёта числа едоков в семье. Таким образом, купить хлеб человеку, не включённому в эти хлебные списки, было невозможно. В магазинах редко появлялось полотно для шитья, главным образом ситец и сатин, за которым выстраивались огромные очереди. Но после освобождения Бессарабии стали свободно продавать хлеб и простое полотно, потому что с правого берега, по пропускам, наведывались родственники, от которых хотели скрыть нашу нищету. Но разве её скроешь, если гости приезжали в добротной одежде и обуви, а мы одевались убого и на полках магазинов имелся самый примитивный ассортимент товаров? Меньше чем через год мы стали ощущать неприятные перемены, которые выразились в следующем: в призыве военнообязанных запаса, светомаскировке и усилении объёма передвижений войск и военного оборудования в сторону западной границы. Передвижения проводились ночью, чтобы скрыть их от любопытных глаз, но зато все слышали шум колёсного и гусеничного транспорта, а те, кто жил ближе к переправе, различали цокот копыт кавалерийских лошадей и стук колёс военных фур по понтонному мосту. В то же время строители военных сооружений на левом берегу Днестра (организация УНР - не знаю, как расшифровывается), которых мы знали, покинули свою базу в Дубоссарах. Если раньше наблюдалось движение вокруг построенных ими долговременных огневых точек (ДОТ), то сейчас эти ДОТы стояли заброшенными. Естественно, никто не осмеливался приблизиться к ним, потому что люди были воспитаны в страхе: никому не хотелось быть заподозренным работниками внутренней безопасности в любопытстве к военным секретным объектам. Но с толку сбивало ещё одно загадочное явление.
С шести часов утра и до двух часов дня над Дубоссарами зависал странный самолёт, странно было и то, что после передислокации самолётов в Бессарабию, кроме этого самолёта, не появлялся ни один другой. Самолёт был странным по своей внешней форме: он имел два фюзеляжа, соединённых задней перемычкой, и поэтому его вид напоминал раму. Он долго находился в полёте, подобном кружению ястреба, высматривающего жертву, а потом его сменял другой. Забегая вперёд , напомню, что вскоре он стал известен миллионам гражданам СССР прифронтовых полос под кличкой "рама". Это был немецкий военный самолёт-разведчик из серии самолётов "Фокке-Вульф". После заключения знаменитого пакта Риббентропа-Молотова, в котором содержался пункт о взаимном прекращении враждебной пропаганды, в газетах пропали привычные бранные дипломатические выражения в адрес Германии. Работавшие на железной дороге говорили, что в сторону Германии отправляются эшелоны с пшеницей, мясом и другими продуктами питания, а также строевой лес. В то же время наращивание военных сил на границе с Румынией было столь очевидным, что сбивало с толку. Если у нас есть такой благоприятный договор с Германией, то кто же ещё угрожает нашей стране? Румыния? Это просто смешно! Теперь государство Румыния, её "военная мощь", ассоциируется с пушкой среднего калибра, которую волочёт пара быков. И вдруг 14 июня 1941 года появляется в газете "Правда" опровержение ТАСС примерно такого содержания: "Последнее время в буржуазной печати, в частности в английской, сообщается о концентрации немецких военных сил вдоль всей западной границы Советского Союза. ТАСС уполномочен заявить, что эти сообщения являются вымыслом от начала и до конца". Сразу возникает противоречие между очевидным и напечатанным в газете. Не в какой-либо, а в "Правде", и не кем-либо, а ТАССом. Если бы в сообщении указывалось, что концентрация войск происходит на некоторых участках границы, всё бы выглядело правдоподобно.
Но речь велась о всей западной границе, а граница с Румынией является её частью... Я был занят экзаменами и подготовкой к отъезду в Ленинград для поступления слушателем в военно-морскую медицинскую академию, но еще оставался секретарём школьной комсомольской организации, а это обязывало меня быть в курсе всего, что печаталось в газетах и сообщалось по радио.
Мой патриотизм гражданина СССР усиливался фанатизмом комсомольца, безоговорочно верующего в правильность и справедливость решений партии и правительства, в необходимость неукоснительного выполнения всех указаний, приказов и решений на всех уровнях власти. Экзамены сданы, сдан дополнительный экзамен по астрономии, чтобы получить аттестат и грамоту отличника. Больше того, все документы для отправки в Ленинград уложены и запечатаны в пакете.
ВОЙНА НАЧАЛАСЬ
Как бы крепко я ни спал и какими бы сладостными не были сны о любимой, но приближающийся гул заставил меня вскочить и выйти на балкон. По голубому ясному небу, освещённому летним солнцем, летели на бреющем полёте, очень низко, пятнадцать бомбардировщиков в сопровождении пяти истребителей.
На фюзеляжах и крыльях чётко видны чёрные кресты. Вскоре раздались взрывы бомб, упавших в районе военного городка.
Я не был единственным наблюдателем в то утро (в местечке просыпаются рано), любопытные уже успели посмотреть место падения и взрывов бомб. Они сообщили об увиденном: бомбы упали за летним военным палаточным городком и жертвой стала лошадь, убитая осколком бомбы. Они принесли осколки бомб, подтвердившие правдивость их рассказа. А о чём все подумали? Было высказано предположение, что сконцентрированные войска возле Дубоссар, стоящие лагерем в поле на пути к Балте, проводят манёвры. Если бы это было иначе, если бы случилось что-то очень серьёзное, нас бы заранее оповестили газетами и по радио.
Я проделал обычный комплекс упражнений, тем более, что дома был весь спортивный инвентарь пионерского клуба, помещение которого заняли под склад военные. Декабрина, сестра, заведующая этим клубом и несущая материальную ответственность за его имущество, всё свезла к нам во двор. С Изей Линденбоймом, моим неизменным другом, мы условились совместно сдать пакет на почту для отправки (почта работала без выходных). Мы вместе шли и беседовали, на улице было много людей, потому что воскресенье и улица Дзержинского - главная. Естественно, у всех на устах утреннее событие, но никто не высказывал тревожного предположения. Письмо отправили и, возвращаясь домой, проходили мимо громкоговорителя, укреплённого на телеграфном столбе. Время - одиннадцать часов и сорок пять минут, вдруг услышали шипение и вслед за этим голос московского диктора сообщил, что в двенадцать часов будет важное сообщение.
Через несколько минут я уже находился дома. Вскоре по радио Молотов сообщил: немецкие войска, внезапно, без объявления войны, напали на нашу страну и бомбили города... Вот теперь всё стало на свои места: концентрация наших войск и светомаскировка, кружение таинственного самолёта и утренняя бомбардировка самолётами с чёрными крестами. Остались загадками сообщение ТАСС о вымысле буржуазной прессы и сообщение Молотова о "вероломном и внезапном" нападении немецких войск. Если немецкие войска не концентрировались на западной советской границе, зачем тогда советские войска скапливались на границе под покровом ночи, зачем была нужна месячная светомаскировка? Выходит, что нападение не было внезапным. Мне трудно было признать, что в моё сознание закралось сомнение в правдивости некоторых сообщений, не мог я такое допустить и поэтому стал искать оправдания этой путанице: видимо, соблюдалась какая-то важная тайна, которую нельзя было раскрыть. Партия и правительство всегда знают, как правильно поступать. Я заявил родным, что как призывник и комсомолец должен немедленно отправиться в военкомат. К моему приходу все сотрудники уже были на месте. Я спросил у дежурного командира с тремя кубиками (в то время на петлицах были не звёздочки, а треугольники, кубики и ромбы), как добровольно стать красноармейцем, потому что восемнадцать лет мне исполнится только в сентябре. Он велел подождать и отправился в кабинет военкома. Вскоре явился с каким-то циркуляром в руке и стал меня расспрашивать. Полученное мною среднее образование и мой спортивный вид позволили предложить мне стать курсантом Житомирского пехотного училища командиров Красной Армии, в котором ещё есть вакансии. Я тут же дал согласие, и были оформлены документы. О явке в военкомат мне будет сообщено сразу после получения согласия от командования училища на зачисление меня кандидатом в курсанты. Дома все выслушали моё решение, никто не выразил сомнения в его правильности. В два часа дня, сразу как радио начало передавать последние известия, налетели самолёты, бомбили переправу и Дубоссары. Так уже повелось: ко времени начала передачи по радио последних известий из Москвы немцы начинали бомбить. Уже есть жертвы среди местных жителей, жертвы на переправе и среди мобилизованных на горе выше православного кладбища - места их сбора. Оторвало ногу у младшего сына Даяна, бывшего заведующего еврейской школы.
А немцы наращивают бомбовые удары по переправе, не забывая и местечко. Наши "ястребки", если и успевали взлетать, то сразу сбивались и падали факелами. В первый же день мы потеряли много истребителей, немецкая авиация безнаказанно властвует в небе. Рушатся все представления о мощи нашей авиации. Как мощно и красиво она била "врага" в фильмах о будущей войне! А сейчас?..
В семье - я единственный молодой мужчина. Отцу исполнилось шестьдесят лет 22 января 1941 года. Поэтому я был обязан взять на себя заботу о защите родителей и трёх сестёр. На середине огорода в тени абрикосового дерева я отрыл окоп глубиной в два метра, длиной три и шириной метр, перекрыл его всем тем, что было на нашем хозяйстве, и это перекрытие засыпал землёй, оставив только лаз к приставной лесенке. Но родные им не пользовались, предпочитая спускаться на первый этаж, где жила семья Шифры.
Я не понимал, почему взрослые не оценили надёжность отрытого мною первого защитного сооружения с использованием земли ,как защитницы. Именно она в дальнейшем защищала нас от осколков бомб, снарядов и мин. А я так старался! Работал, как одержимый и выбрал шесть кубов земли меньше чем за пять часов. Семья брата Идла также приходила к нам прятаться в первом, цокольном этаже. Какими наивными мы были в своих познаниях о защите при налёте вражеской авиации. А враг безнаказанно летал и бомбил, строчил из пулемётов. Уже ближе к полуночи я пошил себе рюкзак из шерстяного половичка зелёного цвета и вложил туда полотенце, кусок мыла, бритву и помазок, эмалированную кружку, ложку брата Шики (на обратной стороне ручки была процарапана буква "Ш"), книгу со стихами Пушкина и круглое печенье "Мария" в бумажной упаковке, весом в двести граммов. Почему я это приготовил?
Я считал, что меня могут призвать в любое время, как кандидата в училище. На следующий день передали по радио о создании на местах истребительных батальонов, и я сразу отправился в военкомат, который занимался формированием батальона совместно с местными властями. Все военнообязанные исключались из числа потенциальных бойцов истребительного батальона.
В него принимались ребята в возрасте до восемнадцати лет и невоеннообязанные мужчины. Наш истребительный "батальон" был сформирован из немногим больше двух десятков юношей во главе с командиром, лейтенантом, примерно двадцати трёх лет.
Нам выдали по пятизарядной винтовке со штыком и обойму с пятью патронами. Было приказано собираться в помещении милиции. Задача "батальона" - ночные дежурства с целью захвата и задержания парашютистов, сигнальщиков, диверсантов. По ночам мы охотились за сигнальщиками, привлекающими ракетами внимание немецких лётчиков. Эффект был равен нулю, - сигнальщику всегда хватало времени скрыться до того, как мы приближались к месту, откуда взвилась ракета. То же происходило с парашютистами. Пока мы пешком добирались к предполагаемому месту приземления парашютиста, его след уже простывал. Только один раз нам удалось найти парашют, запутавшийся в ветвях дерева фруктового сада, но того, кто на нём спускался, мы не могли найти. Наши неудачи объяснялись, в первую очередь, отсутствием опыта поиска нарушителей - специально обученных и опытных.
Мы же - не следопыты, у нас не было ни одной обученной собаки. Больше того, ночью мы плохо ориентировались на местности, а враг оснащён картой, компасом, фонариком, оружием и такой одеждой, что не отличало его от местных жителей или от военнослужащих Красной Армии. Эти ночные поиски изматывали нас, а результата не давали никакого. Был отдан приказ - срезать деревья на метр от земли и оставлять эти завалы вдоль всего берега реки, как препятствие для танков. Разве танки можно переправить в любом месте? Для этого надо навести мосты. Деревья срезали, их кроны лежали рядом с осыпавшимися плодами. Нас перевели на рытьё траншей, а меня назначили старшим над учениками. Все работали с собственным инструментом, но он не был приспособлен для интенсивных земляных работ. Лопаты тупые, черенки короткие и плохо зачищены, поэтому у неопытных землекопов немедленно появились кровавые мозоли на руках. Рядом с нами работал Голубь, недавно поселившийся со своей семьёй в одном из домов нашей соседки - "хозяйки". Голубь - человек средних лет, хороший плотник, оказался прекрасным землекопом. Его острая лопата была необычной формы - сочетала свойства штыковой и совковой лопат. Черенок не прямой, а изогнутый, и длина его около двух метров. Лопата врезалась в грунт только от нажима рук, не оставляла землю в траншее после выбрасывания, а бросок осуществлялся легко, потому что черенок представлял собой рычаг большой длины.
В дальнейшем мне приходилось часто зарываться в землю, рыть орудийный окоп, ровики для снарядов до полного изможения, но память рисовала виртуозную работу Голуба-землекопа. Немцы не тревожили нас налётами, и мы продолжали рыть траншеи. Сообщение о том, что брат Мойше заканчивает срочную службу в армии и через пару месяцев вернётся домой, было получено 28 июня, когда война уже проявила свои характерные особенности, отличные от наших представлений о войнах. Читали, перечитывали письмо, понимая, что судьба способна зло надсмеяться и при этом горько вздыхали. Рано утром 16 июля я уже был в траншее, продолжал её удлинять, оформлял её профиль согласно установке командира сапёрного взвода, контролирующего работу. Он , уже немолодой человек, явно призванный из запаса. Подгоняет и строго требует от нас выполнения установленных норм, чтобы ширина и глубина траншеи были выдержаны по всей длине, а бруствер имел необходимые высоту и уклон, уплотнён, с отступом от края траншеи. Он охрип от крика, а, отдуваясь, шевелит огромными рыжими усами. Ребята его боятся, потому что кричит он в основном именно на них. Взрослых людей почти нет, а к тем, кто с нами, относится уважительно, особенно почтительно говорит с Голубем. Я видел, как он взял лопату моего соседа: вертел в руках, внимательно её разглядывал, а потом, вонзив в землю, удовлетворённо хмыкнул. Вдруг я увидел отца с командиром взвода, они о чём-то побеседовали, но вскоре расстались. Отец сказал тихо, чтобы другие не слышали: "Твой командир разрешил тебе оставить работу и отправиться со мной домой. Не задавай сейчас никаких вопросов. Лопату оставь на месте". Уже по дороге домой отец сказал, что оставляем дом, всё имущество, чтобы переждать в Красных Окнах несколько дней. Идл обеспечил нас возом и упряжкой из двух лошадей. На воз положили кое-что из имущества трёх семейств, а также некоторые вещи семьи двоюродной сестры Сары и семьи брата её мужа, Чалика. Сара и Сима с младенцем находились у нас один день, оставили вещи и уехали налегке. Было неудобно бросить вещи, оставленные нам на хранение. Между прочим, дядя Арон привёз к нам на хранение полный воз, нагруженный мешками с пшеницей, но для добра дяди у нас не было места. Поверх вещей сели: мать Эстер, Сося, Эстер с младшим сыном Лёликом, Ента с одиннадцатилетней дочкой Октябриной и трёхмесячной Анечкой, а также наша мама. Отец, сёстры (Декабрина, Ида и Хая), я и сын Идла, тринадцатилетний Иосиф, шли рядом с возом. Расстояние до Красных Окон - сорок километров, мы их преодолели за семь часов. Перед заходом солнца добрались до места. Нас приютила знакомая семья Идла, где и переночевали. Проснулся, когда солнце уже было высоко, но дома, кроме Иды и меня, никого не было. Ида отдыхала, не раздеваясь, а когда я вошёл, быстро вскочила с топчана и сказала мне, что ещё ночью вёлся разговор о дальнейшем уходе на восток, потому что немцы форсировали Днестр выше Дубоссар и могут нас догнать. Все ушли в город, чтобы уточнить новости и скоро должны вернуться. Прошло около получаса, мы поспешно запрягли лошадей. Не стали даже завтракать и пустились в путь на Балту. Ещё до обеда мы обошли город и оказались на грейдерной1 дороге, ведущей из Балты на Кривое Озеро. Когда ноги меряют дорогу, голова вольна отвлечься от простейшего естественного движения, и мысли пытаются зацепиться за что-то - они не переносят пустоты. Мысль обращена к действительности. Я стал думать о дорогах. Опыта путешественника у меня нет, но в юношеских мечтах рисовалась одна - стать путешественником. В основном домашний и местечковый быт требует пешего передвижения. Поездки куда-либо редки. Будучи ребёнком, я совершил поездки в возах и фаэтоне, в Бирзулу, Тирасполь, Красные Окна. Юношей дважды ездил на автомашине в Тирасполь, поездом из Тирасполя в Одессу и из Кишинёва в Тирасполь. Но теперь надо рассчитывать на свои ноги, потому что дороги превратились в беспрерывный поток пеших людей и только счастливцы едут. В основном мне знакомы грунтовые дороги, образованные движением по ним, обычно их никто не улучшает. Такие дороги пылят летом, размокают весной и осенью, колёса их режут, а копыта лошадей и быков месят.
В зимнее время они заносятся снегом, и по ним прокладывается санный путь. Грейдерных дорог очень мало, они требуют постоянного ухода. Сейчас на дороге - все виды гужевого транспорта, грузовые машины и трактора, бредут стада скота вдоль дороги. Она стала подобна реке во время весеннего ледохода и разлива: как крупные льдины - транспорт, а мелкие - люди.
Это всё не вмещается на дороге и выливается на обочину. Движущийся поток шире дороги в три раза. На дороге военные грузовые машины с имуществом и военнослужащими, военный гужевой транспорт, воинские части в пешем строю, артиллерия на конной тяге и на тракторах, кавалеристы на лошадях, походные кухни. Люди идут с котомками, чемоданами или просто свертками и не собираются расстаться со своим добром, и не только потому, что это их единственная собственность, но и память о доме, о семье, привычное, а потому ещё более дорогое и ценное.
Жарко, пыльно, и всех мучает жажда. У придорожных колодцев постоянно толпятся люди и скот. Мы, способные идти, шли рядом с нашим возом, когда нас опередила и на короткое время остановилась грузовая машина, в кузове которой сидели военнослужащие. Вдруг, Хая схватила чемодан со своими вещами с воза, забросила его в кузов машины и сама села туда. Машина тронулась, и сестра только помахала нам рукой. Мы все опешили: как легко она сумела всех нас, самых близких ей людей, оставить, помахав рукой, не сказав слова прощания... Мама плакала, а отец её успокаивал. Мы, дети, шли молча, избегая разговора о поступке родной сестры. Молодые эгоистичны и в экстремальных условиях думают лишь о себе. Но так бесцеремонно расстаться с семьёй?..
Я знал, что меня могут в любой момент мобилизовать, больше того, я этого хотел, но не ради облегчения своей судьбы, оставив семью без помощи. У меня на десятый ум не приходила мысль бросить трёх старых близких людей, младенца и двух детей, когда они нуждаются в моей молодой силе, ловкости и защите в пути, полном опасносте. Оказывается, события, сопутствующие войне, вызывают не только обострение лучших качеств человека (смелость, отвагу, решительность, жертвенность, патриотизм), но и неприглядные (опрометчивость, измену, бездушие). Поздно вечером, когда уже наступила темнота, мы прибыли в Кривое Озеро. Рассмотреть городок в темноте не удалось. Нас приютила еврейская семья, а вещи сложили на полу маленькой комнатки, потому что возчику был указан конечный пункт - Кривое Озеро, после чего он волен поступать, как ему захочется. Мы смертельно устали и улеглись спать на полу. Я сразу провалился в глубокий сон.
Вдруг почувствовал, что меня трясут за плечи, и слышу голос отца: "Сынок, вставай... Немцы рядом. Надо спасаться". Я вскочил, схватил котомку и тут услышал крики с улицы: "Немцы! Немцы..". Все уже были на ногах и стали выходить на улицу. На улице - люди, выскочившие прямо из постели, в чём были. Мама в летнем ситцевом халатике, в летних тапочках на босые ноги. Отец и мы, все остальные, не переодевались, как мама, и легли спать одетыми. Ента с Анечкой на руках, Эстер держит Лёлика за руку, Сося, мать Эстер, что-то шепчет. Прошло всего несколько минут, как мы стоим во дворе, а все соседи уже куда-то побежали и слышно, как призывают: "На Врадиевку!". Никто с собой ничего не взял, кроме меня. На мне полусуконный костюм спортивного покроя, сшитый для меня к окончанию десятого класса и парусиновые туфли, за спиной рюкзак, отец в костюме, на ногах ботинки. Все одеты по-летнему. Ночь звёздная, но трудно ориентироваться в чужой местности, а поэтому мы отправились туда, куда ушли местные жители. Матери прижимают детишек, старшие стариков ведут. Полное неведение, что ждёт нас впереди? Шагаем в неизвестность, в никуда, нас подгоняет страх. Прошли не более двух километров - Ента села на дороге с плачем, она истерически кричит, что дальше не пойдёт - нет сил. Тогда я посадил Лёлика на плечи, Ида мне подала Анечку, и я её взял на руки. После этого Ента успокоилась, мы пошли дальше. Так шли до рассвета и оказались на базаре во Врадиевке - городоке, в восемнадцати километрах от Кривого Озера. Когда рассвело, можно было увидеть, как сказалась на нас ночь тревоги и бегства. Стали подводить итоги тому, что произошло и в каком положении оказались три семьи. Главным авторитетом для нас является отец, и мы всегда прислушиваемся к его разумным высказываниям. На этот раз он очень осторожно выразил то, как он воспринимает случившееся и что нам предстоит делать. Из его слов следовало, что произошёл катастрофический военно-политический обвал в стране, который вызовёт необратимые перемены во всём. Мы оказались беззащитными, потому что власти на местах не знают что делать. Поэтому надо рассчитывать только на свои силы. Остаётся продолжать уход на восток. Нам ничего неизвестно, а слухи угрожающие. Оставаться вблизи фронта нельзя, поэтому надо продолжить путь в направлении Кривого Рога, как было условленно с Идлом в Дубоссарах. Может быть, в ближайшее время что-то прояснится. Нам надо держаться вместе и друг другу помогать. Из разговоров на базаре стало известно, что ближайший городок - Доманёвка, нам надо немедленно отправиться туда, может быть, местная власть ещё действует там. Что мы могли предпринять? Все находились в неведении, и люди, с которыми мы встречались, не знали больше нашего. К обеду мы оказались в центре Доманёвки. Городок казался брошенным, но в горсовете ещё сидел сотрудник, ответственный за эвакуацию людей и имущества. К нему отец и обратился. Тот сказал, что весь транспорт в расходе, но надеется уговорить одного председателя колхоза выделить пару подвод для отправки нас в Александровку на Буге. Голодные, грязные, усталые - сидим, ждём. Эстер и Ента о чём-то шептались, а потом заявили, что отправятся к ближайшему колодцу привести себя и детей в порядок.. Понятное дело - молодые матери заботятся о своих детях. Ента с детьми, Эстер с детьми и со своею матерью ушли. Прошло не более двадцати минут, как мы увидели в промежутке между домами дорогу параллельной улицы, а по ней мчавшийся воз с нашими родными. Ента и Эстер прощально махали платками. Вот тебе повторение измены, продуманной и спланированной, в которой участницей является моя старшая сестра. Мать плачет и приговаривает: "Как они могли так поступить? Что с ними станется без помощи и совета взрослого мужчины?" …Я увидел, впервые в жизни, как отец растерян. У него выбили главное его оружие: мыслить логично и реально, основываясь на проверенных данных. Он не знает, как поступить, что сказать, как защитить родных - то, что он делал всегда для своей семьи. Я понял, что должен его поддержать и стал утешать тем, что ещё не было отказа в транспорте, а если даже и будет, мы в силах продолжить путь пешком - все вместе поможем маме. Вскоре появился уже знакомый нам сотрудник горисполкома и заявил, что через четверть часа будет воз с лошадьми, который отвезёт нас до переправы через Буг, после чего мы должны его отпустить. Отец дал слово, что выполнит это условие. И действительно, вскоре подкатил прочный воз, запряженный великолепной парой лошадей. Возчик - парень моего возраста. Мы не стали задерживаться - быстро уселись на возу и поехали. Ехали не более двух часов до спуска к Бугу, против моста. Пока ехали у меня созрел план: уговорить парня оставить нам воз с лошадьми, а если не удастся - не отдать. На подъезде к Бугу я высказал свою мысль отцу, естественно на идиш, чтобы парень не понял. Отец ответил своим категорическим "нет". Противоречить отцу я не смел, и поэтому мы лишились транспорта. Парень нам сказал, что ближайшая железнодорожная станция, Трикратое, находится в трёх километрах от моста. Мы успели дойти до середины моста, когда возле нас остановилась встречная подвода с тремя мужчинами. Один из них обратился к нам на идиш: "Я вас помню. Вы останавливались в домике наших соседей в Кривом Озере. Нам стало известно, что в ту ночь высадился немецкий десант, но его быстро разбили и теперь там наши войска. Этот воз был единственным, на котором мы убежали. Теперь мы возвращаемся туда за вещами для своих семей. Ваш сын может поехать с нами, а вы двигайтесь через Братск на Бобринец, где подождёте нас. Мы будем возвращаться на трёх возах". Я сразу дал согласие, но родители были против моего возвращения в Кривое Озеро, считая этот план рискованным. Я стал уговаривать их, мотивируя своё решение скорым наступлением холодов, от которых они погибнут. Обещал сделать всё, чтобы обеспечить их самым необходимым. Мы простились на мосту, и я отправился назад через Доманёвку в Кривое Озеро. Уже было темно, когда мы въехали в городок. Соседи по двору, где мы остановились, сообщили нам, что немецкий десант на следующий день после нашего бегства был выбит отрядом пограничников, который отправился на восток. А сегодня вечером регулярные войска немцев вошли без единого выстрела и расположились на противоположной окраине, рядом со своими машинами. Мои попутчики бросились к своим домам. Дверь дома, где были наши вещи, не была заперта. Вошёл в дом и стал лихорадочно отбирать зимние вещи для родителей и сестёр. Плотно уложил их в чемодан и мешок. В чемодан вложил семейный альбом с фотографиями. Связанные верёвкой чемодан и мешок взвалил на плечи и отправился к старику, хозяину воза, на котором мы приехали.
Его дом был рядом, но ни воза, ни его и соседей, с которыми мы возвращались, не оказалось. Они уехали на трёх возах, как мне сказал сосед. Что мне делать? Оставаться нельзя - это ясно, но с таким грузом далеко не уйти. Оставить уже отобранные вещи и быстро убраться с места, где уже находятся немцы... Нет! Зачем же я возвращался, если не за вещами? Попытаюсь уйти с вещами и брошу их только тогда, когда другого выбора не будет. И я пошёл по знакомой дороге на Врадиевку с тяжёлой ношей: мешок за спиной и чемодан на груди. Верёвка толстая, я обмотал её полотенцем, чтобы не так резала плечо. Всё равно приходится часто перекладывать с одного плеча на другое. Я был голоден, последние несколько суток почти не спал. Не только верёвка резала плечи, но и ноги устали от тяжёлой ноши. Я шёл, ноги подгибались. Давал себе урок: дотянуть до телеграфного столба, а оказавшись против него, снова принуждал себя тянуть до следующего. Ещё не наступил рассвет, как я вторично оказался на базарной площади Врадиевки, заполненной подводами и людьми, как во время ярмарки. В толпе я увидел Лену Талмацкую, но не мог к ней пробраться. Она - землячка и соседка. Вдруг я почувствовал, как кто-то коснулся моей руки, обернулся. Против меня стоял старик, смотрел виновато и оправдывался за то, что оставил меня. По его рассказу мне стало ясно, что русские соседи, которым он и двое наших попутчиков оставили всё имущество, помогли им загрузить три воза и всё время торопили их быстрее уехать, потому что немцы могут нагрянуть. Те двое пустились в путь, а он, страшась оказаться в пути один, поехал с ними. Но дело поправимое: он предлагает положить мой груз на подводу и за малую плату берёт меня в качестве компаньона, тем более, что у нас одно направление - Кривой Рог.
Отец, когда расставались, дал мне триста пятьдесят рублей, и я их ему отдал. Условились питаться вместе, поочерёдно править лошадью и заботиться о ней. Мы ехали до Александровки по знакомому маршруту и, когда проезжали мост, было видно, как немецкие самолёты бомбят станцию Трикратое. При выезде из Александровки есть развилка: направо - железнодорожная станция, налево - на Братск. Вдоль дороги поля с поспевающей пшеницей и овсом. Старик не подгонял лошадь, полагаясь на её желание выбирать нужную скорость. Дорога однообразна и пустынна. Лошадь шагает равномерным шагом, хвостом отгоняет мух и оводов. Тогда, когда она не может достать своим длинным хвостом надоедливую муху, старик старается кнутом её достать. Он что-то говорит, но я не могу сконцентрироваться на сути сказанного. У меня мысли вертятся над положением семьи и мне страшно за маму, которая так легко одета. Она энергичная и здоровая женщина, но разве у неё есть опыт в таких длительных переходах? Отец опытный ходок, потому что работал в сёлах и ходил пешком, участвовал в длительных пеших переходах во время первой мировой войны. Ида привычна к работе, но Декабрина никогда не совершала пеших переходов. Плохо, что у них нет самой необходимой одежды и обуви. Но нет худа без добра - им легче идти без груза. Я очень надеялся на то, что они добрались до места, где ещё есть власть и окажутся под её опекой. Может быть, их обеспечат транспортом. Мысленно перебирал различные возможные ситуации, а старик что-то говорил, говорил и говорил и тепло интересовался подробностями о нас, что время пролетело незаметно, и вскоре замаячил город Братское. Когда мы оказались в центре города, нас удивило полное безлюдье на улицах, никого не было видно и во дворах за низкими заборами. Вдруг раздались выстрелы, а затем послышались разрывы на опушке рощи, в двух километрах от города. Теперь стало понятно, - люди бежали из города точно так же, как мы из Кривого Озера. Я сошёл с воза и стал обходить подряд все дворы и... О, Боже! Что я вижу? На калитке ворот очередного двора написано мелом: "Иойна! Следуй за нами в Бобринец. Декабрина". Вот она, наша умница! Догадалась подать весточку таким образом. Вероятность найти эту надпись, среди нескольких тысяч дворов, ничтожно мала, но я её обнаружил. Это просто чудо! Старик был удивлён не меньше меня. Он расхваливал Декабрину, а я ещё добавил, о её звании чемпионки по шахматам и шашкам среди женщин Молдавии. На это он ответил, что только чемпионка могла додуматься установить связь со мной таким образом. Настал вечер, спустилась ночь, мы в очередной раз устроились на ночлег, лошадь стреножили и отпустили пастись. Спали мы по очереди и от лошади не отходили. Мы уже были в пути несколько суток. Я потерял счёт дням, но помню, что это было начало августа. Ещё не рассеялась темнота, когда мы опять пустились в путь и с ранним рассветом оказались на перекрёстке, перед спуском в Бобринец. Этот перекрёсток - пересечение трёх грейдерных дорог: на юг - город Николаев, на восток - Кривой Рог, и в Бобринец, как уже было сказано. Когда мы находились на спуске, нас окликнула девушка, поднимавшаяся в гору. Мы остановились, и тогда она возбуждённо заговорила: "Куды вы идетэ? Тамочки нимци!" (Куда вы едете? Там немцы!). Она ещё очень быстро стала объяснять, что торопится к себе в село успеть порвать комсомольский билет. Колонна немцев ушла на Кривой Рог. Мы поблагодарили её и, пожелав ей удачи, повернули к перекрёстку. Солнце ещё не успело подняться из-за горизонта, когда мы опять оказались на разветвлении трёх дорог. Мне вспомнилась сказка, в которой её герой должен сделать выбор одной из трёх опасных дорог: "Налево пойдёшь - смерть найдёшь, направо - лишишься славы, пойдёшь назад - побьёт тебя град". Именно в таком положении мы оказались. Я предложил старику направиться на Николаев, а он настаивал на Кривом Роге, потому что нас там ждут. Мой довод, что в то направление ушли немцы, он не воспринимал. Взошло солнце, на дороге из Николаева появилось несколько подвод с беженцами. Со стороны дороги из Кривого Рога появились три лёгких немецких танка, остановились рядом с повозками. Немцы, высунувшись до половины из открытых башен, указывали сидящим в подводах людям развернуться и ехать в обратном направлении. Я понял, что с паспортом еврея и комсомольским билетом в кармане, учитывая мой возраст, я добровольно принесу себя в жертву немцам. Пока немцы стояли, наблюдая за действиями беженцев, я сказал старику, что оставляю имущество и полем уйду на юг, в сторону Николаева. Взял фотографии Натана и Мойше, положил их в книжку со стихами Пушкина, вдел руки в лямки рюкзака, сшитого мною из половика. Когда я прощался со стариком, он вернул мне мои триста пятьдесят рублей. Я полем направился на юг. Пшеница была скошена и уложена в копны. Мне легко прятаться за ними и двигаться вдоль дороги, ведущей на Николаев. Я стал обдумывать, как мне поступить в этой обстановке. Ничего не знаю о положении на фронтах, даже не знаю сегодняшнего числа и дня. Определённо понятно, что дороги назад, в Бобринец и Кривой Рог, мне заказаны. Хотя иду в сторону Николаева, но нет никакой уверенности, что и на ней не встретятся немцы. Всё моё имущество на мне и в рюкзаке, а поэтому я лёгкий ходок. Мне надо проявлять максимум внимания и осторожности: ни в коем случае не попасться на глаза немцам. Прежде чем двигаться, надо хорошо осмотреться. На дорогу не выходить и перемещаться от копны к копне. Если ночь меня застанет, переспать в копне. Я решил избавиться от комсомольского билета, чтобы в случае, если попадусь к ним в руки, он им не достался, и немецкий диверсант им не воспользуется. Билет порвал в клочья, и обрывки закопал в трёх местах. Действовал согласно внушённым мне правилам бдительности. Паспорт я оставил, потому что он представлял собой бумажку без обложек (такие паспорта у призывников), и я его смогу сжевать и проглотить, если попадусь немцам, а если окажусь у своих, у меня будет документ, дающий право проситься на службу в армию. С вечера я не пил и не ел. Продуктов у меня нет никаких (пачку печенья мы съели после бегства из Кривого Озера, на базаре во Врадьевке). Можно пожевать зёрна пшеницы, но после этого я ещё больше захочу пить.
Я продвигался в том же направлении среди копен и наблюдал за дорогой. Ночь как-то сразу навалилась, и звёзды подчёркивали ночную темноту. Впервые я оказался один, не зная точно где, потеряв счёт времени, не имея никакого представления, чем меня встретит день. Но надо отдохнуть. Без сна я просто свалюсь, где попало. Копна меня защитит от вечерней прохлады и от враждебных глаз. Я раздвинул вертикально установленные снопы, создал себе ложе и снопом закрыл убежище. Вряд ли меня могут обнаружить, если специально не будут искать. Может покажется странным, но я сразу крепко заснул. Сказалось нервное напряжение, связанное с заботой о родных. Теперь актуальность такой заботы исчезла. Что я мог тогда сделать для них? Моё стремление обеспечить их одеждой и обувью не реализовалось, теперь я даже не знаю, где они и как их искать. Я не знаю, где я сам и что меня ждёт. В этом случае остаётся только присмотреться, разобраться и только после этого ставить перед собой следующую задачу. Меня будто кто-то встряхнул - я проснулся в тревоге. Отодвинул сноп, выглянул наружу, заметил, что небо начинает светлеть, а звёзды бледнеют. Больше я уже не мог спать и стал ждать рассвета, чтобы осмотреться вокруг. Когда стало достаточно светло, хотя солнце ещё не взошло, я вылез из своего укрытия, стряхнул с себя солому, усики колосьев, потянулся. В глубине поля я заметил полевую мазанку и решил направиться к ней. Шёл осторожно и, когда подошёл к глухой стене мазанки, услышал скрип открывающейся двери на противоположной стороне. Я продвинулся вдоль стены до угла и заметил девушку с пустым ведром и привязанной к нему короткой верёвкой. Она прошла не более десяти шагов, опустила ведро в колодец, быстро зачерпнула воду. Наверно, колодец неглубокий. В таких колодцах вода жёсткая и даже чуть солёная.
Девушка меня не видела, когда она направилась к мазанке и скрылась в ней. Я подошёл к открытой наружу двери и постучал в неё. Девушка стояла спиной к дверям и внутри кроме неё никого не было. Она обернулась и испуганно спросила чего мне надо. Я её успокоил тем, что оставался стоять снаружи и ответил, что хочу пить. Она подала большую кружку воды, я стал с жадностью пить. Напившись, вернул кружку, поблагодарил, сказал ей "прощай", повернулся и уже сделал несколько шагов, когда услышал: "Постий, хлопец!" (Постой, па-рень!). Она быстро вернулась в мазанку и вскоре вышла с ломтем чёрного хлеба и со словами "Кушай на здоривье" подала его мне. Я взял хлеб и, пожелав ей самого лучшего, отправился по избранному маршруту среди копен, сопровождающих дорогу на Николаев. Весь день я шёл и наблюдал за дорогой. Снова заночевал в копне, а рано утром опять в путь. Вдруг я увидел на дороге трактор, к которому были прицеплены гуськом две подводы с бочками горючего. Тракторист стоял и потягивался со сна. Он, как видно, ночевал прямо у дороги. Больше никого рядом не было. Это был человек лет пятидесяти. Решил подойти к нему и из разговора с ним осторожно выяснить обстановку. Он сказал, что трактор должен передать военкомату Нового Буга. В колхозе у них спокойно и дорога его ничем не удивила. Военные на автомобилях его обгоняли вчера вечером. Он сдаст трактор и вернётся в колхоз пешком. Я получил разрешение расположиться верхом на бочке и ехать так до города. Тракторист при этом добавил : "Нэ жалко. Сидай!" (Не жалко. Садись!). Впервые я ехал, пользуясь таким транспортом, занимая такое место. Вот так и въехал на окраину Нового Буга. С правой стороны дорогу продолжало сопровождать поле, а слева уже пошли первые дворы с домами в глубине. Вдруг я увидел группу беженцев (было принято говорить "эвакуированные"), которые показались мне знакомыми. Точно! Мой соученик Илья Могилевский, его мать, старшая сестра Хана, младший брат Яша и младшая сестричка Хая стоят против двора в нерешительности, о чём-то разговаривая. Я соскочил с бочки и направился к ним. Встретить в нескольких сотнях километров от Дубоссар земляков, семью, с которой знаком, и с одним из членов этой семьи, моим соучеником на протяжении девяти лет... очередное чудо. Первым чудом была мелькнувшая в толпе Елена Талмацкая на базаре Врадьевки, вторым - встреча со стариком, хозяином воза, третьим чудом явилась надпись Декабрины на калитке. Удачей можно считать и встречу с девушкой на спуске в Бобринец и встречу с девушкой из полевой мазанки.
А теперь... Начались расспросы, пошли подробности, связанные с бегством от немцев. Мать Илюши отправилась к дому в глубине большого двора, абсолютно пустынного. Вскоре она вернулась с казаном, спичками и щепоткой соли, уложенными в пустом ведре. Всё это дала сердобольная хозяйка дома. Рядом был колодец, мы ведром извлекли из него чистую холодную воду. У Могилевских было несколько свёртков и немного кукурузной муки. Собрали во дворе сухую траву, щепки, быстро соорудили очаг из трёх камней, которые валялись рядом и вот уже на очаге мамалыга. Пока мамалыга варилась, мы все умылись и напились. Рядом поставили полное ведро воды, чтобы помыть казан и залить очаг. Все были голодны, и мамалыга нам казалась волшебным блюдом. Мамалыга быстро насыщает, но ненадолго. Кончили есть, привели всё в порядок и с благодарностью вернули ведро, казан и спички хозяйке этого двора. В дальнейшем гостеприимством судьба меня не баловала. Посовещавшись, мы направились к центру. Нам встречались люди, беженцы, несущие головки голландского сыра.
У них мы выяснили, что на сыро-молочном заводе можно бесплатно взять продукты их производства. Мы туда отправились, и каждый взял столько сыру, сколько был способен унести. Стеллажи складов уже были почти пустыми, продукцию с них разбирало и увозило по домам местное население. Вот в этих складах мы решили отдохнуть и улеглись на полу. Допоздна говорили и предлагали варианты, куда лучше отправиться. В Новом Буге был железнодорожный вокзал, куда мы утром отправились. Наши дороги расходились: я стремился попасть в ближайший город, Николаев, а семья Могилевских, подчиняясь матери, решила подождать состав, идущий на восток. После обеда я купил билет до Николаева и уехал пассажирским поездом. Мне просто не верилось, что это я сижу в полупустом купе и смотрю на убегающие назад столбы и провода. Перед заходом солнца я оказался в городском саду на сцене летнего театра в виде раковины. У меня в рюкзаке две головки сыра. Я не был единственным, наоборот, вся сцена заполнена спящими бездомными девушками и парнями - все беженцы. Ночью нас разбудили взрывы бомб. Утром узнали, что это была первая бомбёжка города, а дату я уточнил - 9 августа 1941 года. Нашёл колонку, у которой уже мылись соседи по сцене. Я умылся, побрился и направился в сторону военкомата, расспрашивая дорогу к нему. Возле здания, в котором располагался военкомат, уже много людей, а у входа стоял полковник, к которому подходили один за другим люди, что-то спрашивали и быстро уходили. Это был военком, как мне сказали рядом стоявшие люди. Это он принимал посетителей на улице, а из здания командиры, работники военкомата выносили связки документов, укладывали их в кузове грузовика. Мой разговор с военкомом был очень коротким. На мою просьбу оформить меня добровольцем в армию он коротко сказал: "Мне некуда девать военнообязанных, всех отправляю в тыл, а тебе тем более надо поскорее туда же отправиться". Сказал и тут же отвернулся к другому просителю. Всё ясно, я направился на железнодорожный вокзал, откуда, как говорили, регулярно отправляется пригородный пассажирский поезд на Херсон - шестьдесят километров восточнее Николаева, на правом берегу днепровского лимана. Где находится вокзал, можно было не спрашивать, потому что поток людей один - к перрону, откуда отправляются поезда на восток. У меня ещё оставались деньги, и я рассчитывал приобрести билет в кассе, но, оказавшись в зале ожидания, понял, что к кассе мне не добраться. Вернулся на перрон, где стоял поезд, готовый к отправке на Херсон. Двери вагонов закрыты, а вагоны переполнены людьми. Больше того, крыши вагонов уже заняты желающими уехать. Я также забрался на крышу последнего вагона, где ещё можно было расположиться на вершине крыши, ближе к вентиляционным трубам. На крышах сидели только молодые ребята. Вскоре поезд отправился и стал набирать скорость.Наш вагон сильно раскачивало, но это лучше, чем добираться пешком десять часов. Мы уже находились в каких-то десяти километрах от Херсона, когда налетели два истребителя и обстреляли поезд из пулемётов, сопровождая его по ходу, опережали состав, разворачивались для следующего захода. Некоторые срывались с крыш вагонов, и на нашей крыше уже было несколько раненых и двое убитых.
С нашей крыши никто не упал, потому что все расположились на её середине. Вскоре поезд остановился на перроне херсонского вокзала и я сразу отправился в городской военкомат, не взирая на усталость и ощущение голода. У меня была одна цель: добиться удовлетворения моей просьбы - добровольно стать красноармейцем, одним из участников в борьбе с фашистами. Помещение военкомата казалось пустым: в коридоре никого, двери всех кабинетов закрыты, не слышно голосов работников. остеклённые до половины парадные двери. . Некоторое время стоял и прислушивался, как вдруг донёсся шум отодвинутого стула и из ближайшего кабинета вышел командир с тремя кубиками на петлицах и направился в торец коридора. Открыл ключом двери тёмной комнаты, щелкнул выключателем и в освещённом электрической лампочкой помещении я увидел стеллажи с папками. Он взял несколько папок и вернулся в свой кабинет. Меня не видел, когда отправился в кладовую, но заметил при возвращении. Из кабинета послышалось его сообщение, что в коридоре стоит "какой-то хлопец" и другой голос, который велел позвать "хлопця". Открылась дверь и уже знакомый командир велел мне зайти. Зашёл в большое светлое помещение. За письменным столом сидел командир с одной шпалой в петлицах. Его стол располагался между двумя большими окнами с решётками, а у стен слева и справа стояли по три письменных стола. Стало ясно, что "товарищ капитан" здесь начальник над шестью подчинёнными, а один из них "старший лейтенант".
В школе нас учили военному делу наши шефы (сначала пограничники, а потом из стрелкового полка). Мне были знакомы старые звания: командир отделения, помкомвзвода, старшина - с треугольниками на петлицах; комвзвода, комроты - с кубиками на петлицах; комбат, начштаба, комполка - прямоугольники (шпалы) на петлицах; комдив, комбриг, комкор - с ромбами на петлицах. С новыми званиями я не был знаком и только в военкомате Херсона начал их познавать: сержанты, лейтенанты, капитан, майор, полковники. Капитан несколько секунд разглядывал меня, обычного призывника, и предложил сесть на стул у дверей. Я с удовольствием снял и положил рюкзак рядом и сел. Начался диалог, который мог объяснить моё появление в этом почти пустынном учреждении.- Кто таков, откуда и куда направляешься?- Я - Иойна Казацкер, иду из Дубоссар, левобережье Днестра, Молдавия. На всём пути пытался добровольно стать красноармейцем, но от меня старались отделаться, предлагали идти в тыл. Сегодня был в Николаевском военкомате и военком велел мне явиться к вам. - Так и сказал: "Явиться к вам"? - Так и сказал, но добавил при этом, что николаевский военкомат закрыт, а херсонский работает. - Да. Мы ещё работаем, но мобилизацией призывников не занимаемся, а поэтому предлагаю идти в тыл. - Я не прошу мобилизовать меня на общих основаниях, а оформить моё добровольноё вступление в Красную Армию, потому что по паспорту мне исполнится восемнадцать лет 25 сентября 1941 года. - Вот видишь, какой ты настырный... Мы не занимаемся призывниками, которые уже достигли мобилизационного возраста, а ты хочешь, чтобы мы занялись тобой. Отправляйся в тыл и там тебя возьмут на службу. - Я никуда отсюда не отправлюсь, мне некуда идти в одиночестве. Я могу вам здесь пригодиться: здоровый, грамотный, умею обращаться не только с винтовкой, но и наганом, ПД (ручной пулемёт Дегтярёва), ручными гранатами. Вот мой паспорт, а вот мой аттестат отличника. Куда мне деваться, если не к тем, кто воюет? Найдите мне любое место…
Капитан и старший лейтенант переглянулись - Товарищ старший лейтенант, оформляйте его добровольно вступившим в Красную Армию с сегодняшнего дня - 10 августа 1941 года и направьте его на завод "Петровского" в автомобильный батальон. У них сейчас там горячая пора, а людей почти нет. Мы сегодня туда направили трёх восемнадцатилетних ребят, пусть он будет четвёртым…Старший лейтенант заполнил стандартное удостоверение добровольца, отпечатанное на розовой тонкой, как папиросная, бумаге в одну восьмую стандартного машинописного листа. Бланки печатались на пишущей машинке и, чтобы сделать сразу много экземпляров, пользовались тонкой бумагой. Он забрал мой паспорт и вложил в папку личного дела. Вручил мне документ, который я ценил выше своего аттестата отличника, а так-же направление в автомобильный батальон. Я их поблагодарил и сразу отправился к месту своего назначения, которое легко нашёл, прибегая к распросам. Завод находился на окраине города, возвышаясь не только своими цехами, но и расположением: его территория нависала над городом. Старшим был лейтенант, и он приказал старшине поставить меня на довольствие и направить в команду по переоборудованию бань, смонтированных на шасси грузового автомобиля ГАЗ-АА, в транспортные, для перевозки живой силы. Старшина предложил поесть, а я не в силах был отказаться. С удовольствием и аппетитом ел мясной борщ и гречневую кашу, а хлеба дали без нормы, сколько хочешь. Он подвёл меня к пожилому красноармейцу, работавшему у чудной машины, демонтируя крепление котла. Сообщил ему, что я зачислен к нему в экипаж помощником шофёра, а теперь буду его подручным в работе по переоборудованию машин. Ему было лет сорок, бывший шофёр этого же завода, призванный из запаса. Он выглядел как очень усталый человек, постоянно не высыпающийся. На этом участке двора находилось не менее двухсот машин, которые также надо было переоборудовать. Работали ещё трое взрослых и рядом с каждым из них вертелся молодой помощник (помощники сегодня поступили по направлению из военкомата, и я понял, что это именно те "хлопцы", о которых шла речь). Мы познакомились - они из ближайшего к Херсону села. В этом году закончили десятилетку и учились в одном классе, комсомольцы. Они произвели на меня хорошее впечатление. В девять часов вечера нас накормили ужином, а потом вернули к работе, которую продолжали до двенадцати ночи. Старшина сказал, что у него нет пока обмундирования и обуви для нас, но как прибудет - сразу оденем в военную форму. На этом заводе выполнялся большой заказ по изготовлению котлов для бань и для монтажа пригнали автомашины. Те машины, на которых не были установлены котлы, сразу были переданы воинским частям на второй день после начала войны. Был сформирован автомобильный батальон, и шофёры с помощниками отправлялись по частям. Теперь прибывают шофёры из воинских частей и уезжают на переоборудованных машинах. Оставили для окончания работ четырёх шоферов с помощниками, и они уже заберут последние машины. После снятия котла приходится заделывать круглое отверстие в полу кузова и установить скамейки. К работе приступают в четыре часа утра, и она продолжается двадцать часов. Питание три раза в день и времени на это отводится ровно столько, сколько требуется, чтобы покушать. Больше четырёх часов сна не получается. Работа должна быть закончена не позже 15 августа. Я быстро прикинул, что на каждую пару приходится по пятьдесят машин, а значит в день надо сделать по десять. Таль для снятия груза была установлена на колёсах, но всего одна. Основное время уходило на демонтаж котла. Из столярного цеха работали четверо рабочих, не военнообязанных. Они заделывали полы и устанавливали скамейки. Готовые машины моментально отправлялись. Работа однообразная, не требовавшая особого профессионализма. Я был приучен работать по шестнадцать часов, но имел возможность спать восемь часов.
В течение шести дней я спал только по четыре часа, и это было очень тяжёло. 16 августа, когда все работы уже были закончены, передали наши последние четыре грузовика в распоряжение городского военкомата, чтобы погрузить документы и отправиться на переправу через Днепр - в пятнадцати километрах выше по реке. Руководили погрузкой документов знакомые мне капитан и старший лейтенант. Из города все бежали в сторону переправы и пробки там образовались страшные, поэтому мы преодолели это расстояние за шесть часов. Я расположился в кузове, поверх документов накрытых брезентом, а рядом с шофёром сидел капитан. Документы - это паспорта, отобранные у мобилизованных, и мой, по всей вероятности, тоже. Перед переправой, на огромной площади, располага-лись воинские части пехоты, артиллерии, кавалерии со своими обозами, целый ряд учреждений со своими архивами, сотрудники производств и их семейства. Эвакуированные прибыли из различных частей юга Украины и Молдавии - на машинах, подводах. Кто пешком, кто на тракторах, кто со скотом. Какое-то столпотворение! Я соскочил с кузова, чтобы размять ноги, и попросил разрешения посмотреть, что происходит на понтонном мосту, как продвигается переправа. В первую очередь пропускали боевые части. Стало ясно, что нас, как недавно подъехавших, и к утру вряд ли пропустят. В пятидесяти метрах от моста, по двум сторонам дороги, стояли пограничники с винтовками наперевес на расстоянии одного шага друг от друга. Никто не мог пробраться сквозь этот заслон. Сзади этих отдыхали пограничники, отстоявшие смену. Раздаются крики в рупоры регулировщиков у самого моста и на мосту. Мост прогибается под тяжестью транспорта и пешеходов, хотя строго соблюдается расстояние между грузами и людьми. Я видел, как сбросили в реку застрявшую машину, как старались удержать на мосту лошадей - головы некоторых из них закрывали мешками, чтобы они не шарахались, а в поводу вели все упряжки и одиночных лошадей. Не десятки, а сотни тысяч людей!
Возвращаясь назад, я увидел лавку военторга в специально оборудованной машине, а к ней стояла очередь военнослужащих. У меня не было денег, поэтому я не занимал очереди, но, проходя мимо, увидел дубоссарца, Идла Лодыженского, высокого рыжего парикмахера. Я не мог поверить, что в этом хаосе, вдали от родного местечка, увижу земляка, хорошо мне знакомого человека. Я его окликнул, он меня сразу узнал. Начались расспросы, характерные в таких случаях, и вдруг к нам присоединяется ещё один земляк, сапожник из артели "Гирш Лекерта", которая располагалась рядом с нашим домом. Он тоже включился в разговор и сообщил мне, что Нахум Лихтгольц, муж сестры Енты, находится здесь. Он купается в Днепре. Не имея права задерживаться, я только передал привет шурину, простился и вернулся к своим. Приближаясь к машине, увидел капитана в кузове с револьвером в руке, отгонявшего одетых в гражданскую одежду мужчин, которые пытались вытащить паспорта из под брезента. Шофёр также забрался в кузов и угрожал своей винтовкой охотникам за паспортами. Старший лейтенант крикнул капитану, что посыльный от военкома передал приказ вернуться в Херсон. Капитан уже решил не оставлять документы без своего личного присмотра и поэтому мы возвращались в город, сидя рядом в кузове. В пути он сказал, что знает людей, пытавшихся стащить паспорта. Они - жители Херсона, он оформлял их мобилизацию этими днями. Паспорта были отобраны, но их хозяева не попали в часть. Получается, что они без документов, на руках у них только направление в часть. Они решили схватить любые паспорта.
Не понятно, как они сумели выследить машину с паспортами. Возвращаясь назад, нам приходилось пользоваться только обочиной, потому что встречный поток транспорта занимал всю ширину дороги. Когда мы въехали в город, только начинало смеркаться. Херсон стал неузнаваемым: магазины раскрыты и разграблены, из кондитерской фабрики люди выносили всего столько, сколько могли унести. Кто катил ручные тележки, а двое тащили воз с продукцией фабрики. Водонапорная башня и хлебозавод были взорваны. Подъехали к красивому старинному двухэтажному дому, на прибрежной улице, в котором располагалась просторная квартира военкома. Вслед за нами вошёл старший лейтенант, а с ним мои сослуживцы - трое ребят. Военком, полный мужчина маленького роста, полковник, приказал нам оставаться в его квартире и выставить пост у машин с документами. Квартира пуста, только на середине залы - рояль. Я понял, что он отправил семью и имущество в тыл, а сам оставался на месте при исполнении своих обязанностей. Мы стояли на посту, сменяясь каждые два часа. Полковник ушёл наверно к знакомым, а капитан бодрствовал всю ночь. Старший лейтенант и шоферы спали. Рано утром пришёл военком с мобилизационными листками, а капитан приказал нам разнести их по адресам. Я отправился в разноску, но никому не мог вручить повестки: куда бы не подходил, в дом не пускали, а только говорили, что нет того, кого ищу. А что я мог сделать, одетый в гражданское и невооружённый? К обеденному времени я вернулся и доложил капитану, что не мог вручить ни одну повестку. Он этому не удивился, потому что трое ребят вернулись раньше меня с такими же докладами. Вскоре нас направили в порт грузить баржу углем и солью. Уголь мы заносили в плетёных корзинах, а потом носили соль в мешках. Погрузку закончили после полуночи, но нам приказали охранять вход на трап. Опять мы четверо ребят сменялись на посту, вооружённые винтовкой. Мы были грязные от угля, спины саднило, потому что расцарапали корзинами, а потом соль попадала на ссадины. Когда я стоял на посту (это было под утро), чувствовал, что засыпаю стоя, поэтому стал беспрерывно двигаться. Под утро за нами примчался на машине старший лейтенант с приказом немедленно явиться к военкому, который ждёт нас возле своего дома. По прибытии туда нам приказали быть рядом с военкомом, не отставая от него ни на шаг. Срочно направляемся в порт, откуда отходит последний пароход "Карл Маркс", потому что город оставляется нашими войсками. Когда мы прибежали к месту, матросы уже готовились убрать трап. Мы были последними пассажирами, севшими на корабль, который отправился на левый берег днепровского лимана, против города Цюрупинска. На пароходе узнали, что немцы ведут огонь с захваченного ими элеватора. Мы высадились на пологом песчаном берегу, где толпились десятки тысяч людей -военных и гражданских призывного возраста. Шли за военкомом, который пробивался к центру толпы, где находилось высокое начальство. Под открытым небом стояли столы, на них разложены бланки списков. Наш полковник подошёл к комдиву (на петлицах по одному ромбу) и доложил о своей явке в сопровождении четырёх молодых красноармейцев. При этом показал на нас. Комдив ему заявил, что мы выходим из его подчинения, а он сам отправляется по указанному назначению, которое тут же получил. Полковник пытался что-то сказать, но комдив сказал резко: "Товарищ полковник, отправляйтесь немедленно, куда вам предписано!". На этой площади было много отставших от своих частей во время отступления, много получивших приказ явиться на этот сборный пункт после расформирования различных военных учреждений, а также десятки тысяч мобилизованных. Здесь формировались различные группы, а получив письменное направление, сразу же строились и уходили на восток. Вскоре из рупора раздалась команда, чтобы собрались все те, у кого есть на руках документы об образовании: высшем, неоконченном высшем и среднем - все они включаются в дивизию КВУ (кандидатов в училище). Отобрали несколько десятков человек, которым вручили бланки, чернильные карандаши, и они стали регистрировать людей, проверяя документ об образовании. Работа прошла быстро и оперативно.
Нас распределили по отделениям, взводам, ротам, батальонам и полкам - всего пятнадцать тысяч человек. Все одеты в гражданское. В роте чуть больше трёхсот человек и командует ею капитан, вооружённый револьвером. На роту выделена одна винтовка с тремя обоймами по пять патронов в каждой.
Роте придана походная кухня с парой лошадей.
Вся дивизия построена в виде буквы "П". Полковник, которому поручено нами командовать в походе, приказал прямо на ходу назначить командиров отделений, помощников командиров взводов, командиров взводов и старшин. Каждому надлежит находиться в строю в том месте, которое будет указано. Походная колона по четыре в ряд. Каждый должен знать фамилии трёх человек своего ряда. Движение будет происходить ротными колонами. Никто не имеет права выходить из строя без разрешения. Пятиминутный отдых после часа движения. Передвижение производится под покровом ночи. Питание одноразовое, состоящее из одного блюда с хлебом. Посуда и ложки собственные. Одно ведро борща или супа на двадцать человек. Отдых в светлое время суток в лесочках или рощах, чтобы немецкие самолёты не засекли. И начался наш поход по пути отступления на восток. Я и мои знакомые по Херсону в одном отделении, в одной шеренге. Большинство не имеют никаких вещей. Рюкзаки, ложки и кружки у всех, как указывалось в мобилизационной повестке. Еды почти ни у кого нет, за исключением тех, кто мобилизован день или два тому назад из сёл. Все городские не имели никакой еды. "Сидорники" (по-украински "сидор" - котомка или рюкзак, а те, кто имели в них запас еды, получали это прозвище) были очень запасливые, в их "сидорах" - сало, соль, хлеб, лук, с ними они не расставались ни на минуту. Они быстро обрастали "ассистентами", которые за подачку съестного тащили "сидор" вместо хозяина. Как только начинало темнеть, мы выходили на дорогу и двигались до рассвета. Останавливались в местах, где можно было замаскироваться, и сразу засыпали. Около двух часов дня нам выдавали эмалированное ведро с густым супом или борщом, чуть больше полкилограмма чёрного хлеба и кусочек сахару. Командир отделения сам раздавал пищу и наливал в ту посуду, которую ему подставляли, а разливал он пол-литровой кружкой. В мою кружку не входило пол-литра, и мой командир отделения меня жалел. Но что делать? Мы все испытывали постоянный голод и в то же время терпели жажду из-за хронической нехватки воды. Я стал присматриваться и прислушиваться к военнослужащим (КВУ) отделения и взвода. Не мог и не стремился знакомиться с КВУ других подразделений, хватало своих восьмидесяти во взводе.
Мой статус красноармейца должен был регламентироваться уставами и приказами командиров, но в неразберихе отступления мы представляли не воинское соединение, а толпу. В этой толпе кадровые военнослужащие составляли ничтожное число в составе дивизии, потому что оно только числом личного состава соответствовало военному соединению. Временному воинскому соединению не соответствовали штатное расписание, военная подготовка, обмундирование, снаряжение, транспорт и вооружение. Оно было создано с целью вывести в тыл пятнадцать тысяч человек, из части которых предполагалось подготовить будущих командиров. Я хорошо запомнил структуру дивизии КВУ. Командиром дивизии был полковник, в этом же звании - начальник штаба и заместитель по тылу. Полком командовал также полковник, начальник штаба полка - подполковник, заместитель командира полка по тылу - подполковник. При штабе три писаря. Батальоном командовал майор, начальник штаба - капитан и два писаря. Ротой командовал капитан и в его распоряжении старшина и писарь. Взводами и отделениями командовали назначенные для этого красноармейцы. Помню структуру штата той дивизии: в дивизии три полка, в полку четыре батальона, в батальоне четыре роты, в роте четыре взвода, во взводе четыре отделения. Именно поэтому можно легко определить количество кадрового состава: во главе дивизии три полковника, во главе полков три полковника и шесть подполковников, во главе батальонов двенадцать майоров и двенадцать капитанов, во главе рот сорок восемь капитанов и столько же старшин. Кадровых командиров было чуть больше двухсот, а назначенных чуть больше девятисот. В дивизии насчитывалось сорок восемь походных кухонь и в два раза больше поваров и их помощников. В каждом полку - врач и медицинские сёстры. Дивизия имела около двадцати верховых лошадей и обоз гужевого транспорта. Двигались мы медленно (не более четырёх километров в час), колонна дивизии растягивалась почти на пять километров. Движение осложнялось ночной темнотой, внезапными остановками в ожидании доклада разведки головного отряда. Впереди роты шагал её командир, а сзади - старшина роты. На каждой остановке командир отделения докладывал о наличии своих подчинённых командиру взвода, командир взвода - командиру роты и так далее. Почему же был такой жёсткий контроль за личным составом? Дивизия не выполняла тактические или оперативные задачи - она выполняла стратегическую задачу сохранения кандидатов в командиры. Поэтому в каждой шеренге из четырёх человек был старший, и каждый обязан находиться только в своей шеренге, на своём, одном из четырёх мест. Люди живые и потребности у каждого свои. Удовлетворение этих потребностей (отдых в походе, сон и приём пищи) вы-полнялись по команде. Сложнее обстояло дело с отправлением естественных нужд - у каждого свои особенности. Только и слышишь: "Разрешите оправиться!" - и ответ старшего шеренги - "Потерпите! Скоро привал". Чаще всего старались воздерживаться, случалось, что человеку уже невтерпёж... Старший шеренги иногда брал на себя ответственность и отпускал просившегося, но чаще всего решал командир отделения (в отделении пять шеренг). Была ещё одна проблема - сонливость. Особенно перед рассветом клонило ко сну, и многие засыпали на ходу. Можно было заметить, как кто-нибудь отклоняется от колонны и падает в кювет - заснул и упал, не просыпаясь. Чтобы такого не случалось, один из четырёх бодрствовал, а все, держась за руки, спали на ходу. В течение дня успевали выспаться, оставалось свободное время, которое заполнялось беседами. Темы бесед сводились в основном к семье, родному селу, женщинам и "победам" над ними, пикантным историям, грязным анекдотам о евреях (чаще "жидах") с их комплексом отвратительных качеств (хитрые, жадные, обманщики, аферисты, воры, неряхи, глупые, неумелые, трусливые). Особенно злобно изощрялся один мой одногодок. На второй день, после ночного похода, когда мы шли из Цюрупинска на Новую Каховку, впервые в жизни услышал я открытые антисемитские высказывания, которые всеми выслушивались спокойно, обыденно. Ни один из участвующих в "трепотне" не возмущался грубой насмешкой над народом и злыми измышлениями о нём. Все это воспринимали, как неоспоримое мнение всех присутствующих. Им и в голову не приходило, что среди них есть кто-то, кого возмущают такие высказывания. Я не сдержался и обозвал главного ненавистника евреев, Брехова, антисемитом. На меня некоторые посмотрели с удивлением.
А Брехов взвился: "Чего ты заступаешься за этих жидов?" .
Я объяснил, что мне, еврею советской страны, обидно выслушивать эту ложь о моём народе. Когда они услышали мою слегка картавую речь, стали переглядываться, а один из них, интеллигентного вида человек, сказал Брехову, что надо уметь выбирать слова и тему для разговоров. Сразу раздалось несколько голосов в защиту Брехова, что он, мол, говорит известную всем правду. Интеллигент махнул рукой и отвернулся. Наверно, он понимал, что бесполезно вести спор с этими людьми, тем более, что это всё не касается его лично. Я остался один на один с людьми, которые ненавидят мой народ, а значит, и меня. На следующий день, возле Каховки, Брехов снова развёл свои антисемитские бредни. Я от него потребовал прекратть провокационные разговоры. Но он не унимался, продолжал меня дразнить. Я подошёл к нему вплотную, а сам чувствую, что стал бледным (характерная черта, моя и моих братьев в стычках с обидчиками) - знак, что пущу в ход кулаки, что готов сцепиться не на жизнь, а на смерть. Он был моего роста и физически не слабее меня. Он толкнул меня в грудь правой рукой, и тут всё началось: я обрушил на него град ударов по лицу, по корпусу и парировал все его попытки нанести мне хотя бы один удар. Его дружки набросились на меня и очень больно выкручивали руки. В этот момент появился командир взвода, меня отпустили. Разбор был коротким: он заслушал "усмирителей", которые говорили, что я ни с того ни с сего набросился на Брехова. Потом он выслушал "пострадавшего". Когда он велел мне рассказать свою версию, мне трудно было говорить - меня душила ненависть. Но я рассказал, а он спокойно слушал. После этого он на меня посмотрел и выговорил: "Больше не сметь драться, а тем более из-за каких-то случайных слов". Я понял, что командир взвода, как и его помощник, который присутствовал при этом инциденте с начала до конца, заодно с Бреховым. У меня были ещё две стычки, но заступники Брехова при этом набрасывались на меня, а командир отделения делал вид, что ничего не видит. Если первый раз им было интересно наблюдать драку, то в последующих двух, зная что я побью Брехова, не давали мне его проучить, но очень больно подворачивали мне руки. Я понял, что всех антисемитов мне не наказать и прекратил драки. Во время этих разговоров я демонстративно отходил в сторону. Но драки мне сослужили хорошую службу: до конца нашего отхода в тыл никто не смел меня задеть. И на том спасибо. Если мы проделали путь от Цюрупинска до Каховки за две ночи, то до Мелитополя шли четыре, оставив позади ещё и Новую Каховку. Начались потери и в нашей роте. Комбат (командир батальона) стал чаще проверять колонну во время ночного марша, сидя верхом на кавалерийском коне. Командир роты во время обеда обходил взвода и предупреждал о наказании за дезертирство в военное время - расстреле. Но эти угрозы не помогали. Если бы мы были в военной форме, возникали бы трудности с переодеванием в гражданскую одежду. А так желающему убежать достаточно было в темноте отойти на несколько шагов и уже никто не мог его заметить. Погоню за дезертирами невозможно было организовывать. Особенно убегали сельские жители, а также новоявленные городские. Коренные городские жители почти не дезертировали.
Я много наслышался об обидах колхозников на то, что работают почти бесплатно и в город уходить они не могут без специальной справки председателя колхоза, заверенной председателем сельсовета. Рассказывали о голодных годах, особенно о голодном 1933 годе, когда отмечались случаи каннибализма. До Осипенко (Бердянска) мы шли три ночи через Приазовск, Приморск и остановились на рассвете, на песчаном берегу Азовского моря. Вдруг все командиры забегали, раздалась команда строиться в колонны. Мы прошли ещё несколько километров и расположились в каком-то чахлом лесочке. Все смертельно устали и сразу же заснули после команды "разойдись". Обедали уже перед заходом солнца. Когда построились, нам объявили, что мы должны вернуться в Мелитополь. Возвращались мы в течение трёх ночей через Приморск, Приазовское и за это время не случилось ни одного дезертирства. Пронёсся слух, что нас будут переодевать в военное обмундирование, дадут оружие. На рассвете мы поднимались к окраине Мелитополя. Слева от дороги увидели стадо коров - погонщики доили их прямо на землю. Кое-кто умудрялся подставить свою кружку и тут же выпивал парное молоко. Справа от дороги тянулась бахча, особо шустрые ребята успевали сорвать арбуз-другой, а потом съедали уже в строю вместе со своими товарищами по шеренге. Надо сказать, что в нашей шеренге не было нарушителей дисциплины, трое ребят из Херсона относились ко мне вполне уважительно. Я ни разу не слышал от них антисемитских высказываний - ведь мы уже столько ночей, под утро, шли в обнимку спящими. Спали всегда рядом, обедали тоже вместе. На Брехова я перестал обращать внимание, игнорируя его и его высказывания. Когда мы поднялись на вершину возвышенности, я увидел пару лошадей, тянувших подводу с эвакуированными. Эта картина знакомая, но... кто же это? Шифра! Вместе с ней вся её семья. По всей вероятности, когда лошади должны были начать спуск, все расположились на подводе. Я позвал Шифру и тогда подвода остановилась. Произошла необычная встреча - я и бывшие соседи на чужбине. Вид у меня не очень боевой: в костюме, который мне сшили к окончанию десятого класса, босой, а полуразвалившиеся туфли, связанные между собой, переброшены через плечо. Отец Шифры, Мойше, предложил мне поехать вместе с ними, а на мой ответ, что я уже красноармеец, сказал, что это ничего не значит, если я не обмундирован и не вооружён. Я ответил отказом. Мне дали кусок мамалыги и мы простились. Вся встреча продолжалась не более пяти минут. Я стал догонять свой взвод и вскоре занял своё место в шеренге. Мы не входили в город, а остались на окраине - возвышенность, на которой редко росли деревья, среди которых возвышались пирамидальные тополя. Именно тополя вызвали поток воспоминаний о родном крае - вспомнилась аллея пирамидальных тополей возле совхоза Дзержинского на отрезке дороги, ведущей на Тирасполь. После сна и обеда, когда солнце клонилось к закату, построили роту и сообщили нам, что приступаем к принятию присяги, а со следующего дня начинается наше обучение. Между двумя тополями установили два стола, на каждом лежал текст присяги, а также список для росписи в принятии её. Я ощущал какую-то внутреннюю торжественность, идущую от сознания важности события, от душевного чувства неизменной преданности своему долгу.
Мне казалось, что возношусь в слои чистых человеческих взаимоотношений, где уже не будет места злобе во взаимоотношениях. Я даже был готов простить Брехову, когда он оказался в нашей маленькой группе подписывавших присягу кровью. В этой группе находился один мужчина в возрасте около тридцати лет. Я знал о нём, что он житель Николаева, учитель математики. У него был острый перочинный ножик, которым делался надрез на пальце. Подписывались чернилами, рядом прижимали палец с выступившей на нём кровью. Меня удивило, что у Брехова, моего врага, проявились сходные с моими чувства. Надо сказать, что он прекратил свои антисемитские высказывания в моём присутствии. Занятия сводились к изучению уставов, приёмам штыкового боя. Строевой подготовкой не занимались. Так продолжалось в течение целой недели, после чего возобновились ночные марши на восток. Прошли уже знакомые Приазовск, Приморск, Бердянск ("Осипенко" упорно продолжали называть Бердянском, к названию которого привыкли за сто лет, а "Осипенко" - только с 1939 года). Потом был Мариуполь, где ещё продолжали работать доменные печи, Новоазовск. Наконец, оказались в Таганроге. Ночью довольно прохладно, а я выбросил свои туфли. Хожу босой и ступни стали, как копыта, царапины на ногах. В Таганроге меня удивила тишина, почти не видно людей на тех улицах, по которым мы проходили. Нам заявили, что будем передвигаться не ночами, а днём. Если раньше мы не высыпались из-за ночных походов, то сейчас нельзя было спать из-за ночного холода. Как бы не ложился, я не мог защитить своё тело от холода. Сворачивался калачиком - спина мёрзла, ложился на спину - мёрзли колени и грудь. Старался не сдвигаться с того клочка земли, который мне казался отогретым. Очень плохо бывало, когда дул ветер - зуб на зуб не попадал. Утром уже случались заморозки, а потом, уже днём, приходилось шагать по замёрзшей колее, по лужицам, покрывшимся ледяной плёнкой. Если бы не добрались в тот день к конечному пункту, мы бы околели от холода - ведь все одеты по-летнему. Днём, 7 октября 1941 года, мы пришли в казачий лагерь в районе Белой Калитвы. Лагерь летний, военный городок представлял собой обширную территорию на склоне возвышенности, на которой раскинулись тысячи палаток для личного состава. Тут же находились здания штаба, столовой, бани, санитарной части с лазаретом и десятки громадных складских помещений. Впервые, за три с лишним месяца, мы искупались в бане, нам выдали обмундирование, ботинки с обмотками, будёновский шлем. Вооружили трёхлинейной винтовкой с гранёным штыком, плюс два подсумка и по три обоймы патронов в них, малая сапёрная лопата, вещевой мешок, полотенце, котелок, ложка. Стали кормить три раза в день, спали мы в хорошо оборудованных палатках, на матрацах с подушками, набитыми соломой, в спальном комплекте ещё две простыни и наволочка, одеяло. Начались регулярные занятия, к которым мы относились с большим рвением. Даже дождь не становился помехой. Осенние дожди нудные, мелкие и холодные. Так продолжалось целую неделю. Как-то ночью была объявлена тревога, всем выдали дополнительно комплект одежды, включая бушлат, триста патронов, четыре гранаты, по две булки хлеба, селёдку и кусок сахару. Нас опять построили в привычные колонны, и начался марш-бросок. Когда мы отошли на километр от лагерей, начали взрывать склады и здания. От дождей дорога размокла, а транспорт так все размесил, что уже легче было идти по полям. Оттого, что на каждом из нас двойной комплект одежды, было жарко, бельё не высыхало от пота, а два бушлата намокли от дождя. На ногах налипала грязь, когда шли полем, а на дороге ноги скользили, расползались, мы часто падали. Намокшая одежда стала такой тяжёлой, что все изнемогали от усталости и буквально падали, когда объявляли привал. Приказ - совершить марш-бросок из лагерей возле Белой Калитвы в Дубовку на Волге - пятьдесят километров выше Сталинграда. Расстояние, равное четырёмстам пятидесяти километрам, фактически по бездорожью под непрерывным осенним дождём, надо было преодолеть за десять суток. Лагеря мы оставили ночью, но шли только четыре часа, нам устроили привал в сочетании со сном - несколько часов. В дальнейшем переходы совершались только днём, потому что из-за дождей немецкие самолёты не летали. Два килограмма хлеба (две булки), селёдка и кусок сахара, - слишком мало еды для десяти суток, без горячей пищи, без кипятка и без нормальной питьевой воды - в основном пили из луж дождевую воду. Молодые не умеют бережно расходовать ограниченный сухой паёк, а поэтому абсолютное большинство съели всё до крошки за одну неделю. Я съел последние крошки хлеба и малюсенький кусочек сахара за день до прихода на место. Транспорта почти не было, если не считать пару двухколёсных телег с бочками воды и пяти двухколёсных карет для больных. Весь этот транспорт шёл в голове колонны. Трое ребят, с которыми я шагал от Херсона в одной шеренге, с которыми спал в одной палатке, пропали в ночь, когда оставили лагерь. Из нашего взвода ещё раньше дезертировали шесть человек. Я думаю, что в других взводах потери были примерно такими же - дезертиры составляли от одной восьмой до одной седьмой первоначального числа личного состава нашей дивизии. Это ещё терпимо.
Когда я ещё не был зачислен в армию, а только стремился стать военнослужащим, часто встречал солдат и сержантов, которые бежали из частей, стремясь домой. Даже был случай, когда один капитан предлагал поменяться одеждой. Я ему, естественно, отказал, а он истолковал мой отказ со своих позиций: "Ну да, ты же не хочешь, как и я, попасть немцам в военной форме". Встречал наполовину переодетых военнослужащих, дезертиров из Красной Армии, в гражданской одежде. Мы уже прошли больше половины пути, и среди нас не оставалось ни одного человека, который бы не измотался вконец. Откуда у нас, голодных, неуклюжих из-за двойного обмундирования, постоянно мокрых, брались силы, чтобы утром подняться и снова продолжать путь? Не знаю... Мы уже прошли Калач и оказались между левым берегом Дона и правым Волги. Участок пути в пятьдесят километров преодолели из последних сил. Я положил рядом винтовку и вещевой мешок, лёг и заснул на склоне поля мёртвым сном, под непрерывным дождём. Утром, когда нас подняли для построения в колонну, я обнаружил под собой глубокую промоину. Дождевая вода стекала подо мной ручейком и размыла почву, а я продолжал спать. Я боялся, что подведёт больная нога, как это случалось дважды перед войной, но судьба, видно, меня берегла, если я с 16 июля до 24 октября прошёл пешком от Дубоссар на Днестре до Дубовки на Волге. Три месяца я мерил дороги трёх республик. К Дубовке мы подошли утром, первый мороз сковал мокрую землю. Когда входили в город, слева от дороги оказалось большое поле с капустными кочерыжками - головки уже убрали. Мы ринулись на это поле и вмиг кочерыжки были вырваны из мёрзлой земли. Кое-как обтёр от глинистой почвы и стал грызть. Почему-то, впереди идущие не догадались подобрать такую "ценную" пищу. Вскоре мы оказались на территории горчичного завода, где в двухэтажном каменном здании были устроены трёхэтажные деревянные нары из нестроганых досок. Каждому определили место на нарах, на которых оставили вещи, и нас повели к походным кухням формирующегося сорок пятого стрелкового корпуса. Кухни стояли на площади, где почва истоптана солдатскими ботинками и сапогами, сюда приходили три раза в день получить положенный паёк, съедаемый тут же. Мороз сковал это месиво, а под нашей обувью оно стало таять. Вскоре вся площадь покрылась тонким слоём жидкой грязи. Но это не беда.
В котелок каждый получал горячий гороховый суп из концентратов, а в крышку котелка - кашу с кусочком мяса, пайку хлеба. Боже мой, как вкусно это всё было и как быстро мы справлялись с едой.
Сразу после этого нас отправили в баню, где мы сдали две пары обмундирования и бельё, а взамен нам выдали: две пары белья, обычного и тёплого, летние и зимние портянки, ватные брюки и фуфайку, обычное обмундирование, солдатскую шинель. Нам также выдали вязаные подшлемники и меховые рукавицы. Оставили будёновки и ботинки с обмотками. Каждому выдали индивидуальный перевязочный пакет, бумажный пакет с порошком для обогрева (если его смешать с водой происходит химическая реакция с выделением тепла), а также пластмассовый миниатюрный пенал, в котором был вкладыш с основными демографическими и воинскими данными фронтовика. Хранить его надо было в карманчике брюк, который почему-то называли пистоном. По этим данным определяли погибшего и отправляли извещение о его гибели по указанному в бумажке адресу. У меня возникла проблема с указанием адреса, потому что Молдавия оккупирована, а где находятся родные, мне не известно. И тогда я вспомнил о полученной открытке сразу после освобождения Бессарабии, от дяди Моше (родного брата мамы), проживавшего со своей семьёй в бухте Тикси. Я указал этот адрес на имя Шапошника Моше. Больше того, я написал им открытку, рассчитывая на то, что и другие наши родственники туда напишут, чтобы установить связь. Спали в неотапливаемом помещении прямо на досках - без одеял и подушек. Вещевой мешок и обувь ставили под голову, шинелью укрывались. Теснота на нарах такая, что лежать можно только на боку, а повернуться можно, если и соседи поворачивались. Меня определили в учебную батарею, в которой изучали премудрости командира миномёта. Учёба, рассчитанная на три недели, шла интенсивно.А надо было изучить подготовку данных для стрельбы по целям прямой наводкой и из закрытой позиции, материальную часть трёх миномётов (ротного - калибра 50 мм, батальонного - 82 мм и полкового - 120 мм), прицел и буссоль. Нас обучали, как выбирать огневую позицию и наблюдательный пункт, как отдавать команду для ведения огня и его прекращения. Выпал снег, морозы крепчали, а мы проводили весь световой день в поле. Ротный миномёт лёгкий, из него ведут огонь прямой наводкой, поэтому на него был потрачен один день занятий и в тот же день - стрельба боевыми минами. На батальонный миномёт, также переносной, потратили двенадцать дней, потому что из него стрельба ведётся уже из закрытых позиций, а поэтому требуется больше знаний. Он переносился двумя членами миномётного расчёта: труба с прицелом - один человек, и плита - один человек. Этот миномёт ещё называли ранцевым, потому что плита переносилась, как ранец, на лямках за спиной. Полковой миномёт назывался колёсным, его по штату перевозят с помощью двух лошадей или крепят к крюку механической тяги. Но у нас не было ни лошадей, ни машин, ни тракторов, а потому мы втроём, впрягаясь в лямки, волокли его, то шагом, то бегом… В один из дней нас построили и повели не на полигон, а к речному вокзалу, у причала которого стояла большая баржа с мукой. Волга уже стала, покрылась льдом, а у баржи появилась течь. Нашу батарею привели к причалу баржи и приказали выгрузить её, относя мешки с мукой на берег. От баржи до берега надо идти по льду пятьдесят метров, с баржи можно спуститься только по трапу, который посыпали песком против скольжения. Мы сняли с себя шинели, фуфайки, будёновки и началась разгрузка. На барже поворачивался спиной к двум укладывающим на спину мешок с мукой и спускался по трапу на лёд реки, который тоже догадались посыпать песком, а на берегу двое других снимали ме-шок с моих плеч и укладывали на земле. Обратно надо было возвращаться бегом, и так до захода солнца. Муку с баржи мы спасли. Работало нас триста человек, и каждый примерно перенёс около семидесяти мешков. На следующее утро, после завтрака, мы продолжали тренироваться в занятии и оставлении ОП (огневой позиции) для 120-миллиметрового миномёта. По сравнению с разгрузкой баржи, перевозкой миномёта втроём, это казалось лёгким делом. После трёх недель пребывания в Дубовке нас подняли по тревоге ранним утром, выдали сухой паёк (сухари, консервную банку тушонки и кусок сахара - паёк на три дня). Светило солнце, но дул встречный холодный ветер, усиливающий действие мороза. Как ни старался укрыть лицо от пронзительного холода, мне это не удавалось. Часто приходилось растирать нос и скулы, чтобы не отморозить их. Мы находились в походе весь день, вечер и только к полуночи пришли на территорию тракторного завода. У нас не было винтовок, но у каждого по четыре гранаты, два пустых патронташа, малая сапёрная лопата и стеклянная фляга (это всё висело на ремне), противогаз в сумке и вещевой мешок, в котором котелок, кружка, ложка и полотенце (у меня ещё была бритва, помазок, зеркальце, ложка Шики, книжка Пушкина с двумя фото-графиями Мойше и Натана, а также аттестат и грамота отличника). Ночь провели в большом пустом ангаре, где холод стоял такой же, как на улице, но зато без ветра. Рано утром подали эшелон теплушек, оборудованных для перевозки людей: двухъярусные нары, чугуная печка с прямой вытяжной трубой. Вагоны двухосные, а значит, рассчитаны только на сорок человек, однако втиснули по пятьдесят. Вместо маневренного паровоза, который притащил эшелон, прикатил обычный паровоз. Провели ещё одну перекличку и проверку по вагонам, прозвучал гудок паровоза и эшелон начал двигаться в сторону фронта. Двигались с частыми и длительными остановками. Опять питались сухим пайком (сухари, мясные консервы-тушенка и сахар), а на остановках выбегали за кипятком. Трое суток тащились в вагонах, где главной проблемой становилось отправление естественных надобностей. Ночью мы прибыли на станцию Старый Оскол, а оттуда, уже в пешем строю, продолжали двигаться к передовой.
В секрете держался конечный пункт прибытия.
НА ПЕРЕДОВОЙ
Я шёл в приподнятом настроении и, если бы умел петь, то запел бы тихонько. Восторженно заговорил с соседом своей шеренги, старше меня лет на десять. Мужчина плотный, ниже меня ростом, лицо круглое со щёточкой усов над верхней губой. В вагоне он отрекомендовался: "Жора из Ростова, сын казачий - х.. собачий". Он производил впечатление весёлого балагура и решительного смельчака. Рассказывал о своей братве и какой грозой они являлись в Ростове. Он гордо заявлял, что уже понюхал пороху на фронте, а после отступления попал к нам в батарею командиров миномётов. Он был единственным фронтовиком в нашем вагоне и потому я относился к нему с уважением. Когда мы приближались к передовой, находясь с ним рядом в одной шеренге, я старался подчеркнуть своё уважение к нему, а он это воспринимал, как должное. Именно перед ним я восторженно изливал свои чувства удовлетворения тем, что окажусь на передовой командиром миномёта. Но, оказавшись на передовой, он стал сникать, а потом с раздражением пытался сбить мой восторженный тон. Он заговорил с волнением и в его голосе слышался страх. -" Ты думаешь, мы на прогулке или на посиделках? Чем ты восторгаешься? Возможно, первая же пуля убьёт или ранит меня или тебя, а может нас обоих". На моё замечание, что знаю о таком исходе, но я готов ради Родины погибнуть, если понадобится, он продолжил:- " Вот, вот, именно "погибнуть". Ты думаешь, немец слаб и дурак? Вступим в бой, и твой героизм сразу пропадёт. Вспомнишь мои слова: сто раз на день будешь молить Бога о спасении и просить мамочку о защите. Моя весёлость и смелость в вагоне объясняется только тем, что до передовой ещё было далеко. Сейчас я не хочу испытывать судьбу и только молю Бога, чтобы ранило меня, может тогда останусь живой". Я не могу утверждать, что передал слово в слово его тираду, но суть и манеру высказываться сохранил. Перед рассветом мы прибыли в село Красное, где располагался штаб соединения.
Нас осталось тридцать пять командиров миномётов, а остальных направили в другие соединения. Майор, старший нашей группы, долго не выходил, а мы стояли на холоде и ждали. Наконец, он вышёл и сказал: "Вас направляют в 1051 стрелковый полк, который находится в десяти километрах отсюда". Шёл разговор, что полк находится на стыке двух рай-онов - Обоянь и Прохоровка, в селе Красное. В какую дивизию входит полк не говорили, но часто упоминали 21 армию. Мне кажется, что я умышленно не хотел знать такие данные, чтобы даже под пытками, если попаду в плен, не выдать врагу эти сведения. Мне также помнится, что в Дубовке формировался сорок пятый корпус, входящий в состав Юго-Западного фронта. Мне не были известны фамилии командиров выше роты. Нам дали проводника, старшего сержанта, из полка, куда нас направили. Мороз стоял такой сильный, что ноги стыли даже во время движения. Ботинки с обмотками не могли уберечь ноги, даже обмотанные летними и зимними портянками, от холода. Впервые в жизни я почувствовал, что такое настоящий мороз. Ночь выдалась звёздная, а снежный покров помогал видеть на расстоянии двадцати метров. Накатанная санями дорога была скользка и свободные руки помогали балансировать. Мы ведь прибыли без винтовок, рассчитывая, что получим их до прибытия на передовую, но их не оказалось. Когда пришли в село и остановились у дома, где располагался штаб полка, вышёл старшина и от имени командира полка приказал старшему сержанту расположить нас на ночлег в тех домах, где это ещё возможно. Я оказался в доме, где весь пол был занят спящими красноармейцами и еле втиснулся, чтобы лечь на боку. Раздавался храп с печи, на которой спали хозяева. Рано утром мы собрались возле штаба, нас распреде-лили по батальонам, ротам, взводам и отделениям. Я и Брехов попали в одну роту, но в разные взвода. Когда я доложил о своём прибытии, командир взвода направил меня в отделение, в котором было пять человек. Вместе с отделением отправились к походной кухне, где я получил полный котелок гречневой каши с мясом, наверно полкилограмма хлеба и кусок сахара. Мне налили сто граммов водки, но я стал сливать её себе во флягу. Командир отделения удивлённо на меня взглянул и спросил, почему не выпиваю сразу. Он хмыкнул удовлетворённо, когда я ответил, что выпью позже. Остальные выпили водку тут же. Я не стал спрашивать, почему такой обильный завтрак, но меня это заинтриговало. Горячие каша и чай меня согрели. Вскоре мы отправились к участку отделения, но там не видно было ни траншеи, ни землянки. Я спросил, где же наши позиции и почему не окапываемся, тогда командир отделения пояснил, что мы ведём наступательные бои, а поэтому нет смысла копать в мёрзлом грунте. Последние несколько дней полк совершал ночные атаки на немецкие позиции, а после них, когда теряли половину состава погибшими и ранеными, возвращались в это село, а ночью приходило пополнение. Нельзя было не спросить, как мне воевать без винтовки и на мой вопрос последовал ответ: "Возьмёшь винтовку убитого или раненого". Весь день мы находились в ожидании ночной атаки на занятую немцами позицию. Местные жители не покидали своих домов, а мы, военные, ютились в них в свободное от нахождения на позициях время. Практически их нельзя было назвать позициями, потому что передовое охранение находилось просто в снегу, а все остальные спасались от холода в избах. Немцы днём вовсе не стреляли, чтобы не выдавать свои огневые точки, и в их расположении не замечалось никакого движения. Расстояние между нашим селом и селом Ямы, занятым немцами, измерялось двумя километрами. Название "Ямы" только отчасти соответствовало расположению села: его меньшая часть домов была разбросана по лощине, а большая - на склоне, возвышающемся над лощиной и обращённой к нам. В дневное время немцы занимали позиции в домах на склоне и в лощине, а на ночь - только на склоне. Задача нашего полка состояла в том, чтобы овладеть этим селом. Это противостояние установилось с наступлением морозов, когда немцы прекратили своё продвижение, тогда и наш полк перестал отступать. Именно мороз остановил немцев, верхняя одежда которых была слишком лёгкой: тонкая шинель, холодные сапоги, пилотка. Немцы не просто остановились, а превратили каждый дом в укреплённую огневую точку, способную стать звеном их обороны. Под каждым домом устроили убежища в отрытых котлованах с защищёнными амбразурами для орудий, пулемётов, снайперов и автоматчиков. Таким образом, они находились в тепле, хорошо защищены. Их наблюдатели и часовые одевали сплетённые из соломы бахилы поверх сапог, обвязывали голову женскими тёплыми платками...
В нашем полку (если судить по количеству бойцов моей роты, взвода и отделения) численность живой силы была в несколько раз меньше той, которая предусматривалась по штату. В отделении было, вместе с полученным пополнением, семь человек. Пятеро имели винтовки, а у нас двоих, вновь прибывших, только по четыре гранаты РГД . Весь день мы находились в боевом охранении, сменяясь каждые два часа. В боевом охранении ни окопа, ни траншеи: всё сооружение - снежный сугроб. Бинокля нет, наблюдение вели невооружённым глазом. Мы присматривались и прислушивались, наблюдая за селом Ямы, а вернее только за частью его, расположенной на обращённом к нам склоне лощины. Часть села в лощине вообще не просматривалась. Село выглядело мёртвым, если не считать дымов из труб. Со мной рядом молчаливый красноармеец по фамилии Купер. Его фамилия мне легко запомнилась благодаря еврейскому звучанию. Он был старше меня лет на восемь и напоминал ростом и лицом моего брата Натана, старшего меня на девять лет. С Купером мы не раз бывали в боевом охранении, но он ни разу не заговорил, а на мои попытки разговорить его отвечал коротко. Не только его фамилия интриговала меня, но и спокойствие, исходившее от него. Я так и не выяснил, кто он по национальности. Спросить об этом казалось не этичным. Что я - еврей, ему было известно, потому что я об этом сказал, как только появился в отделении. Да и без того, об этом говорили моя фамилия, имя, отчество, и вдобавок ещё картавость речи.
Его звали Иваном, - это противоречило моим предположениям о его еврействе. О себе только сказал, что он городской житель, но города не назвал. Его постоянное молчание побуждало меня говорить, и я рассказывал ему о себе, о своей семье, о своём местечке. Он слушал молча, ни разу не задал ни одного вопроса. Его лицо и взгляд постоянно оставались спокойными. Мне казалось, что он никогда не смеялся и не повышал голоса. Он так и остался для меня загадкой. Жора из Ростова, "сын казачий.."., тоже превратился в молчуна, но угрюмого, пришибленного страхом. Его в боевое охранение не посылали. Командир отделения, по моим представлениям старик, был деревенским жителем, волжанином и относился к нам по отечески. У него дома осталась жена и четверо детей. Старшая в доме - девятнадцатилетняя дочь. Ещё трое красноармейцев ничем особым не запомнились, тем более что они вскоре вышли из строя из-за ранений и вместо них прислали других. Но и новые не задерживались: двое были убиты, а остальные выбыли по ранению. Жора, видимо, сошёл с ума: когда мы бывали в поме-щении, он забивался в угол и смотрел на нас глазами затравленного зверя, а оказавшись на улице, ложился на снег и прикрывал голову руками. Вскоре санитар его увёл, и больше о нём мы не слышали.
В отделении постоянными оставались только нас трое: командир отделения, Купер и я. Мелькали новые лица, но я их не успевал запомнить. Нахождение в боевом охранении стало будничным.
Я не мог свыкнуться с тем, что ничего не предпринималось для обороны на случай контрнаступления противника. Ведь кроме сторожевой службы между нашими "атаками" на позиции немцев мы ничего не предпринимали. Атака производилась ночью без какой-либо артиллерийской подготовки и поддерживали нас два станковых пулемёта - это всё, чем мы располагали из автоматического стрелкового оружия полка. В полку были ещё две 76-миллиметровые пушки образца 1927 года, на лафете с деревянными колёсами, а также один 50-мм ротный миномёт без мин. О какой огневой мощи может идти речь, если даже не хватало винтовок для стрелков! После прибытия в полк, следующей же ночью нас отправили в бой (ночная атака) без винтовок - только по четыре гранаты. В том ночном бою мы потеряли несколько человек. Мне досталась винтовка убитого, в затворе которой не оказалось выбрасывателя, приходилось выбивать шомполом стреляные гильзы. В том же бою я убедился, насколько огневая мощь противника превосходит нашу -убогую, и насколько он неуязвим. Стояла звёздная ночь, когда мы редкой цепью направились в сторону села Ямы. В дзотах (долговременные земляные огневые точки) находились немцы. Мы молча шли вперёд, и противник молчал, но как только раздалось "За Родину! За Сталина! Вперёд! Ура!", всё снежное поле осветилось ярким светом осветительных снарядов и ракет. Наши тёмные фигуры чётко выделялись на светлом фоне, и началось... Взрывались мины, свинцовым дождём поливали нас пулемёты и автоматы. Всё поле немцы заранее пристреляли. Они сидели в тёплых укрытиях и спокойно расстреливали нас, оставаясь невидимыми нам. Строчили наши два "Максима", раздавались редкие винтовочные выстрелы в сторону села. Каждый четвёртый был ранен, на снегу осталось немало убитых. Будучи освещёнными на виду у противника, ощущая свою беспомощность, мы залегли на снегу. Тут появляется начальник штаба полка. Угрожая револьвером, ругаясь площадной бранью, поднимал лежащих. Он явно был пьян. Пинал ногами, таскал за воротник шинели и даже бил рукояткой револьвера. Этими действиями всех заставил подняться и продвигаться в сторону села. Однако даже пьяный начальник штаба полка, поняв бессмысленность этой "атаки", перестал усердствовать. Мы сами вытаскивали раненых с освещённой части поля боя. Санитары стали вывозить раненых, а потом и убитых. Несколько дней после этого мы только дежурили в боевом охранении. Когда прибыло пополнение, к нам в отделение направили четыре человека, мы снова стали семёркой. В ближайшую ночь вновь пошли в атаку. Для меня эта атака уже была пятой. Она запомнилась потому, что за четыре часа до неё меня и Купера вызвали в штаб полка и начальник разведки приказал пробраться в дома, расположенные в лощине, чтобы выявить, есть ли там немцы или они оттуда ушли, как это делали в последнее время. Купер выслушал спокойно, повторил приказ (он был старшим) и мы отправились на задание. На период выполнения задания командир отделения поменялся винтовками со мной. Мы оставили красноармейские книжки, пластмассовые пистоны с уложенными в них личными данными, противогазовые сумки, вещмешки, фляги. Сапёрные лопатки взяли с собой как холодное оружие. Помимо винтовки с пятью патронами у нас имелось ещё по две гранаты. Мы вышли без шинелей, в белых маскировочных халатах. Если не попасть в зону, освещаемую ракетами, то время от времени можно пробираться незамеченными в лощину. Мы передвигались перебежками, а как только взвивалась ракета, тут же падали в снег. Расстояние до села преодолевали относительно долго из-за частых осветительных ракет. Немцы периодически стреляли из пулемётов трассирующими пулями по полю перед селом - оно было пристреляно. Огонь они переносили с участка на участок, поэтому мы продвигались по тем местам, которые только что обстреливались. Наше передвижение походило на бег зайца, стремящегося запутать след. Мы не произносили ни слова, но действовали вдвоём, как один человек. Меня снова и снова убеждала мысль, что вероятность погибнуть на передовой значи-тельно больше у ленивого и труса: ленивому не хочется трудиться, а трус боится двигаться. Я не встретил ни одного человека, который бы не боялся. Разница между смелым и трусом заключается в том, что первый боится, но не теряет голову, обдумывая каждое движение, а трус в страхе не способен думать. Оказавшись у дома на левом краю лощины, мы очень осторожно передвигались вдоль стен, прислушиваясь к любому шороху. В дверь постучал я, а Купер следил за ней, держа винтовку наготове. Раздалось старческое кряхтение, кто-то приблизился к двери, а затем послы-шался перепуганный шёпот: "Кто там"? - После моего ответа "свои", раздался звук откинутой щеколды и дверь приоткрылась. Мы не задерживались, а только выяснили, что немцы, находившиеся у него целый день, ушли, как и из других дворов. Мы решили проверить ещё два дома в середине и дом со второго края. Всё повторилось, как у первого дома, но открывали двери не мужчины, а женщины. Немцев в домах лощины не осталось, и с этим известием мы вернулись в штаб полка, где Купер доложил начальнику разведки о выполненном задании. Он сообщил, что проверены четыре дома на выбор и повсюду получали один и тот же ответ: "Немцы были, но с темнотой все ушли". Вернули маскхалаты и отправились в отделение. У нас ещё была возможность поспать два часа, что и не преминули сделать. Вскоре нас подняли, мы заняли места в цепи для продвижения в сторону села Ямы. Было около пяти часов утра, когда начали продвигаться перебежками. На этот раз тихо, без "ура", молча и противник молчал. Так мы добрались до спуска в лощину. Когда двигаются два человека осторожно, они могут не выдать себя звуком, а когда продвигаются около трёх сотен человек, всегда найдутся растеряхи, которые зазвенят котелком, кашлянут, произнесут слово. Наверное, немцы расслышали в тишине ночи подозрительные звуки - вдруг взвились десятки ракет и осветили нашу цепь. Вслед за этим зависли осветительные снаряды и стало светло, как днём. Мы были встречены сильным огнём пулемётов и автоматов, а вслед за этим посыпались мины и дождь из осколков засвистел. Пришлось залечь. В небе постоянно висели осветительные снаряды и любое движение в нашей цепи немцы замечали. Появились убитые и раненые. В ту ночь наступила оттепель и пошёл снег с дождём. Шинель и будёновка промокли.
Под утро опять ударил мороз. Шинель и будёновский шлем замёрзли. Полы шинели не гнулись, превратившись в ледяные листы. Когда я приседал или ложился, полы шинели стояли, как щиты. Разорвалась рядом мина, и её осколки изрешетили полы шинели. Из-за лощины появились немцы с автоматами, ведя беспрерывный огонь веером. Они не прицеливались, держали автоматы на уровне живота, как это делают пожарники, заливая пламя водой из пожарных рукавов. Это была первая встреча с немцами в открытом бою. Нам надо было перезаряжать винтовку после каждого выстрела, а после таких пяти выстрелов надо было вставлять обойму с пятью патронами и выдавить их в магазин винтовки. Немцы же вели автоматический огонь. Мы не выдержали их шквального огня и стали отступать, оставляя убитых и раненых. В этой атаке мы потеряли больше половины атакующих ранеными и убитыми. Немцы не стали нас преследовать и мы вернулись назад в село. Мы также вернулись на поле, политое кровью товарищей, чтобы вынести раненых и мёртвых. После этой атаки мы несколько дней не имели возможности что-либо предпринять против немцев. В этом бою были ранены командир отделения и двое из пополнения. Я и Купер, а также двое новичков вышли невредимыми. Мы опять получили довольно большое пополнение, и отделение уже насчитывало девять человек. Прошло неско-лько дней пока полк оправился. Получили назначения новые командиры вместо выбывших в последней атаке. Среди пяти новеньких нашего отделения ни один не моложе тридцати лет. В отделении я самый молодой. В сентябре мне исполнилось восемнадцать лет, а последняя атака проводилась на Новый год. Пришёл к нам во взвод командир роты, когда мы обедали в лощинке, где располагалась ротная кухня. Командир взвода нас построил и тогда ротный объявил о назначении нового помощника командира взвода, а меня - командиром отделения. Странно и непонятно: Купер старше меня на восемь лет, ветеран нашего отделения (он раньше меня прибыл в отделение), смел, спокоен, решителен, а выбор пал на меня. Какая-то тайна витала над Иваном Купером. Приказ есть приказ, я стал командиром отделения. Старался сохранить добрые традиции нашего бывшего командира, который заботился по-отцовски о подчинённых. Ввиду того, что водку я не пил, продолжал отдавать свою порцию сослуживцам. Собирал литр водки, сливая ежедневную норму во фляжку, а потом всё делил поровну на всех. Строго следил за тем, чтобы равномерно распределять дежурства в боевом охранении. Свою винтовку я уже давно сменил на исправную, но был одет по-прежнему хуже всех. Из тридцати пяти командиров миномётов, в числе которых я прибыл, к нам в роту тогда попало десять человек. Мы выделялись будёновскими шлемами и ботинками с обмотками. Все остальные носили шапки-ушанки и кирзовые сапоги. У всех были подшлемники и меховые рукавицы. Чтобы стрелять надо было обязательно снимать правую рукавицу. Голая рука прилипала к металлу. У всех появились "пятачки" на скулах от мороза. У некоторых были отморожены руки, ноги при длительном нахождении на морозе. Стоять без движения было опасно, а когда сидели или лежали всё равно ударяли ногу о ногу. Некоторые ленились придерживаться этих известных приёмов, включая похлопывания руками по телу. Самое страшное - заснуть, находясь в боевом охранении на посту, когда не всегда можно делать движения. Поэтому дежурили попарно и следили друг за другом, предупреждая, если белели скулы или нос, будили засыпающего напарника. Хуже приходилось раненым - они не только теряли кровь, но и обмораживались. Часто ранение сопровождалось обморожением. Но встречались и такие, которые специально обмораживали себе руку или ногу. Были и "самострелы", а некоторые стреляли друг в друга по договору. Таких, если выявлялись, судили военным трибуналом. Не обходилось и без дезертиров. Мы находились близко к Сумской области, и дезертиры из украинцев уходили туда. Очень высокий процент "самострелов" отмечался среди калмыков.
Вновь пошли ночные атаки, которые кончались, как всегда, большим количеством убитых и раненых с нашей стороны, а немцы оставались неуязвимыми. Я не мог понять командиров, которые с упрямством маньяков посылали нас на верную смерть уже второй месяц. Неужели они не способны осмыслить, что такая тактика ведения боя никогда не приведёт к победе? До того, как я прибыл в полк, проводились по две дневные атаки, приведшие почти к полному истреблению бойцов полка. После этого перешли к ночным атакам, которые также не приносили успеха, потому что немцы превращали ночь в день осветительными снарядами и ракетами. Почему вели наступление цепью на невидимого врага? Разве нельзя было попытаться тихо и незаметно приблизиться к врагу малыми группами? Я и Купер сумели пробраться в село и уйти из него целыми и невредимыми. Надо было подобрать группы по пять-десять человек, научить их тихому передвижению. Просочившись достаточной силой к позициям противника, внезапно напасть на них, забросав гранатами. Но об этом я мог только рассуждать сам с собою. Попробуй такое сказать, тебя сразу накажут за обсуждение приказа командира. действий.
Меня раздражала полная безграмотность ближайших командиров в ведении любого боя, но я был обязан подчиняться. Бездумные атаки продолжались и их результаты приводили к ненужным жертвам. Но вот проявилось разнообразие: боевое охранение доложило о продвижении группы лыжников, числом в тридцать человек, намеревавшейся обойти наш полк по левому флангу, упирающемуся в опушку леса. Это случилось впервые после того, что немцы перешли к обороне. Чтобы не допустить просачивания вражеских лыжников, нашу роту срочно перебросили лесом на противоположную её опушку. В роте насчитывалось около ста человек, вооружённых винтовками и гранатами. О вооружении отряда лыжников мы ничего не знали. Разведка доложила, что против наших позиций совместно с немецкими соединениями расположены соединения Венгрии и Финляндии. Поэтому можно было предположить, что отряд лыжников - из финского соединения. Самое интересное то, что двигался отряд в сторону леса днём. День выдался ясный, светило солнце, снег буквально ослеплял. Мороз такой сильный, что дух захватывало. Закрываю рот подшлемником, чтобы дышать не таким холодным воздухом, подшлёмник против рта моментально обрастал коркой льда. Нос и скулы приходилось всё время растирать. Нельзя останавливаться, чтобы не отморозить ноги. По лесу мы двигались цепью на расстоянии десяти шагов друг от друга. Лес хвойный, не очень густой. Только местами молодые сосёнки сбегались в густые группки. Двигались осторожно, медленно. Уже настало обеденное время, а нас ещё завтраком не кормили. Ужасно холодно, все мечтали о горячей каше, горячем супе, как средстве борьбы с холодом в первую очередь, а потом уже как способе насытиться. Выдвинулись на противоположную опушку леса, обращённую в сторону противника, и заняли рубеж. Вскоре увидели лыжников, шедших гуськом. Открывать огонь можно только по приказу, а он не прозвучал, потому что отряд ещё далеко от нас. Когда противник оказался на расстоянии ста метров, раздался приказ открыть огонь. После первых же выстрелов отряд залёг и по пластунски рассредоточился. Они были в белых маскхалатах и сразу стали для нас невидимыми на снегу. Заблестели стёкла биноклей и оптических прицелов снайперских винтовок у противника. Раздались первые короткие автоматные очереди, и сразу же появились у нас раненые. Их снайперы, невидимые для нас, уже успели убить несколько человек. Пока часть автомат-чиков противника не давала нам поднять головы, отряд начал отступать и стал быстро уходить к своим позициям. День клонился к концу, когда бой прекратился. Отряд исчез, а мы не стали преследовать - пешком по снегу не догнать опытных лыжников. Я не заметил, чтобы противник уносил раненых. Мы должны были вернуться на опушку леса, откуда начали движение к противоположной его опушке. Возвращаясь назад, я натолкнулся на раненого красноармейца, им оказался Брехов. Он был ранен в бедро. До сборного пункта оставалось ещё около ста метров. Я помог ему подняться, а потом подставил ему спину и стал его тащить. Когда дотащил до опушки, где собиралась рота, подъехали санитарные санки. Брехов виновато сказал, мол, никогда не мог предположить, что именно я, еврей, вытащит его из боя, и добавил: "Ты победил меня в нашем споре". В знак признательности он отдал мне свою СВТ (самозарядная винтовка Токарева) и взял мою винтовку (для сдачи). Судя по его состоянию, ранение не было опасным. На этот раз мы расстались окончательно. Я радовался тому, что сумел его вытащить, спасти от смерти и простил ему его антисемитские выходки. Всё же он хороший красноармеец…
Отныне наша рота отвечала за сектор, куда входил большой участок леса, наше боевое охранение регулярно занимало позицию на противоположной опушке. Теперь этот участок считался опасным. Наконец, кончились ночные атаки на село Ямы. Неужели дошло до высокого начальства, что бессмысленно приносить столько жертв ради показухи наступления, не добившись никакого положительного результата? Ночное нахождение в боевом охранении, когда морозы доходят до минус сорока пяти градусов, очень тяжело давалось. Нельзя ни на минуту приостановить движение, потому что мороз именно этого и ждёт от своей жертвы. Когда я вернулся из очередной смены в дом, где отдыхало моё отделение, мне негде было приткнуться, кроме как сесть на лавочке у стола. Фитиль маленькой керосиновой лампы втянут, в комнате с большой русской печью полумрак. После наружного холода пахнуло уютным теплом, и тяжёлый воздух от человеских тел не показался противным. В комнате раздавался храп, который даже навевал спокойствие. Через час мне опять надо собираться произвести смену на посту. До поста пятнадцать минут ходу и там также надо некоторое время побыть с людьми. Мне оставалось не более часа отдыха между сменами. В этом доме мы отдыхаем уже в течение недели. Хозяйка дома - молодая мать, у неё грудной ребёнок. В соседнем доме живут родители её мужа: свекровь, больная женщина, и её муж, всё время находившийся возле неё.
Но всё же наведывается днём в дом сына, чтобы убедиться в благополучии снохи и внука. Дом состоит из двух комнат. Первая, передняя комната, скорее всего , служит кладовой, а вторая - спальней, столовой и кухней. Половину комнаты занимает русская печь, на которой спит хозяйка с младенцем. Во второй половине стоит стол с двумя скамейками, в углу висит маленькая икона, на которой трудно разобрать изображение божьей матери. В комнате одно маленькое оконце. У печи стоит длинная скамья в виде длинных двух ступеней, чтобы легче взбираться на печь и спускаться с неё. В первой комнате стоит полная кадка со щами. Накануне хозяйка достала из ямы, в которой хранится урожай картошки и красной свеклы (основная еда), нужные овощи и заготовила очередную закваску. Как-то она угостила нас квасом, который показался мне довольно вкусным. Она рассказывала, что замужем уже восемь лет. Первые семь лет не было детей, а вот в апреле родила мальчика. Мужа забрали в армию в первый же день войны. За полгода от него пришло четыре письма. Весь пол занят спящими, надо так осторожно ступать, чтобы никого не задеть. Я сидел на скамейке, голову подпёр ладонью, локтем опирался о стол.
… Это был двадцатый день 1942 года. Мы не успели отправиться в лощину за завтраком, как роте снова пришлось бегом отправиться на опушку леса, обращённую к вражеским позициям. По всей вероятности, отряд лыжников имел задачу разведкой боем выяснить наши огневые возможности. Немцы убедились в нашей огневой слабости даже днём, а им хотелось овладеть лесом, источником топлива села Ямы, от которого они были отрезаны. На этот раз против нас выступил не только отряд лыжников, но и пешие немецкие солдаты. У них четыре пулемёта и все вооружены автоматами. Они явно готовились к атаке. С нашей стороны противостояли две роты и два пулемётных расчёта. Противник начал бой огнём миномётов. Кругом засвистели осколки мин, которые прижимали нас к земле. Немцы стали продвигаться вперёд перебежками, их поддерживали четыре пулемёта. Наши выстрелы звучали редко, но нас подбадривала солидная и бойкая дробь двух "Максимов". На этот раз бой затянулся, немцы прекратили своё продвижение. Вскоре они начали отходить, а наши пулемёты молчали, потому что исчерпали запас боеприпасов. А что мы могли сделать одними винтовками против огня пятидесяти автоматов и четырёх пулемётов немцев? Мне кажется, что обе стороны остались довольны: мы, потому что немцы возвращались к своим позициям и на этот раз потери наших рот были незначительными. Я получил приказ командира взвода остаться с отделением в боевом охранении, куда нам принесут завтрак. Проходит час в полной тишине, а потом миномёты противника открыли огонь по опушке леса - трое моих подчинённых ранены. Я приказал пятерым отнести раненых на безопасное место, а сам остался в одиночестве, ожидая пока придёт смена. Когда немцы стали переносить огонь миномётов в глубь, я почувствовал вдруг острую боль в икре правой ноги. Рукой ощутил липкое тепло - осколок мины попал в ногу.
Я пытался встать, но не мог наступать на правую ногу. Время тянулось, а никто не возвращался меня сменить. Уже солнце садилось, а я ещё всё там, где меня оставили. Нашёл сухую ветку и пытался двигаться, но ноги меня не слушались и пальцы рук онемели. Мне казалось, что снег под ногами проваливается, хотя снежный покров был твёрд - это ноги подкашивались. Я понял, что если не продвинусь к дороге, идущей вдоль противоположной опушки леса, здесь и замёрзну. Сколько было сил, стал продвигаться на непослушных ногах, а потом пополз. Уже солнце зашло, стало темно, когда выполз на дорогу. Не зря я утром вспомнил отца, мать и всех родных - это они мне помогли выбраться на дорогу. Вскоре появились санки санбата, и бородатый красноармеец, санинструктор нашей роты, помог мне встать и лечь в санки. И вот я уже в палатке санбата, которая отапливалась чугунной печкой. Меня уложили на койку, санинструктор санбата снял с меня обмотки, ботинки и портянки, затем брюки и бельё. После этого военфельдшер вытащил осколок мины из икры правой ноги и пере-вязал рану. Санитар смотрел на мои конечности и качал при этом головой. Потом он присвистнул и сказал: "Ну брат, давай буду спасать твои ноги и руки". Он внёс тазик снега и начал энергично тереть пальцы рук и ног до колен. Работал очень быстро, но не справлялся, и тогда подключился фельдшер. После этого они начали растирать спиртом. Руки лучше поддавались и вскоре они порозовели, но кончики пальцев всё ещё оставались белыми.
С ногами они возились около часа, но пальцы ног так и остались бесчувственными. Они завершили свою работу, фельдшер сказал, что я остался с ногами и руками, хотя не могут сказать то же самое о пальцах ног. Они мне дали двести граммов водки и заставили выпить всё до капли. Я впервые в жизни пил водку - до того я даже вкуса её не знал. В палатке жарко, а после выпитой водки мне казалось, что я горю. Хотя я уже больше суток не ел, но даже об этом не вспомнил. Заснул так крепко, что ничего до самого утра не слышал. Рано утром мне рассказали, что немцы накрыли миномётным огнём две роты, когда те были возле своих кухонь в лощинке. Обошлось без убитых, но более двадцати человек получили осколочные ранения. Поэтому не вспомнили обо мне. Вскоре подкатила полуторка (грузовая машина марки ГАЗ-А), погрузили нас четверых раненых рядком, как брёвна, на пол кузова, накрыли брезентом, к которому пришита овчина. Нас сопровождал санинструктор. Через два часа привезли в Старый Оскол, отнесли на второй этаж школы с выбитыми стёклами. Уложили на пол, слегка притрушенный соломой. Лежали мы тесно прижатые один к другому. Холодно. Никакого медицинского обслуживания. Во всяком случае я этого не видел. Пребывал в каком-то забытье - не помню, чтобы меня перевязывали, не помню давали ли кушать. Слышал стоны и тихие голоса людей: "Вот этого уже можно унести". Возле меня стало свободнее. На следующий день, когда ещё было темно, меня отнесли на носилках к эшелону теплушек и уложили на нарах.В теплушке тепло - топилась чугунная печь.
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ЭВАКОГОСПИТАЛЕ
Вскоре эшелон тронулся. Мы прибыли в Борисоглебск ранним утром. Меня подвезли на подводе. Пересыльный фронтовой эвакуационный госпиталь располагался в двухэтажной школе. Уложили в палате, где койки сдвинуты попарно и промежутки между ними такие узкие, что медсёстры, врачи и нянечки протискивались с трудом. Впервые, почти за полгода, я оказался на койке с белыми простынями. Окна палаты выходили во двор, но солнце ярко проникало через них светом своих лучей. Мне просто не верилось, что на свете есть такие удобства. В первую очередь врачи осматривали нас, вновь прибывших, чтобы дать указания медсёстрам о смене повязок, сделанных на передовой. На мне - повязки, наложенные ночью с 20 на 21 января, а в Борисоглебск привезли утром 23 января. Перед тем как вновь перевязать, меня отвели в баню и нянечка купала меня так, как купают ребёнка. Там же, в бане, меня стригли под машинку: голову, под мышками, лобок. После бани сделали перевязку ступней ног и икры правой ноги. Пальцы рук не перевязали, но я ими не мог пользоваться. Они были обморожены в меньшей степени, чем пальцы ног. Особенно пострадали пальцы правой ноги, а большой палец стал чернеть. Самое неудобное было то, что меня заставляли первые три дня отправлять естественные надобности на судне и в утку. В палате только и слышно: "Сестра! Утку!". Взрослые мужики и парни беспомощнее малых детей. В первую же ночь умер молодой парень от ранения в живот. До самого конца он просил пить. Я, по сравнению с другими, не тяжёло раненый. В палате лежали обречённые на ампутацию обеих ног, обеих рук, и даже был такой, которому предстояла ампутация ступней ног и руки до локтя. Все имели ранения, а потом обморожения из-за долгого пребывания на морозе без движения. Эвакогоспиталь - своего рода сортировочная.
С передовой поступают раненые, которым оказали максимальную помощь в полевых условиях, а здесь, в стационарных условиях, продолжается выяснение степени тяжести ранения и определяется срок лечения, при этом стараются максимально помочь раненому. В эвакогоспитале остаются только те раненые, которые не нуждаются в длительном лечении и способны после короткого пребывания в нём вернуться на передовую. Первые три дня я привыкал к госпитальным условиям как пациент, а потом мне хотелось познакомиться с теми, кто лежал в палате. Нас в палате - двадцать человек с различными ранениями, обморожениями, ожогами и травмами. Психологически относишься с большим уважением к тому, кто больше пострадал, будто война его отметила за особую заслугу. Можно сказать, что проявляется к нему эдакая зависть, а он даже гордится полученным ранением. Обойденным судьбою считает себя тот, кто попал в госпиталь не в результате ранения или контузии, а по причине болезни, травмы, обморожения. Он чувствует себя виноватым, будто совершил постыдный поступок. Это происходит из-за того, что есть указание дифференцировать страдальцев войны: пулевое ранение важнее осколочного, а последнее важнее контузии. Самым непрестижным считалось общее заболевание. Травмы, обморожения - на предпоследнем месте. Мне было не по себе, - у меня всего-то лёгкое осколочное ранение, и по приведённой выше градации я -третьесортный больной. Другие завидовали тяжело раненым только потому, что те уже не вернутся на передовую, а может быть будут комиссованы.
Я отказался пользоваться уткой и судном, невзирая на трудность пользования туалетом (там не было унитазов). Передвигаться самостоятельно тяжело, потому что руки, на которые я переносил тяжесть, опираясь на ручки костылей, очень болели. Но стыдно звать молодую женщину для оказания помощи мне, молодому и легко раненому (обморожение мне казалось постыдным). Но в чём моя вина, в том, что отморозил руки и ноги? Я находился на морозе много часов, без горячей пищи, на ногах - холодные ботинки с обмотками, а во время стрельбы приходилось снимать рукавицы. Если бы не осколок, который ограничил моё движение, если бы не забыли обо мне, оставив надолго в боевом охранении одного, не было бы и обморожения. Но кто интересуется обстоятельствами? Подход простой до абсурда: есть случаи членовредительства, значит, надо жестоко наказывать, чтобы неповадно было другим. Согласен, если доказан этот факт. Но обморожение на передовой - результат плохой экипировки, отсутствия оборудованных теплом позиций, беззалаберным отношением к своим обязанностям со стороны командиров, находящихся в тепле и забывающих о подчинённых, которых надо вовремя сменить с поста на морозе, вовремя накормить горячей пищей, снабдить исправным оружием. Сколько было жертв во время ночных атак на невидимого и недосягаемого противника из-за того, что отчаянно смелый начальник штаба пьян в стельку и нет никого другого трезвого, кто бы взял на себя командование. А потом сваливали вину с больной головы на здоровую. Вообще, война - колоссальное испытание физических и духовных сил народа, экономики страны, военной науки и подготовленности армии, её частность - атака, -главное испытание физических и духовных данных солдата, его способности жертвовать самым дорогим - своей жизнью. Успех солдата в атаке складывается из множества случайностей, не зависящих от него самого: огневой мощи противника, рельефа местности, времени суток, погодных условий, экипировки, разумности командиров, его вооружённости, подготовки, да и вообще можно сказать - от везения. Поэтому смерть часто ста-новится результатом стечения ряда случайностей. Но есть и объективные факторы, характеризующие самого солдата. Нет таких, которые бы не боялись. Абсолютно бесстрашными могут быть полные идиоты и душевно больные. Смелому же солдату свойственен страх, но в сочетании с трезвостью мысли. Если он физически подготовлен, ловок и быстро реагирует на беспрерывно меняющуюся обстановку на поле боя, если у него хорошая военная подготовка и крепкая мотивация воевать против врага, то такой солдат полезен в атаке, у него больше шансов выжить, чем у солдата, не обладающего этими свойствами. Поэтому новички на передовой погибают чаще ветеранов. Ветеран не ленится и не теряет голову. Я могу себя отнести к ветеранам, потому что участвовал в большем количестве атак, чем другие (второй после Купера), оставаясь целым. Если бы не стечение такого большого количества случайностей в тот день (20 января 1942 года), когда был ранен и обморожен, я бы теперь не добирался до туалета так мучительно трудно, опираясь на костыли. Дверь нашей палаты выходила в вестибюль школы. Из вестибюля на первом этаже вела на второй этаж распашная лестница. По всей вероятности, здесь в дореволюционное время размещалась гимназия. На втором этаже имелся демонстрационный зал со сценой. Там тоже лежали раненые, но более лёгкие. В этом зале показывали кинофильмы, выступали артисты эстрады и самодеятельные артисты - шефы старших классов этой школы. За семь дней самостоятельного передвижения с помощью костылей мне ни разу не удалось подняться в тот зал, потому что он всегда бывал полон (надо учитывать, что там стояли десятки кроватей) и даже подступы к нему, включая распашную лестницу, были запружены ранеными и обслуживающим персоналом. На четвёртый день меня показали главному хирургу, который должен был принять решение о моём лечении. Он разглядывал пальцы рук с ранами на их кончиках и фиолетовым цветом кожи ладоней, ступни ног с ранами на всех пальцах и такой же фиолетовостью кожи ступней до щиколоток. Особенно внимательно он рассматривал правую ступню и большой палец на ней. Смотрел, смотрел, а потом сказал лечащему меня хирургу: "Видите, батенька, демаркационная линия активно углубляется. Это говорит о том, что здоровая часть старается отторгнуть больную. Палец уже начинает чернеть, и это приведёт к гангрене. Проследите, чтобы вовремя успеть сделать ампутацию". Вот тебе на! Я хорошо помнил содержание романа Чернышевского "Что делать?" и описание в нём "антонова огня". Ещё этого не хватало: погибнуть не от осколка или пули, не в рукопашном бою, а от гангрены! Не страшно погибнуть, обидно умереть. В нашей палате моё состояние оценивалось как наиболее лёгкое. Остальные испытывали страдания от тяжёлых ранений и обморожений.
В палате стоял трупный запах от гниющих ран. Часто раздавались возгласы спросонок или больных в бреду: "Мамочка! Ой, мамочка!", а наяву некоторые матерились и ругались площадной бранью. Иные молча переносили страшные боли, оставаясь вежливыми и не требовательными. Бывший бригадир колхоза из-под Курска потерял левую руку (её ампутировали выше запястья) в результате ранения крупным осколком. Он, как старшина роты, большую часть времени проводил рядом с походной кухней, но судьба достала его и там - мина разорвалась в десяти шагах от него. Ему лет тридцать пять, но мне он казался стариком. Здоровый, крупный мужик, привычный командовать. Будучи ходячим больным и деятельным по натуре, он ходил по всему госпиталю и приставал к обслуживающему персоналу с различными предложениями, придирками. Он всех так донимал, что пришлось начальнику госпиталя вмешаться. Начальник госпиталя - полковник медицинской службы, не уступал ростом и напористостью старшине роты. Он пригрозил ему лишить его права оставлять палату. Только это утихомирило старшину. Его отправили в тыловой госпиталь в одно время со мной, так что и я имел возможность слушать его придирки в течение десяти суток, пока мы следовали из Борисоглебска в Оренбург (тогда г. Чкалов). За день до отправки в тыловой госпиталь мне ампутировали большой палец правой ноги - отрезали первую фалангу. Ранним утром нас отправили на подводах на станцию Грязи (я слышал названия "Грязи-один" и "Грязи-два"). Там стоял на путях пассажирский поезд, переоборудованный под санитарный, в который нас разместили: госпитализированные с тяжёлыми ранениями - на нижних полках, а остальные - на средних. Чтобы матрацы не сползали с полок, прибиты доски с двух сторон. И началось наше путешествие на восток. В поезде - ещё несколько специальных вагонов: морг, операционная, перевязочная и аптека, кухня и вагон для медицинского и обслуживающего персонала. В каждом купе по пять больных, а так как вагоны жёсткие, лежачие больные ощущали своими телами каждый стык рельс. В вагонах стоял спёртый тяжёлый воздух. А вдобавок примешивался запах карболки, испражнений из проносимых нянечками суден и уток, а также трупный запах гниющих ран. Перевязки производили только при острой необходимости. Часто проносили тела умерших в морг.
В вагоне жарко, дышалось тяжело. Поезд подолгу стоял на узловых станциях и часто на разъездах. Если останавливался на вокзале, к нему рвались, главным образом, женщины, выкрикивая фамилии и имена, в надежде узнать что-нибудь о своих близких. Так как я лежал на средней полке и окно на остановках открывалось, мне часто приходилось отвечать на вопросы любопытных и заинтересованных. На одном из вокзалов возле моего окна остановилась группа учеников старших классов, которые предлагали свои услуги в отправке писем, передаче приветов, интересовались своими родными и земляками. Одна девушка спросила меня почему почти не видно раненых в голову, я ответил ей: "Раненые в голову редко выживают". Ответил экспромтом, потому что никогда до того не задумывался над этим. В нашем представлении о раненом всегда вставал образ героя с перевязанной головой. Наверное, ранение в голову представляется более почётным, чем ранение в спину или в ягодицу. Возможно это так было в давние времена, когда сражались с врагом лицом к лицу, один на один. Но ни один герой не застрахован от получения осколочного ранения в зад, если мина разорвалась за его спиной. Глупый, ленивый солдат может быстрее получить ранение в голову, потому что высовывается там, где не надо, ленится наклониться или проползти, хорошо окопаться. Многие получили ранения, не добравшись до передовой, а некоторые попадали под обстрел в момент появления на передовой, ещё не успев совершить ничего геройского.
В ТЫЛОВОМ ГОСПИТАЛЕ
В первой половине февраля наш санитарный поезд прибыл в Чкалов и нас стали размещать в местных госпиталях. Я попал в тыловой госпиталь, который располагался на подворье мечети. При мечети - двухэтажная школа (медресе), классы которой превратили в палаты, операционные, перевязочные, кабинеты для реабилитации (занятия в них ускоряли восстановление функциональной деятельности повреждённых конечностей и органов). Размещали в палатах по характеру повреждений. Я оказался в палате раненых и обмороженных. Там двенадцать коек, мне досталась койка, которая накануне освободилась - больного комиссовали. Наша палата угловая, её окна выходили на две пересекающиеся улицы. Минарет находился во дворе, там же хозяйственные постройки. Я думал, что в тыловом госпитале палаты не будут так тесно уставлены койками, как в Борисоглебском эвакогоспитале, но ошибся. В нашей палате койки тоже стояли попарно. Два окна выходили на одну улицу, остальные три - на другую. Здание выходило углом на перекрёсток. Двери нашей палаты - в самом конце коридора, в торце которого тоже окно в одном ряду с нашими двумя, выходящими в ту же сторону В простенок между двумя окнами упирались наши две кровати изголовьями. Нижние стёкла окон замазаны белой краской, увидеть, что происходит на улице и прохожих на тротуарах, можно только стоя. У нас же большинство - лежачие, поэтому мы знали о происходящем на улице по рассказам ходячих больных.
Обстановка в палате и её быт создавали определённую психологическую атмосферу, складывавшуюся из особенностей характеров людей, постоянно находящихся в замкнутом помещении. Ко всему этому добавлялись ещё запахи тел, гниющих ран, махорочного дыма, медикаментов, мыла, пищи. За три месяца нахождения в госпитале мы ни разу не оставляли палату для основательной уборки. Каждое утро накрывались с головой одеялами, на несколько минут открывались две форточки, чтобы проветрить помещение...Первые три дня я почти не вставал с кровати, а если и вставал, то только для посещения туалета и перевязочной. Еду приносили в палату и ставили её каждому на тумбочку. Три человека в палате сами не могли есть, их кормили мы, потому что обслуживающий персонал буквально разрывался на части, оказывая профессиональную помощь больным. Персонал работал по двенадцать часов (две смены), обслуживая двадцать пять - тридцать раненых. Нашу палату и палату командиров обслуживали две медицинские сестры и две няни. Большинство больных - лежачие, а это означает, что им надо поднести и отнести судно и утку, покормить в кровати, отнести на перевязку. Помимо этого приходилось уделять больше внимания больным после операции, а также тяжелобольным. В госпитале медсёстры - самые близкие люди для больных, за ними - няни. С ними раненые шутят, флиртуют, делятся самым сокровенным. Те выслушивают сочувственно, мягко успокаивают. Одиннадцать человек нашей палаты регулярно переписываются с родными, только я никому не пишу. Я тоскую по родным, мне страшно за их судьбы. Не знаю, спаслись ли они от немцев, не знаю, живы ли мои братья. Хотелось бы знать о друзьях, однокашниках. Для меня человек из Одесской области - уже земляк. Евреев я в госпитале не встречал, но мне кажется, что некоторые знакомые просто скрывали свою принадлежность к нашей нации, изменив фамилию и имя, если они звучат по-еврейски, а внешне они не похожи на евреев. Я сразу ставлю в известность о своём еврействе, чтобы предупредить разговоры, могущие меня спровоцировать на драку или скандал, как это бывало в роте кандидатов в училище. На новом месте обычно проверяют данные военного и первое, что интересует, это фамилия. Ни один писарь ни разу не мог написать с первого раза мою фамилию правильно. Они обычно переспрашивали: "Как, как? Казацкех? Казацкий?" Наученный этим казусом, я обычно предлагал сам написать свою фамилию. Таким образом, картавя, сразу настораживаю против себя нового знакомого. Когда запись доходит до пятой графы, я умышленно подчёркиваю слово "еврей". Их удивляет имя "Иойна" и отчество "Вольфович". Сразу становлюсь "меченым". В палате жадны к новостям, потому что в ней редко меняются больные. Разве что после трёх месяцев выписывают в маршевую роту или после длительного лечения комиссуют, а то отправляют в мертвецкую.
Когда меня уложили на койку, одиннадцать пар глаз пытались рассмотреть меня, - кто это с ними вместе будет дышать, вносить свои запахи, проявлять свой характер. Потом ходячие стали подходить, пытаясь прочесть фамилию на температурном листке. Что-то у них не складывалась разведка и начинались осторожные расспросы: откуда прибыл, когда ранило и куда, откуда родом, где родные. А потом, осторожно, не в лоб, пытались определить национальность.
Здесь проявлялась моя подчёркнутая откровенность, -еврей я и всё тут. Ну, а дальше что? В дальнейшем они по капле выдавливали из меня все подробности моей прошлой жизни, о местности, где жил, о занятиях до армии. Рано или поздно все в палате узнавали всё о всех. Когда нет никаких занятий и человек почти всё время лежит, остаётся только одно: говорить с соседом, изливать душу, вспоминать прошлое, делиться своими мечтами.
Почти неделю я держал "круговую оборону", отшивая короткими односложными ответами. Не хотелось изливать душу перед людьми, которых не знал. Я многим отличался от остальных обитателей нашей палаты, в том числе и речью. Их удивляло, что говорю литературным языком, но в то же время иногда мелькают элементарные ошибки в ударении, которых русский человек, даже безграмотный, не допустит, потому что это его родной язык.
Не курил, безвозмездно отдавал свою порцию махорки, ни разу не произнёс бранного слова, ни с кем первый не заговаривал. Они присматривались ко мне, как к какому-то чужеродному существу, но именно это удерживало их от грубости и панибратства. Что они угадали в состоянии моей души, так это тоску. Я страшно тосковал, и это было видно по мне. Получая письма, некоторые читали их вслух целиком или отдельные фрагменты, а то пересказывали содержание прочитанного. Было двое больных, которые очень плохо читали и не умели писать. Именно эти полуграмотные люди создавали мне авторитет. А произошло это очень просто: я стал читать им полученные письма, а также писать под их диктовку письма домой. Одним из них был самый старший по возрасту в нашей палате, а мне он просто казался глубоким стариком. Мы все его звали "дядя Ваня". Ему было сорок лет. Высокий, худой, лысый, лицо бритое, худощавое и во рту несколько зубов - впереди. Говорун, рассказчик, любил озадачивать нас загадками. Речь у него уснащена поговорками, прибаутками. Весельчак и любил задирать молодых.Второй - молодой парень, лет двадцати пяти. Обе ноги ампутированы выше щиколоток, поэтому он всё время проводил в кровати. На перевязки его носили на носилках (колясок не было). Судя по мощному торсу и по мускулистым грубым рукам от тяжёлой работы, он был очень здоров. Но умел только расписываться и читал по слогам, да и то только печатный текст. У него в деревне осталась невеста, которая писала ему каждую неделю очень тёплые и добрые письма. Он просил меня перечитывать по нескольуо раз каждое письмо. После каждого прослушивания он лежал с открытыми глазами и шептал отдельные предложения.
Я также писал письма за тех, кто не мог писать из-за ранения руки. Некоторые требовали писать дословно, как они диктовали, а некоторые просили писать по моему усмотрению, давая только общие указания: подпустить слезу, нажать на тоску по близким, писать весело и ничего о действительном состоянии здоровья.
Все передавали массу поклонов в начале и в конце письма. Случалось, что к законченному письму два дня тому назад кто-нибудь из них просил добавить поклон знакомому, которого пропустил. Так и повелось - я регулярно писал за двух неграмотных и двух, лишившихся физических возможностей писать. В начале испытывал дискомфорт от того, что приходилось вникать в чужую жизнь, пусть даже по просьбе. Это походило на подглядывание в замочную скважину по просьбе её хозяина. Но потом я понял, что помогаю этим людям укрепить их душевные силы. Первое время, когда я только появился в палате, психологический климат в ней можно было охарактеризовать как настороженный с их и моей стороны. Мужчины нашей палаты, в большинстве своём калеки, были озабочены возможной потерей мужских достоинств, уже поэтому они ревновали своих жён, невест и любимых девушек.
Они знали, что не вырастёт нога или рука после ампутации, чтобы приласкать любимую. Слепой знал, что никогда не увидит красоты восхода и заката. Разве мог парень с лицом, изуродованным ожогами, рассчитывать на то, что его полюбит красивая девушка? Любимец села, гармонист, знал, что ампутированные пальцы рук не смогут пробежаться по кнопкам инструмента, привлекая весёлой мелодией девчат. Кормилец семьи, опытный плотник, потерявший правую руку, знал, что он таким уже не будет. Эти мысли не оставляли калек нашей палаты. Поэтому они старались беседовать, чтобы отвлечь свои мысли от сложностей ожидавшей их судьбы.
Я старался простить им антисемитские высказывания, но именно это мне не давалось. Даже изменил своему принципу - не подаваться попыткам втянуть меня в беседы на эту тему, потому что с больными я не мог поступать так, как поступал со здоровыми.
Я начал им рассказывать о нашем местечке и для них было откровением то, что евреи работали кузнецами, грузчиками, возчиками, бойцами на бойне, садоводами, скорняками и т. д.
Они не могли поверить, хотя ощущали искренность моего рассказа, потому что иначе рушится всё то, что они знали из уст их авторитетов о евреях: будто все они жулики, аферисты, трусы, применяют христианскую кровь на пасху. В их понимании матрацы евреев набиты деньгами. В то же время рассказывали анекдоты о евреях, в которых они представали глупыми, грязными, не сведущими в элементарных бытовых вопросах. Моё присутствие сократило разговоры на еврейскую тему, но не исключило их, просто не имелось другой темы взамен. Но проговорившийся в обидной для меня форме обычно извинялся: "Не обижайся, друг, так рассказывают". В палате находился один командир, попавший в нашу, специальную, с обморожением. Кстати, он был единственным обмороженным командиром, в палате для командиров больше ни одного такого. Наш "постоялец" - командир стрелковой роты, капитан Молчанов, человек, к которому я относился с большим уважением и даже с некоторым поклонением за его мужество, оптимизм, разумность и ещё ряд положительных качеств. Пострадал он больше всех нас. Ведя свою роту в атаку, он был ранен в ногу и упал. Немцы вели огонь по наступающему полку, но рота Молчанова, наступавшая по центру, подверглась наиболее массированному миномётному и перекрёстному пулемётному обстрелу. Рота потеряла много личного состава убитыми и ранеными. Полк прекратил атаку и начал отходить назад. Капитан оставался лежать, потому что крупный осколок мины раздробил голень правой ноги. Он потерял сознание. На морозе кровотечение особенно сильное. Санитары его подобрали с еле заметными признаками жизни. Много труда приложил медперсонал, чтобы спасти от обморожения те части конечности, которые ещё можно было спасти. Ему отрезали правую ногу до середины голени, ступню левой ноги, левую кисть, три пальца с частью ладони правой руки, а оставшиеся большой и указательный палецы ещё не совсем зажили от обморожения к моменту, когда я впервые его увидел. Сложения он обычного, как у людей не геройского вида: среднего роста, узкая кость, худощавый. Не красавец, но черты лица правильные. Лицо украшали большие серые глаза под высоким лбом. У него уже наметились залысины, редкие пепельного цвета волосы всегда зачёсаны назад. Голосом он обладал звонким, ему приходилось сдерживать его, чтобы сохранить некоторую солидность. К началу войны он работал директором школы большого села в Ивановской области и преподавал русский язык и литературу в старших классах (с восьмого по десятый). В 1939 году уволен в запас с должности командира роты. Он успел прослужить к тому времени десять лет, включая два курсантских года пехотного училища. В армию его направили по комсомольскому призыву после окончания двухгодичного педагогического института.
В 1942 году ему исполнилось тридцать пять лет. В родном селе осталась жена и четверо детей. Женился он спустя год после окончания училища, будучи командиром стрелкового взвода. В 1933 году родилась дочь, потом ещё две дочери, а накануне войны родился сын, которого он оставил трёхмесячным. Жена его до замужества работала секретарём сельсовета, вначале ученицей у секретарши, которая участвовала в создании сельсовета целых три года, и приняла дела, когда старая коммунистка решила уйти на покой. Она очень жалела одинокую старую женщину, бездетную вдову. Её образование - всего семь классов. Когда Молчанов приехал в отпуск к родителям, ему понравилась соседская девочка, которую он знал с её рождения. Ей уже исполнилось двадцать лет и по сельским меркам она считалась невестой. Выйдя за него замуж, она уехала с ним в военный городок, который располагался в Житомире. Как жена красного командира она не имела возможности работать. Молчанов не очень быстро продвигался по службе, а причиной стала его жена. Лена была красавицей, и на неё сразу положил глаз комполка. Он даже напросился к ним в гости, чтобы посмотреть, как устроились молодожёны, поселившиеся в комнате дома еврейской супружеской пары. Кстати, их дети уже давно вылетели из домашнего гнезда и обосновались в Сибири на ново-стройках. Старикам, Менаше и Саре, жилось одиноко, а потому были рады молодой паре, наполнившей их дом весельем и задором. Это только говорится, что они снимали комнату. Сергей и Лена пользовались всем домом и двором с садом, имея отдельную спальню. Когда командир навестил их первый раз, молодожёны его угостили сытным обедом и хозяева внесли свою лепту: наливки из вишен и слив, варенье, штрудель и белый пряник. Командир зачастил, а когда Сергей находился в летних лагерях, он навестил Лену, интересуясь не нуждается ли в чём. В свой следующий приход он задержался до темна, стал грубо приставать к ней. Она пригрозила закричать и только тогда он оставил её в покое, ушёл. После этого случая он больше не навещал молодых, но Лена рассказала Сергею о грубом домогательстве командира полка. Они решили сделать вид, что ничего не произошло. Но судьба распорядилась иначе. В тот злополучный вечер соседка направилась к хозяевам и оказалась рядом с открытым окном залы в момент, когда Лена угрожала закричать. Она развернулась и ушла домой и обо всём рассказала своему мужу. Старик имел привычку ходить в пивную и на следующий день рассказал своим друзьям об услышанном, добавив при этом подробности от себя. За короткое время слух разнёсся по военному городку, тогда командир полка вызвал к себе Сергея, обозвал его склочником, выдумавшим историю о приставании к его жене. Сергей признался, что ему было известно от жены о происшедшем в тот вечер, но ничего никому не рассказывал. Отношения с командиром полка стали очень напряжёнными. Однажды произошло следующее. Командир роты написал характеристику на Сергея (к тому времени уже родилась первая дочь) для присвоения очередного звания, командир батальона её утвердил, она попала в штаб полка, Сергей был включён в список на присвоение звания. Командир полка, просматривая список, вычеркнул Сергея, сделав приписку: "Воздержаться с присвоением звания". Сергею стало известно, что его вычеркнул из списка командир полка. Шло время. Командиры, которые вместе с Сергеем прибыли из училища, уже носили по три кубика, а у Сергея всё те же два, которые получил в училище. В 1939 году ему присвоили старшего лейтенанта и отправили в запас. Капитана ему присвоили во время войны, когда он уже три месяца командовал ротой. Все эти подробности Молчанов мне рассказал не сразу, а постепенно, к слову. Так как я писал письма Лене с детьми под его диктовку, он делал комментарии, если это касалось его прошлой жизни. Он был великолепным рассказчиком и умел избавлять от уныния любого из нас своей беседой старшего товарища. Возле палаты командиров, в коридоре, стояло пианино, на котором играл только Молчанов. Его относили к пианино и усаживали на стуле. Естественно, педалями он не пользовался, играл остатком большого пальца мелодии, а иногда пел своим звонким голосом и тогда вокруг собирались больные, медсёстры и няни слушать его душевное исполнение народных русских песен. Моя койка и койка Володи стояли в паре. Три месяца мы не только спали рядом, но и дневали вместе. Ему уже шёл двадцать пятый год. Женат два года и не только - уже был отцом маленького сынишки, который родился за полгода до начала войны. Очень любил свою жену Таню и сынишку Кольку.
В госпиталь он попал с осколком в груди и обмороженными руками за две недели до меня. Володя закончил семь классов, работал плотником в колхозе. В армии служил в инженерных войсках, а после демобилизации вернулся в своё село, в свою бригаду плотников. В первый же день войны явился в военкомат, его направили плотником в сапёрный батальон стрелковой дивизии. Как только начались холода, сапёрный батальон занялся строительством штабных землянок. Володя, сняв с себя шинель и рукавицы, тесал бревно, когда немецкий бомбардировщик сбросил бомбу, разорвавшуюся недалеко от него, он был ранен в грудь. Сознание не потерял, пытался доползти до того места, где оставил шинель и рукавицы, которые взрывом засыпало землёй. Он цеплялся голыми пальцами за смерзшийся снег, но силы оставили его, он потерял сознание. Его подобрали и отправили в санбат, где сделали всё, что могли в тех условиях. В нашем госпитале ему удалили осколок, но спасти пальцы рук не удалось. Ему полностью отняли большие пальцы и первые две фаланги на восьми пальцах, потому что началась гангрена. Первое письмо домой писала под его диктовку сестра Света, молодая двадцатилетняя девушка. Не дожидаясь ответа на отправленное письмо, он отправил второе, написанное сестрой Марией Ивановной, женщиной около сорока лет. Наконец, он получил ответ на свои два письма и в дальнейшем я писал письма его семье. Он целиком полагался на меня, потому что был скуп на ласковые слова, а хотелось передать жене и сыну свою горячую любовь. Мне он нравился, потому что был сдержан на язык и никогда не позволял себе говорить гадости о женщинах. Среднего роста, умеренно широкоплеч, сухой и мускулистый. Приятные черты лица, светлые прямые волосы и голубые глаза. Говорил мало, никогда не читал книг, а поэтому не имел возможности занять себя чем-нибудь, чтобы забыться от тоски по своей семье. Я его уговорил попытаться читать художественную литературу.
В библиотеке госпиталя нашёл для него "Мои университеты" Горького, и он с удовольствием прочёл первую в своей жизни книгу. Для того, чтобы самому перелистывать страницы, я ему помог (по его просьбе) закрепить заострённые палочки в бинтах по одной на каждой руке, которые выполняли роль пальцев. Он довольно быстро приохотился к чтению и первое время полагался на мой вкус, но вскоре сам стал подбирать себе книги для чтения. Сёстры, выполняя свои обязанности, находились в нашей и в палате командиров по двенадцать часов в смену, относились к нам ласково, проявляя при этом выдержку и терпимость. Ведь всегда находятся больные, считающие себя наиболее пострадавшими, они готовы винить всех за своё плохое состояние здоровья. Обычно придирались к няням и сёстрам. Когда уже слишком переходили грань нормальных взаимоотношений, обижая при этом обслуживающий персонал, мы, больные палаты, умели их урезонить. В нашей палате общепризнанным арбитром был капитан Молчанов. Его очень красноречиво поддерживал дядя Ваня, не стесняясь в применении самых острых выражений. Особенно часто случались разборки в командирской палате, больные которой требовали от сестёр большего внимания к себе. Нередко сёстры приходили к нам с заплаканными глазами после посещения соседней палаты. Они никогда не жаловались, но мы, жалея их, старались утешить своим сочувствием. В один из дней Мария Ивановна зашла к нам с опухшими от слёз глазами. Учитывая её возраст, мы не позволяли себе неуважительно разговаривать с нею, хотя и осуждали её за флирт с капитаном, которому ампутировали ногу выше колена.
Он был моложе её на двенадцать лет, холостой. Муж Марии Ивановны, майор, фронтовик, не очень жаловал жену, считая её виновной в том, что у них нет детей. Он был ревнив и, бывая пьяным, не только распускал язык, но и руки. Разлука, связанная с войной, её не угнетала. Можно сказать, что она почувствовала облегчение, когда перестала ощущать пресс его тяжёлого характера. Начавшийся флирт с капитаном был первым, а до того ничего подобного за ней не замечалось. Больные командирской палаты заигрывали с нею, но она никому не отдавала предпочтения и мягко отшивала всех. А вот тихое поклонение капитана ей было по душе, она его воспринимала благодарным взглядом. На глазах жаждущих женской близости зрела молчаливая любовь, которая поддерживалась только влюблёнными взглядами и улыбками. Не было произнесено ни одного слова признания в любви, но Мария Ивановна чувствовала своим женским инстинктом искренность любви капитана к ней. Капитан также ощущал её доброе чувство к себе. Как-то один из командиров получил письмо от знакомого, который сообщал ему о супружеской измене его жены. Можно себе представить его настроение, он стал громко возмущаться поведением жён фронтовиков, сплошь блудливых, занимающихся любовью с кем попало, пока муж на фронте рискует стать калекой или мертвецом. И тут же продолжил: "Вот вам пример: муж Марии Ивановны на фронте, а она, сука, разводит шашни с капитаном, который ей в сыновья годится". В палате началась полемика на тему верности фронтовых жён своим мужьям и большинство поддерживало точку зрения командира, получившего письмо с сообщением об измене его жены. В палате разгорелся спор, никто и не заметил, как вошла Мария Ивановна в момент, когда кто-то произнёс, что она шлюха. Капитан заметил её появление и понял, что она расслышала обиду в её адрес. Тихий и молчаливый капитан взорвался и обозвал обидчика грубым идиотом, не способным отличить чистые отношения людей от случки во время оргии. Мария Ивановна выскочила из той палаты и побежала жаловаться старшей сестре на незаслуженные оскорбления в её адрес со стороны больных командирской палаты. Но она попала из огня в полымя. Старшая сестра, уродина, завидовавшая всем женщинам, которым выпала судьба быть привлекательными, обругала Марию Ивановну за заигрывания с больными во время исполнения служебных обязанностей. Мария Ивановна расплакалась, ничего не ответила и отправилась к нам в палату. И надо же такому случиться: в тот день она получила похоронное сообщение о гибели мужа. В госпитале сразу распространилось это известие, его тут же сопоставили с происшедшим в командирской палате. Большинство осудили Марию Ивановну, считая, что она морально изменила своему мужу, увлёкшись молодым капитаном. Для неё начался кошмар, но на работу продолжала выходить. Вскоре капитана выписали из госпиталя и Мария Ивановна забрала его к себе домой. Она перевелась в другой госпиталь. Уже наступил апрель, когда мне назначали физиотерапию. Кабинетом физиотерапии заведовала врач Валентина, закончившая ленинградский институт физической культуры имени "Лесгафта". Капитан Валентина всё время носила спортивные рейтузы и тёплый вязаный свитер, закрывавший шею до подбородка. Ей было не больше двадцати трёх лет. В госпиталь она попала сразу после окончания института. Нагрузка большая - она разрабатывала методы реабилитации органов, пострадавших от ранений, и проводила групповые и индивидуальные занятия.
С первого же дня занятий она обратила внимание на мою развитую мускулатуру и расспросила какими видами спорта я занимался. На втором занятии уже стала привлекать меня себе в помощь, объяснив, в чём она будет состоять. Оказывается, начальник госпиталя поручил Вале подобрать себе в помощь кого-либо из находящихся на лечении с тем, чтобы зачислить его в штат госпиталя. После второй ампутации большого пальца, когда наметилось улучшение и когда пальцы рук окончательно у меня вылечились, я написал ходатайство направить меня в военное авиационное училище истребительной авиации, которое располагалось в Оренбурге (там же находилось училище штурмовой авиации). Я получил ответ с отказом, который мотивировался временным сокращением материальной части. Там пояснялось, что часть подготовленного лётного состава направлена в пехоту. Тогда я стал ходатайствовать об отправке в мой полк. Ответ был коротким: "Вы связаны присягой службой в Красной Армии, а поэтому будете направлены туда, куда командование найдёт нужным зачислить". Сейчас, спустя пятьдесят восемь лет после описанного, меня удивляет грубая потеря бдительности: ведь в отправленном мне ответе содержалась констатация факта сокращения количества самолётов и расточительного использования лётного состава, направлявшегося в пехоту. Неужели отвечающий на моё письмо не мог найти другую благовидную причину отказа? После всех моих патриотических порывов стать лётчиком-истребителем или, на худой конец, вернуться в пехоту, предложение Вали остаться при госпитале помощником врача лечебной гимнастики прозвучало для меня оскорблением. Я вежливо отказался, ссылаясь на то, что именно я, еврей, не имею права оставаться в тылу. До конца моего пребывания в госпитале я продолжал помогать Вале в работе, а она не переставала надеяться, что уговорит меня остаться. Порой мне казалось, что Валя следовала своим симпатиям ко мне (я их ощущал во взглядах и интонациях голоса). С тех пор, как я стал ходячим, у меня появилась возможность расширить свои наблюдения в пределах дозволенного для находящегося на лечении. Я уже мог смотреть сквозь верхнюю, не закрашенную краской, часть окон, наблюдать за движением по тротуарам и до-рогам перекрёстка. Общественного городского транс-порта тогда не было, проезжали грузовые машины и подводы. Впервые увидел запряженных верблюдов и ослов. К животным интерес скоро пропал, но проявилось заинтересованное любопытство к прохожим: мужчинам, женщинам, детям и старикам. Я жадно всматривался в лица людей, надеясь на возможное чудо - увидеть родных или знакомых. Как я мечтал об этом! Я знал, что, если даже и увижу знакомого, то не смогу позвать его, что нет никакой гарантии на повторение чуда, но увидеть - уже счастье. Ощущение одиночества, заброшенности на край света усиливалось сознанием, что город, в который я попал, находится на стыке двух континентов, разделённых рекой Урал. Это так далеко от родных мест! Я пытался отвлечь своё внимание чем-нибудь иным, не связанным с воспоминаниями о родных и родном, но это не помогало. Но однажды я услышал о бюро по розыску родных в Бугуруслане. На следующий же день я говорил с комиссаром госпиталя о моём желании начать розыски родных.
Я получил неограниченное количество открыток, специально предназначенных для запросов. Они были изготовлены на основе почтовых открыток, но двойного размера и складывались вдвое. Каждый день я заполнял открытки на каждого из нашей семьи и семейств брата и сестёр. Вскоре стал получать ответы из Бугурусланского бюро розыска одного и того же содержания: такой-то не значится в списках эвакуированных. Но я не сдавался, заполнял открытки, варьируя комбинации имён и фамилии. Всякий раз, получая очередной ответ, у меня сердце замирало в ожидании: "Может быть на этот раз..". Если в начале товарищи по палате спрашивали меня о результате ответа, то потом они по моему виду определяли очередную неудачу. Однажды меня вызвал начальник госпиталя и приказал после выписки из госпиталя отправиться в Чкаловское училище зенитной артиллерии имени Орджоникидзе. Утром 5 мая 1942 года простился с товарищами по палате, с сестрой и няней. Потом отправился в кабинет врача Валентины. Она стояла спиной к входной две-ри, смотрела в окно, повернулась только после моего вопрошающего "разрешите войти?". Она была в курсе того, что меня направляют в местное училище и поэтому сразу перешла к прощальному напутствую. Смотрела мне прямо в глаза и говорила полушёпотом: "Мне очень жаль, что ты не согласился остаться работать со мной. Война затяжная, всем достанется воевать. Ты уже был на передовой, пролил там свою кровь. Очень жаль, что отказал мне в помощи. Если у тебя возникнет необходимость встретиться со мной, ты знаешь как меня найти. Береги себя, не проявляй излишнюю горячность. Прощай". Я опять почувствовал в её взгляде и в тоне, что я ей не безразличен. Простился я официально и вышёл через калитку в воротах двора госпиталя на улицу, обогнул угол здания, где на первом этаже была наша палата и направился в сторону училища, расспрашивая встречных, как до него добраться. Был солнечный день и небо было чистым, но воздух оставался прохладным, а на северной стороне улиц ещё лежал снег. Меня, жителя Молдавии, это удивило, потому что к празднику 1-го мая у нас успевали отцвести все сады, а значит, бывало тепло.
КУРСАНТ ЧУЗА
В училище я шёл, но мысли вращались вокруг всего прожитого в госпитале, вспоминались разные эпизоды, связанные с пребыванием в палате. Добрался до училища довольно быстро.
На КПП (контрольно-пропускной пункт) проверили моё направление из госпиталя и указали на штабной двухэтажный кор-пус, куда мне следует идти. Он находился в центре обширного двора военного городка. А то, что это военный городок, у меня не было сомнений, потому что он был похож на военный городок в Дубоссарах, хорошо мне знакомый. Весь двор обнесён четырёхметровым забором кирпичной кладки с расшивкой швов, как и все здания, включая складские помещения. Дороги и тро-туары вымощены камнем. Я вошёл в вестибюль, справа сидел дежурный командир с тремя кубиками на петлицах. Он встал и при этом заскрипели кавалерийские ремни пояса и плеч, которые перекрещиваются на спине. В новенькой кобуре справа выпячивался револьвер типа "Наган", связанный тоненьким ремешком с кобурой, а слева - клинок в ножнах. На хромовых сапогах поблескивали кавалерийские шпоры, дававшие о себе знать звоном колёсиков при каждом движении ног. Дежурный не просто встал, а приложил руку к виску, представился и спросил о причине моего появления. Я выглядел по сравнению с ним как огородное чучело: ботинки с обмотками, кургузая шинель с дырками от осколков и дважды прожаренная во время дезинфекции, мятая будёновка на голове. Пока он проверял моё направление, я увидел справа от широкой лестницы, ведущей на второй этаж, развёрнутое красное знамя училища, у которого стоял часовой по стойке "смирно". Он велел последовать за ним, мы поднялись на второй этаж и вошли в кабинет, после по-лученного разрешения "Входите!". Кабинет просторный, с лепными падугами и тремя большими окнами справа. Прямо перед входными дверьми висел на стене огромный портрет Сталина во весь рост в массивной лепной раме, отделанной под золото. У ног Сталина сидел полковник за массивным столом, покрытым красным сукном. К нему примыкал торцом длинный стол с таким же покрытием, по обеим сторонам которого стояло по дюжине стульев с высокими спинками. Десять стульев пустовали, а на двух сидели ещё два полковника, один против другого, касаясь боками стола начальника. Я остановился у торца длинного стола и доложил: "Красноармеец Казацкер явился для дальнейшего прохождения службы!". Два полковника повернули ко мне лица, а начальник встал и заявил: "Вы находитесь на заседании мандатной комиссии: я, начальник училища, полковник Чемеринский, вот начальник учебной части, полковник инженерных войск, профессор Вайс и мой заместитель по строевой полковник Васильев. Расскажите кратко о себе и предъявите документы об образовании!". Аттестат и грамота отличника были у меня приготовлены, я извлёк их из кармана шинели, куда переложил, после проверки документов у дежурного. Держу в руках и не знаю, что делать: то ли подойти к начальнику и вручить их ему в руки, то ли положить на стол. Начальник приказал старшему лейтенанту, сидящему отдельно за письменным столом, взять только аттестат, а грамоту оставить мне. Поднялся огромный мужчина, высокий и широкий, направился ко мне и каждый его шаг сопровождался звоном шпор и скрипом кавалерийских ремней. Пока я рассказывал о себе, члены комиссии ознакомились с моим аттестатом и вернули его старшему лейтенанту. Задали мне несколько вопросов о родных, о партийности и приказали старшему лейтенанту включить меня в список батареи капитана Волынского. Потом старший лейтенант вручил мне записку на имя командира батареи и приказал идти к нему. Я шёл по городку и оглядывался по сторонам, разглядывая всё с интересом. Но городок произвёл впечатление казённого скучного места. Вскоре мне стало известно, что он был построен в царское время и до революции в нём располагалось юнкерское пехотное училище. Казармы представляли собой одноэтажные здания с массивными кирпичными стенами и сводчатыми потолками. Казармы делились на две равные части, в каждой из которой находилась батарея курсантов. Для батареи, в её части, имелись: три спальные комнаты, красный уголок, канцелярия, три класса, оружейная комната, комната старшины с каптёркой, умывальная комната и туалет на десять очков - чугунные платы с обозначенными местами для ступней. Канализация дореволюционная, но продолжала исправно действовать. В умывальной комнате, вдоль наружной стены, проложена труба с двадцатью сосками, а под ней жестяное корыто, установленное с уклоном. В спальной комнате стояли двухъярусные койки, возле них тумбочки, установленные одна на другой. Спальные комнаты и красный уголок ограничивались только тремя стенами, а проход между ними использовался для построений. В классах мы проводили двенадцать часов: девять часов лекций и три часа самоподготовки. В канцелярии батареи собирались командиры взводов и командир батареи. Помощника командира взвода и старшину батареи назначали из курсантов, имеющих воинское звание не ниже старшего сержанта. Распорядок дня жёсткий, дисциплина держала всех в напряжении. Запрещалось самовольное движение по городку - только строем. До того, как курсанты познакомились между собой, они уже были обязаны знать установленный порядок. Подавляющее большинство курсантов призваны для учёбы в училище, в армии - новички. Ещё одна черта, характерная для личного состава: абсолютное большинство - эвакуированные из западной европейской части страны. Это были ребята с аттестатами зрелости или с неоконченным высшим образованием, из учебных заведений, расположенных на оккупированной территории. Среди них немало сынков высокопоставленных родителей. Оренбург (Чкалов) переполнен различными организациями, эвакуированными из Москвы и Ленинграда, а также из столиц прибалтийских республик. Авиацио-ная академия имени Жуковского также обосновалась в Оренбурге, её возглавлял генерал Шкурин. Его сын, здоровый парень, также стал курсантом училища. Избалованный и наглый, неприятный, он сразу получил прозвище "Шкура". Напротив, сын члена правительства Эстонии, Кейз, был воспитанным спокойным молодым человеком. В училище оказался племянник композиторов братьев Покрасс (с той же фамилией), певец. Эти трое числились в нашем взводе. Надо думать, что в такой же пропорции дети знаменитостей находились и в других батареях (у нас они составляли три процента). Так получилось, что я был принят в училище одним из первых. Когда я представился командиру батареи, капитану Волынскому, он направил меня в первый взвод, где помощником его командира служил старший сержант Цыганков. Он успел до войны отбыть срочную службу, но остался на сверхсрочную. Среднего роста, хорошо сложенный, смуглый, красивое привлекательное лицо, над верхней губой красовались чёрные усики. В его внешности проглядывало что-то цыганское, но родился он в русском городке центральной России. Служить он начал в 1939 году, после окончания средней школы, а, значит, был старше меня на два года. В нашем взводе он - единственный кадровый военнослужащий из курсантов. Я, хотя и не проходил кадровую службу до войны, но уже успел прослужить в Красной Армии девять месяцев, из которых пять на фронте и четыре - в госпитале. Во взводе я - единственный фронтовик, и Цыганков, который ещё не нюхал фронта, относился ко мне сдержанно, не допускал грубостей в отношениях со мной. Ввиду того, что продолжалось формирование батареи, программные занятия не проводились.
Чтобы нас, уже прибывших, чем-нибудь занять, Цыганков проводил занятия строевой подготовки и снарядной гимнастики, во время которых старался подчеркнуть своё превосходство над новобранцами, "салагами", как он нас называл. Он - типичный армейский щёголь, его хромовые сапоги всегда начищены до блеска. Когда наш взвод уже почти укомплектовался, на третий день его формирования появились у нас два новых курсанта: Аптер и Фаерман. Аптер - киевлянин, учился на втором курсе технического института, перемещённого из Киева в Оренбург. Его мать и сестра также эвакуировались и жили в Бузулуке. Он оказался тихим парнем. Среднего роста, крепко сложенный, с покатыми плечами, смуглый, с приятным лицом, с которого не сходила добрая улыбка. Он был интеллигентен и никогда не пользовался бранными словами, а когда кто-нибудь произносил ругательства, он смотрел на такого умоляющими глазами, красноречиво просившими не проявлять грубость. И надо же, другой курсант, Фаерман, внешность кото-рого полностью отличалась от внешности Аптера, излучал столько же доброты, как и тот. Но в его улыбке отсутствовала жалость, в ней больше открытости и поддержки. Он чуть выше Аптера, узкоплечий, слегка сутулый, бледнолицый. Глаза серые, в которых смешались радушие и проницательность. Родом из Харькова, попал в Оренбург вместе с рабочими тракторного завода, на котором работал электриком. У него только девять классов образования, потому что был вынуждён оставить школу и начать работать после смерти отца. В Оренбурге его мать, которая приехала вместе с ним, как член рабочей семьи завода. Так получилось, что в нашем взводе оказалось сразу пять евреев: Кейз, Покрасс, Аптер, Фаерман и я. Для Цыганкова это уже слишком. Покрасса он боялся, потому что тот - племянник знаменитостей, певец, на голову выше Цыганкова и мощного сложения. Кейз - сын члена правительства, и хотя он не геройского сложения, но бойкий и решительный. Меня он осторожно обходил, как фронтовика. Остались Аптер и Фаерман - один блаженный, а второй - хлюпик. Вот на ком можно отыграться, пользуясь своим положением командира и порядковой пятой графой: ему она опора, а им - укор. Он построил нас, отвёл на гимнастическую площадку, оснащённую полным набором снарядов (перекладина, параллельные брусья, конь, козёл, канат, шест, лестница и кольца) и велел всем обнажиться до пояса. День ясный, солнце ярко светило, но воздух довольно прохладный - нет никакой необходимости заниматься обнажёнными, можно ограничиться только снятием ремней. Но Цыганков решил продемонстрировать свои мышцы, красоту своего торса, а заодно найти изъяны у нас. Надо сказать, что ему удалось доказать своё превосходство над большинством из нас. Физически он был сильнее многих, да и красотой тела мог похвастать. Хотя некоторые из нас имели высшее, неоконченное высшее образование, а полноценное среднее - большинство, но учёба ещё не началась, а именно она проявит интеллект каждого, а пока Цыганков демонстрирует своё физическое превосходство над "гнилой интеллигенцией". Он держал нас в строю и, прохаживаясь перед нами, разглагольствовал о важности физической подготовки для командира вообще, а на фронте в особенности. Похвалил Покрасса, и было за что: высокий, широкоплечий, мощная мускулистая грудь, огромные бицепсы. Поинтересовался, как он достиг этого и в ответ услышал, что он перворазрядник по поднятию тяжестей. Зато отыгрался на Аптере и Фаермане: первого назвал мякиной, а второго заморышем. Он ожидал поддержки своим "выводам", но мы все молчали. Потом он всех проверил в подтягивании на перекладине, в лазаньи по канату и шесту. Наибольшее число подтягиваний показал Покрасс, Кейз быстрее всех взобрался по канату и шесту. Он их похвалил, но ничего не сказал обо мне. Однако все удивлённо смотрели на то, как я выполнял упражнения. Все подтягивались и лазили, держа тело вытянутым, а я это выполнял, сохраняя прямой угол ног по отношению к торсу. Особенно всем понравилось, как я поднялся и опустился по канату. Я сел на землю у каната и стал подниматься по нему, сохраняя прямой угол и точно так же спустился, оставляя канат сбоку. Точно также поднялся по шесту, но шест пропустил между ногами. Когда начали опорный прыжок через коня, Цыганков имел удовольствие от того, что ни у Аптера, ни у Фаермана он не получился с трёх попыток. И он начал их гонять раз за разом. Сначала совершил прыжок Фаерман после нескольких попыток, а потом прыгнул и Аптер. Я ещё продолжал хромать, потому что рана не затянулась, но я не стал отказываться от прыжка. В отличие от других мне достаточно десятиметрового разбега, чтобы легко преодолеть коня, но после приземления я сильнее захромал. Цыганков предложил всем показать свои возможности в исполнении упражнений на всех гимнастических снарядах. Желающих оказалось несколько человек, но не все в прошлом пробовали свои возможности на всех снарядах, да и сам Цыганков знал несколько упражнений на перекладине, ещё меньше на брусьях, а на коне с ручками вообще ничего не умел. Только Кейз и я сумели выполнить целый ряд упражнений на всех снарядах. Кейз оказался отличным гимнастом и завершал упраж-нения эффектными соскоками. У меня лучше получались силовые упражнения (горизонтальные висы спереди и сзади на перекладине, выходы в упор без маха на перекладине, брусьях и кольцах, "крест" на кольцах, "флажок" на вытянутых руках на стойке перекладины). Соскоки не стал делать, потому что нога сильно болела. Для Цыганкова всё это - первый ощутимый удар, а впереди ему предстоит получить ещё много. Если он на спортивной площадке не сумел нас убедить в своём превосходстве, то в учёбе ему ничего не светит, что подтвердилось сразу же на первом классном занятии, когда нам дали написать сочинение на вольную тему и контрольную по математике по программе выпускного экзамена на аттестат зрелости. Взвод был укомплектован и в полном составе сидел в своём классе при полной тишине. Я писал на тему интернационализма в Советском Союзе, сделал экскурс в период царской России, тюрьмы народов, писал об участии китайцев, латышей в революции и в гражданской войне, о развитии отсталых народов Севера, Сибири, Средней Азии и Кавказа, о многонациональном составе Красной Армии, о важности работы вождя "Национальный вопрос", привёл в пример национальный состав нашего взвода. Сочинение получилось в боевом комсомольском стиле, что было отмечено при кратком разборе написанных сочинений. Особенно высокую похвалу получил один из оренбуржцев, который закончил школу с аттестатом и грамотой отличника в прошлом году. Работа Цыганкова вообще не была оценена, потому что поместилась на одной странице и включала несколько статей из трёх уставов (дисциплинарного, внутреннего и строевого). Тему он озаглавил: "Служба в армии - почётная обязанность советского гражданина". Он умудрился всё списать со шпаргалки, которую составил из уставных статей. Работы оценивались очень строго. Единственную отличную оценку за сочинение получил Аптер за литературный слог и абсолютную грамотность. Покрасс, Фаерман и я получили хорошие оценки, как и абсолютное большинство. Несколько работ оценивались как посредственные, и среди них работа Кейза. Контрольная по математике закончилась драматично: преподаватель выставил несколько двоек, единицу Цыганкову, большинство получили тройки, несколько четвёрок и три пятёрки (Аптер, Фаерман и я). Опять отметили самый рациональный подход к решению задач у Аптера, оригинальность решения задач Фаерманом. Эти контрольные работы выявили градацию способностей курсантов нашего взвода. Правда, об этом никто не говорил, но все знали кто есть кто, а Цыганков перестал ходить гоголем. Но это не значит, что его фанфаронство унялось, наоборот, он просто озверел и ещё злее придирался к мелочам, особенно к Аптеру и Фаерману. Его придирки стали издевательскими по существу . Он всячески провоцировал этих ребят на оказание отпора, чтобы можно было их наказать в дисциплинарном порядке. Но они не подавались на уловки Цыганкова и старательно выполняли любое приказание командиров. Наш командир батареи, внешне утончённый и аккуратный, определённо знал о "художествах" Цыганкова, о его отношении к двум наиболее способным курсантам, но делал вид, что ничего не происходит.
Командир нашего взвода, старший лейтенант Жуков, - добрый малый, улыбка не сходила с его крупного лица. Он был похож на косолапого мишку: крупный, широкий, добродушный. Имел удовольствие на перерывах слушать анекдоты Покрасса и Шкурина, всегда первым начинал громко хохотать. Он у нас преподавал уставы, строевую и стрелковую подготовку, спорт, привлекая на помощь Цыганкова. Был очень метким стрелком, имел звание мастера по стрельбе из боевой винтовки. Однако язык его бедноват, но память цепкая, благодаря ей он дословно помнил множество статей из различных уставов.
Мы любили его занятия по стрелковой подготовке, потому что он великолепно знал материал, а во время боевой стрельбы демонстрировал своё искусство. Он обожал тех курсантов, которые метко стреляли и относился к ним, как к самым близким ему людям. Кто бы мог подумать, что Аптер и Фаерман, которые раньше никогда не стреляли, станут у Жукова фаворитами по меткости стрельбы из винтовок. Особенно отличился Аптер, выбивавший не меньше двадцати девяти из тридцати возможных, а на соревнованиях на личное первенство в училище он занял первое место среди курсантов. В стрельбе из положения лёжа он был на равных с командиром взвода, но отставал от него во всех оста-льных видах, особенно в скоростной стрельбе. Старший лейтенант Жуков также знал об издевательствах Цыганкова над Аптерм и Фаерманом, но не становился в их защиту. Когда начались занятия по геодезии, теории артиллерийской стрельбы вообще, а по воздушным целям в особенности, по артиллерийским приборам вообще и зенитным в частности, по материальной части зенитных орудий и электрических цепей, соединяющих ПУАЗО-3 (прибор управления зенитным огнём) с орудиями, вновь произошло разделение курсантов по степени знаний. И опять Аптер и Фаерман оказались первыми не только во взводе, батарее, но и в училище. Аптер превосходил Фаермана в теории, а последний лучше знал материальную часть. Не было случая, чтобы один из них не знал ответа на поставленный вопрос. Хуже всех занимался Цыганков и незначительно лучше его успевал Покрасс, который нисколько не переживал, оправдывая своё отставание тем, что человек не может во всём быть первым и всё сводил к шутке: "В музыке я дока, а в технике - попа". Иногда, указывая на Аптера и Фаермана, говорил: "Что вы сравниваете меня с доктором технических наук и профессором механики?". Но зато, пел! Он был запевалой в нашей батарее и, когда пел, все слушали его с открытыми ртами, постоянно солировал во всех выступлениях художественной самодеятельности училища. По прошествии месяца в училище начали сбор комсомольских членских взносов. Я числился комсомольцем, но билета у меня не было, я его порвал и закопал в поле, когда встретил немцев. Меня взяли на учёт по названному мною номеру и не обратили внимание на сказанное мною о том, что билета у меня нет. Когда я подошёл платить, у меня потребовали комсомольский билет, а я заявил, что его у меня нет, потому что был вынуждён его уничтожить. Срочно собрали комитет батареи и доложили в политотдел училища. Назначили собрание по персональному делу, и полковник Чемеринский присутствовал на нём. После моего рассказа, при каких обстоятельствах я уничтожил билет, начальник училища выступил с речью о героизме комсомольцев, не расстающихся с билетом или погибающих с ним, простреленным на груди. О моём рассказе он с насмешкой сказал, что я пытался свой проступок выдать за героический, будто один противостоял немцам. Он предложил исключить меня из комсомола за уничтожение комсомольского билета, но тут же принять в члены комсомола, учитывая, что я кровью искупил свой проступок. Мне удалось ему ответить, что в комсомольском билете не указывалась моя национальность и уничтожил я его, чтобы им не могли воспользоваться немцы при засылке диверсанта, а паспорт, в котором было прописано моё еврейство, я сохранил и сдал его в военкомате, когда добровольно вступил в Красную Армию. Прежде чем меня осуждать, надо иметь представление, что приходится испытать при бегстве еврею от немцев во время эвакуации, при отступлении уже будучи в армии и в атаках. Мне пришлось смириться, хотя мне было жаль потерять стаж члена комсомола с сентября 1938 года. Быт в училище регламентировался распорядком дня и уставами. Одного часа личного времени еле хватало на то, чтобы побриться, пришить свежий подворотничок, оторванную пуговицу. Ещё приходилось периодически стирать обмундирование и портянки. В баню нас водили ночью, за счёт нашего сна, один раз в десять дней. Читать некогда было, но я продолжал писать двойные открытки в Бугуруслан и регулярно получал ответ, что такие-то не числятся. В госпитале у меня хватало времени с избытком, а в училище многое отвлекало даже от тоски по родным. Но ночью иногда снились родные, местечко с рекой и садами. Для чтения совершенно не оставалось времени, но я увлечённо занимался теорией артиллерийской стрельбы, геодезией, связью, устройством приборов измерения и наблюдения, материальной частью орудий, автомашин ГАЗ и ЗИС, трактора ЧТЗ, топографией, инженерным делом. Я не любил занятия уставами, а потом разлюбил политзанятия. Настало лето 1942 года, нам зачитывают приказ Сталина "Ни шагу назад". К тому времени моё сознание созрело, чтобы воспринять суждения своего отца об общественном строе (государственный империализм в сочетании с худшей формой крепостного права). Мне стало противно присутствовать на политических занятиях, темы которых плелись из сплошного вранья. Если до войны я был стойким сторонником идеологии и учения марксизма-ленинизма-сталинизма, невзирая на попытки отца поколебать мою веру (как веру в Бога), то теперь мои глаза открылись, столкнувшись с советской действительностью. Я с нею сталкивался от рождения, но считал расхождения между теорией и практикой исключением, свойственным только нашему местечку.
Я продолжал слепо верить даже тогда, когда прошагал Молдавию, Украину и часть России, испытав на себе "прелести" общественного строя страны и взаимоотношения между людьми, полные идеологических, интеллектуальных и национальных противоречий, включая открытый антисемитизм. Я созрел для того, чтобы осмыслить увиденное, услышанное и перенесенное за один год с небольшим. Моя жизнь раздвоилась: внешне мои практические действия ничем не отличались от поступков советского человека, а внутренне, - невидимая для других работа мысли вскрывала и осуждала пороки советской действительности. Я убедился: всё окружающее - отвратительный блеф на одной шестой части планеты Земля. Блефом оказалась свобода в стране и свобода личности, блефом оказалось обилие производимой продукции в сельском хозяйстве и в промышленности, блефом оказались воен-ная мощь и героизм, блефом оказалась дружба народов. Действительность говорила о том, что страна отсталая, люди порабощены физически и идеологически, правит нами группа слепцов или фармазонов, которые насилуют естество людей, поставив всё с ног на голову. Они выхолащивают то доброе, что воспитывалось в людях тысячелетиями, - человечность. Мне, если быть последовательным, следовало бы отречься от взятых на себя обязанностей , верно служить строю, который стал ненавистным.
А что тогда делать? Идёт война... альтернативы нет: я - еврей и должен бороться против фашизма с его человеконенавистнической идеологией не на жизнь, а на смерть…
В артиллерийском парке стояли три боевые пушки трёх калибров: 37-, 76- и 85-миллиметровая, а также ПУАЗО-3, полученный совсем недавно, вместо ПУАЗО-2. Последний был очень примитивен, его мы не стали изучать. ПУАЗО-3 (прибор управления артиллерийским зенитным огнём третьей модификации) монтировался на двухколёсном шасси, вокруг него располагались семь прибористов. Они решали с помощью входных данных задачу встречи снаряда с движущейся воздушной целью. Расстояние до цели и направление определял дальномерщик с помощью дальномера, снабжённого трёхметровой оптической трубой с двумя объективами на концах трубы.
Точность определения расстояния зависит, в том числе, от расстояния между объективами. Оптика широко применяется в приборах артиллерии, поэтому мы изучали физические свойства света и преломления лучей с помощью призм, увеличение с помощью линз, а для этого знания физики были необходимы. Во всяком случае, мне было интересно и любопытно учить это всё. Обучение в училище велось по сокращённой программе, рассчитанной на шесть месяцев. Занятия у нас начались 15 мая 1942 года и, следовательно, выпуск должен состояться 1 декабря этого же года. В конце августа отобрали двенадцать наиболее успевающих курсантов из нашего взвода на заготовку дров для училища в леса Самарской области, вблизи станции Богатое. Зимой 1941 - 1942 года в этих местах производился лесоповал и рас-пиловка стволов на трёхметровые части. Наша задача: доставить части стволов с места повала на станцию Богатое, а затем погрузить в железнодорожные вагоны-платформы. На первый взгляд, задание не трудное (деревья повалены, стволы очищены от ветвей и распилены), отвози грузовиками, выгружай в штабеля у железнодорожной линии, а когда накопится достаточно кругляка для выделённого состава, останется произвести погрузку. 30 августа 1942 года мы выехали на двух грузовиках ЗИС-5 из училища, имея сухой паёк продуктов питания, к месту работы. Водители грузовиков профессионалы, бывшие жители Ленинграда, близкие по возрасту к сорока годам. Их семьи оставались в Ленинграде. До этой командировки мы о них ничего не знали, но почти за два месяца тесного общения познакомились с их прошлым и настоящим. Они оба работали на одном из ленинградских заводов, в транспортном отделе и жили со своими семьями в одной коммунальной квартире, имея по жилой комнате. Пользовались общей ванной комнатой, общим туалетом и общей кухней. Им повезло тем, что в квартире проживали их две семьи и две одинокие женщины, которым достались по одной комнатке. У Ивана Васильевича Белова - жена Настя и шестилетняя девочка, а у Николая Филимоновича Казакова - жена и двойня (мальчик и девочка) восьми лет. В первый же день войны их мобилизовали, служили они в одном автобатальоне, который впоследствии был переведен в Оренбург и распределён между военными учебными заведениями. Иван Васильевич и Николай Филимонович не получали писем из Ленинграда. Но в марте 1942 года прибыли в Оренбургские госпитали вывезённые из Ленинграда больные дистрофией - дети, женщины. В нашем госпитале также имелись две палаты для больных дистрофией. В мае Ивана Васильевича вызвали для опознания женщины, которая заявила, что она его жена, Настя Белова. Почти два месяца его разыскивали. Он сразу узнал свою жену, потому что она уже оправилась от дистрофии и уже не выглядела как живой скелет, хотя была острижена под машинку, лишившись своих длинных кос. Их первая встреча произошла в канцелярии госпиталя, потому что речь шла о её выписке. Когда он зашёл, она сидела на стуле с опущенной головой, а руками делала движения, как при умывании. Настя подняла голову и посмотрела на своего мужа таким виноватым взглядом, что у него сердце сжалось от жалости к ней. Он знал, что дочка умерла в Ленинграде, но ему не было известно при каких обстоятельствах это случилось.
В каждом кузове сидели по шесть курсантов, в кабине нашей машины - Николай Филимонович и старший лейтенант Жуков, а за рулём второй машины - Иван Васильевич, рядом - его Настя.
В кузовах везли постельные принадлежности, личные вещи и помимо этого продукты питания и три бочки бензина. Расстояние между училищем и станцией Богатое четыреста километров. Поэтому выехали очень рано, чтобы в светлое время суток прибыть на место. Когда проезжали Бузулук, Аптер вскочил и забарабанил по кабине. Машина остановилась, он умоляюще попросил старшего лейтенанта забежать на несколько минут в дом, где живут его мать и сестра. Старший лейтенант Жуков проявил человечность, и мы остановились рядом с убогим домишком. Аптер соскочил с кузова и вбежал в домик. Через несколько минут он вернулся и пригласил нас всех познакомиться с родными. Впервые мы увидели его таким радостным и возбуждённым, все понимали его чувства. Мы вошли в дом, увидели красивую женщину, голова которой обрамлялась чёрными кудрявыми волосами, в которых пробивались серебряные нити. Рядом стояла его сестра, похожая на него, но очень худенькая и тоненькая сложением. Ей не более восемнадцати лет, а матери не более сорока пяти. Они предложили нам картошку в мундирах - всё, что имелось из еды. Старший лейтенант вышёл и вскоре вернулся с булкой хлеба и куском сахара, вручив это матери Аптера. Мы побыли там не более двадцати минут, распрощались и продолжили путь. Когда приехали на станцию Богатое, старший лейтенант решил все необходимые дела с начальником станции, и мы проехали ещё двенадцать километров до села, избранного базой расположения нашей команды. Село дворов в двести находилось рядом с лесом, откуда нам предстояло вывозить круглый лес. В селе - один колхоз, но нет мужчин в возрасте от восемнадцати до сорока лет. Большинство мужчин старше сорока и юноши от шестнадцати до восемнадцати лет, способные работать, были отправлены на заводы Куйбышева. В селе оставались женщины, девушки, старики и дети. Колхоз зерноводческий, хлеб уже уложен в кресты (по четыре снопа, сложенных крестом), оставалось завершить сбор урожая. Наш командир взвода оказался довольно дельным хозяйственником. Он договорился с председателем колхоза, что мы свезём и заскирдуем урожай, а взамен колхоз добавляет к нашему рациону белый хлеб, мёд и молоко для пятнадцати человек и предоставляет место ночлега. Нас разместили в трёх избах, в которых оставались только их хозяйки, перебравшиеся в избы рядом. В одной избе группа из шести человек, работающих в поле; в другой - шесть человек, работающих в лесу и на станции; в третьей - старший лейтенант Жуков, Иван Васильевич с женой и Николай Филимонович. Я оказался в группе работающих в колхозе. Нам троим выделили по возу с лошадью, работа заключалась в том, чтобы всё свезти к месту скирдования, где наши три товарища, умеющих скирдовать, примут привезенные снопы и уложат их в скирды, причём в необычные - круглые, как принято в этой местности. Работали от зари до зари и без выходных. Три человека работали в лесу, каждый имел в своём распоряжении по лошади с упряжью - постромками, к которым привязывался крюк. Машина не могла въехать в лес, поэтому выволакивали кругляк, вонзая в него крюк. Они же нагружали машину. Пока машина проделывала путь в двенадцать кило-метров до места разгрузки, разгружалась и возвращалась, лесная троица успевала выволочь кругляк для следующей машины. А на станции трое других курсантов укладывали кругляк в штабеля вдоль линии, сохраняя установленное расстояние между ними. Я наловчился работать вилами и управляться с лошадью. Работа не из лёгких, прерывались только на обед, который привозили нам к месту скирдования. Завтракали и ужинали продуктами сухого пайка. Один раз хозяйка угостила нас местным блюдом: очищенным картофелем, уложенным в противень, залитым молоком, и томлёным в русской печи. Купались мы в бане, которая топилась по-чёрному. Для меня это было необычно. У такой бани нет двери, а просто низкий лаз. Дым выходит через лаз от горящих дров, на камельке греется вода. Когда баня жарко протоплена, камни накалены, дрова прогорели и дым вышёл, заходили по одному, поливали водой из ковша накалённые камни и банька окутывалась обжигающим паром...
В конце концов мы завершили скирдование, но группа в лесу и на станции не заготовили нужное количество дров. Больше того, с окончанием наших работ колхоз перестал нас кормить белым хлебом, молоком и мёдом, не давал больше лошадей для трелёвки кругляка. Наша шестёрка переместилась в лес и теперь мы, девять человек, выносим на себе трёхметровые кругляки. Трёхмет-ровый ствол, начинающийся от комля, - самый тяжёлый, его относят двое, а последующие - по одному. Теперь мы работаем тяжелее и питаемся хуже. Я, любитель молока, отпросился на базар в городке Богатое, чтобы выменять кусок хозяйственного мыла на молоко. Может быть когда-то и был базар на большой площади склона (городок расположен на возвышенности), но сейчас там деревянные стойки только напоминают об этом. Несколько женщин продают молоко - сладкое и простоквашу, а покупателей меньше торгующих. У меня нет ни одной копейки, но рассчитываю выменять брусок хозяйственного мыла на кислое молоко.
Направляясь к стойке с молоком, встретил женщину, знакомую мне по Дубоссарам. Сердце учащённо забилось от одной мысли, что она может что-то знать о родных. Я не был лично знаком с нею, знал, что она работала в ковровой артели, размещавшейся в здании синагоги портных, совсем близко от нашего дома. По этой причине я её встречал каждый день. Смуглая, красивая, хорошо сложённая, она незадолго до войны вышла замуж за старшину - сверхсрочника. Я её остановил и вот мы, как зачарованные, смотрим друг на друга. У неё навернулись слёзы на глаза, а я смотрю и не верю, что за тысячи километров от дома встретил землячку. Первой заговорила она и подтвердила, что помнит меня хорошо: "Ты ведь младший сын Казацкера". Она сказала, что живёт рядом и пригласила зайти к ней в дом. Улица была несуразно широкая, а одноэтажные дома стояли далеко друг от друга. Она жила всего в одной комнате, где стояла узкая железная койка, стол и две табуретки. Часть комнаты занимала плита, подключенная к кирпичной печке-голландке, на ней стояло ведро с водой, рядом помойное ведро. На столе - кастрюлька, пара тарелок, ложка, вилка и нож, а под кроватью корыто из оцинкованной жести. Мы сели у стола на табуретках и начались расспросы, воспоминания и рассказы о том, что с нами произошло. Она поведала, что муж её отправил сюда, к себе на родину, но его родители умерли ещё до войны. Есть здесь его родственники, которые ей помогли, чем могли - всё в комнате то, что они ей дали. Она получает от него письма с фронта. Работает на фабрике по изготовлению валенок. Мне надо было возвращаться на станцию, чтобы нашей машиной вернуться в лес. Я положил брусок мыла, завёрнутый в обрывок газеты, на стол, когда вошли в комнату. Про себя сразу решил отдать его ей, женщине, которая так нуждается в нём. Она бросала взгляды на свёрток, но не осмелилась спросить. Но когда я собрался уходить и стоял у двери, она напомнила, что я забыл свёрток, и тогда я ответил, что это ей подарок. У неё полились слёзы из глаз, она сказала: "Даже чаем не могла угостить. Как мне пригодится мыло! Я пользуюсь глиной во время стирки". Мы простились, и я направился на станцию, откуда машиной вернулся на работу. Больше я её не встречал и не знаю о её дальнейшей судьбе... Начались утренние заморозки, надо было спешить с за-вершением работ в лесу до того, как начнутся дожди, потому что грунтовые дороги станут непроезжими. Мы работали, как одержимые. Старший лейтенант Жуков своевременно получал для нас продукты из ближайшего военного гарнизона. Настя, жена Ивана Васильевича, поправилась, волосы отросли и проявилась её былая красота, но она оставалась такой же молчаливой и печальной. Наконец, нам объявили, что мы отгрузили на станции нужный объём дров и есть разрешение произвести погрузку вагонов. Со следующего утра мы начали грузить под наблюдением представителя станции, строго требовавшего соблюдения правил погрузки и тщательной уборки места, где производили штабелировку кругляка. Работу мы закончили поздно ночью, под беспрерывным мелким осенним дождём. Заняли места в кузовах грузовиков и отправились в училище. При спуске с возвышенности, на которой расположен городок Богатое, наш грузовик наклонился и упал на бок, а мы высыпались из него. Нам ещё повезло, что скорость была мала и кузов нас не накрыл. Мы быстро поставили машину на колёса, заняли свои места и продолжили путь. Опять проезжали мимо дома семьи Аптера в Бузулуке, но уже не останавливались. Страшно устали, промокли до нитки, промёрзли и очень хотелось спать. Под утро дождь прекратился и вскоре взошло солнце. В училище мы прибыли после обеда, но наш командир взвода доказал, что он мужик что надо. Он добился разрешения на баню и полную смену одежды и обуви, грязную, изодранную на работе. За полтора месяца мы впервые легли в чистую нормальную постель. За это время набралась почта и мои товарищи стали увлечённо читать письма. Я, не ожидая писем, сидел в классе за столом (было время самоподготовки). Ко мне подошёл Кейз и говорит: - Казацкер, ты можешь поверить, что тебе есть письмо из Киргизии? Я смотрю на его руку, в которой он держит треугольник письма, и чувствую, как сердце заколотилось быстро, и сразу мысль: "Неужели нашлись"? Я вскочил, вырвал из его руки треугольник и стал нервно разворачивать его. Боже мой! Обращение напрямую ко мне и называют меня по-домашнему "Иойналэ". Это как бы пароль... Чужой меня так не назовёт. Я прочёл письмо один раз, второй и третий, смакуя каждое слово. Но что-то тревожное всё же есть в письме... Письмо написано дядей Нахманом... Почему писал он, а не отец, постоянно пишущий все письма? Дядя Нахман пишет, что все тревожно переживали разлуку со мной и надеялись, что я дам о себе знать. Все бесконечно рады тому, что я есть. Писал, что все родные живут в Ленинполе и Орловке, Фрунзенской области, в Киргизии, что на фронте все мои братья, и сёстры Ида и Хая. Я тут же сел писать ответ на письмо и первое написанное предложение было вопросительным: "Почему не написал папа, что случилось с ним?" .Я подробно описал всё то, что произошло со мной и завершил письмо це-лым рядом вопросов, потому что в письме дядя Нахман не мог охватить всё то, что меня интересовало. Письмо утром отправил и стал ждать ответа. Ответ пришёл удивительно быстро - через десять дней. Это значит, что моё письмо шло туда пять дней и обратно столько же. Молодец, дядя Нахман: он написал письмо в день получения моего и в тот же день отправил своё. Молодец-то молодец, но в первых же строках он писал о смерти своего брата, нашего отца. Все мои чувства были подчинены только одной мысли: "Нет отца! Нет нашего любимого и родного человека, которому мы привыкли ве-рить, с которым мы советовались". Я видел и на себе испытал ужасы бегства от немцев, воевал и был рядом со смертью, и госпиталь показал мне в сконцентрированном виде людскую боль и страдания. Но смерть отца не укладывалась в моём понятии, она только фиксировалась как физический уход из жизни самого дорогого для меня человека, но его душа продолжает витать надо мной, его дух направляет меня в жизни, мой интеллект пронизан влиянием его интеллектуальной силы. Учёба продолжалась, нам, не принимавшим участие в ней полтора месяца, пришлось ознакомиться с материалом самостоятельно. Мы, двенадцать курсантов, были освобождены от караульной и внутренней службы и вскоре уже восполнили пробел в знаниях.
С 1 ноября начался период контрольных работ по всем дисциплинам, а выпуск намечался на 1 декабря 1942 года. Стало холодно, ощущалось приближение зимы. 18 ноября нам зачитали приказ об отправке курсантов на фронт без присвоения звания - прожорливая война требовала очередной порции пушечного мяса. Готовился решительный бой под Сталинградом, и он начался ураганом мощной артиллерийской подготовки 19 ноября 1942 года, а с 17 июля по 18 ноября шли оборонительные бои. На фронт отправили абсолютное большинство курсантов, но сынки особо высокопоставленных руководителей остались в училище. Начался набор новых курсантов. Среди оставшихся был сын Шкурина, командира авиационной академии имени Жуковского.
Я попал в группу, направленную в девятую воздушно-десантную гвардейскую дивизию, которая базировалась возле Люберец (под Москвой). Она находилась в состоянии формирования. Ехали мы в знакомых нам теплушках несколько суток. А земля уже нарядилась в белые одежды зимы, которая наступила рано и дала нам почувствовать, что с нею не шути. На нас ещё форма курсантов, совершенно не приспособленная для фронта и плохо защищавшая от мороза. В нашем вагоне ехали шестьдесят человек, все мы прибыли в Люберцы ранним утром, когда солнце начало золотить своими лучами белый снег, искрившийся под ними. Нас направили в седьмой артиллерийский полк девятой воздушно-десантной дивизии (ВДД). Сразу переодели во всё новое, помимо прочего выдали ватные брюки и телогрейки, валенки и плащ-палатки, из оружия - по автомату ППШ, два круглых диска на шестьдесят патронов в каждом, топорик десантника, финский нож, противогаз и противоипритную накидку с чулками.
Поскольку специальных казарм для солдат не было, нас расквартировали в домах местных жителей по несколько человек. Занятия проводились на аэродроме, укладкой парашютов мы занимались в специальном помещении, а рядом с ним возвышалась вышка и фюзеляж самолёта, с которых мы совершали тренировочные прыжки, имитируя прыжок с парашютом. Всё это называлось "наземной подготовкой" для прыжка с парашютом. Заключительный этап подготовки - прыжок из аэростата. На аэродроме два аэростата поднимали каждые пять минут по четыре бойца, которые прыгали из корзины с парашютом. Это - финиш подготовки десантников. В первую очередь привлекли к прыжкам из корзины аэростата пехоту, а когда подошла очередь артиллеристов, поступил приказ об отмене десанта дивизии с воздуха и о направлении её на передовую. Перед отправкой на фронт мы присягали на верность гвардейскому знамени. Церемония обставлялась торжественно: дивизию построили в каре, каждый боец подходил к знамени с гвардейским значком, становился на одно колено и целовал край знамени, получал гвардейский значок и красноармейскую книжку с соответствующей записью. Сразу же после этого мы отправились на платформу железной дороги, и началась погрузка в вагоны. Я был рядовым, командиром стрелкового отделения на передовой, рядовым на излечении в госпитале, рядовым курсантом в училище, а сейчас я просто рядовой девятой гвардейской ВДД. Я ещё не знаю, кем я, бывший курсант училища зенитной артиллерии, буду по должности в артиллерийском полку полевой артиллерии. У нас, бывших курсантов, есть подготовка и знания командиров взводов батарей зенитной артиллерии. Не сомневаюсь, что в таких кадрах большая нужда, потому что немецкой авиации не противостоит наша (её просто нет) и главенству противника в небе может противостоять только наша зенитная артиллерия. Если командование решило отправить на фронт готовых командиров взводов рядовыми красноармейцами, а лётчиков - в пехоту, это означает одно из двух: либо дела на фронте отвратительны для наших войск, либо принято непродуманное решение, граничащее с головотяпством. Такое командование можно сравнить с человеком, растапливающим дрова в камине денежными банкнотами, вместо того, чтобы использовать бумагу. Почти полгода нас, образованных, обучали, тратились на содержание штата училища, обеспечение материальными средствами, необходимыми для учебного процесса. И всё это похерить... Не поверю, чтобы задача пополнения для фронта так безмозгло решалась. Но вернёмся к месту погрузки. Эшелон подали не к платформе, находящейся на одном уровне с полами вагонов, а в стороне от неё. Для погрузки людей это не имело особого значения, но очень осложнило погрузку орудий, ящиков со снарядами, тюков прессованного сена для лошадей, а особенно самих лошадей, всё это вызвало потери времени и ненужные затраты сил. Я - дисциплинированный красноармеец и знаю, что приказ начальника выполняется беспрекословно, но безмолвно судить о приказах не запрещается - никто не знает об этих крамольных мыслях. Мне и ещё одному бывшему курсанту училища (в училище мы не знали друг друга) поручили четырёхосный вагон-пульман, в который нам предстояло ввести восемь лошадей и погрузить двадцать тюков прессован-ного сена. Выделили трап, по которому можно ввести лошадей. Может быть это просто делается с лошадьми обученными, но нам дали диких монгольских лошадей, взятых прямо из табунов. Они не объезжены и даже не знали узды. Мы, которые должны лошадей ввести в вагон, а потом из него их выводить, в пути кормить и поить, никогда не имели представления об уходе за лошадьми. Нам дали мешок, которым следовало закрывать голову лошади, чтобы она не боялась трапа и вагона. И мы занялись этим. Когда пытались надеть мешок, лошадь мотала головой, поднималась на дыбы, опускалась и пятилась. В таком состоянии лошадь не провести по трапу. После того, как удавалось закрыть голову лошади мешком, её немного прогуливали, после чего двигались по трапу. Лошадь заводили на место и ограждали деревянным брусом. Когда таким образом все лошади оказались на своих местах (по четыре с двух сторон вагона) и брусья оградили их, мы сложили на середине вагона тюки сена. Вагоны с людьми отапливались, а вагоны с лошадьми - нет. Хотя восемь лошадей создавали микроклимат, но в нём превалировал запах, а не тепло. Нам было хлопотно и холодно. На остановках мы бегали с брезентовыми вёдрами, чтобы поить лошадей. Благо ещё, что сено находилось под рукой. Дорога до конечной станции Крестцы тянулась от Москвы через станции: Клин, Калинин, Торжок, Вышний Волочёк, Бологое и Валдай. Двое суток мы были в пути и подолгу простаивали на станциях. Населённые пункты на пути следования были сожжены. То же и со станцией Крестцы. Разгрузку начали в обратном порядке: разгрузили тюки с сеном, а потом лошадей. Там нас уже ожидали сани-розвальни, на них мы грузили сено и привязывали к саням по две лошади. На этом заканчивалась наша забота о диких степных лошадях Монголии на земле Новгородской области, на линии Калининского фронта. Мы хорошо изучили этот район по картам, будучи на формировании возле Люберец, потому что нас собирались десантировать в лесах вокруг Старой Руссы, вблизи озера Ильмень, в которое впадает множество речушек и среди них река Ловать, на западном берегу которой были немцы. Высаживались несколько наших десантов в районе, где находились окружённые немцы, но они были уничтожены ими. Поэтому отказались от очередной попытки и наша дивизия действовала, как обычное сухопутное соединение. Она заняла позиции у восточного берега реки Лавать против города Холм.
В тылу, от нас на востоке, озеро Стерж и знаменитое озеро Селигер, откуда берёт начало Волга. К передовой мы ехали на санях и прибыли в расположение штаба седьмого артиллерийского полка, вблизи огневых позиций в окружении лесов, на Валдайской возвышенности. Вся местность изрыта глубокими воронками от авиационных бомб, в оспинах Демянской операции, которой руководили Тимошенко и Ворошилов, когда тысячи наших красноармейцев и командиров погибли от бомбового удара немецких самолётов и тела которых продолжали лежать там, где их смерть настигла. В дивизион 76-миллиметровых орудий попали: Аптер, Фаерман, Драгунский и я - все бывшие курсанты из одного взвода в училище. Фаермана направили в штаб дивизиона расчётчиком при подготовке данных для стрельбы, а нас - в батарею капитана Терентьева. Оказавшись перед своим комбатом, мы по очереди называли себя и отвечали на вопросы капитана. А он, выслушивая ответы, вставлял отдельные реплики, в которых сквозил юмор - довольно грубый. Первым он расспросил Драгунского и узнал, что тот уроженец Оренбурга и по окончании десяти классов был направлен в училище. Обращаясь к Аптеру, он, прищурясь, будто прицелился к лицу этого интеллигентного парня, с которого редко сходила добрая, слегка виноватая улыбка; его большие глаза, опушенные длинными ресницами, лучились доверчивым взглядом. - Ну, а ты, как я понимаю, доктор Аптер. Драгунский слегка улыбнулся и в его улыбке мелькнуло злорадство. Я зло посмотрел на него и вмешался, убеждённый в своём праве фронтовика, немало пережившего до училища. - Товарищ капитан, впервые окрестил Аптера "доктором" помощник командира нашего взвода в училище. Но он моложе вас и отъявленный антисемит. Его фамилия Цыганков, но может быть он ваш родственник? Аптер учился на инженера, закончил два курса института, а в училище он был самым способным и исполнительным курсантом. Вы нам годитесь в отцы, так почему вы надсмехаетесь над нами?- Как ваша фамилия? - Казацкер! - Как, как? Казацкий? - Нет, товарищ капитан, я вам лучше напишу свою фамилию: по опыту знаю, что моя картавость не позволит разобрать её окончание. Но это не важно: в списке моя фамилия написана и вы можете её прочесть.- Кто вы по национальности? - Я еврей и об этом в списке тоже написано.- Напрасно вы обиделись. Просто я люблю пошутить, а фамилия Аптер у меня невольно связалась со словом "доктор".
То, что я уже воевал с самого начала войны, был ранен, лежал в госпитале и проявил чувство собственного достоинства в разговоре с ним, стало причиной тому, что он назначил меня командиром отделения телефонной связи.Драгунский стал телефонистом на НП, а Аптера определил в орудийный расчёт на ОП.
Была и вторая причина: Терентьев хотел искупить свою вину. Поэтому использовал первую же возможность и очень откровенно рассказал о себе, выразив мне своё доверие, как способному откликнуться на душевность. Он заметил, что я регулярно отдаю свои сто граммов водки товарищам, что не ругаюсь матом. Расспросил подробно о моей семье. Узнав, что на фронте нас четыре брата и две сестры, мужья сестёр, стал ко мне относиться с полным уважением. Сам он пережил сложную семейную трагедию. Женился в возрасте двадцати восьми лет на девушке из своей деревни, моложе его на десять лет. Приметил её пятнадцатилетней, во время своего пребывания в отпуске дома. В следующий свой приезд домой, когда она уже смотрелась невестой, предложил ей стать ему женой. Она эта приняла, как чудесную сказку. Это был 1930-й год - разгар коллективизации и раскулачивания. В деревне голодно и смутно. Замужество за военным - за кадровым командиром взвода - в то время казалось вершиной счастья. А жених и в самом деле был завидный: стройный, высокий, широкоплечий, большие серые глаза, рот с чётко очерченными губами, высокий лоб и прямые волосы льняного цвета. Говорил приятным баритоном. Даже в свой сорок один год он выглядел эффектно. Можно понять эту деревенскую девушку: она влюбилась в него. Они зарегистрировали свой брак в сельсове-те, устроили вечеринку, на которой все перепились си-вухой, и сразу после этой свадьбы укатили. По прибытии в полк, который располагался возле Гомеля, он доложил командиру полка - кстати еврею - о своей женитьбе. Со своими сослуживцами полка тоже отмечали создание их семьи. Он привёл молодую жену на квартиру, которую снимал у старых одиноких супругов, потерявших своего единственного двадцатилетнего сына. Он погиб в пьяной драке, накануне первой мировой войны. Они очень любили постояльца и относились к нему, как к сыну. Его жену приняли по-родственному.Начались будни военной жизни: занятия, летние лагеря, учения, тревоги. Так это продолжалось до 1937 года. В 1937 году не стало командира полка и некоторых ко-мандиров стрелкового корпуса, в состав которого входил и его полк. Появилось много новых командиров, а затем пошли слухи о вредительстве, шпионах, врагах народа. Очень трудно было разобраться в той обстановке, и капитан избегал давать оценки тем событиям. Но из недоговорок в его рассказах я понял, что он не безоговорочно воспринимал те события. Новый командир полка, украинец с будёновскими усами, был груб и смахивал на запорожского казака. Он стал засматриваться на жену капитана. Надо сказать, что самая горячая любовь, которая, каза-лось, никогда, никогда не остынет (бог детей им не дал), вдруг начала давать трещину. А началось с того, что же-на командира полка, заметившая увлечённость своего мужа молодой и красивой женой старшего лейтенанта, вскоре его предупредила об опасности. Он ей гордо ответил, что верит своей жене, зная её порядочность и вы-держку. Однако дружба породила предательство, а любовь - измену.Командир полка относился к нему добродушно, покро-вительственно. Зимой он несколько раз командировал его на заготовку дров. Во время третьей командировки, которая уже длилась неделю и должна была завершиться через несколько дней, он созвонился с начальником штаба и испросил разрешения побыть дома один день. Был период праздников (рождество, новый год, крещение), и старики уехали накануне рождества в свою деревню, где церковь ещё функционировала, оставив дом на квартирантов.Терентьев вернулся домой около двенадцати часов дня. К дому шёл быстро, словно нёсся на крыльях, насвистывая мотив солдатской песни. Подойдя к дому, он встретил соседку, живущую через забор, с которой всегда раскланивался, но ни разу не вступал в разговор. И на этот раз поздоровался, но она не ответила, а приложила палец к губам и молча потянула его за рукав к себе во двор, закрытый высоким деревянным забором. Он почуял что-то недоброе и послушно последовал за ней.Шёпотом она ему поведала, что его командир полка находится у его жены больше часа и что это повторяется каждый день с момента отъезда стариков - целых пять дней. Он выслушал соседку с ледяным спокойствием, а затем направился к себе. Не успел он взяться за ручку двери, как она отворилась и в проёме показалась мощная фигура командира полка. Терентьев плохо помнит подробности, потому что нахлынула на него волна бешенства. Но помнит, как втолкнул полковника в сени, задвинул засов входной двери и начал "метелить", как он выразился, своего комполка. Что он с ним сделал, плохо помнит, но на суде рассказывали, что полковник выполз из дома на четвереньках, без шинели, в одном сапоге, а лицо его представляло сплошной кровоподтёк. Терентьев держал маузер "запорожца", нацеленный в зад "герою", и пинками ног, обутых в сапоги, провожал ползущего командира полка. Неизвестно откуда вдруг появился фаэтон комполка и кучер, соскочивший с козел, - дюжий украинец, возивший комполка, - с трудом погрузил своего шефа и быстро умчал его в штаб. Терентьева посадили под домашний арест и на следующий день повезли в штаб округа. Военная прокуратура быстро произвела расследование. Не прошло и двух месяцев, как состоялся суд, вынесший решение: старшего лейтенанта Терентьева за совершённый самосуд над комполка разжаловать в лейтенанты и направить для дальнейшего прохождения службы в Дальневосточный военный округ. Полковника Федько (командира полка), который умышленно посылал старшего лейтенанта Терентьева в командировки, чтобы в его отсутствие сожительствовать с его женой, чем опозорил звание красного командира, лишить воинского звания, уволить из рядов Красной Армии и лишить права на получение пенсии за восемнадцатилетнюю службу в её рядах. Терентьев развёлся со своей женой и больше не женился. С пополнением сибиряков он прибыл в Москву и участвовал в боях по разгрому немцев под Москвой. Там он опять получил старшего лейтенанта, а незадолго до нашего прибытия - капитана. По партийной линии он получил строгий выговор, который с него сняли ещё в январе 1941 года. Он очень презрительно, с гримасой брезгливости отзывался о женщинах, а особенно о жёнах командиров. У него было много случайных встреч, о которых рассказывал не стесняясь, упоминая все подробности, чем меня немало шокировал. Я его слушал, как и все остальные, не перебивая, но разница в том, что все соглашались с его мнением о коварстве и склонности женщин к измене, а я не верил в её природную порочность. Но где мне, непорочному юноше, спорить с многоопытным сердцеедом, который порхал от одной женщины к другой, сам становясь её жертвой...
Никогда не думал, что валенки могут вдруг стать в два раза тяжелей. Произошло это потому, что старался идти без отклонений в направлении ОП (огневая позиция) и не избегал луж снеговой воды. Зима в начале декабря 1942-го года выдалась суровая, и я был рад полученным валенкам. Радость, конечно, относительная: прошлую фронтовую зиму я провёл обутым в ботинки с обмотками. Для меня валенки стали приятной новинкой, ибо до той поры не носил их и не знал, как ими пользоваться. Откуда мне, южанину, это знать? Как бы ни надоела зима с её морозами, снегами и пронизывающими ветрами она имела одно преимущество перед наступающей весной - ногам было сухо. Но сейчас уже март, солнце временами пригревает так, что снег стал рыхлым и на пригорках обозначились тёмные пролысины, а в углублениях - снеговая кашица. Весна, естественно, обрадовала своими первыми признаками, но настораживало то, что снег налипал на валенки, делая их пудовыми. Я никогда не предполагал, что снеговая вода способна так быстро пропитать валенки и леденить ноги. Особенно неприятно действовал холод на правую ногу - рана ещё не совсем зажила. Рана эта - память прошлой фронтовой зимы, когда я был ранен осколком, а лишённый возможности двигаться, отморозил ноги и пальцы рук.
Но делать нечего: необходимо быстро проложить кабель телефонной линии связи от КНП (командирский наблюдательный пункт) к ОП. Только по радио нельзя обеспечить устойчивую связь, а значит исключается эф-фективность командования огнём батареи. Комбат (командир батареи) злится из-за бесконечного повторения: "Как слышишь? Приём!" Его понять можно: подавить огневую точку противника надо быстро, а радиосвязь функционирует в три раза медленнее телефонной. Но нам, телефонистам, достаётся: в любую погоду и в любое время суток - обязательно по бездорожью - надо прокладывать кабель, двигаясь прямолинейно, максимально экономя его. Мы завидуем немецким телефонистам. Их кабель имеет особую, прочную и гладкую водонепроницаемую плёнку. Плёнка разных ярких цветов. Наш кабель имеет волокнистую просмоленную оплётку, которая способна намокать. Цвет один - серый. Немецкий кабель тоньше и легче нашего. Больший вес и диаметр, набухание создают ряд трудностей в прокладке и эксплуатации нашего кабеля.Хорошо если он проложен один, только свой. Но рядом есть соседние подразделения, части, соединения и они также стремятся проложить свою связь быстро и экономно, а значит по кратчайшему пути. Поэтому кабели прокладываются параллельно или пересекаются в разных направлениях. Взрыв снаряда или мины часто рвёт несколько кабелей разных подразделений, частей, соединений. То же происходит от множества осколков при взрыве снарядов в воздухе. А цвет кабеля у всех один! Попробуй сразу отыскать концы кабеля своей линии связи. Бывает ещё так: не хватает куска кабеля и телефонист другого подразделения обрезает от нашей линии и связь пропадает.
- Драгунский! Быстро на линию! Связи нет. Чтобы бегом мне! Я жду приказа от комдива ( командир дивизиона) об открытии огня.- Товарищ комбат...- Ты ещё здесь !? Мать твою... Бегом!..
И Драгунский "помчался". А он, бедолага, навьючен: атомат на груди, вещмешок за спиной, малая лопата, топорик, финский нож, фляга, запасной круглый диск к автомату, противогаз на одном боку, телефонный аппарат (для контроля) - на другом, противоипритная накидка и чулки, плащ-палатка, погнутый закопчённый круглый котелок, притороченный к вещмешку. А одет он... Кургузая, прожжённая и замызганная шинель, под ней ватная куртка и ватные брюки, на ногах мокрые валенки, на голове шапка-ушанка, с шеи на бечёвке свисают меховые рукавицы. Это только то, что видно. Но на нём ещё надеты нательное и тёплое бельё, тонкие и тёплые портянки, брюки и гимнастёрка. Мешок тощ, в нём ютятся: бритва, помазок, серое от грязи полотенце, трофейный комплект для еды (ложка, вилка, нож), которым он очень гордится, потому что вы-зывает зависть у товарищей. Ведь у остальных только деревянные ложки, хранимые за голенищем валенка. "Помчался" - это не то слово, которое способно определить действительную скорость движения Драгунского. Надо же такое сочетание: Драгунский и бегом! Разговор происходил внутри треугольного сруба из брёвен. Высота сруба внутри в рост человека, стоящего на коленях, а в метрическом измерении - 1,1 метра, что соответствует длине сапёрной лопаты. В проём сруба можно пробраться только на четвереньках. Он завешивался плащ-палаткой. Сруб освещался коптящим фитилём, зажатым в гильзе 37-миллиметрового снаряда зенитной пушки. Иногда для освещения, если кончалось горючее, жгли куски кабеля. Отаплива-ли такой сруб примитивной печкой, изготовленной из разрезанной пополам бочки. Этот сруб служил КНП (командирским наблюдательным пунктом) нашей бата-реи 76-миллиметровых пушек. Естественно, наблюдать за противником из сруба нельзя, для этого были наблюдательные пункты разведчиков отделения взвода управления. Для этого использовались деревья (в лесу) или прямо из траншеи пехотинцев. Сруб служил местом отдыха и узлом связи командира батареи и командира взвода управления. В состав взвода управления входило отделение разведчиков (как уже было выше сказано), отделение телефонной связи и отделение радиосвязи. Командиром отделения телефонной связи был я, в моём подчинении находились: двое линейных и четыре телефониста. На КНП связь была проложена телефонистами дивизиона, а от нашего КНП связь прокладывалась моим отделением к ОП батареи и к БНП (боковой наблюдательный пункт). Командир стрелкового подразделения прокладывал к нам телефонную связь, если батарея его непосредственно поддерживала своим огнём. Проложить связь - это только часть работы. Надо было обслуживать эти линии так, чтобы связь действовала исправно и непрерывно. Этим занимались я и линейные. Пока стояли морозы, работа ладилась, а как только началась оттепель, возникли перебои в доставке продуктов и рацион становился всё меньше и скуднее. От недоедания мы все похудели, многие заболели куриной слепотой. Из семи человек в моём отделении только я и Драгунский избежали этой слепоты. Поэтому пришлось нам двоим выполнять работу линейных.
Незадолго до приведенного выше диалога я вполз в сруб, тяжело дыша после проделанного пути ОП- КНП, куда проложил связь. Если бы не это, то именно я дол-жен был бы отправиться на линию. Драгунский ушёл, но через четверть часа вернулся и доложил о порыве в двадцати метрах от нас, а причина порыва - осколок снаряда. За эти четверть часа комбат производил разнос старшему на батарее по радио, стараясь избегать нецензурных слов, но обещал продолжить этот разговор, не стесняясь крепких выражений, как только будет восстановлена телефонная связь.
Действительно, как только она заработала, капитан Терентьев - наш комбат, "оседлал" своего конька и с азартом истого матерщинника отводил душу, да так, что я, хорошо знавший его репертуар, удивился новым вариациям его фольклора.
А ругать было за что. Командир 1-го огневого взвода, он же старший на батарее, лейтенант Мартынюк, ошибся в прицеле, и батарея произвела залп, уже после пристрелки, когда на прицеле было на десять делений меньше положенного, а это значит, что снаряды попали на пятьсот метров ближе. В результате наши четыре снаряда разорвались в ста метрах от нашей передовой. Надо ещё благодарить судьбу, что не ошибся на двенадцать делений прицела.- Ну, нам, кажется, повезло, - заключил капитан. - Хорошо, что порыв был так близок. Драгунский, сядь к аппарату, а тебе, Казацкер, можно поспать часа два. Учти, придётся тебе и Драгунскому проложить связь на БНП, что в двух километрах от нас. Связь необходимо установить до темноты. Рассчитываю только на вас двоих: все остальные сами себя еле носят, а где им ещё по две катушки кабеля и по аппарату таскать! Помимо этого они ночью слепые - куриная слепота. Мне уже сорок один год, я кадровый артиллерист, но не могу придумать, как вести эффективный огонь бата-реи, в которой не хватает одной трети личного состава, когда половина людей ничего не видит с наступлением темноты и все стали доходягами.
Но вернёмся к моменту, когда я уселся и упёрся спиной в брёвна сруба, вглядываясь в полумрак. В срубе сидели в такой же позе, как и я, КВУ (командир взвода управления) лейтенант Шуров, похрапывая во сне, тихо спали разведчик Воробьёв и радист Щадрин. Определить фигуру и рост этих сложенных пополам людей было невозможно. Высота сруба как бы уравнивала всех.
Комбат удалился на короткое время и вернулся на четвереньках.
Я рассматривал его не стесняясь, бесцеремонно, зная, что он слеп, как сова, после наружного солнечного света. Он сел, обращённый ко мне, и я увидел его закопчённое лицо с покрасневшими от бессонницы и дыма глазами. Ему почти не удаётся отлучиться от КНП. Когда я понял, что он скоро "прозреет", я закрыл глаза и почти сразу заснул.Не знаю, сколько спал, но мне снился какой-то кошмар. Будто нахожусь где-то в каменном помещении. Нет окон, со стен свисают цепи, на них светильники, прикреплённые к кронштейнам. Свет от них красный, в ореоле сизого дыма. Чувствую, что тяжело дышать и надо бы изменить положение, но что-то мешает, особенно ногам. Что это? Мои ноги в деревянных колодках? Ах, да! Чему же удивляться ? Я ведь давно здесь нахожусь, и это не вызывает протеста. Я покорно себе уясняю: я здесь очень давно. - Драгунский!
Какой такой Драгунский и откуда несётся знакомый голос, командный крик, когда в этом каменном мешке нет никого кроме меня? Но нет, меня кто-то тормошит и называет по фамилии.
- Вставай, Казацкер! Садись за телефон!.
С трудом открываю глаза - тяжёлые веки плохо слушаются - и вижу расплывчатое выражение лица лейте-нанта Шурова, моего непосредственного командира. Постепенно начинаю видеть яснее. Он будто вставлен в раму: на фоне прямоугольного проёма, с которого отки-нута плащ-палатка.
Снаружи виднеются ноги, свисающий телефонный ап-парат, я догадываюсь, что там Драгунский.
- Быстро ты смотался. Порыв был опять рядом?
- Товарищ комбат, кто-то повадился вырывать куски кабеля из нашей линии, и это уже не в первый раз.
- Как же ты исправил, если пошёл без кабеля?
- Проявил солдатскую находчивость: забрал кусок соседней линии. - Ну, ладно. Однако смотри, если застукают, то это трибунал. Сколько раз предупреждал комвзвода, что могут из-за этого прикончить на месте. Это же преднамеренное повреждение связи. Дело даже не будет направлено в трибунал. А он, как пацан, улыбается и приговаривает: - Ничего. Пронесёт. А что нам делать, если у нас крадут?
Вызывают сорок первого. Передаю ему трубку, но и мне слышен голос двадцать первого (командир дивизиона по коду), который приказывает: - Через час должна быть налажена связь с БНП (боковой наблюдательный пункт), а потом отправить туда разведчика для наблюдения!
Я хорошо знаю, что означает этот приказ: опять я должен навьючиться и шлёпать по лужам ледяной воды, проваливаться или скользить в снежной каше. А плечи ноют, ноги сдавлены разбухшими валенками не хуже, чем деревянными колодками, которые мне приснились.
Я не ожидаю приказа и с трудом становлюсь на колени. Две катушки, контрольный аппарат - остальное снаряжение на мне - и тащусь к выходу (вернее сказать "к выползу"). Только слышу вдогонку: - Всё слышал? Понял? Вопросы есть?
- Нет, товарищ капитан. - Тогда захвати с собой Драгунского.
- Пошли, друг, но захвати последние две катушки. Сейчас нам придётся поплавать: расстояние точно два километра - только что смотрел карту. Если не будем идти строго по прямой, то не хватит четырёх катушек.
И мы двинули вдвоём прокладывать кабельную телефонную связь между КНП и БНП. Надо отметить, что связь КНП-БНП наиболее уязвимая. Уязвимость возрастает из-за того, что её линия пролегает параллельно передовой, в отличие от связи КНП-ОП, направленной перпендикулярно к передовой. Параллельность к передовой увеличивает вероятность попадания мин, снарядов и осколков от них. Но самая большая опасность для нас, телефонистов, исходила от немецких охотников за языками или разведчиков, которые подключались к нашим линиям телефонной связи для подслушивания. Эти линии были для них лёгкой добычей: не надо было проникать глубоко в расположение наших войск. Охотники за "языками" действовали по простой схеме - устроить порыв, засесть в засаде и ждать прихода линейного, который занимается устранением неисправностей на линии.
Подслушивание происходило ещё проще. Под покровом ночи пробирались к линии, втыкали иглы-контакты в кабель, а затем присыпали снегом свои провода, уползали в засаду и слушали через наушники. Мы отправились в светлое время дня, когда солнце ещё светило, но надо было добраться к месту до сумерек, а иначе не найти в лесу землянкусруб. Трудно заметить ориентиры, которые помогли бы добраться точно в указанное место.
Разматывали катушки поочерёдно: одну он, одну я, чтобы равномерно освобождаться от тяжести и не двигаться по лужам. За направлением следил разматывающий, а второй укладывал кабель, создавая приметы для обнаружения своего кабеля.
Когда я укладывал кабель, то видел спину Драгунского и катушку, которая производила разные по тембру звуки, в зависимости от её загруженности кабелем. Вначале скорость вращения барабана меньше и звуки мягче, неторопливые, а затем скорость увеличивается и слышится характерное: гыр - гыр - гыр, скоро вся, скоро кончится!Наконец, эта мелодия угасает и надо подключать конец кабеля очередной катушки. Мысли направлены только на то, чтобы не потерять направление, не попасть в слишком глубокие лужи, как экономнее обойти препятствие. Постоянно сверлит мысль: хватило бы кабеля, а иначе надо будет одному вернуться и изыскать кабель. Оттуда никого не пришлют - не только потому, что людей мало, - нет никого, кто способен передвигаться, а особенно в темноте. Многое останется непонятым, если не рассказать об общей обстановке на этом участке фронта и об условиях ежедневного фронтового быта, взаимоотношениях фронтовиков. Рассказы участника войны - наиболее достоверный источник знания о происходящем на фронте, хотя и они страдают некоторыми существенными недостатками. Главные из них - субъективизм и эмоциональность. Но есть ещё один объективный недостаток. Боец и командир низкого ранга имеют очень узкий сектор обзора, ещё более они ограничены в передвижении: вперёд не пойдёшь - там враг, назад - пахнет дезертирством, налево и направо - там то же, что у тебя. Я хочу развеять налёт романтизма, без которого редко встречаются литературные произведения о войне и рассказы фронтовиков. Времени, чтобы смотреть по сторонам, вне указанного сектора наблюдения и действий, практически нет. Но то, о чём я рассказываю, не выходит за указанные рамки, и я продолжу рассказ о фронтовых буднях изнутри, о событиях небольшого отрезка времени.
Нам повезло: увидели небольшую поляну, на её краю сгоревший танк Т-34, посередине высокая и мощная сосна, а у её основания - землянка, вернее сруб, вкопанный почти до самого верха. Повезло в том, что кабель не подвёл - его хватило с запасом в несколько метров. Закопать сруб кому-то удалось только потому, что он находился на вершине холмика высотой в три метра. По отрытому спуску к срубу мы прошли во внутрь, где можно было стоять во весь рост. Пол тоже выложен брёвнами. Двери не было - только проём. От печки, которая здесь когда-то стояла, оставалась земля, насыпанная под неё, пепел и головешки. Но для нас это были царские хоромы. Солнце успело скрыться за деревьями, но в сумерках можно ещё ориентироваться. Доложил об установке связи, комбат раздражённым тоном ввёл меня в курс дальнейших несложных действий. Оказалось, что командир дивизиона отменил приказ о занятии БНП. Но так как уже темно, он приказал остаться в срубе до утра, а утром смотать кабель и вернуться на КНП. Мы нанесли хвою, сухие ветки для костра, занавесили одной плащ-палаткой вход. Ввиду того, что осталось отверстие для трубы печки, мы разожгли костёр внутри и в срубе сразу стало уютно. Растопили снег и пили кипяток. Потом улеглись на хвое и укрылись одной палаткой. Спать условились по очереди. Рядом автоматы и гранаты. Мы были рады отдохнуть от ночных исправлений линии связи, а дежурство у нашего телефона самое лёгкое. Костёр догорел и я решил плащ-палатку снять с проёма входа, чтобы можно было наблюдать за его светлеющим прямоугольником. Мы здесь одни, не знаем, где точно проходит передовая. Немецкие "охотники" пробирались и глубже, где располагались больше чем двое бойцов - целые подразделения… Драгунский быстро заснул, как только умеют постоянно невысыпающиеся люди, спящие урывками. Ему я предоставил возможность спать беспрерывно два часа, а сам сидел у телефонного аппарата с автоматом, готовый в любой момент открыть огонь по тому, кто появится в проёме. Так что мысль оставить вход открытым была правильной. Гранатами нас забросать могли запросто, как через отверстие для трубы печки, так и через вход, могли устроить засаду у сруба. Чтобы такое не случилось, надо было одному дежурить снаружи, но кто тогда будет у телефона? А мы так молоды и так утомлены, что не было сил отказаться от отдыха в помещении. Постоянно хотелось спать и кушать.
Мы уже вторую неделю голодали, но желание спать оказывалось сильнее желания покушать. Время для смены мы узнавали у дежурного телефониста на КНП. Я бодрствовал, впиваясь взглядом в открытый проём, и прислушивался к ночным шорохам. Раздался тихий зуммер (вместо звонка), и КВУ, который сам был вынуждён дежурить у телефона, объявил проверку связи.
Я узнал, что уже 22.00. Это хорошо и плохо. Хорошо потому, что до утра можно отдыхать ещё шесть часов, а плохо потому, что всё это время надо быть в постоянном напряжении. Рассчитывать, что мой товарищ будет добросовестно сторожить, я не мог. Выходит, что я не буду спать, а только дремать в заботе: не заснул ли Драгунский. Было уже за полночь, когда сон меня переборол. Растолкал напарника, дал ему возможность окончательно проснуться, предупредил о проверке связи и наказал меня будить при малейшем подозрении в чём-либо.Наконец, сон меня полностью пленил, частично сняв напряжение. Надолго ли? Слышу: "Я больше не могу!". Опять прошла проверка связи, но уже комбатом. Было около 3.00. Молодец Драгунский: не тревожил почти три часа.
Спать мне уже не придётся, но можно лёжа отдыхать. В этом случае, правда, усиливается террор вшей, которые прочно удерживали занятые позиции и осваивали новые за счёт роста своей численности в геометрической прогрессии. Они находились не только в нательном белье, но и во всей одежде, даже в воротнике шинели. Ничего удивительного: пошёл третий месяц, как мы не купались и бельё не меняли. А если бы даже его сменили, то "партизаны" остаются в остальной одежде. Иногда ещё удавалось раздеться до пояса у костра, накинув на себя шинель, держать над огнём одежду. Держишь над огнём нашпигованную насекомыми вещь, и злородная улыбка не сходит с лица, пока слышится треск твоих истязателей. Но большая часть всё же остаётся в одежде.
А что творилось в волосах! Голова, лобок, подмышки кишели вшами!Наконец, забрезжил рассвет. Я встал, сбросив с себя палатку, вышёл из сруба. Светало справа, если стоять лицом к передовой, свет постепенно переходил в ро-зовый. Я стал у сосны и невольно залюбовался восходом. Когда солнце уменьшилось до нормального размера, вернулся в сруб и разбудил крепко спящего товарища.
Последние несколько дней солнце светило без помех от восхода до заката - ни одной тучки в голубом небе. Поэтому подтаял снег, и уровень грунтовых вод тоже поднялся. Подтверждением тому служил наш сруб: вечером не было между брёвнами пола следов воды, а к утру вода достигла середины толщины брёвен. Наши сборы недолги, мы выбрались из укрытия, чтобы перекусить, и начать сматывать наш кабель. Нашли относительно чистый снег, которым умылись, и в котелки плотно вдавили снег, поставили их у костерка из собранных сухих веток. Костры мы научились разжигать даже в дождь - в этом помогала нам кора берёзы.
У каждого оставалось по одному сухарю, который получали в последнюю неделю, как суточный паёк. Соли уже давно не было. Вскипятили снеговую воду и приступили к чаепитию: опускали краешек сухаря, твёрдого как камень, в кипяток, затем бережно откусывали маленький кусочек и запивали кипятком.
Но нам не пришлось долго блаженствовать: немцы приступили к ежедневному утреннему обстрелу по площадям бризантными снарядами. Стрельба по площадям не ведётся прицельно. Согласно разведданным выбирается по карте участок вероятного скопления войск противника, вычисляют данные для стрельбы - прицел, направление, вид снаряда, порядок переноса огня по дальности и направлению, а также его интенсивность - и открывают огонь.Почему именно бризантными снарядами? Осколочными и фугасными снарядами стреляют по противнику на открытой местности. Они не эффективны в лесу, потому что осколочные взрываются при встрече с малейшей преградой, даже задев ветку. Бризантные же снаряды, снабжённые в качестве взрывателя дистанционной трубкой горения, могут взрываться в любой точке траектории, а значит и в воздухе. Поэтому они применяются зенитной артиллерией. Они обладают действием осколочных снарядов и обстреливают ими живую силу, находящуюся в лесу, поливая её дождём осколков. Немцы обстреливали нас именно бризантными снарядами. Нам это было хорошо известно и стало привычным, а поэтому мы потеряли осторожность и не очень-то укрывались. Но на этот раз наша беспечность обошлась дорого. Противник уже успел произвести с десяток выстрелов - стрельба велась одной батареей, - когда над нами появились разрывы. До этого снаряды рвались в стороне. Залп разорвавшихся снарядов раздался над нами, и ос-колки со свистом густо ударили о землю и дерево, возле которого мы сидели. Когда звуки разрывов стихли и я подумал, что слава Богу, пронесло, вдруг увидел Драгунского, передвигающегося на четвереньках в сторону сруба. Я последовал за ним и настиг его уже лежащим на спине. Он дрожал, лицо белое, как мел, мутный взор, что-то мычит. Картина ясная: товарищ ранен и надо ему оказать помощь. Кисть правой руки перебита осколком и безжизненно висит; кровь не фонтанирует, значит , артерии не задеты. Его индивидуальным пакетом перевязал рану. Повязка только порозовела, значит кровотечение приостановлено. Но он пытается левой рукой показать что-то и тянется к правой ягодице.
Я понял, что не только рука пострадала. Расстегнул и стянул наполовину по две пары брюк и белья... На правой ягодице - большая глубокая рана. Из-за ранения у него случилось непроизвольное испражнение. Пришлось вначале очистить его, промыть водой, которая оставалась в котелках. Перевязал своим пакетом и его изодранной рубашкой. Одел его и вытащил из сруба, ибо вода продолжала подниматься. Взвалил раненого на спину и перенёс к сгоревшему танку. Из веток и хвои устроил ложе и уложил раненого на него. Кровотечение остановилось, и он оправился от шока. Всё хозяйство сложил возле него. Вдруг я увидел санитаров с волокушей и бросился к ним, прося их помощи. Они отказали наотрез помочь раненому другой части, мотивируя тем, что им хватает своих. Комбату я доложил о случившемся и спросил, как мне поступить. Последовал приказ: оставить раненого и имущество на месте и отправиться на ОП, откуда старший на батарее отправит двух бойцов с носилками, а я буду проводником. После отправки раненого я должен смотать кабель до середины, где дожидающийся разведчик заберёт смотанные кабелем две катушки, а я завершу сматывание линии связи. До ОП четыре километра, а значит, мне предстояло пройти восемь километров по налипающему к валенкам снегу, шлёпать по лужам снеговой воды, которых становилось всё больше. Я очень торопился, зная, что товарищ нуждается в квалифицированной помощи. Сам я истощён недоеданием и напряжением, а пройти это расстояние в таких условиях - не лёгкое испытание даже для нормально питающегося бойца. Когда я добрался до ОП, меня уже дожидались два бойца с носилками. Важно чем быстрее добраться к раненому, и мы отправились за ним сразу. Его застали говорящим по телефону с комбатом. Комбату я доложил о выполнении первой части приказа и о том, что приступаю к сматыванию связи. После нелёгкого пути вновь сматывать связь (будучи навьюченным четырьмя, пока пустыми, катушками, двумя телефонными аппаратами, снаряжённый обычной выкладкой и оружием) было тяжко. Когда солнце уже садилось, я оказался в одном километре от КНП. Разведчику передал две полные катушки и один телефонный аппарат, после чего мне стало немного легче. С трудом я дотащился до КНП, доложил о выполнении приказа. Комбат велел мне дежурить у телефона, чтобы отдохнуть. КВУ поморщился, зная, что ему придётся бежать по линии, но не мог же он возразить комбату.
Опять никакой еды не дали, кроме сухаря и кипятка, но нас заверили, что удалось переправить в дивизию партию продуктов со складов фронта. Дай Бог, чтобы завтра батарейная кухня снова задымила после пятидневного перерыва. Когда я сел у телефона, сразу стал снимать валенки. Они так набрякли, что пришлось из-рядно потрудиться, прежде чем я их стянул. Размотал абсолютно мокрые портянки и увидел сморщенные пальцы и ступни, которые мокли сутки. Рана ещё больше раскрылась.
Командир отделения разведки и два разведчика уже спали. Комбат и КВУ о чём-то говорили; радист сидел у рации - в нашем срубе установилась тишина, нарушаемая потрескиванием дров в печке и тихим говором командиров. Мне редко выпадала такая обстановка. Очень важно находить свободное время, дающее возможность осмыслить прошлое - прошедшее и пережитое…
Самое несуразное с питанием происходило на нашем участке фронта. Фронтовой паёк достаточно сытный, а гвардейцам увеличен паёк на двести граммов хлеба (фронтовой паёк хлеба - один килограмм). На этом участке фронта нам давали вместо хлеба сухари небывалой твёрдости. Кошмар голода продолжался. Если бы была дичь или хотя бы вороны, то подстрелили бы, но на передовой ничего этого нет. Пили кипяток. Прошли одни сутки, вторые, начались третьи. У меня уже не было сил двигаться, я сидел с автоматом в руках возле костра в полудрёме. Напарник голодал третьи сутки, а я уже пятые. Поэтому у него ещё оставались силы рыскать в поисках еды. Под утро пятых суток он набрёл на армейский склад продуктов, подполз к уложенным мешкам муки, бритвой разрезал мешок и набрал муку в вещевой мешок. С этим он вернулся к шалашу и сообщил, что видел останки лошади, а поэтому вернётся за ними. Останками оказались только копыта, бог весть сколько времени они там пролежали и по какой причине лошадь погибла. Когда он вернулся с копытами, уже кипела вода в двух котелках. Он очень сноровисто помыл и раз-мельчил копыта и поставил варить. Смешал муку со снеговой водой и на лопатке начал жарить лепёшки. Боже мой! Каким вкусным оказался бульон и как жадно я его ел с лепёшками! Вместе с едой я почувствовал, что ко мне возвращаются силы. Когда мы уже утолили голод, приехала машина с двумя сменщиками и передали нам по сухарю и концентрату горохового супа. Эти драгоценные продукты мы спрятали в вещмешки и отправились в батарею.
Орудия стояли на огневых позициях, а рядом стояли возведённые из снега домики, накрытые ветвями. Строились они из снежных блоков, изготовленных трамбовкой снега в формах. Там я увидел Аптера, который трамбовал очередной снежный блок - строительство ещё продолжалось. Эти домики ограждали от ветра и в них грелись у костра. Полы были уложены ветками и на них спали бойцы. О землянках и думать нельзя было, а строить срубы нет времени. Мне удалось поговорить с Аптером, он пожаловался на то, что его сутками не сменяют на посту, а скудный паёк до него полным не доходит. Он выглядел очень усталым и измождённым.
К вечеру я уже был на КНП и начались фронтовые будни связиста. Мне почти не выпадает время для дежурства у телефона, поэтому, получив такое длинное дежурство, я продолжал перебирать в памяти то, что успел заметить, будучи участником происходящего на передовой. Меня поразило то, что повсюду лежали неубранные трупы погибших наших бойцов во время боёв на Спас-Демянском направлении. Прошло около двух месяцев, а трупы убитых не убраны и не похоронены. После, когда я уже был офицером и начали появляться критические разборы военных операций, мне удалось прочесть в "Военном вестнике" за 1946 год статью о бездарном руководстве этой операцией наступления Ворошиловым и Тимошенко. Там были тысячи убитых, десятки тысяч раненых, а продвинуться не удалось. Я это могу подтвердить, как очевидец результата той операции и как боец на том же участке. Горе-полководцы были отстранены от непосредственного участия в планировании операций и от командования войсками на фронте. Дороги в ужасном состоянии. Будет вернее сказать, что они отсутствовали. Во время передислокации войск они не могли комплексно пропускать соединения. Поэтому продвигали живую силу, вооружение, боеприпасы (часть) и в последнюю очередь продукты питания для людей и фураж для лошадей. Люди голодали, их разила цинга, куриная слепота и дистрофия. Этот процесс начался осенью, усилился зимой и захлестнул весной с таянием снега уже в марте. Растаяв-ший снег превращался в лужи, которые за ночь покрывались ледяной коркой. Вот тогда ясно проявился весь ужас того положения: убитые лежали в воде, верхний слой которой превращался в лёд, прозрачный как стекло, и трупы были видны, как в витрине. Во второй половине марта прибыла инспекция во главе с генералом, был отдан приказ похоронить тела погибших.
В этом районе местность изрыта воронками от бомб и снарядов большого калибра. Вот в эти воронки сбрасывали тела и кое-как присыпали землёй, подтаявшей на краях воронок. Никто не разбирался - кто такой убитый, не извлекали пластмассовые капсулы, в которых находились стандартные записи о данных военнослужащего. Такую капсулу мы называли пистоном, а карманчик, в котором надо было её хранить - пистончиком.Что сообщали родным после таких захоронений?
Скорее всего, что пропали без вести.
Война - самое злое испытание человеческой морали, но когда к этому прибавляется полное отсутствие заботы о воюющих, когда не хоронят убитых, не дают положенный паёк, нет возможности искупаться, то в этих условиях люди просто звереют и не только по отношению к врагу, но даже по отношению к товарищам по оружию. Возникали драки за кусок мяса от разорванной снарядом или миной лошади. Бывало, что такие куски повисали на ветвях деревьев. Снаряжалась группа бойцов на поиски убитой или павшей лошади. Мясом лошади кормилось подразделение. Были случаи нападения на лошадей орудийных упряжек. Возникали драки у крупа лошади, когда сталкивались интересы различных групп, стремившихся взять лучшие части и побольше.
В подразделениях встречались и такие, которые стремились выжить за счёт более слабых, не умеющих отстоять своё законное право на пищу, на справедливую очерёдность при несении сторожевой службы. Аптер стал идеальной жертвой для таких аморальных и несправедливых людей. Он родился, рос и воспитывался в интеллигентной семье, вместе со своей сестрой. Хотя жил в большом городе, но знал только дом, школу и институт. Главная особенность его характера - умение возвышаться над грязью и хамством. Он идеализировал людей и совершенно не умел открыто возмутиться плохим поступком человека, находящимся рядом с ним. Он краснел за дурные поступки людей. Когда он стал бойцом в одном из орудийных расчётов, его там сразу раскусили. Началось с того, что ставили на пост по охране и "забывали" сменить его в положенное время, а он не произносил ни слова возмущения. Ему поручали изготовление снежных блоков тогда, когда все отдыхали. Когда порция питания была сильно урезана, ему доставалась самая меньшая. Дело дошло до того, что "забывали" оставить ему положенную еду, когда он был занят несением службы на посту или выполнял какую-то работу. К издевательствам со стороны командира орудия к Аптеру присоединился старшина батареи, а потом все остальные. Старший на батарее делал вид, что ничего не происходит, тем более, что Аптер ни разу не пожаловался на систематическое третирование и издевательства над ним всеми на ОП. Он чаще всех стоял на посту, неоднократно его оставляли на всю ночь без смены. Аптер был неизменным участником доставки и разгрузки снарядов. Машина не могла добираться до ОП, когда начал таять снег и тогда тащили ящики со снарядами от машины до орудий по снежной кашице и по ледяным лужам. После разгрузки его сразу ставили на пост, не давая возможности обсушиться. От постоянного недоедания, недосыпания и физических перегрузок сверх всяких мер он определённо болел воспалением лёгких, но ни разу не жаловался. В довершение всего он упал при сопровождении боеприпасов с машины в глубокую лужу и промок до нитки. По прибытии на ОП участвовал в разгрузке снарядов и сразу его поставили на пост. Дело было около полуночи. Как там повелось, никто и не вздумал его сменить до самого утра. Когда утром пришли его сменить, он стоял прислонившись к щиту орудия, с автоматом на груди. Он был мёртв - умер на посту из-за изуверской, звериной антисемитской злобы к нему.О его смерти я узнал из телефонного разговора между старшим на батарее и комбатом.
Подробности об издевательствах над Аптером мне стали известны от Фаермана, который слышал рассказ бойца орудийного расчёта, в котором служил Аптер, начальнику штаба дивизиона. Домой, матери Аптера, выслали похоронку, в которой сообщалось о его гибели в бою. И это правда: он умер в продолжительном бою с изуверством, бездушьем, отстаивая свою приверженность высокой морали и человеческого духа. Под утро, когда я всё ещё дежурил у телефона, состоялся разговор между командиром дивизиона и командиром батареи, в котором они советовались, кто достоин награды медали "За боевые заслуги" - несколько таких медалей выделили на дивизион. Командир батареи выразил мнение: "Вчера утром был ранен Драгунский и на него можно оформитьть наградной документ". Моё дело дежурить, но воспоминания не остановить, тем более, что вши их поддерживают. Три месяца прошло, пока удалось организовать для нас баню, если так можно сказать о попытке противостоять вшам в шалаше. Старшина, повар и водитель занялись сооружением шалаша, а когда он был готов, вкатили туда походную кухню, поставили бочку и начали греть воду. Время для бани ограничено, а надо всем искупаться и сменить бельё. Если учесть вшивость всех бойцов, то было над чем подумать. Ввиду того что одежду не меняли, а в ней также есть вши, мы раздевались на ветках, устланных на снегу, в двадцати метрах от шалаша. Голый боец шёл к шалашу по дорожке из веток, а в шалаше получал два котелка горячей воды и пустой котелок, которым черпал холодную воду из бочки, чтобы разбавлять кипяток. В шалаше помещался один купающийся. После купания и обтирания мы одевали чистое бельё и, вернувшись к вшивой одежде, одевались. Вот такая баня зимой! Вторично я мылся в начале мая в землянке, отрытой на бугре. Это была почти парная. За полгода я купался всего два раза. Всё же весна и стало теплее, но это не значит, что можно обойтись без костра. Зимой с ночлегом проще и костёр легче развести. В срубе все не вмещались. От постоянного горения печки всё прокоптилось и запах дыма горечью отдавал. Там почти постоянно велись разговоры. Вползали в сруб и выползали из него. В любое время спящего могут толкнуть, поэтому его сон был беспокойным. Скорее это дремота в тесноте, угаре, жужжании зуммера, человеческих голосов. Стал присматриваться к разведчику, башкиру, который держался обособленно. Он никогда не спал в срубе, а только снаружи. Выбирал сугроб, в нём копал углубление, застилал ветвями и мелкой хвоей. Снимал с себя шинель, накрывал одной половиной плащпалатки хвою, а шинелью и второй половиной накрывал себя с головой. Он меня заверил, что ему там достаточно тепло. Я решил последовать его примеру и устраивал себе ночлег только таким образом.Когда снег стал таять, стало невозможно использовать снежный сугроб в качестве ночлега. Тогда он меня научил другому способу устройства тёплого ночлега. На бугорке расчищалась площадка и разводился костёр, а когда он достаточное время горит, то под ним земля прогревается. Костёр убирается, подметается основание под ним, стелится хвоя, а остальное повторяется, как при первом способе. Когда начались дожди, стало худо, потому что костёр трудно разжечь. У него же я научился находить сухостой, который разжигался корой берёзы. Он мне рассказывал, как можно приготовить мясо, не имея посуды, если есть рядом глина. Дичь потрошится, обмазывается слоем глины и кладётся в костёр. Глина спекается, накаляется, и дичь тушится, как в герметичном сосуде. Если это птица, то нет нужды снимать перья: вместе со спёкшейся глиной снимаются и перья…Батарея поменяла место нахождения, надо заново по-менять связь между штабом дивизиона и нашим КНП. Командир дивизиона приказал прислать проводника для дивизионных связистов (связь проводится от начальника к подчинённому).Так уже сложилось с начала весны, что я оказался самым выносливым и меня чаще других отправляли с различными заданиями. Очередное задание имело прямое отношение ко мне - командиру отделения телефонной связи. Командир батареи показал мне на карте место нахождения штаба дивизиона.Когда я пришёл и доложил начальнику штаба о прибытии, он сказал, что обстоятельства изменились и я должен срочно доставить пакет в штаб полка. Вторая половина дня, а дорога длинная. Я получил координаты штаба полка и отправился в путь. Штаб полка находился за озером Селигер, из которого берёт робкое начало ручеёк, постепенно пополняясь за счёт притоков, превращаясь в могучую Волгу. Снег глубокий, липкий на всём пути вдоль берега озера, мои валенки становились пудовыми. Если идти указанной дорогой, то расстояние утраивается. Поэтому я решил пересечь озеро по льду, тем более, что снегу там не было (растаял). Существовал риск оказаться в проруби с наступлением темноты, поэтому я подобрал себе длинную прямую ветку. Ширина озера в том месте два километра по карте. По льду легче ходить, но всё равно трудно - вероятно, у меня был жар. В штаб полка пришёл в кромешной тьме и отдал пакет. Мне разрешили поспать несколько часов и рано утром, уже по проверенной дороге, вернулся в штаб дивизиона, а оттуда на КНП. Весна укрепляла свои позиции. Снег, исчезая, залил всю землю талой водой. Никто не спешил сменить нам обувь. Ноги мокли и сжимались разбухшими валенками. Если даже удавалось снять валенки, их нельзя было высушить, а если бы удалось высушить - они бы намокли вновь после нескольких шагов. Подвозить к ОП снаряды и раньше было трудно, а теперь ящики со снарядами носили прямо с дощатой дороги. Начальство смилостивилось: нас стали нормально снабжать продуктами. Теперь регулярно работает кухня, нам носят в термосах еду на КНП. Все страшно исхудали, обносились. У меня валенки прогорели в нескольких местах, а шинель еле спас - сгорела одна пола, когда повесил сушить её у костра. Немцы продолжали регулярно стрелять по площадям - они хорошо знали наши позиции. Тем же и мы занимались. Если бы не жертвы в результате этого обмена огнём орудий и миномётов, то наш участок можно было считать спокойным. Немецкие охотники активизировались, им удавалось выкрадывать наших бойцов. Армейская газета до нас доходила, но она такая тощая и экземпляров так мало, что не хватало на закрутки с махоркой. Почта плохо доходит, переписка с родными у меня прекратилась на целых четыре месяца. Я так занят и физически так измотан, что осталось только одно желание - выспаться. Успехи на Сталинградском фронте привели к тому, что немецкая авиация последнее время не бомбит. Только "рама" продолжает кружить, фотографируя местность, разведывая данные для немцев. Мне удалось встретиться с Фаерманом.В отличие от меня, он одет аккуратно и не отощал. Сказал, что ходят слухи об отзыве оставшихся на фронте бывших курсантов для продолжения учёбы. Во время наступательных операций наша армия потеряла огромное количество командиров (убитыми и ранеными). Уже кончилась первая декада мая, когда к нам в батарею прибыл старшина, писарь полка, который объездил все батареи в поисках бывших курсантов. Я ему сказал, что в нашей батарее из трёх бывших курсантов остался я один: Аптер погиб, а Драгунский ранен и отправлен в госпиталь. Он предложил мне отправиться в училище корпусной артиллерии, но я отказался, по-просил включить меня в список кандидатов в противотанковое училище. Он спросил, понимаю ли я, от чего отказываюсь и о чём прошу. Я напомнил ему, что я еврей и это определяет мой выбор. Он посмотрел на меня так, будто перед ним сумасшедший или, в лучшем случае, блаженный, но записал меня согласно моему желанию. Вскоре командир батареи сообщил, что меня отзывают для продолжения учёбы в училище. Когда мы расставались, он наговорил много хороших слов, пожелал мне встретиться с родными. Мы тепло простились. Он выразил мысль, что если я мог выдержать полгода в условиях наших гиблых мест, то меня смерть не возьмёт. Я простился со всеми и ушёл в штаб дивизиона. При прощании с Фаерманом мы условились хранить память об Аптере. В штабе полка получил выписку из приказа, что направляюсь в тыл для учёбы в училище. Оттуда меня направили в штаб дивизии, потом в штаб Первой Ударной армии и в штаб Калининского фронта. Всех кандидатов в училища отправили в Москву, где произвели окончательное распределение по училищам. Меня направили в Пензенское училище истребительной противотанковой артиллерии (ПУИПТА) командиров взводов - ускоренный курс.
На одной из узловых станций наш поезд остановился против эшелона, на платформах которого везли 76-миллиметровые зенитные орудия. Возле одного орудия стоял боец, раздетый до пояса, а другой поливал ему из котелка воду.
У меня осталось чувство причастности к зенитной артиллерии благодаря учёбе в училище, поэтому я высунулся из окна, чтобы лучше всё рассмотреть. Бывают же чудеса! И эта мимолётная встреча оказалась маленьким чудом. Боец, который мылся, оказался бывшим курсантом Чкаловского училища, больше того - курсантом нашего взвода, это был Кейзом. Я его окликнул и он меня назвал по фамилии, но... наш поезд тронулся. Мы кричали друг другу пожелания удачи. В жёстком вагоне тесно и жмут меня с двух сторон, но мыслям простор открыт и память смотрит в упор. Мелькают картины былого. Рана даёт себя знать. Мой вид испугает любого, которому не довелось на передовой побыть. Лицо моё исхудало, щёки впалые. Посещение штабов принудило каждый день бриться. Мне негде искупаться, вши поедают живьём. Шинель без одной полы и замызгана, валенки прожжены. Мой вещевой мешок тощ, как я. Но я ем нормально, получаю по продовольственному аттестату хлеб, тушонку, сахар и гороховый концентрат. Сплю столько, сколько хочу. А бодрствуя, наблюдаю за пассажирами, среди которых высок процент военных тыла и мало фронтовиков. Отпуска отменены, и если едет фронтовик, то из госпиталя под чистую - инвалид. Таких, как я - мало. Мне совестно, имея руки и ноги, ехать в сторону тыла. Написал домой маме и сёстрам после длительного перерыва. Как они там справляются в условиях разлуки и недостатка всего, на чужбине. А я ничем им помочь не могу.
Я узнал много негативного об участии в войне Красной Армии во время первого полугодия, а Калининский фронт доказал, что тогда ещё было не самое худшее.
Мне стыдно за свою слепоту, за то, что не сумел рассмотреть отсталость страны и армии до июня 1941 года...
Закончился мой второй этап активного участия на фронте, а впереди новые обстоятельства для будущего курсанта.
ПЕНЗА.
Я ехал в жёстком пассажирском вагоне, переполненном сверх всяких мер. Пассажиры по новому оценивали места в вагоне: самым лучшим местом теперь считали полку для багажа (отдельное и никто на него не позарится). Мне повезло стать обладателем такого места, а поэтому я мог спать или наблюдать за происходящим в купе. Я выспался, насмотрелся и теперь голова вольна думать о чём угодно. А думать было о чём... Я ехал в Пензенское училище противотанковой артиллерии, в котором обучение на командиров взводов велось по сокращённой программе. В Москве, когда я получал направление, мимоходом услышал, что последний выпуск занимался всего три месяца, а мы уже будем заниматься шесть месяцев. Сейчас май 1943 года, а год тому назад, также в мае, я стал курсантом Чкаловского училища зенитной артиллерии, ускоренной подготовки командиров взводов (также по шестимесячной программе). Судьба распоряжается по-своему, она может заставить человека дважды наступить на одни и те же грабли. Люди, приземлённые (их большинство) обычно говорят: "поживём - увидим". Я знал, что из Москвы в Пензу нас едет несколько кандидатов в курсанты, но не знал ни их, ни в какие училища они направлены. Ночью поезд прибыл на вокзал города Пензы, и я сошёл на неосвещённый перрон. Если бы не свет из окон вагонов, трудно было бы ориентироваться. Войдя в зал ожидания, увидел в двух метрах против дверей лейтенанта. Он спросил меня не направлен ли я в училище. После моего утвердительного ответа велел мне стать справа от него и ждать указаний. Я оказался первым, а после меня набрались две группы по обеим сторонам лейтенанта. Он сосчитал людей в каждой группе, сверил количество с записью на бумажке. Попросил военный патруль дождаться прихода ответственного за вторую группу. Затем он построил нас в две шеренги и сообщил, что отправляемся в противотанковое училище, которое находится в шести километрах от вокзала, возле ипподрома. В группе оказались только фронтовики. Штаб училища был заблаговременно извещён о нашем предполагаемом приезде. Вы уже поняли, что лейтенант служил в училище. Странно было смотреть на погоны, которые в нашем сознании ассоциировались со словам "белогвардейцы","золотопогонники". Впервые я увидел командиров в новой форме в штабе Калининского фронта. Там же впервые услышал - "офицер Советской Армии". Оказалось, что новая форма и звания были введены 1 января 1943 года, тогда же произошли переименования "Красной Армии" в "Советскую Армию", а "командиров" в "офицеры". Мы же, фронтовики, были одеты по старинке. Я был единственным обутым в валенки.
И, вообще, мой вид мог желать лучшего. Даже на вокзале, где люди, одетые убого и неопрятно, - не редкость, я привлекал внимание прожжёнными валенками, замызганной шинелью с одной полой (одна сгорела у костра).
ПЕНЗЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ
Пока представитель училища нас собирал, время прогоняло ночь и неизбежно приближало рассвет, а потом, следуя судьбе, мы поднимались дорогой вверх, ведущей в училище. Военный городок находился вне Пензы, рядом с ипподромом. Раньше в нём располагалось военное кавалерийское училище. Лейтенант был молоденьким и именно поэтому старался произвести впечатление мужественного и солидного военного. Но разве худенькому, ниже среднего роста, с юношеским лицом человеку, сколько бы он ни пыжился, удастся "поразить" нас (старших его по возрасту и более опытных в военной службе) своей солидностью? Убедившись в этом, он решил привлечь наше расположение откровенностью. В прошлом году он закончил десять классов, но только в январе 1943 года ему исполнилось восемнадцать лет. Был призван и назначен для прохождения службы в батарее обслуживания училища, но вскоре стал курсантом прошлого выпуска и недавно получил звание лейтенанта и новое назначение: командир взвода курсантов в одной из батарей. Сколько он не просил направить его на фронт, ему отвечали отказом, мотивируя нуждой в кадрах для училища. Он житель Пензы и школу окончил очень хорошо, а в училище был отличником боевой и политической подготовки. Не он один оставлен на должности командира взвода курсантов - есть ещё несколько человек из их выпуска. Когда будет произведен выпуск нынешнего набора, он отправится на фронт. Он нам вкратце рассказал историю военного городка и нам стало известно, что вместо кавалерийского училища на его территории и казармах сейчас располагаются два: наше, противотанковое, и миномётное, куда на этот раз набирают исключительно девушек. Прошлый выпуск миномётного училища состоял из ребят.
Он привёл нас к корпусу, в котором располагался штаб училища, где мы пристроились ждать рассвета рядом с ним. Работа штаба начинается с восьми утра. В Москве мы, кандидаты в курсанты, прежде не встречались друг с другом, да и ехали сюда в разных купе. Впервые мы оказались одни вместе. Лейтенант отправился докладывать дежурному училища о прибытии группы кандидатов в курсанты. Нам предстояло пройти медицинскую комиссию, а затем мандатную - по приёму. Кто будет принят, пройдёт санитарную обработку, получит обмундирование новой формы и отправится в своё подразделение. Как обычно, незнакомые люди, оказавшись вместе, пытаются наладить контакт между собой. Всегда находится наиболее бойкий в группе и подстёгивает процесс сближения. На этот раз им оказался старшина бравого вида, одетый в офицерскую форму, в начищенных до блеска хромовых сапогах. Высокий, широкоплечий красавец, с великолепной строевой выправкой кадрового военнослужащего - Мирошниченко. Мы узнаем, что он до войны прослужил четыре года и половину из них в качестве сверхсрочника, писаря стрелкового полка. У него был хорошо поставленный командирский голос. Внешне он мог служить образцом вояки и строевика. Привлёк моё внимание спокойный старший сержант, петлицы которого указывали, что он из пехоты. Причиной моего внимания к нему стал расстёгнутый манжет рукава гимнастёрки правой руки - виднелась повязка на кисти руки. Сразу понятно было, что он из госпиталя, потому что лицо его выглядело ухоженным, а старая выгоревшая форма - чистая и отглажена. Он был самым высоким среди нас, с очень покатыми плечами умеренной ширины, чуть сутулый, будто готовый к броску для преодоления препятствия. Розовощёкое, продолговатое с правильными чертами лицо, глаза - большие голубые на выкате. У Брагинского - семитское выражение глаз. Первое, что становилось явным о каждом из группы - фамилия, потому что уже были три переклички. Это не значит, что я запомнил все и кому какая принадлежит. Запомнил фамилии тех, которые привлекли моё внимание. Был ещё один, явно из госпиталя, с орденом "Красная Звезда" и медалью "За отвагу" на гимнастёрке. Его костистое лицо с очень подвижными чертами нельзя было назвать привлекательным, если бы не богатая мимика. Это был смуглый человек, его тёмные глаза с цепким взглядом сохраняли в то же время подвижность и доброту. Рядовой Паташ явно был старше всех нас. Ещё один привлёк моё внимание медалью "За отвагу", рядовой Михайлов. Приятный парень, среднего роста и нормального сложения, со спокойными манерами, с открытым лицом, вызывающим доверие. Я так подробно рассказал об этой четвёрке нашей группы, потому что в дальнейшем мы продолжали служить в одном взводе. Во время медицинской комиссии проверяющие обратили внимание на мою худобу . Они также обратили внимание, что из раны на правой ноге сочилась сукровица. Мандатная комиссия не интересовалась документами об образовании, понимая, что у фронтовиков вряд ли они сохранились, и полагались на данные, полученные из частей, а также на наши ответы. Меня спросили, почему я был отправлен на фронт без присвоения звания в Чкаловском училище.
Я пояснил, что весь выпуск был отправлен на фронт без присвоения такового. После мандатной комиссии нас опять повели в Пензу и в бане мы прошли основательную санитарную обработку перед тем, как нас одели новую курсантскую форму. Теперь мы стали мечеными, благодаря эмблемам на рукаве: на фоне чёрного ромба - два пересечённых артиллерийских ствола. Курсантские погоны - чёрного цвета, обрамлены с трёх сторон широким золотистым кантом. Старшина Мирошниченко имел ещё один комплект одежды, который сдал, уложив офицерскую форму в свой довольно вместительный чемодан. Была заметна его привилегированность в части, где он служил, - сверхсрочнику положена офицерская одежда. В училище мы вернулись после обеда, но нас всё же повели в столовую и накормили горячей пищей. До этого я съел горячий обед неделю тому назад, перед тем, как оставил свою батарею на передовой. После столовой нас привели в казарму. Наша батарея располагалась на втором этаже трёхэтажного здания. В казарме нас встретили три офицера: командир дивизиона - подполковник Иванов, командир батареи - капитан Татаренко и командир взвода - лейтенант Розанов. Наш сопровождающий доложил командиру дивизиона об исполнении задания и удалился по приказу: "Вы свободны. Идите!" Мы продолжали стоять в две шеренги, построенные ещё сопровождающим, "поедая" глазами начальство, пока подполковник не заговорил. Теперь мы были полны внимания, потому что хотелось узнать побольше о предстоящей службе курсанта. Речь подполковника грамотная, чёткая и сухая по-военному. Он сообщил, что мы зачислены курсантами и пользуемся всеми видами довольствия согласно существующим приказам и инструкциям. Питаться будем по девятой норме и добавил, что она такая же, как в госпитале. Срок обучения нашего набора увеличен вдвое, по сравнению с предыдущим выпуском, и равен шести месяцам. В связи с победами на фронтах, появилась возможность качественно улучшить учебную программу. По окончании училища будет присвоено первичное звание "младший лейтенант" в отличие от предыдущего выпуска, когда первичным званием выпускника было "лейтенант". Хотя в этом имелось явное противоречие (время учёбы увеличено вдвое, а звание ниже), но приказы не обсуждаются. Программа, по которой мы будем учиться,- полная по тематическому содержанию изучаемых военных дисциплин и рассчитана на два года. Но мы обязаны всё освоить за полгода. А поэтому увеличено количество часов занятий в день, отменены увольнительные, всякие работы - за счёт выходного дня, баня - за счёт сна. Вы являетесь курсантами первого дивизиона, первой батареи, первого взвода. Старшиной батареи назначается кадровый старшина, старшина сверхсрочник - Мирошниченко; помощником командира взвода назначается кадровый старший сержант, чемпион рукопашного боя Приволжского военного округа - Брагинский. В то же время они являются курсантами вашей учебной группы. Ваш командир батареи - кадровый офицер, капитан Татаренко, ваш командир взвода - офицер, лейтенант, выпускник этого училища, отличник боевой и политической подготовки. Командир батареи рассказал нам о распорядке дня и об обязанностях курсанта. Командир взвода повёл по всему этажу и объяснил назначение каждого помещения. Был назначен дежурный по батарее и двое дневальных. На ужин нас повёл старшина Мирошниченко, он же провёл первую вечернюю проверку. Койки были в два яруса и мне достался второй. Постель обычная: матрас и подушки, набитые соломой, две простыни и солдатское суконное одеяло. В тумбочке могло храниться самое необходимое (книги, конспекты, предметы туалета), а всё остальное сдавалось в каптёрку. Каптенармусом был солдат батареи обслуживания. В батарее обслуживания состояли солдаты, годные к нестроевой службе в военное время.
В тот день, кроме нашей группы, никто из новых курсантов не поступил в училище. В первое же утро нас подняли в шесть утра, и жизнь пошла по распорядку дня. В течение всего дня прибывали ребята и девчата, которых принимали, оформляли, меняли их внешний вид - гражданских людей на курсантов и курсанток.
Казарма миномётного училища располагалась параллельно нашей, но ниже. Военный городок обосновался на склоне возвышенности, вершину которой венчал ипподром. В одном ряду с каждой казармой располагался учебный корпус в два этажа. Торец корпуса столовой находился в пятидесяти метрах от фасада нашего учебного корпуса. Фасад нашей казармы выходил на Артиллерийский парк. Выше, по периметру территории городка, находились склады, параллельно им, но внутри городка, располагались жилые дома командиров и преподавателей с их семьями. Следующая параллельная линия корпусов - штабной корпус, санитарная часть и гауптвахта. Спортивный комплекс и территория для практических занятий с орудиями соседствовали со штабом. Возле контрольно-пропускного пункта, за забором училища, стояли два деревянных стола, за которыми торговали местные женщины своей продукцией: молоко, простокваша, картофельные лепёшки, махорка и табак. Можно было купить за деньги (у кого они были) или произвести натуральный обмен. Артиллерийский полигон боевых стрельб находился в двадцати километрах от училища, а стрельбище для стрелкового оружия - между училищем и ипподромом. Быт в училище фактически не отличался от описанного в Чкаловском. Но духовная атмосфера мне показалась более примитивной, потому что уровень образования курсантов был заведомо ниже, а два года войны губительно сказались на культуре поведения и взаимоотношениях между людьми. Люди стали грубее в поступках и выражениях - сквернословие процветало. Если большинство учащихся Чкаловского училища составляли городские жители, то в Пензенском наоборот: большинство учащихся были деревенскими жителями. В нашем училище не ощущалось влияние начальника училища, полковника "икс", на происходившее в нём, но ему вскоре присвоили звание генерала. Он не участвовал в работе мандатной комиссии, не появлялся в казармах и учебном корпусе. Мельком я видел его дважды: в столовой, во время обеда, и в спортивном городке на соревновании по бегу, в выходной день. Он ни разу не обратился к курсантам с какими-то словами. Наш генерал-майор был стар и после его смерти появился новый генерал-майор "игрек" - за месяц до нашего выпуска. Его я увидел в артиллерийском парке, когда нам одевали погоны.
Начальником политотдела училища был полковник Григорьев - маленький, кругленький, как колобок. Он был вездесущ и порядком нам надоел. Из всех мне известных офицеров училища подполковник Иванов (наш командир дивизиона) был мне симпатичен. Высокий, широкоплечий, стройный, но очень худой, с выразительным лицом аскета - образец офицера уже только одной внешностью. Дисциплинированный и пунктуальный человек, строгий и справедливый командир. Ему было известно всё происходившее в дивизионе. Он практиковал личные неофициальные беседы с каждым курсантом. Подполковник Иванов мог, проверяя службу внутреннего наряда, уединиться со свободным от дежурства дневальным в красном уголке или на скамейке у входа в казарму. Расспросами и душевной беседой создавал доверительную атмосферу и подчинённый распахивал свою душу перед ним. Знал каждого курсанта не только внешне, но следил за его успеваемостью, за авторитетом в своём взводе (учебной группе). Он часто высказывал мысль о том, что командир должен уметь командовать, оставаясь старшим товарищем для своих подчинённых и образцом во всём.
На фронте Иванов, будучи капитаном, командовал батареей 76-миллиметровых орудий, дивизионом - в звании майора, полком - в звании подполковника. В наступательных боях на Сталинградском фронте получил тяжёлое ранение - осколок попал в лёгкое, которое пришлось удалить. Он остался с одним лёгким и его хотели комиссовать. Ему удалось остаться на службе, но только в тылу. Для меня он был и остаётся в памяти уважаемым человеком и примерным командиром.
Командир батареи, капитан Татаренко, грамотный артиллерист, его привлекали в качестве преподавателя артиллерийской стрельбы, заменяя отсутствующего преподавателя. Интеллигентный человек, но сибарит по натуре. Он не вникал в подробности внутреннего порядка, отдав на откуп эту сторону жизнедеятельности батареи старшине Мирошниченко и командирам взводов. Наш командир взвода, лейтенант Розанов, походил фигурой на точёную статуэтку, а лицом - на херувима. Ниже среднего роста, он обладал природной грацией. Правильные черты его розового лица постоянно оживляла улыбка. Голос у него был не сильный, с лёгкой хрипотцой. В обязанности командира взвода входило проведение занятий по уставам, строевой и стрелковой подготовке. Иногда он проводил занятия по материальной части орудий, если отсутствовал преподаватель. Материал он знал отлично и был требователен к подчинённым. Сочетание мужского и женского начал cоответствовало не только его внешности, но и характеру. Он был придирчив и мелочен в своих требованиях, имел привычку подкрадываться и внезапно возникать перед нами, явно подслушивая разговоры, постоянно жаловаться на нас командиру батареи и командиру дивизиона. Он выслуживался перед начальством и это явно не нравилось командиру дивизиона. Старшина батареи, старшина Мирошниченко, был образцом служаки-солдафона. Занимался он очень плохо, но благодаря его драконовской требовательности по чистоте и порядку батарея считалась самой лучшей в дивизионе. Он наказывал своей властью налево и направо и убеждал командира батареи использовать его большую власть для наказаний. Третировал всю батарею, когда вёл в столовую и из столовой, требовал от нас строевого шага и громкого пения в строю. Упивался своим могуществом, и никто из начальства не удерживал его от излишнего усердия. Мы его ненавидели и блаженствовали на уроках по теории артиллерийской стрельбы, когда проявлялось его полное ничтожество по знаниям математики, физики, химии и вообще всюду, где требовалось отвлечённое мышление. Он говорил, что закончил семь классов (возможно он учился семь лет), но знал он меньше пятиклассника. Преподаватели ставили ему посредственную оценку, когда он заслуживал единицу. По всей вероятности начальство их об этом просило, считая такого типа "держиморд" необходимыми на службе в армии. Помощник командира взвода, старший сержант Брагинский, пользовался уважением и авторитетом не только в нашем взводе, но и в батарее. Его открытый и смелый взгляд, спокойное и справедливое отношение к подчинённым, уважительное отношение ко всем, сохранение чувства собственного достоинства и уверенности, не позволяли относиться к нему небрежно. Он занимался удовлетворительно по дисциплинам, требующим основательной теоретической подготовки, но в остальном хорошо успевал. Картавил. Поставленным командным голосом не обладал, но никто ни разу не посмел над этим шутить. Был случай в самом начале нашего пребывания в училище. В перерыве между лекциями, в его присутствии, курсант нашей группы стал распространяться о трусости евреев (увязывая евреев, Ташкент и кривое ружьё). Я при этом присутствовал, и меня это здорово задело. К тому времени я уже умел сдерживать свои эмоции, а потому был способен наблюдать за реакцией Брагинского. Его лицо стало красным, он сжался, как пружина, и прыгнул на того курсанта. Каким-то ловким приёмом уложил на живот бедолагу, а сам сел на его согнутых назад ногах и заломил ему руки. Курсант взвыл от боли, прося отпустить. Брагинский поставил условие: "Откажись от сказанного и я тебя отпущу. В противном случае сломаю руки и ноги!" И сложенный санками курсант прохрипел: "Беру слова обратно". Все стояли, не проронив ни слова. Этот инцидент длился не более двух минут. Ни разу никто больше не осмеливался на такие высказывания в его присутствии. Хотя мы купались каждые десять дней, сменяя нательное и постельное бельё, но осмотр на вшивость проводился регулярно, потому что полностью её вывести не удавалось. Нас стригли под машинку, и каждый брил лобок и подмышки, потому что не хотел оказаться в числе вшивых.
Я брил лицо каждый день, потому что чёрный волос заметен уже на второй день. Всё было регламентировано жёстко. После команды "Подъём!" через сорок секунд надо было уже стоять в строю. Строем шли к дворовому туалету, а после оправки приступали к утренней зарядке. Когда снег основательно покрыл двор, начали обтирание снегом под жёстким контролем.
У парадных дверей казармы стоял командир дивизиона или командир батареи (всегда старшина батареи), возвращая тех, кто не был мокрым от натирания снегом. При любом морозе зарядка проводилась без гимнастёрки. Раза два разрешили одеть шинель и шапку-ушанку. Питались в столовой, где было отдельное помещение для офицеров. Стол рассчитан на двадцать посадочных мест. В зале - три ряда по пять столов. У каждого постоянное место за определённым столом. К нашему приходу стояло на каждом столе по два бачка на завтрак и ужин, а на обед - четыре бачка, по два чайника. Хлеб, сахар и масло получал в окошке хлеборезки ответственный за раздачу на десять человек, избранный этой десяткой курсантов. Раздатчик получал всё по весу и делил на десять порций. Пищу из кухни он разливал по мискам, имевшим вид усечённого конуса, изготовленным из жести от банок американских консервов. В столовую каждый шёл со своей, полученной деревянной ложкой. Не было ножей, вилок и ложечек. По норме давали семьсот граммов хлеба, пятьдесят - сахару, двадцать пять - сливочного масла. Что шло на котловое довольствие из кухни на одного курсанта, мы не знали, а если бы и знали, то проверить не было возможности. За всё время пребывания в двух училищах только один раз мне пришлось дежурить рабочим на кухне. Если до войны посылали на кухню тех, кто получал наряд вне очереди, то сейчас отмечался избыток желающих попасть рабочим на кухню. Находясь там, каждому что-то перепадало. Из-за недостатка пищи люди становятся жадными, крохоборами, попрошайками, заискивающими, унижающимися. Была категория курсантов, которые после приёма пищи подходили к окну раздачи и вымаливали добавку, или доедали остатки (какие там могли быть остатки?) из принесенной грязной посуды, уставленной на столе у окна для мытья. Окна раздачи и приёма грязной посуды находились рядом, и мы их называли "амбразурами", а попрошаек - "героями", закрывающими своими телами "амбразуры" (амбразура - отверстие, через которое ведут огонь из стрелкового оружия или орудий). Герой Советского Союза Матросов получил посмертно это звание, закрыв своим телом амбразуру ДОТа (долговременной огневой точки) противника. Некоторые добровольно чистили котлы, чтобы поесть эти очистки. Повара воровали для себя и для начальства, каждый работающий на кухне съедал за троих.
Первое время раздатчиками для десятки курсантов за столом были добровольцы, но на поверку они оказывались корыстолюбцами. Попавшийся на обмане раздатчик смещался, и его место занимал очередной доброволец, который поступал так же плохо. Тогда мы стали выбирать раздатчика. Но и в этом случае находились жулики, которые в сговоре с хлеборезом, получали для курсантов меньше положенного, а украденное (хлеб, сахар, масло) делили между собой. Рано или поздно мы узнавали об этом и выбирали нового раздатчика. Если разрезанный на порции хлеб первое время расхватывали, то потом раздатчик стал выделять каждому его пайку. В этом случае он давал большие порции друзьям и себя не забывал. Потом была заведена система раздачи, сводящая на нет желание обмануть при раздаче. Раздатчик разрезал хлеб на порции, а другой курсант, стоя спиной к столу, называл фамилию курсанта, тот получал порцию хлеба, на которой лежала рука раздатчика. Хлеб был очень низкого качества (чёрный, мокрый, тяжёлый), и мы его получали в три приёма: на завтрак и ужин по двести граммов, на обед - триста). Мы были молоды и еды для нас явно не хватало. Порция хлеба выглядела малым бруском. Я, чтобы продлевать время съедания хлеба, резал порцию на маленькие кубики. Курсанты из местных ребят получали продукты за воротами училища от родных и там же всё съедали. Некоторые получали деньги и покупали у торговок за воротами еду. Мне никто не мог приносить еду и никто не мог присылать денег (таких как я абсолютное большинство), но хотелось хоть иногда разнообразить пищу.
Я, любитель молока и молочных продуктов, иногда производил обмен мяса на хлеб, чтобы в итоге хлеб сменять на молочные продукты. Любителю мяса я отдавал свои порции в течение недели и получал взамен обеденную порцию хлеба, а за неё выменивал у торговки за воротами пол-литра простокваши.
Когда я прибыл в Пензу, мне не хватало до моего двадцатилетия ещё четырёх месяцев, но я себя ощущал значительно старше двадцатипятилетнего мужчины, которому не довелось воевать. Условия передовой полнее раскрывают качества человека. Надо ещё учесть, что меня окружали люди, старшие по возрасту, с большим жизненным и профессиональным опытом, поэтому я имел возможность многому у них научиться, сравнивая высказывания и поступки. Свою восторженность я научился гасить, у меня выработался более трезвый подход к определению характера людей и их поступков. В своём взводе (учебной группе) я не сумел приобрести друга, но товарищеские отношения установил со всеми, потому что это мне не составляло особого труда. Брагинский, Паташ и я были тремя считанными евреями не только во взводе, но и в батарее. Я не имею данных о количестве евреев среди курсантов нашего набора, мне не пришлось встретиться хотя бы с ещё одним евреем-курсантом. Мы, евреи, относились друг к другу как к остальным, подчёркивая этим свой интернационализм. Мы инстинктивно не шли на сближение, чтобы не расценили его как национализм. А именно между нами могли установиться дружеские отношения, потому что нас объединяло не только еврейство, которое само собой важное связующее звено, но и то, что мы три фронтовика, познавшие невзгоды и опасности передовой, были ранены и испытали вынуждённый госпитальный перерыв. Пусть Брагинский, как командир, не имел права кого-либо выделять пристрастным отношением, но мне и Паташу его должность не была помехой. Скорее всего препятствием для более тёплых отношений между нами являлся возраст. Итак, внешне подчёркнутое равнодушие между нами - тремя евреями - можно объяснить такими причинами: опасением быть обвинённым в национализме, этикой взаимоотношений между командиром и подчинёнными, возрастной преградой. Но я убеждён, что именно первая причина была наиболее веской. Русским, украинцам, представителям любой другой национальности не пришло бы в голову считать помехой в отношениях между собой национальность. Нас, евреев, принудили признать себя исключением из советского общества, худшим исключением.
Во взводе лучше всех знал теорию стрельбы курсант Станкевич, белорус. Он закончил пединститут в Минске, физико-математический факультет, но война лишила его возможности работать по специальности. Он был молчалив и задумчив, держался особняком. Выше среднего роста, физически слабо подготовленный. Говорил тихо и вдумчиво, тщательно формулируя свои ответы. Было заметно, что он рос и воспитывался в интеллигентной городской семье, чем и выделялся во взводе. Вслед за ним по теории стрельбы шёл я, а за мной - курсант Орлов. Он отлично закончил десять классов в Пензе в 1941 году. К началу войны ему ещё не исполнилось восемнадцати лет, он был принят на военный завод им. Кирова и автоматически получил бронь. Отец его работал инженером на том же заводе Но так как он не успел стать специалистом, незаменимым на заводе, его лишили брони и направили в училище. Был он ниже среднего роста, узкоплечий. Правильные черты лица. Белобрысый, спокойный и серьёзный.
Курсант Химич, ниже среднего роста, успешно занимался, но ему этого было мало: он хотел всеобщего признания своих успехов. Наверно поэтому свои ответы он произносил голосом декламатора, чтобы каждое слово звучало внушительно. Честолюбие его снедало. Был у нас ещё один отличник, Кравченко, украинец. Тот буквально лез из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание. Короче, человек с ярко выраженным характером карьериста. Ниже среднего роста, спина круглая, сутулый, ноги очень кривые. Имел прочные знания за десять классов, сообразительный. Говорил громко и шепелявил. По всей вероятности провёл бóльшую часть жизни в селе, а по окончании школы был мобилизован в первый же день войны.
В каких войсках он служил не знаю, но на фронте не был.
Я занимался ровно по всем предметам и был отличником боевой и политической подготовки. Мой стаж в комсомоле исчислялся одним годом. Когда мне предложили поступить кандидатом в члены партии, я отказался, мотивируя это малым стажем в комсомоле. Приближалось время выпуска, когда поступил приказ о продлении срока обучения. Когда об этом стало известно, часть курсантов написали рапорты с ходатайствами об отправке на фронт. Среди них из нашего взвода были... Брагинский, Паташ, Михайлов и я. Полковник Григорьев собрал всех, кто подал рапорт об отправке на фронт, и сказал, что мы не вправе этого добиваться, так как это является попыткой обсуждения приказа вышестоящего командования. Мы по приказу были направлены в училище, а сейчас приказ гласит о продлении учёбы. Поэтому он нам вернул наши рапорты с наставлением, что самая высшая форма патриотизма - неукоснительное выполнение приказа начальника. Учёба характеризовалась углублённостью, что, видимо, было связано с увеличенным сроком обучения. Стало увлекательней заниматься по полному объёму курса: теории артиллерии, геодезии, теории оптического и механического устройства артиллерийских и геодезических приборов. Углубился курс по изучению связи, включая изучение радиоаппаратуры, которую стали шире применять на передовой.
С большой радостью мы восприняли сообщение о прорыве блокады в конце января 1944 года. В то же время я ощущал вину за то, что не принимал непосредственного участия в борьбе с врагом на передовой. Но что делать? Бежать на фронт, как это делали некоторые мальчишки? Они ведь не связаны присягой, как я.
В училище имелся один гусеничный бронетранспортёр "Комсомолец" - табельный - для 45-миллиметровой противотанковой пушки. Пока мы изучали материальную часть довоенного образца пушки, начался серийный выпуск военного образца с удлинённым стволом, что увеличило начальную скорость снаряда, а значит пробивную способность бронебойного снаряда. То же самое произошло с 57-миллиметровой противотанковой пушкой - ствол также был удлинён. 76-миллиметровая полковая пушка, которая также числилась противотанковой, не претерпела изменений и её вес оказался меньше, чем у 57-миллиметровой пушки нового образца, вес которой стал равен 1116 кг. Для лёгкости запоминания мы говорили, что вес новой 57-миллиметровой пушки равен тонне, центнеру и пуду. Я понимаю, что читателю вряд ли интересно знать технические данные артиллерийских орудий, но упоминание об этом даёт возможность лучше понять связь перемен на фронтах с рядом перемен в оснащении армии вооружением и подготовкой кадров. Война собрала миллионы людей, беспрерывно перемешивала их, добиваясь однородности "сырья". Но несмотря на это, различия между людьми проявлялись ещё острей. Крестьяне - колхозники - притаились, надеясь вновь овладеть землёй. Рабочие разделились на потомственный и новоявленный слои. Последний включал бежавших от коллективизации в деревне или искавших счастья в городе неугомонных шабашников. Ожили национальные противоречия между народами и обострилась общая ненависть к евреям. Эти противоречия характерны для народов, в которых рабская психология сильна. Каждый имел свои особенности, но создавался особый тип характера, которому свойственны крайности. Однако, неумолимые законы войны диктовали одно - быть всем вместе и дружно воевать ради спасения Родины от гибельной судьбы. С какими только типами не приходилось сталкиваться! Идейно преданными людьми или по крайней мере лояльными к государству; строгими критиканами или брюзгами; скрытыми врагами, несогласными со строем; добрыми, старающимися всем помочь, и злыми, просто злобными, не умеющими превозмочь свою злость. Большинство было вынуждено приспосабливаться к трудным условиям военного времени, а потому появилось много "дерьма", кружившегося в проруби жизни. Но на этом фоне высоко ценилась дружба, если она возникала между людьми, она помогала выжить и в ней закалялись лучшие человеческие чувства. Даже в том океане напряжённых отношений оставалось место для близости однородных душ. К такому островку духовной и житейской поддержки тянулись я и Брагинский, но это проявлялось только в совпадении наших взглядов. Курсанты были так заняты учёбой, а быт наш так жёстко регламентировался, что не оставалось и малого времени для исполнения чисто личных потребностей. Даже естественную потребность в переписке с родными и друзьями мы могли осуществлять с трудом - письма приходилось писать урывками, в течение нескольких дней.
Благодаря родным мне стал известен адрес Изи Линденбойма, который находился на лечении в госпитале. Он - танкист. Когда началось наступление на Сталинградском фронте, был ранен в ногу осколком. Изя мне сообщил адрес своей семьи, которая проживала в селе Панино Саратовской области. Я стал переписываться с его семьёй. Оказалось, что его брат, Давид, после тяжёлого ранения, был комиссован и живёт с родными. Письма от имени родных писала его сестричка Блюма, которая в моей памяти оставалась девочкой. Но ей уже шёл семнадцатый год и вряд ли она писала только от имени родных.
Но всё же служба в тылу, даже самая напряжённая, предоставляла некоторые возможности, которых у меня не было на передовой: я предпринял попытки разыскать Шифру, но кончились они сообщением из Бугуруслана (в том городе находилось бюро по розыску родных и знакомых), что семья Зильберберг "проживала" в Ремениках Сталинградской области. Если не пишут, что "проживает", учитывая, что фронт проходил рядом, значит, можно сделать логичный вывод - их там нет. Но на практике не всё следует логике. Через три дня после полученного письма из Бугуруслана, которое меня расстроило, я получил письмо от... Шифры и именно из Ремеников. Для меня это было большим счастьем, я сразу засел писать ответ. Писал во время перерывов между лекциями, в столовой, пока раздатчик делил еду, весь час личного времени. Вскоре я получил ответное письмо, с которым пришла фотография Шифры и маленький цветной батистовый платочек. Письма шли долго, и не всё можно было доверить почтовому треугольнику - особенно из личной жизни курсанта. Военная цензура беспощадно вымарывала всё, что по законам военного времени казалось запретным. Поэтому я ничего не мог писать о себе, кроме общих фраз о здоровье, чувствах, кроме расспросов о родных и знакомых. Родные также опасались писать правду о своём быте, о трудностях, которые тогда выпали на долю всех, а особенно эвакуированных. Из писем я узнал о смерти сына дяди Павла, который был похоронен, как и наш отец, в Джамбуле. Муся, сын дяди Павла и Каушанской, эвакуировался с мамой в Астрахань. Когда дядю Павла демобилизовали, он их разыскал и наладилась переписка. Но вскоре умерла мать Муси, а он отправился к отцу, уже будучи больным цингой. В пути он умер. Иду также демобилизовали по болезни. Она служила прибористкой ПУАЗО зенитной батареи, которая охраняла важный железнодорожный мост. После демобилизации ей пришлось очень тяжело работать в колхозе.
О своём женихе, Мойше Оксенгорн, она ничего не знала, но надеялась, что он вернётся с фронта. Ента работала в детских яслях, ей также приходилось очень трудно, потому что Наум о себе не давал знать. Она не получала помощи, как жена фронтовика, имея двух детей. Мина имела постоянную связь с Кимом, который также находился на фронте, но в отличие от Енты она имела денежный аттестат мужа. Семья Идла, Эстер с двумя сыновьями терпели нужду, проживая совместно с семьёй сестры Эстер, Цили.Мама, Декабрина с Давидом и Ида жили вместе. Давид был болен и не работал. Декабрина заведовала детскими садами и яслями. Хая продолжала служить в авиационной части, начиная с мая 1942 года.
Ни Мойше, ни Натан не давали о себе знать.
Жизнь в батарее прозрачна: нет дверей, нет замков, каждый видит и слышит своих сослуживцев, командиры направляют и проверяют наши действия. Но, тем не менее, люди разные и поступают не всегда так, как складывалось впечатление о них.
В нашем взводе был один курсант . Спокойный деревенский парень, хорошо сложенный, приятные крупные черты лица, умный взгляд больших глаз. Занимался он ровно и легко. Был молчалив, держался всё время особняком. Больше того: мы его никогда не видели на перерывах. Куда он исчезал на эти десять минут? В один из дней старшина Мирошниченко приказал этому курсанту стать перед строем, после чего сделал сообщение, что позорит звание курсанта своим поведением попрошайки. Оказалось, что он все перемены околачивается возле окон выдачи питания и приёма грязной посуды, выпрашивая что-то из еды, вылизывая грязные миски. Он был предупреждён, что может быть отчислен из училища за неподобающее курсанту, будущему офицеру, поведение. Мы видели, каким он стал крупным, но относили это за счёт мужания. Но теперь стало ясно, что он болен обжорством и не способен перебороть свой недуг. Кончилось тем, что ему присвоили звание сержанта тогда, когда нам присвоили офицерское звание. Мы его жалели, но понимали справедливость решения командования. Как может командир взвода, будучи обжорой, быть во главе его?
В батарее пропал хлястик шинели у одного курсанта. На следующий день он его нашёл, но пропал у другого. Так продолжалось пока старшина не принёс хлястик. Было много смеха, но в то же время этот случай оставил неприятный осадок у всех: значит мы готовы украсть у товарища. Сегодня это хлястик, а завтра что-то более существенное.
Беда одна не приходит. В один из дней, во время личного часа, Паташ зашёл в каптёрку и обнаружил пропажу своих наград - "Красной Звезды" и "За отвагу". Михайлов, когда услышал об этом, бросился проверять своё имущество и также обнаружил пропажу своей награды - "За отвагу". Что в батарее началось!.. В первую очередь стали допрашивать каптенармуса, а он только стоит и хлопает глазами, потеряв дар речи. Потом еле выдавил, что никогда, почти за год службы в этой должности, не притронулся к чужим вещам, вне присутствия их хозяина. Потом обыскали все личные вещи в каптёрке и тумбочках, проверили подушки и матрасы. Старшина Мирошниченко рвёт и мечет. Он настаивает на повторной проверке, мотивируя тем, что вор мог унести украденное, а когда проверка прошла, вновь спрятать в батарее. Сделали повторную проверку, но ничего не нашли. Поступил приказ - всем курсантам сфотографироваться для личных дел. Нас строем повели в городскую фотографию. Разрешили заказать несколько экземпляров фотографий. Прошла неделя после фотографирования, в течение которой старшина Мирошниченко ни разу не появлялся в батарее. Вместо него обязанности старшины выполнял Брагинский. Просочились слухи, что напали на след того, кто украл награды. Брагинский, Паташ и Михайлов несколько раз вызывались в штаб. Они, ходившие с горестными лицами, вдруг перестали хмуриться и даже повеселели. Через неделю после фотографирования, после утренней проверки, которую уже привычно проводил Брагинский, объявили общее построение училища на территории артиллерийского парка. Начальник политотдела командовал этим построением. Он приказал подполковнику, начальнику штаба, зачитать приказы. Первый приказ - о разжаловании старшины Мирошниченко в рядовые и отправке его стрелком на фронт за совершенное воровство: кражу наград у курсантов Паташа и Михайлова и подделку наградных документов. Второй приказ был о назначении старшего сержанта Брагинского на должность старшины первой батареи, первого дивизиона и старшего сержанта Бондаренко на должность помощника командира первого взвода той же батареи. После этого построения, когда тайное стало явным, ещё долго ходило много слухов, догадок, рассказов, содержание которых касалось банальной истории проходимца, старшины Мирошниченко. Наш новый помощник командира взвода, старший сержант Бондаренко, был курсантом предыдущего набора и прошёл весь курс обучения, но перед самыми экзаменами заболел и потерял голос. После госпиталя его вернули в училище, где он продолжил учёбу по новой программе. За месяц до его прихода в наш взвод, к нему вернулся голос. Говорил он баритоном и хорошо пел.
Я уже упоминал о миномётном училище в нашем городке. Первоначально, когда в городке размещалось только кавалерийское училище, оно занимало две казармы и два учебных корпуса. Всё было поделено поровну и нас разделяла дорожка между казармами и учебными корпусами, расположенными в два параллельных ряда. Из наших окон были видны окна казармы миномётного училища. Чтобы уберечь нас от соблазна наблюдать за девушками-курсантками, окна казармы миномётного училища, закрывались занавесками. Мы не имели права проходить вдоль казармы и учебного корпуса девчат. В столовой мы ни разу не встречались - так был составлен распорядок дня. Девушек мы видели только в строю. Один раз, для обмена опытом по содержанию порядка в казармах, выбрали по несколько человек из каждой батареи нашего училища, чтобы ознакомиться воочию с порядком в миномётном училище Миномётным училищем командовал генерал-майор Капустин, доктор физических наук, автор учебника "Основы теории оптики и артиллерийские оптические приборы", по которому мы учились. Мы не только занимались, но периодически привлекались к некоторым хозяйственным работам. Училищу принадлежало подсобное огородное поле и в критическое время его обработки нас посылали на помощь. Но ни разу мы не работали на огороде за счёт учебного времени. Если принималось решение привлечь курсантов к этим работам, то мы это выполняли только по воскресеньям. Чтобы успеть выполнить больше работы в течение выходного дня, нас поднимали не в шесть утра, а в четыре и мы совершали пятнадцатикилометровый поход до огородного поля. Работали весь световой день и домой возвращались вечером. Так было три раза. Поэтому нас удивило, когда всё училище отправили на уборку урожая в несколько колхозов области на целую неделю. Нашу батарею направили в колхоз для оказания помощи в уборке урожая. Колхоз многоотраслевой и из числа прочего нам предстояло убрать поле созревшего проса. Остальные зерновые поля были убраны другими шефами - в колхозе не хватало мужчин-косарей. Так как не каждый мог косить, предложили выйти из строя десяти курсантам, способным выполнить эту работу. Дружно вышли только девять и, после маленькой паузы - десятый. Десятым был я, когда-то, в возрасте десяти лет имел отношение к косьбе тем, что относил затупившиеся косы для оттяжки старику-кузнецу, а готовые - косарям еврейской коммуны.
Я был уверен, что в строю оставалось достаточно косарей, хорошо знающих этот изнурительный труд и потому воздержавшихся от добровольного участия в нём. Почему же я вызвался? Среди косарей не оказалось ни одного еврея, по вполне понятным причинам. Если бы отозвалось необходимое количество добровольцев, в этой группе не было бы еврея. Я вызвался косить просо потому, что не доставало десятого, а ещё потому что хотел испытать себя на работе, не свойственной евреям. Председатель колхоза назвал дневную норму - 0,7 гектара, а начальник политотдела, полковник Григорьев, присутствовавший при этом, вмешался и увеличил дневную норму до одного гектара. Ребята нашей добровольной команды косарей оторопело переглянулись и даже приуныли.
У меня не было никакого мнения и я без эмоций отреагировал на норму в один гектар. Председатель колхоза хорошо знал, на что мы обречены начальником политотдела. Чтобы поощрить нас, он заявил: косарям и женщинам, вязальщицам снопов, о дополнительной норме питания (молоко, мёд и белый хлеб), которую каждый будет получать в полдень. Спали мы на соломе в большом колхозном сарае. Нас подняли в четыре часа утра и, после оправки, туалета и завтрака, направились в поле, которое находилось в трёх километрах от нашего сарая. До того, как солнце взошло, мы уже были на поле. Вслед за нами подъехала подвода с косами, снабжёнными грабельками, которой правил старик, специалист по отбивке (утончению) лезвий кос.
Память мне сразу восстановила картину 1933 года, когда старик-кузнец сидел на чурбаке, покрытом овчиной, и отбивал косы, используя бабку, вбитую в другой чурбак. И этот старик выгрузил два чурбака, в одни из которых вбита бабка. Мы избрали старшим курсанта, потомственного косаря-волжанина. Это был парень выше среднего роста, широкоплечий, голубоглазый красавец, с улыбчивым и задорным взглядом. Он мог бы служить рекламой радости жизни. Объясняя нам, подчеркнул, что косить просо значительно легче, чем рожь и пшеницу. Указал каждому место в шеренге, исходя из опыта косьбе. Я признался, что никогда не косил, поэтому был поставлен на левом фланге, чтобы не мешать, пока не втянусь в работу. Первым начал косить наш старший и, когда он углубился на несколько шагов, начал косить второй и так далее. Я, естественно, приступил десятым в шеренге ступеньками. Приглядывался к каждому движению впереди шагающего косаря, стараясь шагать в такт со взмахом косы. Первый круг - самый большой - мы завершили к обеду.
Я изрядно отстал от девятого косаря, а наш старший оказался впереди второго ровно на столько, насколько я позади девятого.
Восемь косарей работали в одном темпе и только двое нарушали симметрию шеренги уступов. К заходу солнца замерили основную скошенную полосу, оказалось, что восемь косарей скосили за первый день по 0,6 гектара, наш волжанин скосил 0,8, а я - 0,4 гектара. Домой вернулись, когда уже было темно. Умылись от пыли, съели оставленный нам обед и ужин. Мы так устали, что заснули мёртвым сном. Мне казалось, что я только что лёг спать, когда нас подняли до восхода солнца. Все мышцы болели, примерно так же, как в результате первой игры в футбол, после длительного зимнего перерыва. Я за первый день хорошо усвоил движение ног и рук: ноги широко поставлены, замах рук с косой назад вправо, шаг вперёд левой, замах руками с косой на срез, шаг вперёд правой и снова... Я также научился пользоваться оселком, когда делал остановку, чтобы подправить косу. Впереди меня шёл опытный косарь и я подражал ему во всём. На следующий день волжанин сделал 0,9, восемь человек скосили норму (0,7 гектара), а я - 0,6. На третий день наш направляющий скосил 1,0 гектар, восемь - по 0,8 и я - 0,7 гектара. На четвёртый день уже не отставал от восьмерых - 0,8 гектара. Пятый день был рекордным: ведущий скосил 1,1 гектара, а мы - по 0.9. В этом темпе мы скосили всё просяное поле. Семь дней работы от темна до темна были днями победы не только потому, что я физически состоялся, а главным образом потому, что еврей не отстаёт в работе, не свойственной нашему народу. Брагинский на меня как-то особенно, чуть ли не с восхищением, поглядывал, а потом воспользовался минутой, когда мы были одни, и радостно мне шепнул: "Ты молодчина! Знай наших". Паташ и Михайлов теперь носили свои награды, не расставаясь с ними. Паташ получил свою первую награду в первые месяцы боёв, как и первое ранение. Вторую награду и второе ранение он получил под Сталинградом. До того награды давали скупо. Учёба приближалась к логическому завершению. Итог её заключался в умении вести огонь на поражение противника. Теоретически мы знали различные виды подготовки данных для артиллерийской стрельбы, в зависимости от обстановки: стрельба прямой наводкой с открытой позиции и стрельба с закрытой позиции. При стрельбе с закрытой позиции применялись три вида подготовки данных: глазомерная, сокращённая и полная.
Но одно дело приобретать опыт в подготовке данных, а другое - практическое ведение стрельбы боевыми снарядами. Но ведение огня боевыми снарядами требует бóльших материальных затрат и бóльшего расхода времени учебного процесса. Такими возможностями училище не располагало, а поэтому учились стрельбе в классе на миниатюрном полигоне и на винтовочном полигоне (также малых размеров, но на открытом воздухе и стрельбой из прикреплённой к стволу орудия винтовки.).
Возможна ли уборочная страда без осенних даров земли? А может ли быть русская гульба без водки, споров и драк? Можно ли назвать дрова костром и бывает ли весна без её красочных уборов? А мы заряжали учебными снарядами, подавали команду и выкрикивали: "Выстрел!". Учёба - не настоящий бой, но мы изрядно потели, занимаясь войной "холостой". Нас подняли по тревоге и повезли на артиллерийский полигон, стоя в кузовах грузовых машин. Ввиду того, что училище готовило командиров взводов противотанковой артиллерии, мы должны были пройти испытание в стрельбе по подвижным целям прямой наводкой. Стрельбу вели бронебойными снарядами по щитам, которые тянули грузовые машины тросами.
Я был в числе тех, кто отлично отстрелялись. Если помните, полковник Григорьев меня журил за то, что я не подал заявление о приёме кандидатом в члены партии. Я оправдывался сколько мог. Но настал момент, когда он меня вызвал и потребовал от меня чёткого ответа, почему не подаю заявление о приёме кандидатом в члены партии. Он стал задавать мне вопросы прямо в лоб и загнал меня ими в угол. К примеру: "Ты не согласен с идеологией коммунизма и партией большевиков?" После этого мне оставалось выразить свою полную лояльность партии и правительству - написать заявление о приёме кандидатом в члены партии. Прежде чем вынести решение о приёме в партию, присутствовавшие на собрании засыпали меня вопросами, имеющими прямое отношение к моей биографии, а также к моим родителям, братьям и сёстрам. Меня ещё испытывали в знании устава партии и "Краткого курса истории ВКПб". Если я стремился стать октябрёнком, пионером, комсомольцем, то в партию я не хотел вступать. Война вскрыла передо мной всю правду бытия - я увидел не только страну, освещённую пламенем пожарищ, но и огромную сеть лжи, опутавшую её. И я рвал нити этой опутавшей меня сети: внутренне я отвергал коммунизм, как идеологию, глубоко прятал своё новое восприятие общественных отношений от окружающих. Меня ещё мучили противоречия, в душе ещё происходила тайная война ясных мыслей о лживости идеологии с личным наитием, - вдруг я ошибаюсь, вдруг недопонимаю что-то до конца.
Как-то заметил я в глубоком яру, граничащем с территорией училища (ограды там не было), цветущие яблони. Заметил и запомнил. Однажды, находясь на посту по охране складов, я ощутил аромат спелых плодов и сказал об этом курсантам. Уже наступил конец августа и яблоки поспели. В один из дней, когда я дневалил по батарее, высказал дежурному своё желание принести яблок из этого сада. Он мне разрешил отлучиться за ними, как только я сменюсь. Сменился я до подъёма и отправился в сад, в который надо было спуститься по крутому склону яра. Забрался на дерево и тут слышу скрип дверей дома и заметил как из кустов высовывается двустволка. Сразу мелькнула мысль: если стреляющий попадёт в меня, когда я на дереве, то ещё дополнительно пострадаю от падения. Я успел соскочить и повернуться правым боком, когда раздался первый выстрел. Чувствую, что ранен. У меня не было возможности защищаться и не видел стреляющего. Был уверен, что последует второй выстрел и стал взбираться по круче яра. Прогремел второй выстрел и вновь ощутил боль от попадания. Из последних сил, чувствуя что теряю сознание, вскарабкался и оказался на территории училища.
На очень короткое время я потерял сознание. Когда оно вернулось, стал ощупывать себя: обмундирование изодрано и в крови, которая сочилась из многих ран, но руки и ноги целы. Полежал несколько минут и вернулась ясность мысли. Подъёма ещё нет, поэтому мне надо срочно вернуться в батарею, чтобы никто меня не увидел таким истерзанным и в крови. Рассчитывал в батарее найти смену обмундирования. Меня тошнило, качало, но я всё же добрался в батарею до подъёма и никто меня не видел.
Помню, как вошёл в казарму и сел на табуретку дневального у входа. Дежурный меня увидел и сразу бросился будить старшину батареи, Брагинского. Я предложил свой план: найти обмундирование для смены порванного и некоторое время скрывать случившееся. Но не было запасного обмундирования, а мне стало совсем худо. Пришлось доложить дежурному училища и отправить меня в санчасть училища. Из санчасти меня срочно отправили в военный госпиталь. Дробь оказалось неоднородной, разной крупности, кости не были повреждены. Самой опасной оказалась рана в шее: она стала опухать, а я из-за этого задыхался. Хирургу было не сложно освободить меня от свинца, и через пять дней я вернулся в батарею. В батарее меня встретили, как героя, пролившего кровь ради них, но... Бесследно это не могло пройти. Первое сообщение о чрезвычайном происшествии (ЧП) в штаб округа звучало так: "Погиб курсант-выпускник!". Потом надо было писать объяснение о происшедшем, внося поправку, что курсант только ранен. Свыше поступило указание наказать властью начальника училища. Накануне того злополучного рассвета, вечером, когда я был свободным от дежурства дневального по батарее, командир дивизиона, подполковник Иванов пригласил поговорить с ним. Вечер летний, тёплый. Он указал мне место рядом с собой на скамейке, у входа в казарму. Наш командир дивизиона умел любого разговорить своими короткими вопросами (подбрасывая их, как дрова в костёр), поддерживая беседу-исповедь. Он всегда относился ко мне благосклонно, но после этой беседы я ощутил его душевную теплоту. Однако после ЧП, при встрече со мной, он смотрел на меня с такой укоризной, что я был готов провалиться сквозь землю. Состоялось партийное собрание, в повестке дня которого значилось моё персональное дело. Мне вкатили выговор с занесением в личное дело и объявили дисциплинарное взыскание: десять суток гауптвахты строгого ареста (горячая пища через день). Командир взвода, лейтенант Розанов, поспешил внести поправку в личное дело, сформулировав его так: "Совершил бесчестный поступок". Этим не всё сказано о происшедшем. Когда я лежал в госпитале, а наша батарея в течение четырёх дней несла караульную службу, кто-то организовал налёт на хозяина сада, посадили его в камеру на двое суток, не давая на протяжении этого времени ни еды, ни воды. Ему не давали спать и оправляться. Пока он сидел, мои друзья спилили все двадцать яблонь. Он не посмел жаловаться, боясь суда за попытку убить курсанта-выпускника. Этот страх ему внушил Брагинский, когда он сидел в камере гауптвахты. Не знаю всю подоплёку отношений начальства к моему проступку, к преступлению хозяина сада, к постигшей его каре. Могло бы кончиться для меня значительно хуже, я даже был готов к отчислению из училища без присвоения офицерского звания. До этого происшествия у меня не было ни одного замечания, не то что взыскания. Всё время учился только на "отлично" и был принят в партию. Училище не красит отчисление курсанта после пройденного курса обучения. Я не думаю, что благополучный исход обусловлен добрым отношением ко мне. Скорее всего командование училища заботилось о своём спокойствии. Начались экзамены, которых я никогда не страшился. Все экзамены сдал на "отлично". Внешняя и внутренняя баллистика, теория стрельбы, материальная часть, топография, геодезия, инженерная служба, стрельба, спорт, политучёба и другие дисциплины - позади. Предстоит официальная часть присвоения первичного офицерского звания - младшего лейтенанта. Как-то странно, даже враждебно, звучало слово "офицер". Но мы привыкли подчиняться начальству, соглашаться с партией и вождём. Форма наша неказистая, а кирзовые сапоги не идут ни в какое сравнение с хромовыми сапогами. Офицерский ремень с портупеей, кобура, погоны - не могут изменить психологию, внутреннее содержание каждого из нас. Мы ведь стали офицерами не по призванию, а по необходимости. У нас оставалась психология той части общества, к которой мы принадлежали до войны. Были созданы: офицерский корпус, офицерское собрание, офицерский суд чести... Смешно. Просто маскарад. Мы ведь воспитывались без понятия о дворянской чести и достоинстве, мы не принадлежали к интеллигентской элите, не получили серьёзных знаний из истории, литературы, не знали иностранных языков. Как были мужланами - такими и остались под формой офицеров.
ТРЕТЬЕ ИСПЫТАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ
Мы все получили назначения. Брагинского направили на один из "украинских" фронтов, а меня на Второй Белорусский фронт. Мне предстояло ехать через Москву и поэтому Михаил Брагинский дал мне московский адрес своей невесты, чтобы передать от него письмо и живой привет. Когда мы сели в вагон пассажирского поезда, в наше купе зашёл лейтенант Розанов и с вымученной улыбкой поздоровался с нами. Наступило гробовое молчание на короткий миг, а потом мы взорвались насмешливым хохотом и посыпались оскорбительные шуточки. Это ему мстили за мелочную придирчивость. А Михайлов бросил ему в лицо: "Кончилась лафа, чистюля!". По прибытии в Москву, я узнал когда отправляется поезд на Минск и, имея некоторый резерв времени, отправился к невесте Брагинского. Невзрачный двор, убогий дом, полы в квартире с наклоном. Невеста Миши - типичная еврейская девушка, милая и добрая, зарделась от встречи с неожиданным гостем. Она несказанно обрадовалась письму и устному привету, в который я вложил тепло и дружеское чувство к её жениху. Она вскипятила в чайнике, на примусе, воду и налила мне стакан кипятку, извиняясь при этом, что ничего кроме этого в доме нет. Я положил на стол булку хлеба, банку тушёнки, кусок сахару, извиняясь за скромное количество. Отдал всё, что у меня было, но она это заметила и сначала отказывалась что-либо взять, настаивала на том, чтобы я себе оставил часть. Я легко убедил её, что мне предстоит сегодня же получить по продовольственному аттестату в пять раз больше того, что я ей оставляю.
Мне надо было торопиться на свой поезд и мы расстались. Находясь в пути на Минск, думал над важностью своего третьего испытания войной, более ответственного двух предыдущих. Теперь в моём подчинении больше солдат и сержантов, чем бывало раньше. Я буду нести ответственность за вооружение и транспорт, за точность ведения огня по противнику.
Я молод, мне только исполнился двадцать один год, а в моём подчинении будут солдаты и сержанты старше меня по возрасту.
У меня нет боевого опыта артиллериста. Раньше от меня зависело с кем общаться, а кого не замечать. Теперь я обязан тесно общаться со своими подчинёнными в любое время, при любых обстоятельствах. Я приближался к фронту, и чувство ответственности во мне росло. Война в разгаре, пламя её пожара заливается кровью людей. Моя военная специальность - борьба против танков и бронемашин. Но это не значит, что меня не будут привлекать для уничтожения любой цели противника. Стрелять придётся, в основном, прямой наводкой, и орудия должны быть на передовой. Моё место там, где грохочет, гремит, взрывается.
Там всё зыбко и случайно, и это мне надо испытать в третий раз.
А желание жить - бескрайно.
СТО СОРОК ПЕРВЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ ПОЛК
Из Москвы нас направили по фронтам. Моё назначение - Второй Белорусский фронт, Четвёртая отдельная, Лиозно-Духовщинская противотанковая бригада, резерва Верховного командования (РВК), 141-й противотанковый полк. Я не должен был являться ни в штаб Белорусского фронта, ни в штаб бригады, а прямо в штаб полка. Дорога пролегала по Белоруссии, за окном я видел знакомые мне по Калининскому фронту панорамы: леса, расщеплённые деревья, сгоревшие селения с торчащими печными трубами, развалины домов в городах. На вокзалах - нищенски одетые люди с мешками или котомками. Было начало октября, но леса лишены здесь осеннего многоцветья - деревья хвойные. Весь свой продовольственный запас я оставил невесте Миши Брагинского, поэтому я уже третий день голодаю. На вокзале Минска я сразу нашёл продовольственный пункт, что было совсем не трудно, потому что чётко вырисовывались основные направления военных пассажиров: комендант, продпункт, туалет. Комендант сделал мне отметку в предписании и я сразу же занял очередь на получение продуктов по продовольственному аттестату. Мне предстояло прибыть в расположение 141-го полка, находящегося в десяти километрах восточнее города Ломжи на реке Нарев. Город Гродно, у реки Неман, - последний перед границей с Польшей. Следующий город, Белосток, уже на территории Польши. Ломжу удерживают немцы. От Гродно до Белостока 45 километров и столько же до Ломжи. От неё до Варшавы около ста километров. Мне предстояло добираться на попутных машинах около 80 километров. Расстояние не большое, но от Гродно до расположения полка добирался больше суток и ездил на десятке попутных машин. После ночёвки в "хозяйстве Михайлова" (пекарня, прачечная, сапожная и швейная мастерские) я отправился на последней попутной, которая проезжала мимо села - места расположения 141-го полка. Дело было ранним утром, моросил дождь. Все дома в селе целы и не похоже, что здесь шли бои. Село глубинное, вдали от шоссейных и железнодорожных дорог, выглядело таким мирным, что я уже начал сомневаться: попал ли я туда, куда надо. Вообще-то говоря, после Гродно, когда пересёк границу Польши, всё преобразилось.
Я хорошо знал Молдавию, юг Украины и часть России до Сталинграда, пролегающие дороги отступления. Я имел возможность ознакомиться с некоторыми населёнными пунктами Курской, Московской и Калининской областей во время наступления. Я многое увидел из окна вагона санитарного поезда. Понимаю, что вряд ли можно судить о жизни, познавая её в походе пешком или с колёс, но зрительно запечатлелась картина убогости сёл и деревень, запущенности городов, примитивность дорог, которые проще считать бездорожьем, запущенность лесов, полей и хозяйств. По сравнению со всем этим всё увиденное в Польше было намного привлекательнее: жилые дома и хозяйственные постройки более прочны, аккуратнее и просторней, поля, леса и хозяйства ухожены, дороги значительно лучше тех, по которым носила меня война до того, как я пересёк границу. Эта разница так заметна при пересечении границы, как отличаются свет и тень. Село ещё спало. В центре села я увидел машины около одного из домов и направился туда. Я был уже в десяти шагах от дома, как услышал окрик:- Стой! Кто идет?! Я ответил:- Свой! - Но сразу последовал приказ: - Пароль! - Всё идёт как надо, но я пароля не знаю... Отвечаю, что пароль мне не известен, потому что я вновь прибывший по назначению в полк. Вновь раздаётся девичий голос, в котором слышен испуг: - Стоять на месте, а то стрелять буду! .
Я, естественно, стою без движения и жду, что дальше последует. Опять девичий голос зовёт дежурного на выход. Раздаётся скрип дверей и появляется высокий военный и спрашивает строго:
- Чего ты, Машка, шумишь? - Голоса девушки не слышу, но военный, который меня увидел, уже шёл ко мне с револьвером в руке. Подошёл, остановился в двух шагах от меня и потребовал направление и удостоверение личности. Пока он проверял документы, я его разглядел: старший сержант, немного выше меня и по возрасту старше года на три, правильные черты лица, насмешливая улыбка. Убедившись, что я всё-таки свой, предложил зайти в помещение, куда скоро явятся офицеры. Он представился помощником командира взвода управления штаба и назвал фамилию - Гришин. Этот сельский дом был кирпичным, под красной черепицей. Потолки довольно высокие, помещение имело два больших окна. В комнате стояли два стола и у того, что у окна, находился рядом металлический ящик с висячим замком - вероятно, выполняющий роль походного сейфа. Если не считать по стулу у столов, у стен стояло ещё восемь стульев. На столе у окна возвышался алюминиевый чайник, рядом солдатская кружка. Комната обставлена сверх скромно. Вскоре послышались приближающиеся голоса: один неспешный и спокойный, а второй громкий, цинично произносящий бранные слова. Резко открылась дверь, вошли один за другим: высокий рыжий майор и пониже его смуглый капитан. Я встал и представился майору, не зная, кто есть кто. Так положено, если не знаешь должности. Повторилось старое: - Как, как? Казацкий? - И обычная спокойная поправка с моей стороны, которая дополнительно рождает недоумённые вопросы: Казацкэ? Казацкех?. Чтобы поскорее закончить с этим недоразумением, я предложил им прочитать в направлении и в удостоверении правильно написанную фамилию. Напрасно я рассчитывал, что на этом закончатся пустые расспросы. Капитан не произнёс ни единого слова, а майор всё не унимался, распаляясь всё больше и больше.
Обращаясь к капитану, он как бы жаловался: - Ты что-то, как начальник штаба, понимаешь? Вчера явился Асликян, из той же Пензы, как и этот, фамилию которого нельзя разобрать. Что они там, опиз.... что ли? Нельзя прислать офицеров с нормальными фамилиями? А нам придётся теперь языки ломать...
Я с трудом сдерживал своё возмущение, ожидая куда заведёт всё это майора, лицо которого стало пунцовым.
А он продолжал: - Что за фамилия? А имя и отчество? Кто ты, младший лейтенант, по национальности?..
Мой ответ прозвучал подчёркнуто чётко и предельно официально, соблюдая субординацию. - Товарищ майор! Я, младший лейтенант Казацкер Иона Вольфович, еврей, закончил Пензенское противотанковое училище и прибыл в 141-й полк в качестве командира взвода. Я не понимаю вашего возмущения по поводу моего назначения к вам в полк, согласно приказа свыше. Если бы я не соответствовал должности командира взвода противотанковой артиллерии, меня бы не назначили к вам. Вы меня не знаете, а поэтому сообщаю вам: я не новичок на фронте - это моё третье испытание на передовой. Я воевал стрелком и связистом на двух других фронтах, был в госпитале, в двух училищах среди военнослужащих разных национальностей и с более редкими фамилиями и именами, чем у меня. Если я, по вашему мнению, не подхожу для службы в вашем полку, отправьте меня в штаб бригады, указав причину моей не пригодности.
Боже мой! Как он взвился! - Ты, младший лейтенантишка, читаешь мне нотацию? Да я видел таких в гробу в белых тапочках. Ты ещё не был командиром и не знаешь, как трудно воевать, когда шлют сюда всяких...
Я побледнел и чувствую, что брошусь на него с кулаками. Присутствовавший при этом капитан вмешался. - Ну-ну... Разбушевались. Разве так принимают гостей? У меня тут есть от пайка наркома. Вот! - Он открыл сейф и вынул оттуда немецкую трофейную флягу, взял кружку и заглянул в неё, а потом плеснул туда водки и протянул майору со словами: "Пей и остынь..". . Когда майор выпил, он налил мне со словами: "Согрейся... Ты белый, как снег". А когда все выпили, он продолжил: - Кончать надо глупить. Надо решить, куда направить младшего лейтенанта Казацкера…Меня назначили командиром взвода управления в батарею капитана Коренного. Указали на группу сосен, возле которых она расположилась, и я отправился туда. Пройдя около километра, увидел четыре орудия, с необыкновенно длинными стволами, не закопанные и не замаскированные. Рядом, среди сосен, виднелись землянки и возле одной сержант сливал из чайника воду на руки офицеру, без гимнастёрки. Я направился к ним, выяснилось, что умывающийся и есть капитан Коренной. Высокий, сухощавый, слегка сутулый, с чёрными усами и смеющимися глазами, весело приветствовал меня. Его речь слышалась так, будто ему мешало, что-то постороннее во рту. Он сообщил, что мой сокурсник, младший лейтенант Асликян, зачислен командиром огневого взвода в эту же батарею. Когда капитан кончил умываться и вытерся полотенцем, поданным ему сержантом Ивановым, мы вдвоем спустились в глубокую землянку, снабжённую дверью, освещённую настоящей керосиновой жестяной лампой со стеклом. В землянке стоял стол, составленный из двух "козликов" и щита из досок, а также две скамейки. Справа и слева была оставлена земля, на ней солома, покрытая плащ-палатками. Землянка рассчитана на четыре человека: командира батареи, командиров огневых взводов и командира взвода управления. Таким образом, оказалось место и для меня. По одной стороне спал капитан Коренной и лейтенант Кожухов - командир первого огневого взвода и, значит, старший на батарее. На другой стороне лежал улыбающийся мне младший лейтенант Асликян, а рядом свободное место - для меня. Началось наше устное знакомство. Самим близким мне человеком в то время был Михаил Асликян. Причины этому очевидны: мы равны по званию - младшие лейтенанты, мы равны по должности - командиры взводов, мы прибыли из одного и того же училища - Пензенского, мы оба представители национальных меньшинств - армянин и еврей. Он старше меня на два года, успел закончить педагогический институт и поработать учителем истории год. Службу в армии он начал курсантом Пензенского училища и на фронте впервые. Парень интеллигентный, но с восточной культурой - приверженец законов гор. У него есть невеста, которую он обожает, он целомудрен. Ниже меня ростом, жилистый и ловкий. Лицо типичное армянское, с усиками над верхней губой. Он верит в мужскую дружбу и способен жертвовать собой. Болезненно воспринимает неуважение к себе, оберегает свою мужскую честь и гордость. У него приятная добрая улыбка, когда он ощущает доброжелательство к себе и становится напряжённым, как натянутая струна, готовым к прыжку пантеры, если ощущает враждебность или неуважение к себе. Ко мне он относится естественно и дружественно. Постоянно делится со мной о своём состоянии души, глядя пристально мне в глаза. Получая письмо из дома или от невесты, он пересказывает мне содержание и делится тем, как он собирается ответить. При этом он добивается моего откровенного мнения о содержании писем. Он постоянно копается в своей душе, как искренне верующий христианин, хотя он уже член партии. Возмущается хамством и пьянством командира полка Орлова и негодует против беспутства всего его окружения. Страшно переживает за то, как он проявит себя в первом бою. Он мне открылся, что в случае ощущения страха и трусости, чтобы об этом позоре никто не узнал, он застрелится. Нельзя сказать, что у нас очень много времени для душевных бесед, но он не пропускает ни одного мига ради этого. В первый же день капитан Коренной рассказал нам многое о бригаде, о нашем полку и батарее. Говорил он по-русски с украинским акцентом, со слышимым дефектом речи. Пуля попала ему в одну щеку и вылетела через другую, повредила нижнюю челюсть, выбила все зубы. У него вставные челюсти.
Наша четвёртая противотанковая бригада сформировалась летом 1944 года и с тех пор командует ею "батя", Герой Советского Союза, полковник Рыбкин. Ему присвоили звание героя в 1939 году, в боях на Халхин-Голе. Он тогда, в звании капитана, был командиром батареи 45-миллиметровых орудий. Бригада первоначально включала в себя три полка, два из которых имели на вооружении 76-миллиметровые орудия, а один - 57-мил-лиметровые. Во время форсирования Нарева с целью создания ложного плацдарма 141-й полк, вооружённый 57-миллимет-ровыми орудиями, участвовал в тяжелейшем бою и потерял тогда более половины личного состава. Обескровленный полк отвели сюда, к этому селу, для пополнения людьми и перевооружения: вместо 57-миллиметровых орудий полк этими днями получил 100-миллиметровые. Предстоит получить новый вид американских бронетранспортёров. Происходит процесс комплектации рядовыми, сержантами, офицерами, а также освоения нового вооружения и транспорта. Обо этом рассказывал капитан Коренной мне и Асликяну, но в землянке присутствовали лейтенант Кожухов и разведчик, сержант Иванов. Официально он не был ординарцем, но из привязанности и преданности комбату выполнял эту обязанность заботливо и с любовью.
С момента создания бригады сержант Иванов не разлучался с капитаном Коренным. Он лично вытащил раненного комбата и отправил его в медсанбат. Около двух месяцев капитан был в госпитале и, когда вернулся, сержант Иванов бросился к нему и крепко обнял, забыв об уставных положениях. Он каждый день готовит ему кашу, потому что Коренной не всё может кушать, регулярно стирает обмундирование и бельё. Он даже возит с собой паровой утюг, и капитан, который никогда не обращает внимания на свой внешний вид, благодаря Иванову выглядит щёголем: побрит, одет во всё чистое, отутюженное обмундирование, в начищенных сапогах и опрятной шинели. Он взглядом ловит каждое желание комбата и тут же безошибочно его исполняет. Он это делает со рвением, буквально бросается исполнять желание комбата. Он привык делать всё быстро и перемещается бегом.
Иванов - высокий, широкоплечий парень с прекрасным открытым лицом, украшенным смышлёными серыми глазами. Он был разведчиком взвода управления батареи. Во время занятия ложного плацдарма он четыре раза перебирался через Нарев. Командир взвода управления и командир отделения разведки были ранены, как и большинство командиров орудий и членов орудийных расчётов. Командир второго огневого взвода убит. Командир первого огневого взвода лейтенант Кожухов за весь вечер не проронил ни слова. Он ниже среднего роста, лицо какое-то перекошенное, асимметричное. Большой рот с нечётким контуром губ всегда приоткрыт. Создаётся впечатление, что он носом не дышит. Голос глуховатый и не всегда мне удавалось расслышать всё сказанное. Когда я его переспрашивал, он обычно вставлял: "Извини мою косноязычность", и снова, более старательно, повторял не расслышанное мною. Он не расcтавался с автоматом и большой сапёрной лопатой. Этот, на первый взгляд невзрачный, с непривлекательной внешностью человек, стал для меня образцом воина несгибаемой воли и душевности.
Когда он бывал рядом с неизменной накинутой плащ-палаткой, автоматом на груди, опирающийся на лопату, как на посох, возникала атмосфера спокойной уверенности. Он никогда не приказывал своим подчинённым, а предлагал: "Рядовой Смирнов, понаблюдайте за тем пригорком, пока я вернусь к вам. Старайтесь ничего не упустить". Из его скупых рассказов я знаю, что он был учителем ботаники в сельской школе. Среди офицеров батареи был самым старшим - ему исполнилось тридцать два года. Семейный, дома его ждут жена (учительница) и дочка пяти лет. Эти подробности мне стали известны постепенно.
В батарее была атмосфера дружбы и взаимопонимания, но она начала меняться к худшему в процессе пополнения личного состава. Я был новым человеком в полку и не мог знать об офицерах других батарей полка. В отличие от обычной полевой артиллерии, где в полках были дивизионы, а в последних - батареи, в противотанковых полках отсутствовали дивизионы. Наш полк состоял из штаба полка, взвода управления полка и трёх батарей. Такая упрощённая схема состава полка позволяла более оперативно решать боевые задачи. Часто батарея придавалась стрелковой части, а отдельные взвода или орудия придавались стрелковым батальонам, ротам или взводам. Реже полк придавался стрелковым соединениям в полном составе - только при решении тактических задач. Обычно приходилось участвовать в решении оперативных задач. Поэтому нас часто перебрасывали с одного места на другое. Последние наступательные бои 1944 года ослабили требовательность командиров противотанковой артиллерии к соблюдению защиты материальной части и людей. Усилились ухарство и бесшабашность, что приводило к неоправданным потерям. Нас ознакомили с приказом об обязательном окапывании орудий, боеприпасов и личного состава при любой остановке, вне зависимости от времени стоянки. Позиции мы были обязаны занимать в ночное время и до утра завершить окапывание и маскировку. Собственно говоря, это не новость. В училище нас этому учили, но "авось" - характерная черта нашего народа.
Лейтенант Кожухов, не афишируя своё отношение к известным установкам об окапывании, служил примером ответственности, предусмотрительности и исполнительности, не расставался с лопатой. Я стал его последователем и до конца войны тоже не расставался с лопатою. Я первым начинал копать, и не надо было уже приказывать подчинённым окапываться. Ввиду того, что батарея часто действовала отдельно от полка, командир батареи должен был быть самостоятельным по натуре и в дозволенных пределах независимым. Быт батареи приспособлен к её оперативным действиям. Командира полка, замполита и начальника штаба мы почти не видели и, признаться, не были в обиде на них - мы знали что делать. А работы было невпроворот. Ощущалась подготовка к наступлению по тому, как мы активизировали визуальную разведку за передним краем противника. Все ночи мы копали запасные и ложные огневые позиции на предполагаемых танкоопасных направлениях. Мы получали пополнение и по его составу можно было судить, как трудно стране изыскивать пригодных к службе людей. В мой взвод управления попали старики, освобождённые из тюрьмы.
Рядовой Абрамович, 1900 года рождения - радист, рядовой Бутович, 1899 года рождения - телефонист, рядовой Корнеев, 1910 года рождения - разведчик, рядовой Александров, 1926 года рождения, осуждённый на десять лет, был направлен из зала суда в маршевую роту, отправлявшуюся на фронт. Во взвод управления попал старший сержант Гришин, отсидевший пять лет из десяти, а также рядовой Рябов, 1915 года рождения, успевший отсидеть свои десять лет. О них я знаю, потому что они были переведены в нашу батарею, ко мне во взвод, в наказание и для исправления.
С ними вместе был переведен сержант Мищенко, не судимый, но с наклонностями преступника. Гришина направили на должность командира отделения разведки, Мищенко - командиром отделения телефонной связи, а Рябова - разведчиком.
Во взводе создалась опасное количественное соотношение между порядочными, исполнительными подчинёнными и подчинёнными "вольницы". Всего, вместе со мной, было тринадцать человек, из этого числа - четверо блатных, не желавших подчиняться приказам. Гришин и Мищенко были из "гвардии" командира полка, майора Орлова. Они "обеспечивали" пьянки командира полка всем необходимым и "доводили" девушек-телефонисток до состояния готовности - сначала для командира полка, а потом для командиров меньшего ранга. Гришин - командир отделения разведки, а, значит, помощник командира взвода управления, а сержант Мищенко командир отделения связи, и телефонистки были в его прямом подчинении. Майор Орлов, распутник и пьяница, попал в их зависимость.. Они производили незаконные поборы, попросту говоря, мародёрствовали: забирали самогон у местных жителей. Сто граммов водки, ежедневная норма фронтовика, не могли удовлетворить пьяницу, и самогон стал традиционной добавкой. Гришин открыто предлагал девушке-солдатке отдаться майору Орлову, и ей, если согласится, перешьют обмундирование и шинель по фигуре. Некоторым обещал хромовые сапожки. Если это не срабатывало, то неподатливую солдатку посылал на пост в ночное время. Она держалась до тех пор, пока страх ночных дежурств не пересиливал страх потерять девственность. Натешившись, майор позволял ухаживать за бывшей фавориткой другим и требовал другую для забавы. Об этом все знали и считали это обыденным.
К тому времени понятие "ППЖ" (походная полевая жена) стало привычным и допустимым. Фронтовикам отпуск не давали, они не имели возможности встретиться с женой или невестой. Война войной, но физиология требовала своего. Пока в армии было мало женщин-военнослужащих, они могли сами выбирать, с кем налаживать близкие отношения. Но когда появились, помимо санинструкторов, ещё телефонистки, радистки, снайперы, регулировщицы, миномётчицы, зенитчицы, укладчицы парашютов, не говоря уже об участии служащих женщин во всяких хозяйственных службах, командиры "взяли" себе право на интимные связи с подчинённой. Возникла конкуренция. Успехом на этом поприще пользовались, в первую очередь, привлекательные и опытные женщины, а потом уже красивые и более молодые. Самое главное, чего боялись - беременности. За это наказывали, потому что такую женщину демобилизовывали.
Даже майор Орлов понял, что Гришин и Мищенко слишком обнаглели. Когда стало приходить пополнение, он нашёл менее нахальных, а их наказал, отправив в батарею, где надо много трудиться и подвергаться большей опасности, чем в штабном взводе, уже не говоря о том, что они лишились попоек и женщин. С первых же дней "гвардейцы" Орлова начали качать права во взводе. Первыми мишенями для насмешек стали старики: Абрамович и Бутович. Потом они начали понукать (именно понукать, а не командовать) своими подчинёнными, когда я отсутствовал. Они приблизили к себе Рябова, отсидевшего десять лет в тюрьме, и Александрова, осуждённого на десять лет, но не отбывшего наказания. Они стали прививать воровские порядки, используя воровской жаргон, щеголяя перед остальными своим положением в воровском мире. Гришин ходил гоголем, изображая из себя героя-смельчака. Мищенко ему во всём подражал, стремясь быть признанным среди трёх блатных. В моём присутствии они старались сдерживаться, но это им не всегда удавалось. Улучив время, когда я оказался один, Абрамович и Бутович попросили меня их выслушать. Для меня 45- и 44-летний солдаты были стариками и я к ним соответственно относился, стараясь, по обстановке, не перегружать. Но они считали ошибочным моё желание облегчить им труд воина. Они обычно говорили, что не стары и имеют опыт переносить трудности больше любого из нашего взвода. И они действительно неутомимо выполняли свои обязанности, добросовестно и споро.
Разговор от имени обоих вёл Абрамович, потому что Бутович лишился голоса на нервной почве и объяснялся еле слышным шёпотом. Разговор того вечера врезался мне в память на всю жизнь. "Товарищ младший лейтенант, разрешите нам говорить с вами, как говорил бы с вами ваш отец, потому что по возрасту и знанию жизни мы годимся вам в отцы. Вам всего двадцать один год и мы видим вашу воспитанность во всём: не ругаетесь матом, не пьёте водку, уважительно разговариваете со всеми. Мы видим в вас образованного командира, который не щадит себя. Мы знаем, что вы не новичок на фронте и ни разу не замечали, чтобы вы терялись в любой обстановке. К вам все относятся с уважением, хотя не скрываете свою принадлежность к еврейскому народу.
Но, тогда зачем же нам понадобилось встретиться с вами? Не подумайте, что мы ищем что-то для себя лично. Я и Бутович старые знакомые: мы оба из Витебска. Вместе начали работать в типографии ещё до революции и были коллегами-наборщиками до начала войны. Мою жену немцы расстреляли и мой сын погиб в прошлом году под Курском. Жену Бутовича немцы повесили, как коммунистку - выдали соседи, а дочь замучили в гестапо, как партизанку. Бутович, когда узнал о гибели жены и дочери, потерял голос. Мы закадычные друзья и никогда не расставались. Он всё время выполняет работу линейного, потому что безголосый не может быть дежурным телефонистом. Разговор у нас важный, потому что замечаем дурное влияние старшего сержанта Гришина, вашего помощника, и его дружков на ваших подчинённых. Гришин старается запугать и подчинить себе, вору, слабых характером, а сильных старается подкупить послаблением в дисциплине и в исполнении долга фронтовика. Мищенко, хотя он не имеет судимости, ещё хуже Гришина, он пропитан животной ненавистью к евреям и другим национальным меньшинствам. Нас три человека коммунистов и надо объединить усилия, чтобы свести к нулю вредное влияние этой четвёрки подонков. Начните действовать и вы всегда найдёте поддержку с нашей стороны". Я их поблагодарил и обещал, опираясь на долг командира и уставы, а также на их поддержку, сохранять порядок, который не так просто соблюдать в условиях передовой, когда подразделение только пополнилось новыми людьми, которых я ещё плохо знаю. Передовая быстро оценит каждого, а, значит, мимо меня ничего не пройдёт. В последнее время участились рекогносцировки местности нашего противотанкового сектора. Командиры батарей и командиры взводов управления выезжали на "Форде" к нужному участку и добирались пешком к удобной точке, откуда обзор местности лучше. Иногда это бывал командный пункт батальона или роты, но чаще мы выбирали такой пункт в стороне.
Это было 28 октября 1944 года. Мы оставили машину под холмом, а сами поднялись к его вершине, залегли и отдышались. Начальник разведки полка велел всем достать карты и найти точку, соответствующую местности. Когда мы это всё проделали, он указал основные ориентиры в нашем секторе и приказал начать разведку огневых точек противника, которыми могут быть: закопанные танки, ДОТы и ДЗОТы, орудия на прямой наводке, пулемёты. Нас было восемь человек с биноклями. День выдался пасмурный и мы не боялись, что блеск объективов от солнечных лучей нас выдаст. Мы завершили работу и спустились к машине, когда внезапно начался миномётный обстрел вершины холма, а отдельные мины разрывались близко от нас. После разрыва последней мины я почувствовал сильный удар и обжигающую боль с правой стороны шеи. Инстинктивно поднёс руку к ране и почувствовал, что кровь течёт. Боль была сильная, но сознание не потерял. Я был сзади всех и никто этого не заметил. Позвал капитана Коренного, который сразу заподозрил неладное. Он подбежал ко мне, убрал мою руку и увидел рассечённую осколком рану. Комбат позвал на помощь, меня быстро перевязали моим же индивидуальным пакетом. Усадили в кабине, все сели в кузов, и машина с места рванула в сторону санбата. Там дежурный врач извлёк из раны малюсенький осколок, обработал рану, сделал перевязку. Он предложил остаться на пару дней у них, хотя опасности особой он не видит. Я отказался и отправился в полк вместе со всеми. В течение недели я ещё носил повязку, а потом её снял. Я ни на один день не оставил батарею. Я бы мог "кантоваться" пару дней в санбате, но меня беспокоила обстановка во взводе, где старшим остался мой штатный помощник, старший сержант Гришин. Командир батареи сообщил рапортом в штаб полка, что я получил легкое ранение, но отказался от госпитализации. Это было также зафиксировано в моём личном деле. Отделался легко. В батарее об этом знали: выдавала повязка на шее. Гришин стал расспрашивать о случившемся в присутствии моих подчинённых, а я только сказал, что это произошло во время рекогносцировки и если я с ними, то опасность мне не грозит. Через день после этого я должен был выбрать наблюдательный пункт для выявления целей противника в указанном секторе и сразу же установить круглосуточное наблюдение. На этом пункте должны находиться разведчик и телефонист. Обычно я брал с собой разведчика и радиста. На этот раз взял с собой только Гришина, оставив старшим во взводе командира отделения радио сержанта Бондаренко. Я от всех требовал носить с собой сапёрную лопату и это все выполняли, за исключением Гришина. Когда уже надо было уходить, я его спросил, почему он без лопаты, он ответил в своей манере наглеца, что ему лопата не нужна. Естественно, я приказал взять лопату. Местность, куда мы направились, была открытой, если не считать редкого кустарника. Передвигались перебежками от куста к кусту, пока не нашёл наиболее удачное место для наблюдения. В пяти шагах сзади этого места зеленел широкий куст и возле него я сразу начал копать ровик, а Гришин делал вид, что его не касается такая предосторожность. Я копал, а он присел и начал готовить себе махорочную закрутку. Я ему ничего не говорил, продолжая копать. Земля мягкая, и я довольно быстро закончил узкий ровик на одного человека. А Гришин сидит себе. Я его позвал, мы ползком добрались до места, откуда надо будет вести наблюдение. Показал ему сектор наблюдения, обозначив его ориентирами, а затем сориентировался и обозначил точку на карте.
Когда ставил ему задачу на круглосуточное дежурство, указал, что этот наблюдательный пункт необходимо постоянно улучшать, усиливая защиту наблюдателей рытьём переходов между ровиками и соблюдая маскировку. Он слушал с видом опытного артиллерийского разведчика. Предложил ему набросить схему сектора наблюдения и нанести на ней указанные мною ориентиры. Он на меня посмотрел удивлённо и нахально спрашивает, мол, к чему это ему, если наблюдать будут разведчики. Я спокойно объяснил, что это для контроля работы разведчиков. Гришин признался, что никогда не составлял такие схемы. Выяснилось, что он не знает условных тактических знаков, которыми пользуются для схемы. Немцы начали очередной обстрел по площадям. Нет никакой уверенности, что огонь не перенесут именно сюда, а поэтому я ему говорю, что надо уйти в укрытие (для меня укрытием был мой ровик). Когда я прыгнул в ровик, на меня свалился тяжело дышащий Гришин. Ровик был узким и глубоким, рассчитанным только на одного человека - так требовал устав и последний приказ по мерам усиления защиты в подразделениях противотанковой артиллерии. В ровике нельзя было повернуться. Я еле выбрался из него. Огонь уже прекратился и вряд ли возобновится скоро. Зову Гришина, а он лежит съёжившись, прикрывая руками голову. Я постоял немного, а потом крикнул: "Вылезай, трус поганый!" Он убрал руки с головы и умоляющим взглядом насмерть перепуганного человека смотрит на меня, но не пытается встать со дна ровика. Тогда говорю ему спокойно: - Обстрел кончился и опасности его повторения пока нет. - Смотрю, как постепенно исчезает страх в его взгляде и он медленно поднимается и выбирается из ровика. Я понял: Гришина я обломал и в дальнейшем он будет беспрекословно выполнять все мои требования, указания, просьбы и приказы. Тогда я ему сделал внушение. "Ты мой помощник взвода не потому, что я тебя выбрал, а потому, что есть на это приказ. Выполнить приказ о твоём назначении можно только, если мы оба этого захотим. Если бы меня спросили, хочу ли тебя в помощники, таким каким ты есть, я бы сказал - нет. Но я добьюсь того, что ты им станешь, даже если ты этого не хочешь. Приказ я выполню и сумею принудить тебя помочь мне в этом. До сих пор ты кичился тем, что ты блатной, бывший вор, стараясь внушить окружающим своё превосходство наглостью, нахальством, ухарством, выдавая себя за бесшабашного храбреца. Не забудь, что тебя и Мищенко направили в батарею на исправление, как зазнавшихся блатных. У меня есть все уставные права и устоявшиеся фронтовые традиции, чтобы держать вас в ежовых рукавицах. Но есть ещё один метод - дружеский договор.
Я никому не скажу о твоей трусости, проявленной сегодня, а ты отныне не отступаешь ни на йоту от условий, которые я выдвигаю. Немедленно приступить к изучению службы разведчика на фронте, в чём я тебе помогу. Носить с собой лопату и приступать к рытью ровика, потому что не всегда будет тебе приют в ровике, отрытым другим. Бесстрашных людей нет - все боятся. Храбрость характерна тем, что принимается правильное решение и производится действие, не взирая на страх. Этому тебе надо учиться. С этого дня ты будешь большую часть времени находиться на передовой. Ты должен прекратить все блатные штучки и заставить это же сделать твоим дружкам. Если будет жалоба на неподобающее действие твоих дружков, то в первую очередь ты будешь наказан за то, что не выполняешь обязанности командира в деле поддержания порядка и дисциплины в подразделении". С того дня я брал Гришина с собой на НП и научил его правильно вести наблюдение, фиксируя условными тактическими знаками на схеме визуальной разведки. Вскоре я мог полагаться на него. С лопатой он уже не расставался и приструнил своих дружков. Мои уважаемые старики, Абрамович и Бутович, выразили мне свою признательность за умение приводить в порядок даже блатных. Вское нам сообщили об указе празднования "Дня артиллерии", ежегодно и этим днём является 19 ноября. Избран он не случайно: 19 ноября 1942 года была произведена артиллерийская подготовка перед началом наступления на Сталинградском фронте. Мне было приказано явиться к командиру полка, майору Орлову. Я не мог предположить, зачем я ему понадобился и удивился, что именно мне он поручает достать самогон к праздничному обеду офицеров полка, в честь праздника "Дня артиллерии". В полку знали, что я трезвенник, - о таком "уродстве" сразу становится известно, - так почему же мне поручать, а не любителю выпить? Я понял, почему он мне приказал: моими подчинёнными являются его бывшие фавориты, специалисты по "конфискации" самогона. Но я не воспользовался их услугами. Я взял с собой командира отделения радио, Бондаренко, и разведчика, рядового Корнеева. Чтобы это носило законный характер, я решил обойти все дома села для конфискации незаконно хранимого оружия в прифронтовой полосе. В случае обнаружения оружия и самогона, конфисковать то и другое. Взял хозяйственную машину батареи, по распоряжению капитана Коренного, и отправился в село. Не прошло и трёх часов, как я вернулся с конфискованным оружием (с десяток карабинов) и полной канистрой (20 литров) самогона. Операция прошла спокойно и тихо. Старшины батарей организовали закуску, стол был уставлен солёной капустой, американскими консервами (сало-шпик, колбаса, тушёнка), картошкой в мундирах и хлебом. На столе поставили два алюминиевых чайника с самогоном и солдатские кружки. Майор Орлов предложил избрать меня тамадой в знак благодарности за успешную операцию под кодовым названием "самогон". Один раз я пил водку в санбате, куда был доставлен раненым в начале 1942 года. Самогонку в жизни не пробовал.
Я всем наливал и почти каждый просил с ним выпить. Я старался пить по чуть-чуть, но к концу праздничного обеда понял, что пьянею. Я ушёл вместе с офицерами батареи, когда солнце заходило, и еле добрался до своего места в землянке. Заснул крепко и сколько спал не мог определить, но когда вышёл из землянки увидел заход солнца. Что за чертовщина? Я хорошо помнил, что видел заход солнца, когда спускался в землянку. Выходя из землянки, я увидел улыбающегося капитана Коренного и спросил его, сколько я спал... - Ты почти не спал: лёг и встал с заходом солнца. Я проспал ровно сутки. Такое со мной случилось в январе 1941 года, когда добирался домой по глубокому снегу световой день и после похода проспал сутки.
Наш полк был на особом положении благодаря новым противотанковым 100-миллиметровым орудиям. Они были засекречены и на подготовленные огневые позиции не выводились. Их держали для особых операций. В устройстве орудия не содержалось ничего секретного. Секретность заключалась только в том, что впервые создано полевое орудие против танков такого калибра. Снаряд, выпущенный этим орудием, способен пробить броню любого танка. В этом и только в этом заключалась секретность. Я знал устройство зенитных орудий (37-, 76- и 85-мил-лиметровых), а также противотанковых (45-, 57-, 76- миллиметровых). 100-миллиметровая пушка являлась гибридом - станина полевого орудия, ствол корабельного зенитного орудия. Конструкция казённой части и замка была идентична существовавшим. Ствол орудия, длиной в шесть метров, позволяет придать огромную начальную скорость снаряду и увеличить дальность стрельбы до 22000 метров. В этом заключалась уникальность орудия. Все остальные параметры не соответствовали требованиям, предъявляемым к орудию противотанковой артиллерии. Артиллерийская стрельба по танкам происходит в условиях быстротечного боя, поэтому важна маневренность орудия. А что получалось? Орудие имело вес в 3650 килограммов.
Бронетранспортёр свободно транспортировал орудие по дорогам, но орудие занимает ОП (огневую позицию) на пригорках, в поле, на опушках леса. ОП необходимо занимать незаметно и беззвучно, чтобы не раскрыть себя до начала стрельбы. Это значит, что надо вкатить орудие на площадку орудийного окопа на руках, силами расчёта, который состоял из девяти человек по штатному расписанию. В условиях мягкого грунта невозможно перемещать такое орудие вручную, тем более, что у нас никогда не было больше семи человек в расчёте - чаще меньше семи. Выходит, что даже закатить орудие скрытно на ОП нельзя. Танки могут появиться с любого направления и тогда надо поворачивать орудие быстро в нужном направлении. Механизмы придания угла возвышения и поворота, основанные на зубчатых передачах, обладали малой скоростью, чтобы наводчику было под силу ими пользоваться.. Идеальное противотанковое орудие должно быть: самоходным на бесшумном двигателе (на аккумуляторах), с круговым поворотным сектором в оба направления, снабжённым механизмом, облегчающим поворот. Мощное орудие в условиях плохой погоды и мягкой почвы становилось неуклюжей грудой металла. Орудие снабжено щитом, выступающим над стволом и демаскирующим орудие. По логике вещей щит лишний и вреден. Нет никакой гарантии, что вражеские снаряды будут разрываться только впереди щита. По теории вероятности они чаще разрываются с боков и сзади. Щит при условии, что снаряд разорвался впереди орудия, может защитить только наводчика. А как быть с остальными орудийными номерами (замковый, заряжающий, подносчики снарядов)? Отсутствие щита было бы большей гарантией защиты всего орудийного расчёта и орудия, чем его наличие. Артиллеристы становятся заложниками орудия при ненастной погоде. Общеизвестно, что они не оставляют исправное орудие врагу, точно так же, как капитан последним покидает тонущий корабль.
Если два полка 76-миллиметровых орудий нашей бригады занимали ОП, то наш полк содержал орудия скрытно, будучи готовым занять основные или запасные ОП на предполагаемых восьми танкоопасных направлениях. Помимо нашего (комбата и моего) участия в визуальном изучении разведкой передовых позиций противника, разведчики этим занимались беспрерывно, днём и ночью, при любой погоде. Взвод управления находился в постоянном напряжении, потому что разведать надо было на всех танкоопасных направлениях. Естественно, нельзя было осуществлять разведку одновременно со всех НП. Штат взвода управления с трудом позволял обслуживать НП и КНП. Для связи со штабом полка комбату нужны, по меньшей мере, дежурный телефонист и дежурный радист. Для беспрерывного наблюдения за противником необходимы не менее двух разведчиков и для поддержания связи с батареей - не менее одного телефониста и одного радиста. Вот и получалось, что на одном НП велась разведка два дня, а потом последовательно переходили на другие.
Я был обязан накапливать разведданные, анализировать их и наносить на карте цели противника. Я был ответственным за бесперебойную телефонную и радио связь. Постоянно находился в движении, чтобы поспевать к дежурным на НП и КНП.
Огневые взвода последовательно, все ночи, производили земляные работы на запасных ОП. Когда ОП были подготовлены на восьми танкоопасных направлениях, начали расширять сеть переходов между ровиками и окопами орудий. Окоп представлял собой отрытую круглую площадку радиусом в шесть метров и глубиной 0,4 метра, с аппарелью для закатывания орудия. Рядом с этой площадкой рыли ровики для боеприпасов и для номеров расчёта орудия. Большая часть личного состава батареи состояла из прибывшего пополнения, поэтому прибывших надо было многому научить. Учёбу сочетали с боевой службой. Мне удалось добиться порядка во взводе, благодаря переориентации Гришина и его дружков-бузотёров на исполнение долга фронтовика. Гришин сам следил за каждым шагом Мищенко, Александрова и Рябова. Перестал звучать воровской жаргон, прекратились насмешки и угрозы. Во взводе возродились принятые на передовой ценности: смелость, усердие, взаимопомощь и фронтовая дружба. Александров стал внимательней относиться к Бутовичу и выражал ему уважение. В отделении радио никогда не было скандальной ситуации. После серьёзного разговора с Гришиным он многому научился по службе артиллерийского разведчика и стал настоящим помощником. Контроль командования за нашим полком усилился, мы стали ощущать приближение перемен. В воздухе будто накапливалось напряжение, люди становились как пружина перед решительным броском. Сначала собрали командиров частей на совещание в штабе бригады, а потом прибыл представитель политотдела бригады для беседы с нами, офицерами батарей.
На этой беседе я впервые услышал такое, что никогда не могло прийти мне на ум. - "Товарищи офицеры! Настало время, когда Советская Армия способна перенести военные действия на территорию врага, в логово германского нацизма. У нас появилась объективная возможность отплатить немецким захватчикам за внезапно развязанную войну против нашей Родины, за оккупацию территории и населения, живущего на ней, за издевательства над ними, за поруганную честь матерей, жён и сестёр, за разрушенные города и сёла, заводы, фабрики, за страдания нашего народа, вызванные войной. Мстите врагу так, чтобы немецкий народ запомнил: кто поднимет на нас меч, тот от меча и погибнет! Вам даётся право посылать посылки домой, одну в месяц: офицерам - посылка весом в десять кило- граммов, а остальным - пять. Берите всё, что вам понравится. Обладайте женщинами, которые вам понравятся. Если вам не понравился человек, вы можете его убить. Можете сжечь, сломать всё, что хотите. Всё это разъясните сержантам и солдатам. Враг будет разбит! Победа будет за нами!"
Всё было поставлено с ног на голову. Нам внушали, что Красная Армия - самая передовая в мире и высок её моральный облик.
Нас учили не обижать гражданское население, не мародёрствовать. А сейчас прозвучал призыв к вседозволенности, как когда-то отдавали завоёванный вражеский город на несколько дней солдатам, во время которых они имели право насиловать, убивать, грабить. Нам даже не указали срок действия этого закона. Мне сразу представилась картина ужасов, которую создадут преступники, которых немало на фронте. Что будут творить мужчины, изголодавшиеся по женщинам? Как заставить солдата немедленно открыть огонь по врагу, когда он насилует женщину или девушку? Он ведь будет ссылаться на приказ, дающий ему право "мстить немцам". Приказ есть приказ, я разъяснил его содержание подчинённым. Я заметил, как недоумённо переглянулись Абрамович и Бутович и как озорно заблестели глаза у блатных. Когда я закончил и спросил всё ли понятно, большинство слушавших просили снова повторить всё, то что дозволено делать. Я был удивлён, что даже те, кто не были под влиянием блатных, интересовались не только правом убивать, присваивать вещи и отправлять посылки, но и дозволенностью насиловать женщин и девушек.
Почти весь октябрь, ноябрь, декабрь, до 13-го января 1945 года - три с лишним месяца - полк готовили к предстоящим боям, которые могли начаться в любое время. Командир полка мало занимался нашими делами, но нас не забывали направлять и контролировать штабные офицеры бригады. Командир бригады у нас был несколько раз, но игнорировал майора Орлова. При встрече с ним он руку ему не подавал, а только отвечал подношением руки к виску на такое же приветствие майора. Он не стал его спрашивать о положении в полку и тут же повернулся к капитану Михайлову, начальнику штаба полка. Именно у него он выяснял детали подготовки и степень готовности основных и запасных огневых позиций. Он приказал снова проверить маскировку всех ОП и НП.
Мы стояли кружком, в центре которого "Батя", и внимательно слушали каждое его слово. Он предупредил, что наш полк может быть привлечён для стрельбы из закрытой позиции по дальним целям противника, учитывая самую большую дальнобойность наших орудий. Скорее всего это будет стрельба по площадям, координаты которых нам известны и расчёты уже произведены командирами батарей и взводов управления. Он явно торопился, но, прощаясь со всеми, подавал руку и находил нужные слова для каждого из нас. Орлову он также подал руку, но при этом не произнёс ни слова. Капитана Михайлова он обнял и рукой похлопал по спине. Всем стало ясно, что мы накануне начала наступления и что майора Орлова от нас отзовут. Дай-то Бог! Его красная морда и сквернословие всем надоели. Асликян мне заявил, что находится в таком состоянии, что готов застрелить майора за постоянное унижение его чести и достоинства. После посещения нашего полка командиром бригады я сказал Асликяну, что его обидчик исчезнет из нашего окружения. Вместе с комбригом прибыла девушка, радистка, которую зачислили ко мне во взвод управления, взамен другого радиста - самого лучшего. Командир отделения радио, сержант Бондаренко, и двое радистов были самыми высокими и здоровыми в батарее. Ростом и силой отставал Абрамович. Но всем была свойственна дисциплинированность и интеллигентность. Появление девушки во взводе сразу создало обстановку праздничного напряжения. У меня не было никакого опыта общения с девушками. Радистку звали Клавой Жабатаевой (дочь русской матери и отца казаха), она выглядела как типичная казашка. По казахским понятиям её можно было считать красивой. Круглое, как луна, лицо, короткий с расширенными крыльями носик. Пухленький, пунцовый и чётко очерченный полными губками маленький ротик был самым привлекательным на её личике. С её лица почти не сходила белозубая улыбка. Её узким чёрным глазкам был свойственен взгляд, в котором смешивались смышлённость и хитрость одновременно. Она, дочь интеллигентных родителей, жительница Алма-Аты, обладала прекрасной дикцией и правильной речью (дома говорили на русском языке). Она была малого роста и о её сложении можно было только догадываться, потому что всё скрывала грубая военная одежда. Улучив момент, когда Клавы не было среди подчинённых, я предупредил Гришина и Мищенко о том, что надо уважительно и заботливо относиться к девушке. От этих типов можно было ожидать вольностей по отношению к девушке, поэтому я строго предупредил их не допускать грубостей в присутствии Клавы.
В землянке взвода управления ей выделили самое лучшее место и кто-то принёс сено, убрав слежавшееся.
Офицеры батареи никак не могли заснуть, разговоры продолжались допоздна, хотя обычно мы засыпали при первой возможности, физически измотанные ночными земляными работами и напряжённостью по подготовке подчинённых.
Зазвучал зуммер полевого телефона, параллельно соединённый с телефоном дежурного телефониста. Я быстро снял трубку и услышал взволнованный голос рядового Александрова: "Товарищ младший лейтенант, капитан Михайлов требует капитана Коренного". Комбат ещё не спал, он взял трубку. Сразу же последовало:- Тревога! По машинам!... Такие слова нам не в новинку, но на этот раз они были сказаны особенно многозначительно. Мы поняли, что завершено позиционное противостояние - начинается наступление.
Сборы недолги, мы бегом отправляемся к своим взводам. Взвод управления раньше всех узнаёт все новости и поэтому мои подчинённые раньше всех остальных готовы к действию. Двенадцать человек, включая радистку Клаву, стояли у борта транспортёра. Я проверил каждого, как одет и снаряжён, а также приборы и аппаратуру трёх отделений. Вместе с водителем проверил бронетранспортёр. В огневых взводах было более шумно, потому что укладывали ящики со снарядами в бронетранспортёры. Наш полк отличался от других полков бригады не только секретными орудиями, но и новым транспортом. В полку были получены шестнадцать бронетранспортёров, вместо транспортных автомобилей "студебеккер". Бронетранспортёры были предназначены к применению в качестве тягачей, вместо "студебеккеров". Бронетранспортёр имел комбинированную ходовую часть колёсного и гусеничного транспорта: поворотные колёса впереди и гусеницы из обрезиненных траков - сзади. Закрытая кабина водителя и пулемётчика снабжена турельной установкой пулемёта. По двум боковым бортам имелись перемещаемые вдоль них крепления для пулемётов. Задний борт представлял собой двойные дверцы. Кузов открытый, но с брезентом, спасающим экипаж от непогоды. Имея орудие на крюке, он мог развивать скорость в сорок миль в час по дорогам. Он был также снабжён радиоустановкой мощностью до 200 километров приёма и передачи. Имелся великолепный набор инструментов для обслуживания машины, а также отличный комплект для работ в поле и лесу. Но, как водится, отобрали у нас радиостанцию и пулемёты, разукомплектовали инструменты для машины и инженерных работ. К каждому бронетранспортёру придавалось с десяток фонариков, способных бросать мощный луч на несколько десятков метров, но оставили по одному. В передней части шасси имелась мощная лебёдка со стальным тросом, необходимым для вытаскивания собственно этой или другой машины. Имелась ещё возможность включения силовой передачи ведущих колёс. Одним словом - великолепный тягач. Но для взвода управления он был необходим, как средство передвижения личного состава и оборудования, ускоряя переброски к месту разведки.
Два "студебеккера" (с лебёдками и с устройством для включения передних ведущих колёс) использовались на перевозке боеприпасов. Батарее придавалась ещё одна транспортная машина фирмы "Форд" для хозяйственных нужд и транспортировки походной кухни. При штабе полка имелся ещё джип "виллис" - маленький, лёгкий и юркий. Как командир взвода управления я был в курсе предстоящего маршрута и имел чёткие указания по обеспечению разведкой и связью батареи, согласно её задачи. Бригада придана 49-й армии. В полку ощущалась напряжённость, вызванная ожиданием перемен в командовании полком. Майор Орлов притих. Зима выдалась мягкая, с температурой - 5-0, снег падал крупными хлопьями и казался декоративным. Наконец, прозвучала команда "Марш!". Это было 14 января 1945 года. Во всех вариантах планирования наступления всегда предусматривалась артиллерийская подготовка. Но на этот раз стояла странная тишина. Начало наступления традиционно проводилось залпами гвардейских миномётных установок "катюш" с их пугающим воем, а вслед вступала разноголосица артиллерии - бухающих, глухих и звонких выстрелов из всех калибров. Нас должны были привлечь для обстрела самых дальних целей врага, а мы вместо этого катим по дорогам на северо-запад, оставив Ломжу далеко сзади. А где же враг? Никакого сопротивления. Нет врага, исчез! Но вот запылали впереди пожары. Возможно это рубеж встречи с врагом? Но нет... Это наша пехота поджигает всё, что может гореть. Но зачем они это делают, если там не то что вражеских солдат нет - ни одного гражданского не встретили, продвинувшись вглубь Пруссии на двадцать километров.
Млавско-Эльбингская наступательная операция, в которой мы участвовали, началась 14 января с целью разгрома Млавской группировки противника и отсечения группы "Центр", оборонявшейся в Восточной Пруссии от остальных сил немецкой армии. Командовал Вторым Белорусским фронтом, с ноября 1945 года, Константин Константинович Рокоссовский. До начала наступления наш фронт стоял на рубежах, охватывая с юго-восточной стороны всю Восточно-Прусскую группировку противника, занимавшую долговременную, глубоко эшелонированную оборону. В неё входили три оборонительные полосы, а также старинные крепости. Немцы, отступая, специально оставляли спирт, зная приверженность к выпивке наступающего войска. И они не ошиблись: некоторые были разборчивы в напитках, напиваясь до пьяна, а иные пили что попало и многие отравлялись метиловым спиртом. Командир полка, любитель выпить, не препятствовал пьянству. Наш полк был придан 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу (командовал генерал-лейтенант Осликовский), имевшему задачу, совместно с другими соединениями, совершить глубокий рейд по тылам Германии и выйти к городу Кёзлин у Балтийского моря.
Полку было приказано прибыть в указанный район ночью 15 января, чтобы влиться в 3-й гвардейский кавалерийский корпус. Продвижение вскоре остановилось, потому что весь личный состав полка был пьян. Майор Орлов узнал о своём отстранении от должности будучи мертвецки пьяным. Он пил беспрерывно несколько дней подряд. Начальник штаба пытался приостановить пьянку и в конце концов тоже напился. Пьянка в штабе переметнулась на батареи. В ту ночь сыпал снег, что затрудняло видимость, тем более что движение совершалось без зажжённых фар. Наша колонна, состоявшая из 15 бронетранспортёров и двенадцати 100-миллимет-ровых орудий, шести "студебеккеров" с боеприпасами, четырёх "фордов" с кухнями, штабной крытой оборудованной машины и "виллиса" командира полка - прекратила движение. Начальник штаба сообразил сделать остановку и вызвал меня к себе. Он был уверен, что если есть хоть один трезвый человек, так это я. У "виллиса" стоял начальник штаба и рукой держался за его борт. Он мне сказал, что командир полка лежит пьяный в штабной машине. Полк должен к шести часам утра быть в районе штаба корпуса и там вступит в командование новый командир полка. Если полк не явится к назначенному сроку, полетят головы командования не только полка, но и бригады. Выручай! Маршрут проложен по карте. Сделай всё, что найдёшь нужным, но доведи колонну до места.
Ехать без света ночью, когда падает мокрый снег, можно только, если есть наблюдатель снаружи (на крыле или на переднем капоте). А это значит, что из пьяных солдат надо выбрать около тридцати наблюдателей. Задача сложная. Помимо этого надо проверить степень опьянения водителей и некоторых заменить менее пьяными. Расстояние, которое надо проехать, не такое уж большое (всего пятнадцать километров). Если ехать со скоростью пешехода, потребуется четыре часа, а время близилось к полуночи и, значит, прибудем к месту в четыре часа утра. Я подобрал людей и сам сел за руль "виллиса". Ехал я со скоростью не более десяти километров. К трём часам утра остановил колонну в полукилометре от штаба корпуса. Все тут же заснули. В пять часов растолкал начальника штаба и напомнил ему, что остался час до доклада командующему артиллерии корпуса о прибытии полка. Он встал, снял с себя одежду до пояса и растёр тело снегом. После этого привёл себя в порядок, и мы уже вдвоём всех разбудили и заставили обтереться снегом. Без четверти шесть колонна была на месте. Капитан Михайлов поблагодарил меня и пошёл докладывать. Оказывается, трезвенник, хотя бы один, должен быть в каждом полку. Около часа мы ждали возвращения начальника штаба, а потом он вышёл оттуда вместе с подполковником, оба направились к штабной машине, откуда майор Орлов не выходил. Не знаю, о чём вёлся разговор, но был он коротким. Вскоре появились все трое, и начальник штаба отдал приказ: всем офицерам собраться возле штабной машины. Когда мы собрались, майор Орлов сообщил, что отзывается в штаб фронта, а поэтому подполковник Васильев с этого момента принимает командование. Нас ожидал ещё один сюрприз. Капитана Коренного и лейтенанта Кожухова также перевели в другой полк бригады, а командиром нашей батареи стал старший лейтенант Синельченко. Командиром первого огневого взвода назначили лейтенанта Белозёрова. Синельченко старше меня на два года. Среднего роста, обычного сложения, с довольно привлекательной внешностью. Натура порывистая, говорит громко в безапелляционной манере. Иванова он оставил при себе ординарцем. Он был грамотным артиллеристом. Между нами установились товарищеские отношения. С лейтенантом Белозёровым у меня почти не было контакта, а Асликяну он не понравился. Он считал, что, если у него звание лейтенанта, то вправе себя считать выше Асликяна. А на деле он прошёл ускоренный курс в полгода, и его знания были более поверхностными, что сразу обнаружилось при первой же стрельбе из закрытой ОП. Характер отвратительный: ехидный, хитрый, подсиживал, заискивал перед начальством, а по отношению к подчинённым проявлял излишнюю жёсткость.
Нашему полку предстояло занять огневые позиции в танкоопасном направлении на окраине города Хойниц. Согласно данным разведки, танковая дивизия СС противника двигается с севера, чтобы прорвать кольцо окружения. Танки могли двигаться только по единственной дороге и в своём движении на юг они оказывались зажатыми между озером слева от дороги и болотистой низменностью справа. В двух километрах от этого участка, на севере, опушка леса подходила близко к дороге. Это место - идеальное для засады, орудия надо было установить скрытно, сохраняя возможность манёвра. Командующий артиллерией кавалерийского корпуса повёл офицеров полка по участку засады и указывал каждому командиру огневого взвода, где расположить орудия. Требовал установить их немедленно на возвышенностях. Это происходило около полудня, и вся местность хорошо просматривалась. Действия командующего артиллерией корпуса были ошибочны, противоречили тактике занятия огневых позиций. Кавалькада офицеров в районе засады раскрывала тайну, которую надо было всячески скрывать. Подполковник Васильев, командир нашего полка, пытался привести контраргументы, но полковник стал на него кричать, требуя выполнить его приказ, а скрытое занятие огневых позиций он расценил как трусость. Я занял командирский наблюдательный пункт батареи на высотке, в пятидесяти метрах справа от шоссейной дороги, единственной, по которой могли двигаться танки противника. Всё моё внимание привлекала опушка леса, из которого выходила дорога.
Я знал, что танки ещё находятся в нескольких десятках километров от опушки леса, но разведка противника могла уже оказаться на месте, чтобы вести наблюдение за нашими действиями и сообщать обо всём увиденном в штаб дивизии.
Пришлось командиру полка подчиниться командующему артиллерией корпуса: приказал немедленно занять огневые позиции и окопать материальную часть, боеприпасы и личный состав. Приказ оказался роковым для полка. При дневном свете, когда видно на расстоянии многих километров невооружённым глазом, а с помощью оптических приборов - на десятки километров - это смерти подобно. Бронетранспортёры вывезли орудия к указанным местам, на "студебеккерах" подвезли боеприпасы, которые тут же разгрузили, командиры орудий произвели разметку земляных работ. Предстояло расчёту в семь человек выбрать большой объём земли. Только для круглого орудийного окопа с радиусом в шесть метров надо было выкопать и распределить бруствером вокруг него около двадцати двух кубических метров земли. Боеприпасы надо рассредоточить в нескольких погребах, чтобы не лишиться сразу боевого комплекта от одного попадания вражеского снаряда или мины. Каждый был обязан выкопать для себя ровик.
Всего надо было выбрать около пятидесяти кубических метров грунта, соблюдая установленные параметры. Это значит, что на каждого бойца расчёта приходилось переместить более семи кубических метров грунта. Водители бронетранспортёров и машин также обязаны копать аппарели. Всё это надо было тщательно замаскировать. Работа привычная, она многократно выполнялась в тёмное время суток. В данном случае работа шла быстрее обычного, потому что производилась днём, но все понимали, какому риску подвергаемся. Проложили телефонную связь к каждому командиру огневого взвода. Разведчики вели неусыпное наблюдение с помощью стереотрубы и биноклей. Этим же занимались командиры взводов и орудий. Так продолжалось до темноты. С её наступлением оставалось только слушать. Командир батареи проверил первый огневой взвод лейтенанта Белозёрова, а я второй - младшего лейтенанта Асликяна. Он меня спросил с болью в голосе: "Как это мы могли так опростоволоситься?" А мне осталось только напомнить, что приказ не обсуждается. Вместе с новым командиром полка прибыл в полк лейтенант Соколов на должность командира огневого взвода второй батареи полка. Нам стало известно, что он сын генерал-лейтенанта Соколова из Генерального Штаба. Он закончил училище и кантовался в Москве в какой-то части. На фронте оказался впервые. Весь полк напряжённо ожидал, когда раздадутся первые звуки приближающихся танков, но пока стояла полная тишина. Мы надеялись только на одно: противник не вёл наблюдения за тем, как мы занимали огневые позиции. Около двух часов ночи донеслись звуки работающих двигателей танков и сразу стали взрываться снаряды на наших огневых позициях. Вместе с этим приближался лязг гусениц танков. Раздался только один выстрел орудия взвода Асликяна, но снаряд противника разорвался рядом, и орудие взлетело вверх колёсами. Вторая и третья батареи полностью потеряли все орудия. В первом огневом взводе осталось одно орудие с сорванным щитом, а во втором - одно целое орудие. Мне удалось вместе с водителем бронетранспортёра второго взвода вывести из огневой целое орудие, а потом орудие без щита первого взвода. У нас в батарее не было убитых, но более половины орудийных расчётов - раненые. Больше всех пострадала вторая батарея: пять убитых и пятнадцать раненых. В третьей батарее - двое убитых и десять раненых. Особенно "отличился" лейтенант Соколов. Когда взорвался первый снаряд, он побежал к бронетранспортёру и помчался в сторону от шоссе, оставив огневую позицию, орудия и личный состав. А что немцы? После того, как были выведены из строя орудия полка, они перестали интересоваться нами, а просто покатили по шоссе. Я вернулся на наблюдательный пункт, на котором находились радисты, телефонист и разведчик, они не оставляли высоту до рассвета, пока не завершилось движение колонны танков дивизии. Наступила тишина, нарушавшаяся призывами о помощи наших раненых. Весь транспорт остался цел. Командир полка обошёл все огневые позиции в сопровождении офицеров штаба, чтобы составить рапорт о свершившемся. По радио было сообщёно в штаб бригады о потерях полка и вскоре полковник Рыбкин с группой офицеров штаба прибыл в расположение нашего разгромленного полка. Осталось одно целое орудие, орудие без щита и меньше половины личного состава. Командир бригады представил нам нового командира полка, подполковника Сизова, а подполковника Васильева отозвали в штаб корпуса и в тот же день его судили и отправили в штрафную. Об этом постаралось командование корпуса: свалили свою вину на командира полка. Нас отвели на десять километров для получения материальной части и пополнения личного состава. Всё завертелось с бешеной скоростью. В этот же день получен приказ Рокоссовского : вернуть орудия любой ценой. Естественно, что речь шла о возвращении разбитых орудий. Такая оперативность и строгость приказов были вызваны секретностью наших орудий. Меня вызвали в штаб бригады и приказали подобрать по своему усмотрению команду из десяти человек, вместе со мной, имея в своём распоряжении бронетранспортёр и два "студебеккера". Задача: в любом случае вернуть то, что осталось от орудий. Отобрал трёх водителей и шесть человек, среди них - радист, разведчик Иванов и Александров, которого я ещё раньше перевёл из телефонистов в разведчики. Ещё три человека - из наиболее сильных, способных поднимать тяжести. Главные критерии для подбора людей - смелость и сообразительность. Своим заместителем я назначил Иванова. Выехали в направлении злополучного места разгрома ночью. Ехали без освещения, а три проводника шли впереди машин, предупреждая о любом препятствии. Продвигались со скоростью пешехода и остановились в двухстах метрах от места назначения, потому что услышали какие-то звуки оттуда. Я, радист и разведчик Александров направились к высотке, где накануне ещё находился наш наблюдательный пункт. В пятидесяти метрах от высотки, на огневой позиции второй батареи, при освещении электрических фонариков копошились немцы. Вскоре раздалось четыре взрыва. После этого они пошли, освещая себе дорогу фонариками к бронетранспортёру. Они в нём расположились и уехали. Настала полная тишина. Мне стало ясно, что эта группа противника имела задачу - уничтожить орудия. Подождав несколько минут, мы отправились к месту взрывов. Все стволы орудий оказались взорваны толовыми шашками. Обойдя все остальные огневые позиции, мы убедились, что точно так же они поступили с остальными стволами орудий. В принципе стало понятно, почему противник так поступил: он стремился быстрее вырваться из кольца окружения и ему не было никакого дела до конструкции орудий. Собственно говоря, секретным было только то, что мы стали применять 100-миллиметровые стволы на лафетах полевых орудий в стрельбе по танкам. Я отправил Александрова за оставшимися людьми и вскоре мы грузили всё то, что удавалось поднять и погрузить. Мы погрузили десять замков из оставшихся десяти орудий, куски стволов, куски лафетов. Рано утром уже были в расположении штаба бригады, я доложил комбригу о выполненном задании, а также отвечал на вопросы, интересовавшие его. На этом моя миссия была завершена и я вернулся в батарею. Весь участок между нами и местом разгрома полка - место нейтральное: там не было ни наших, ни немецких войск. Если бы не личный приказ Рокоссовского в отношении разгрома нашего полка (я повторюсь: из-за секретности орудий), не последовали бы и такие оперативные действия по восстановлению статус-кво. Успехи нашего фронта были ощутимы, хотя мы не могли знать подробностей. Я помню, что в середине двадцатых чисел января Вислу форсировали в районе Быдгощ, и Аленштейн был взят.
О взятии Аленштейна нам постоянно напоминало то, что сержанты и рядовые перестали курить махорку, а офицеры табак - полностью перешли на немецкие сигареты и сигары. Трофеи табачной продукции были столь велики, что их хватило всем до конца войны. Нам повезло тем, что на фоне общего успеха Второго Белорусского фронта разгром нашего полка выглядел незначительным эпизодом. Вспоминая первые десять дней наступления, просто удивляюсь той скоротечности успешного продвижения по территории Пруссии и северной части Польши. Эти дни января создали благоприятные условия для последующего разгрома восточно-прусской группировки. Начиная с ночи 13 на 14 января 1945 года, мы оказались в необычных условиях ведения наступательного боя. Раньше наступали в условиях бездорожья, а сейчас территория, по которой мы продвигались, имела широкую сеть добротных дорог. Если первые двадцать километров Восточной Пруссии представляли собой пожарища со шлейфами пламени и дыма, то дальше пошли брошенные населённые пункты и фольварки.
До Хойницы мы не встретили ни одного человека из гражданских лиц. Мы входили в пустые дома, где ощущался порядок и достаток во всём. В некоторых домах хозяева побросали всё в такой спешке, что на обеденных столах стояли тарелки с едой. Люди брали с собой только самое необходимое, и поэтому всё в доме оставалось на местах, будто люди вышли подышать свежим воздухом на несколько минут. Дома были обставлены добротной мебелью, в платяных шкафах в порядке висела одежда, на полках сложено бельё. В буфетах и в кухонных шкафчиках много посуды, различные приправы. В коренной дымовой трубе, куда сходятся дымоходы всех очагов, висели свиные окорока. В подвалах хранились законсервированное мясо, мёд, варенья. В каждом доме - три счётчика: воды, электричества и газа. Комнаты украшены шторами и занавесями на окнах, коврами, картинами.
В некоторых домах пианино, фисгармонии, скрипки.
Сельскохозяйственные участки привлекали своей продуманностью. Все постройки находились в центре земельного участка, представляя собой двор, ограниченный коровником, конюшней и свинарником с колодцами, куда стекали нечистоты и куда сгружали навоз - с одной стороны; напротив крытый сеновал с пневматической установкой для его загрузки, туалет с выдвижным оцинкованным ящиком, который отвозился для удобрения поля, мастерская и ангар для трактора и сельскохозяйственных инструментов, а также инвентаря. Между этими сторонами, в дальней от ворот стороне, - жилой дом, который своим убранством не отличался от городского. Фольварки могли отличаться размерами и оснащением, но принцип застройки единый. От фольварка к ближайшей дороге вела мощёная, в одну колею, дорога, чаще всего обсаженная деревьями. Почти все дороги обсажены деревьями, а поверх мощения нанесено покрытие из асфальта. Судя по мощёной основе и вековым деревьям вдоль дороги, можно с уверенностью сказать, что этим дорогам более сотни лет. Ещё не встретив ни одного живого бюргера-немца, не имея до этих пор возможности наблюдать немцев в быту и работе, я проникся уважением к тому, что было наработано этим народом до прихода к власти нацистов. Глядя на эти населённые пункты, фольварки, дороги, леса, я ощущал, что это создавалось веками, и не мог не признать заслуг народа-труженика, народа-рачителя своего благополучия и порядка.
Наш полк в течение нескольких дней получил орудия и пополнение в живой силе, а бригада оставалась приданной Третьему кавалерийскому корпусу Осликовского. Нас ввели в узкий коридор (его ширина всего 7 км), и начался глубокий рейд по тылам противника. Дисциплина на фронте сильно отличается от казарменной, но это не причина для беспокойства, если не происходят такие её нарушения, как верность присяге, недобросовестное исполнение приказов командиров и требований уставов. У нас же, в результате длинной цепи поражений, продолжительных испытаний стрессами войны и падением морали, она стала опасно падать. Особенно пагубно отразилась на ней объявленная вседозволенность. Результаты сказались уже в первые часы наступления - всё сжигали, расстреливали скот. Но это лишь цветочки. Первыми в населённые пункты врывались танки, а вслед за ними кавалерия и все остальные приданные войска. И начиналось... Танкисты ворвались в один из населённых пунктов без единого выстрела, часть колонны танков втянулась до его центра, а большая часть остановилась на дороге перед въездом в городок. В городке ни души, тогда все экипажи покинули свои машины и начали искать выпивку. Долго не пришлось искать: немцы оставили цистерны со спиртом. Все танкисты перепились. Вот тогда вернулся отряд противника, немцы убили всех, до одного, танкистов, а танки сожгли. После этого пришлось брать этот городок с бою три дня и опять были жертвы. Колонна сожжённых танков так и осталась на дороге. Там, между прочим, когда шли в атаку, мне довелось услышать молдавскую речь двух бойцов. Я, не останавливаясь, спросил откуда они, и узнал, что из Бессарабии. Раньше в боевых частях не было выходцев оттуда. Видимо, резервы явно иссякли. Если в нашей части дисциплина не была на высоте, то у кавалеристов она полностью отсутствовала. Они себя вели, как партизаны. Когда наш полк громили немцы, кавалеристы просто ускакали, бросив нас без какого-либо прикрытия. Мы заняли огневые позиции вблизи населённого пункта, которым овладели кавалеристы накануне вечером без боя. Мне надо было занять КНП, откуда хорошо бы просматривалась местность предполагаемого скопления противника. Дома городка в своём большинстве двухэтажные, но удалось найти наиболее высокий дом среди них. Мы его тщательно осматривали: есть ли кто из немцев, заминирован ли он. Нередко случалось, что беззаботность и бездумность приводили к смерти или к инвалидности. Занимая НП, необходимо немедленно приступить к наблюдению и установлению безотказной связи. Поэтому со мной были: командиры отделения разведки, радио и телефонной связи, а также разведчик, радист и телефонист. Необходимое оборудование и приборы находились в бронетранспортёре. Я с Гришиным поднялись по внутренним лестничным маршам в чердачное помещение. Там оказалась просторная жилая мансарда, а в центре - коренная дымоходная труба с дверцей. Проверяя, что кроется за дверцей, обнаружили висящую половину свиной туши, которая уже закоптилась. Мы тщательно осмотрели мансарду, в которой совсем недавно жила молодая особа, судя по гардеробу, склянкам и баночкам на тумбочке зеркального трельяжа. Осмотрели все уголки и нашли хранящуюся там лестницу-стремянку. Из окна мансарды можно просматривать сторону, обращённую к противнику. Начиная с подвала дома, осматривали всё остальные бойцы. Мы спустились на второй этаж и стали обходить спальные комнаты. Всего их четыре. Когда вошли в четвёртую, самую большую, увидели мёртвую женщину, лежавшую с заголённой нижней частью тела... из женского органа торчала круглая деревянная палка. Мы буквально обомлели. До этого мы не встретили ни одного немца, ни одной немки (живых или мёртвых). До какого зверства надо дойти, чтобы такое сотворить! Мёртвое тело привели в достойное состояние и вынесли на улицу. Остальным займётся похоронная команда.
Надо сказать, что даже Гришин пребывал в шоке. Я слушал высказывания моих подчинённых по поводу этого зверства. Всех возмущало надругательство над человеческим телом . Стали высказывать предположения о возможном развитии сценария. Одни предполагали, что старуху насиловали многие, и она умерла под каким-то из участников группы насильников. Они оставили мёртвую в позе, в которой её насиловали, а вошедший после них, срывая свою злобу за то, что ему не представилась возможность удовлетворить своё желание, воткнул палку во влагалище. Было ещё одно предположение: вошедший насиловал мёртвое тело, но не удовлетворившись, всунул палку. Вот оно подтверждение моим страхам, вот она свобода мести, вот к чему ведёт вседозволенность. Пущенное на волю зверство ужаснуло меня гадостью, злобой, дикостью и примитивизмом фантазии при первом же столкновении с нею. Мне некогда было заниматься делами, не связанными с непосредственным выполнением воинского долга. Я доложил комбату о занятии КНП по радио и отправил за ним бронетранспортёр. Вскоре старший лейтенант Синельченко прибыл и с ходу стал рассказывать о казусе на ОП. Он приказал лейтенанту Белозёрову, перед тем как отправился к командиру полка, не только занять ОП, но и построить параллельный веер орудий в указанном направлении. Когда он вернулся на ОП, орудия были повёрнуты ровно на 180 градусов - в сторону тыла наших войск. Естественно, всё тут же исправили, но хотелось выяснить почему никто на ОП не заметил этой очевидной ошибки.
Оказалось: младший лейтенант Асликян сказал старшему на батарее, что орудийный веер направлен в обратную сторону, но в ответ лейтенант Белозёров, в присутствии подчинённых, заявил, что он обойдётся без "сопливых". Асликян вспылил, выхватил пистолет и потребовал от Белозёрова стать на колени и просить прощения за оскорбление, а иначе выпустит в него всю обойму. Белозёров испугался, опустился на одно колено, но Асликян заставил его стать на оба и громко дважды произнести: "Виноват. Беру обратно свои слова и прошу меня простить". Все присутствовавшие были довольны преподнесённым уроком Белозёрову. Старший лейтенант Синельченко закончил свой рассказ и выразил своё удовлетворение поведением Асликяна: "Молодец! Гордый джигит!". После этого случая Белозёров стал остерегаться грубить подчинённым, а к Асликяну обращался официально: "Товарищ младший лейтенант".
В тот день мы вели интенсивный огонь совместно с другими батареями полка по населённому пункту в 5 километрах от КНП. Вечером комбат предложил мне выпить с ним. Спирту было достаточно. Я не ответил ни "да" ни "нет". Он договорился с офицерами других батарей принять участие в "выпивоне". Так как наш дом был большим, с довольно богато обставленным залом, решили гулять в нём. Три ординарца комбатов быстро обеспечили самым необходимым: спиртом, закуской и музыкой (патефон с немецкими пластинками). Стол в зале массивный, раздвижной, дюжина полумягких стульев с высокими спинками, огромный дубовый буфет с витринами из зеркального стекла и с замысловатой резьбой по дереву. Обстановку дополняли фисгармония, столик для игры в карты, покрытый зелёным сукном, столик на одной резной ножке с патефоном. Окна большие, с богатыми расшитыми шторами. На полу - огромный персидский ковёр. В буфете - хрустальные бокалы, сервизы посуды, набор ложек, вилок и ножей с костяными ручками. В одном отделении полотняные салфетки с вышитыми вензелями. Нас - двенадцать офицеров и три ординарца, но стол рассчитан на двадцать четыре персоны. В салоне - две переносные, на высоких ножках, медные пепельницы. Все курили сигареты, а некоторые - сигары из аленштейнских запасов. Патефон заливался немецкой пес-ней, все разбились на группы и о чём-то беседовали. Вдруг, неожиданно, появился старший лейтенант Сафронов - "Смерш" нашего полка. Наступила мёртвая тишина. Нарушил её Сафронов: "Здравствуйте, товарищи офицеры. Вы не смущайтесь, потому что победители вправе веселиться. Я не буду мешать и с удовольствием выпью вместе с вами". Надо сказать, что ординарцы постарались не только выпивкой и едой, но и изысканной сервировкой стола. На столе стояла хрустальная и фарфоровая посуда. Вилки, ложки, ножи, лопаточки, специальные пружинистые захваты-пинцеты, салфетки с вензелями .
В хрустальных графинчиках налиты спирт и отдельно вода, чтобы его разбавить. Каждый сам себе создавал нужную концентрацию смеси, но были и такие, кто пили чистый спирт, запивая водой. Старший лейтенант Сафронов именно так и выпил первую рюмку и запил бокалом воды. Все посмотрели на него и переглянулись между собой. Мне стало понятно, что почти у всех возникла мысль подшутить над полковым "смершевцем". Как только появился спирт в достатке, родилась шутка: подсунуть котелок со спиртом, жаждущему запить выпитый спирт водой. Шутка злая и даже опасная: человек влил в себя обжигающую жидкость и запивает этой же жидкостью... Мы со "смершевцем" мало общались, никто не жаждал с ним знаться по известной всем причине: боялись проговориться, обронить слово, которое он может истолковать как враждебное правительству и партии.
Известно, что пьяный человек перестаёт контролировать свои высказывания, а поэтому присутствие старшего лейтенанта Сафронова всех сковывало. Как можно напоить человека? К нему подкатываются с душевной беседой, изъявляя своё уважение и любовь, и предлагают выпить. Если это предложение сразу не принимается, вступают в силу известные формулировки: "Ты меня обижаешь", "Ты меня не уважаешь", "Ты что? Брезгуешь выпить со мной?" "Ведь война! Может быть это в последний раз". И тому подобное. Старший лейтенант не был обделён вниманием и каждый раз к нему подкатывал то один, то другой. Когда он уже изрядно выпил, ему подали бокал со спиртом, вместо воды, которым он запил выпитую рюмку спирта. Его пожалели, тут же подали воду, но он уже ничего не понимал. Его, мертвецки пьяного, уложили на диване в соседней комнате. Пьянка продолжалась. Мой комбат, старший лейтенант Синельченко, пил разбавленную смесь и вскоре так опьянел, что полностью потерял контроль над собой. Он выхватил пистолет и начал стрелять по люстре. Мне с трудом удалось отобрать у него пистолет и с помощью ординарца отвести наверх и уложить в кровать, где он и проспал до утра. Дурной пример заразителен: некоторые стали стрелять по выключателям, розеткам и буфету. Один из компании вдруг снял с себя сапоги, размотал портянки и босиком подошёл к окну, с которого сорвал бархатную штору. Он с неё отрезал куски, которыми обмотал ноги вместо портянок и его примеру последовали другие. Все были пьяны и разбрелись по комнатам, где и заснули. Ординарцы пили мало, поэтому они контролировали себя. Им не впервые обхаживать своих пьяных командиров. Я не дотронулся к выпивке, а гости, которые впервые столкнулись с такой "ненормальностью", пытались меня уговорить выпить с ними. Я умел отшивать таких добродетелей. Не впервые я наблюдал эти пьянки, мне не раз бывало стыдно и обидно за людей, которые полностью теряли свой облик. Особенно жалел я своего комбата: остроумный, сообразительный, умеющий быстро принимать оптимальные решения, грамотный артиллерист, - когда трезв, и безрассудный человек, перестающий себя контролировать, - когда выпьёт. Утром, все, кто проснулись, увидели разгромленную загаженную блевотиной залу. В соседней комнате лежал старший лейтенант Сафронов, без каких-либо признаков жизни, весь синий - сгорел наш полковой "смерш".
С каждым днём мой комбат пил всё больше, а мои беседы с ним, после очередного выхода из запоя, заканчивались клятвенным заверением: "Всё! Завязал!" Но "завязывал" он только до первого же удобного случая. Ему не нужна была компания для выпивки - он пил в полном одиночестве, скрываясь от всех. Смены ОП происходили часто, но как только мы занимали новую ОП и он лично докладывал о выполненном приказе, тут уже уединялся и пил. Он был уверен, что ни я, ни ординарец его не выдадут. Но ведь был ещё лейтенант Белозёров, который мечтал получить должность комбата, учитывая своё старшинство по званию в сравнении с нашим. Он регулярно доносил в политотдел бригады о запоях Синельченко. По всей вероятности, на фоне всеобщего пьянства, в политотделе не обращали внимания на доносы Белозёрова. Особого сопротивления во время рейда по тылам противник не мог нам оказывать, потому что его гарнизоны были малочисленны. Небольшие населённые пункты и фольварки мы занимали без единого выстрела. Как-то, оказавшись ночью на одном из фольварков, мы заметили светящееся окно. Это был первый случай, когда встретили оставшихся гражданских лиц и, начиная с того дня, мы с ними встречались всё чаще и чаще.
В доме оказались старик со старухой и внучка лет пятнадцати. Мы заняли ОП и разместились на ночлег в доме и на сеновале. Вдруг, около часу ночи, услышали стрельбу, цокот лошадиных копыт и гиканье. Это кавалерийский эскадрон ворвался с таким шумом на фольварк. В дом вошли только офицеры, а остальные также расположились на огромном сеновале. Рано утром дежурный телефонист доложил мне, что командир полка зовёт ко-бата. Комбат был пьян, я доложил командиру полка, что старший лейтенант Синельченко проверяет посты. Он приказал к семи часам выступить колонной в направлении Нойштеттина. Его не удивило, что я вместо комбата говорил с ним, потому что часто докладывал ему вместо комбата. В принципе это его даже не настораживало, потому что командир взвода управления постоянно находится на КНП батареи и ему доверяется командовать огнём батареи и решать вопросы в отсутствие командира батареи. Около шести часов утра девушка вышла из спальни стариков и направилась во двор. Я не спал и на моих глазах разыгралась дикая трагедия. Девушка направилась в уборную и вскоре оттуда вышла, направляясь к дому. В это время один из кавалеристов, ночевавших на сеновале, стоял у ворот и оправлялся. Он увидел девушку и подбежал к ней сзади, повалил на землю, сорвал с неё трусы, отбросил их в сторону и стал насиловать. Девушка с перепуга онемела, а потом страшно закричала. Что тут началось... Из сеновала выбежали проснувшиеся кавалеристы и наши солдаты, окружили насильника и жертву. Потом раздались крики: "Хватит тебе! Дай и нам попробовать девчонку". А она перестала кричать, видя вокруг себя ораву диких мужчин. Я забежал в дом и прошу командира эскадрона, здорового усатого капитана лет сорока, чтобы он вмешался и прекратил насилие. Он посмотрел на меня, как на пацана и говорит: "Младший лейтенант, мои всадники всегда выполняют приказы командиров, а то, что они взяли эту немочку, так на это им дало разрешение верховное командование. Мало наших девок перееб... немцы? Пусть немцы почувствуют наше мщение". Двадцать человек насиловали девушку, а она лежала, как мёртвая. Наверно у некоторых закралась жалость, других удерживало то, что посчитали её мёртвой, а иные боялись заразиться венерической болезнью. Никто из нашей батареи не участвовал в насилии... Кавалеристам была отдана команда "По коням!", а я приказал "По машинам!", потому что надо было продолжить движение. До Нойштеттина оставалось сорок пять километров по карте. Комбат проснулся, я ему доложил обо всём, что произошло пока он спал. За пять километров от города мы остановились и заняли ОП. Вскоре в сторону города продвинулись танки, которые подошли к исходным позициям после нас. Передовой отряд кавалеристов занял позиции до нас.
Я организовал наблюдение за городом, чтобы обнаружить огневые точки, наблюдательные пункты противника. Вскоре разведчик обнаружил блеск объективов и засёк направление. Я доложил командиру батареи, тот взял разрешение у командира полка на открытие огня. Ввиду того, что цель была видна, командир батареи произвёл глазомерную подготовку данных для стрельбы и цель была накрыта после третьего снаряда, после чего батарея перешла на залповый огонь. В стереотрубе стало заметно, как колонна из трёх десятков военных машин с орудиями стала продвигаться по дороге, ведущей из города на запад. К обстрелу подключились и две другие батареи нашего полка. Все три батареи быстро пристрелялись и продолжали беглым огнём сопровождать удалявшуюся колонну. О том, что мы подбили пять машин с орудиями, нам стало ясно, когда продолжили путь уже из Нойштеттина. Наши танки, как только началось бегство колонны противника, двинулись к городу, охватывая его с флангов. Вслед за ними кавалеристы направились в сторону города, сопровождая танки. Наступила пора менять наблюдательный пункт, и я на бронетранспортёре двигался вслед кавалерийскому полку, которому наша батарея была придана. Мы въехали в опустевший город, в котором ощущалось ещё присутствие его жителей на каждом шагу: жалюзи магазинов подняты, видна бутафория и натуральные образцы предметов торговли; у некоторых подъездов стоят исправные лёгковые машины без горючего; тут - метла, совок с длинной ручкой и ведро, оставленные в спешке; там ручные тележки, загруженные домашним скарбом и брошенные их хозяевами, и тому подобное…В Нойштеттине мы пробыли двое суток, пока подтянулись резервы, и мы продолжили рейд. Мелькали населённые пункты, в которых уже попадались немецкие семьи. Насилование женщин продолжалось повсеместно, а ещё добавилась охота за ценными украшениями, часами и одеждой. С некоторыми из местных жителей я беседовал и получил ответ на то, почему нет гражданского населения. Население было предупреждено, что наступающие войска, состоящие из диких орд Азии, будут насиловать, отрезать уши и носы, убивать ради удовлетворения своих диких инстинктов. Поэтому настойчиво советовали всё бросить и любыми путями уходить на запад. Кто же оставался? Оставались те, у кого не было транспорта или денег, чтобы оплатить переезд. В начале в городках попадались по несколько семейств, а потом уже десятки и сотни. Мужчин и мальчиков, уже с двенадцати лет, не встречал. Оставались глубокие старики, женщины и дети, то есть именно те, кто не воевали против нас. Но если нет настоящего противника, которых следует наказать, то весь дикий произвол обрушился на беззащитных людей. Лавина страшной дикости двигалась по пути нашего рейда, по населённым пунктам, где оставалось большинство гражданского населения. Кавалеристы особенно усердствовали во "мщении". Но это не значит, что остальные вели себя по-джентльменски - отнюдь нет. Разнузданность заразительна в условиях вседозволенности. Старший сержант Гришин, сержант Мищенко и рядовой Рябов, стараясь не попасться мне на глаза, творили то же самое, что и многие другие. Естественно, тон задавали блатные. Как-то в одном из населённых пунктов они набрели на дом, в котором собрались несколько семейств, около двадцати женщин разных возрастов и трое стариков. Гришин подошёл ко мне и говорит: - Товарищ младший лейтенант, нам разрешено посылать посылки, хотя вы этим правом не пользуетесь, и мне разрешили отправлять вместо вас посылки. Сейчас есть возможность взять ценные вещи в соседнем доме - там собралось человек двадцать. Ничего плохого мы им не сделаем. Зайдите со мной и посмотрите, что за люди (как никак они враги и надо проверить), а вдруг у них есть оружие.
Это было резонно, потому что мы всё равно проверяли на лояльность немцев. Дом был обычный, одноэтажный с мансардой, хотя рядом стояли дома более просторные и двухэтажные. Вероятно, немцы именно поэтому избрали дом попроще. Дверь оказалась не на замке, и мы вошли в первую комнату, откуда другая дверь вела в следующую. Видимо, тем, кто в доме, было слышно как мы открывали входную дверь, и вошли четверо. Вошли и остановились, прислушиваясь,- ни шороха. Рядовому Рябову приказал резко открыть дверь, а мы втроём стояли с автоматами, направленными внутрь комнаты. Дверь двустворчатая, открытая половина не позволяла увидеть всю комнату полностью. У противоположной стены сидели на стульях в три ряда женщины и три старика, будто расселись перед фотографом, чтобы сделать групповое фото. Рябов открыл вторую половину двери, и мы все четверо вошли. Внимательно вглядываюсь в лица сидящих, потом велел встать по одному и отойти в левый угол. Мищенко и Рябов проверяли, есть ли оружие. Когда все перешли в угол, мы просмотрели места, где они сидели, затем я велел им в таком же порядке вернуться на свои места. Среди женщин была одна, которая всё время укрывала лицо газовым шарфиком и прятала глаза.
Я велел ей открыть лицо, мне стало ясно, почему она старалась его прятать: женщина лет тридцати-сорока, красавица и хорошего сложения. Я сказал своим подчинённым, чтобы не зверствовали. Запретить брать женщин для секса и вещи для посылок я не имел права, но присутствовать при этом не хотел. Оставил этих троих, а сам ушёл. Прошло около часа, они вернулись во взвод очень возбуждённые, но без каких-либо вещей. Я не стал их расспрашивать, а только слушал то, что они рассказывали. А они не только весело говорили, но и демонстрировали добычу.
Оказалось, что женщины нисколько не сопротивлялись желаниям трёх завоевателей и шли покорно в спальню с широкой кроватью, пока двое других следили за остальными. Красавицу-немку "пробовали" все трое по очереди, а потом каждый выбирал себе другую. Они удивлялись тому, какие они чистые.. У всех троих было по несколько пар часов (мужских и женских), золотые кольца и серьги, портсигары, бумажники. Остальные бойцы взвода с удовольствием слушали подробности о сладких забавах с женщинами после длительного воздержания, рассматривали трофеи. Учитывая то, что немки легко отдаются, можно было предположить, что почти каждый мечтает овладеть покорной женщиной. Мелькали средние и малые города, фольварки, в которых жители оставались на местах, и наше появление было для них абсолютно неожиданным. Свои дома оставляли богачи, но убранство оставалось нетронутым.
У всех фронтовиков глаза разбегались: от обилия дорогой мебели, одежды, обуви, постельного белья, кухонного оборудования, инструментов и приспособлений, автомашин, тракторов. Но это не значит, что в обычных домах не было достатка. Естественно, убранство там попроще, но имелось всё необходимое и всё содержалось в идеальном порядке. Не берусь судить о всей Германии, но в тех городах и фольварках, в которых довелось побывать, я не видел нищих, обездоленных, пьяных и просто неаккуратно одетых. Да, шла война, люди недоедали, но во многих домах имелись запасы различных продуктов, которые считались государственными. Это значит, что та или иная семья получала задание создать и хранить неприкосновенный запас продуктов. Немцы проявляли абсолютную лояльность по отношению к нашим фронтовикам, но при этом они сохраняли своё человеческое достоинство. На поставленный вопрос давали чёткий ответ и старались быть точными. Если мы спрашивали дорогу куда-то, они объясняли подробно, пока не убеждались, что поняты правильно. Наши фронтовики, абсолютное большинство, не знали немецкого языка, но заучили несколько слов и короткие предложения: "стой", "руки вверх", "буду стрелять", "дай еб.."., "женщина", "дай часы", "я не понимаю" и ещё некоторые. Меня удивляло, что люди, которые учили в школе немецкий язык, умели читать и писать по-немецки, совсем не знали разговорного языка. И, наоборот, они удивлялись тому, что я говорю на немецком языке.
Нельзя сказать, что моя речь отличалась совершенством, но я говорил с немцами и они меня понимали, как и я их. Поэтому, когда встреча с местными жителями стала обыкновенным явлением, в батарее пользовались моими переводами. Часто, чтобы подчеркнуть свою лояльность к нам, немцы говорили, что Гитлеру конец. Но в их домах мы часто находили военную форму и фашистскую атрибутику. На вопрос, кому принадлежит форма и является ли её хозяин нацистом, отвечали, что она принадлежит брату, отцу, дяде и что их заставили стать членами нацисткой партии. Случалось, что мать предлагала себя, вместо молоденькой дочки. Будучи уверенными, что фронтовик может заставить силой любую женщину отдаться ему, они не оказывали сопротивления, но мягко говорили, что у них "месячные", напрасно рассчитывая, что это освободит её от принудительного секса. Мужчины так желали женщину, что их ничего не останавливало, даже опасность заразиться венерическими болезнями. В середине февраля зачитали приказ о запрете насилия и порчи имущества без необходимости на то. Издан также приказ о запрете рукоприкладства к подчинённым. Но уже нельзя было остановить тех, кто вошел во вкус поступать в угоду своим инстинктам. Возникали драки из-за женщины, которую возжелали двоё, или при дележе трофеев... Клава, радистка моего взвода, сумела себя так поставить, что прослыла недоступной ни для кого в нашем полку и все относились к ней с уважением. Ей приносили трофеи, предметы женского туалета. Она постоянно меняла ранее полученные трофеи на новые, если они оказывались лучше ранее полученных. Она не имела возможности хранить в бронетранспортёре больше того, что входит в вещевой мешок, но ей мы позволили иметь ещё маленький чемоданчик, хотя нас тринадцать человек. Члены же орудийного расчёта имели в своём распоряжении бронетранспортёр, лафет орудия, "студебеккер" для снарядов, при этом их только семь человек, но и они не могли набирать трофеи, хотя им всё же было куда положить. Станины и казённые части орудия накрывали большим ковром и туда тоже что-нибудь укладывали. У меня - только саквояж. Гришин умудрялся распределить свои трофеи, хотя бы немного, во всех орудийных расчётах. Быт батареи, особенно питание, изменился в корне: повар варил еду, но никто не ел - перешли на трофейную пищу. В конце концов старшина распорядился не варить. Спирт и вина не переводились, сигареты, сигары не иссякали, махорку уже никто не курил. У всех появились зажигалки, портсигары и часы. Естественно, всё это не валялось, а просто отбиралось у немцев. Дело дошло до того, что раздевали женщин и находили ценности в... интимных местах. Офицеры стали ездить на лёгковых машинах, брошенных хозяевами в пути или оставленных дома из-за отсутствия горючего. Я ездил на хорошем "Опель-капитане", но командир полка попросил отдать его ему. Пришлось мне самому ездить на мотоцикле. Три мотоцикла я отдал другим, а четвёртый, "БМВ", оставил себе. Ввиду того, что мы постоянно находились в движении, мотоцикл очень выручал: один или с разведчиком, вместо того, чтобы пешком разведывать места КНП и ОП, я проделывал это быстро и не уставал. Дороги великолепные, и я получал удовольствие от быстрой езды.
Мы всё ближе продвигались к Балтике. Однажды оказались в населённом пункте (это уже была Померания), примечательном водяной мельницей на окраине у речки, а также большим и богатым помещичьим домом и хозяйством. Меня сразу привлекла мельница, потому что с неё открывалась хорошая панорама для наблюдения, а дом мельника оказался достаточно просторным, чтобы в нём находился взвод. ОП я предположил расположить рядом с помещичьим двором. Я, Гришин, разведчик и радист отправились на бронетранспортёре, а командира отделения радио, сержанта Бондаренко, оставил за старшего. В первую очередь мы обследовали местность вокруг помещичьего дома, а когда обходили хозяйственный двор, обнаружили два верховых коня, и стало ясно, что двое кавалеристов в доме. Дом мы проверяли, начиная с подвала, а когда оказались в длинном коридоре второго этажа, услышали стук женских каблучков и грубых каблуков сапог. Бежала девушка, а за нею два кавалериста. Она подбежала ко мне с плачем и по-польски просила защиты. Говорила она быстро, но мы хорошо всё поняли. Её насиловали десять человек, она осталась лежать на полу, когда увидела этих двух. Она вскочила и побежала. Она беспрерывно просила защиты.
Нас было четверо, а кавалеристов двое, но они нагло требовали отдать им девушку, потому что обнаружили её первыми. Спокойно им разъяснил, что девушка изнасилована десятью кавалеристами и им лучше себе подыскать другую. Они упёрлись: "Имеем на то право, а вы не можете нам мешать мстить немцам". Я им резонно заметил, что девушка полька, на что они прокричали: "Сука она немецкая. Небось немцам давала, а нами брезгует, польская курва". Учитывая наше двойное преимущество, я им заявил, что девушку обижать не дадим. Страшно матерясь, обвиняя нас в нарушении приказа мстить, они удалились. Кстати, приказ о запрете насилия уже был отменён. Кавалеристы удалились вслед за своими товарищами, которые раньше оставили этот дом и двор, а также жертву совершённого ими насилия. Радиста оставил с девушкой, а мы продолжили осмотр второго этажа и чердачного помещения.
После осмотра вернулись на мельницу, я доложил старшему лейтенанту о результатах разведки. Девушку поместили в спальне, которая закрывалась изнутри задвижкой. Я рассказал об издевательствах над ней, напомнил о приказе, запрещающем насилие, о том, что она полячка. Сержанту Бондаренко поручил защищать девушку и заботиться о ней, а сам с Александровым на мотоцикле отправились на КНП, где находился старший лейтенант Синельченко с разведчиком, телефонистом и радисткой Клавой. Мне важно было убедиться, что командир батареи не очень пьян и сумеет поменять дислокацию батареи. К сожалению, он уже был настолько "хорош", что язык заплетался, а глаза стали бессмысленными. В батарее уже привыкли к тому, что мне приходится брать на себя всё, когда комбат пьян до бесчувствия.
Я позвонил на ОП и приказал лейтенанту сменить позицию, указав ему координаты новой, а он мне ехидно отвечает: "Понятно. Наш уже тёпленький... Ладно, будет всё сделано".
Я вернулся на новое КНП, чтобы отправить бронетранспортёр за комбатом, телефонистом и радисткой. Вхожу в дом мельника и вижу такую картину: Бондаренко и Мищенко стоят друг против друга, у последнего в руке револьвер, направленный на своего недруга. Тот молчит, а Мищенко оскорбляет его всякими матерными словами, среди которых часто встречается: "Ты не имеешь права, а у меня есть право еб... кого хочу". Бондаренко увидел меня, когда я входил, а Мищенко нет. Я постоял пару минут и понял, что пьяный Мищенко не хочет подчиниться Бондаренко, оставленного старшим. Все ждали, как я поступлю. Выход был один: попытаться Мищенко уговорить сдать мне револьвер, а если не послушается, применить силу и обезоружить, с наименьшим риском для всех присутствующих. Это означало, что надо пьяного отвлечь, пока я приближусь к нему вплотную.
И я обратился к Мищенко добродушным голосом человека, который только что вошёл: - Опять вы что-то не поделили? Сержант Мищенко, расскажите что здесь происходит. - А сам сделал два быстрых шага к повернувшемуся лицом ко мне Мищенко. - Что это за разговор с револьвером в руке? Дай-ка его мне.-- Это моё личное оружие, не отдам!...Я быстро схватил его руку двумя руками и резко поднял её кверху, тут раздался выстрел в потолок. Даже пьяный Мищенко понял, что перешагнул грань, но не хотел сдаваться и выкрикнул: - Отпусти руку! Жидовская морда! - Вот тут всё и началось. Не отпуская его рук, я нанёс ему сильный удар в пах правым коленом и он ослаб настолько, что я вырвал револьвер из его руки и быстро передал его Бондаренко, который приблизился, чтобы мне помочь. Когда Мищенко пришёл в себя после полученного удара коленом и выпрямился, я нанёс ему удар в подбородок, а потом повалил на пол и хлестал по щекам, приговаривая: "Получай от еврея за "жида", подонок!" Наверно, весь хмель у него прошёл сразу, он стал просить пощады, признав свою вину. Тогда я позволил ему подняться, приказал рассказать, что произошло во время моего отсутствия. По его рассказу выходило, что он ничего плохого не сделал, а Бондаренко, желая показать свою власть, оскорблял его. Бондаренко рассказал совсем другое, что и подтвердили радист, телефонист и разведчик. Когда я уехал к комбату, Мищенко, успев для смелости хлебнуть спирта, направился к дверям комнаты, где находилась полячка. Бондаренко ему напомнил моё распоряжение не обижать девушку. В ответ он выругался и сказал, что имеет право поступать так, как ему хочется, а Бондаренко ему не указ. Тогда Бондаренко приказал всем подойти к дверям и не дать Мищенко войти в комнату к девушке. Мищенко выхватил револьвер, направил его на Бондаренко, оскорбляя его при этом бранными словами. Концовку я слышал и видел.
В условиях передовой, да ещё в тылу врага, наперёд трудно что-либо предвидеть. Поступил приказ командира полка не менять расположение, а к утру быть готовым к выступлению. Я на мотоцикле помчался на КНП, зная, что комбат пьян, чтобы всё подготовить к дальнейшему передвижению. Связь между старым КНП и мельницей мы уже успели проложить, поэтому надо было свернуть кабель. Мищенко с телефонистом остались сматывать кабель, а радист, разведчик и Гришин направились на КНП.
Я отправился на ОП и проследил за тем, чтобы всё было подготовлено к выступлению. Усталость накапливалась, на сон оставалось очень мало времени, да и то только урывками, а поэтому решил использовать возможность немного поспать.
Около двух часов ночи я лёг на кушетке (комфорт нас окружал с начала рейда) и быстро заснул. Поспал не менее четырёх часов и чувствовал себя вполне отдохнувшим. "Браунинга", который я положил под подушку, там не оказалось. Я разбудил Бондаренко и спросил, где Мищенко. Оказалось, что Мищенко задержался со сматыванием кабеля, а телефонист, который был с ним, рассказал, что сержант пробрался в комнату, где оставалась полячка, откуда раздался вскоре её плач и мольба не трогать её, а в ответ было слышно "Сука, не сопротивляйся, а то застрелю!" Сержант её всё же изнасиловал. Он вышёл оттуда и велел начать сматывать кабель. Телефонисту он сказал: "Этот жид ещё узнает, как поднимать на меня руку". Мищенко лёг спать рано. Мне стало ясно, что "браунинг" взял Мищенко - больше некому. Я взял автомат и вошёл в комнату, где Мищенко спал, растолкал его и, не давая опомниться, вытолкал его из дома на улицу, подвёл его к стене, отступил, пятясь спиной, на пять шагов и, направив автомат на него, сказал: "Минута на размышление, чтобы ответить на мои вопросы. Если не получу ответа, воспользуюсь своим правом командира расстрелять подчинённого за невыполнение приказа. Весь взвод будет свидетельствовать в мою пользу. Ты насиловал полячку, хотя был приказ против насилия и тем более не немку? Куда ты дел "браунинг"? Не получу ответа, сразу застрелю". Он взмолился, стал просить прощения, умолял поверить, что это последний раз он так поступил. Он понял, что телефонист рассказал мне обо всём. Поэтому признался в насилии. Сказал, куда положил "браунинг" и готов его тут же вернуть. Мы вернулись в дом и направились на кухню, где Мищенко указал на кастрюлю, в которой лежал "браунинг".Я велел ему сесть и сказал: "Прощаю в последний раз".
Вскоре мы уже двигались прямо на север и оказались под городом Кёзлин. Как обычно, заняли КНП и ОП, подготовившись к открытию огня по противнику. Враг не мог не заметить нашего появления, если он находился в городе. Если так, то он должен был открыть огонь по нас, до занятия нами боевых порядков.
Нам приказали дать три залпа по центру города и подождать реакцию противника, если он там. Ответного огня не последовало, и тогда танки развернулись и двинулись на окраину города, а за ними - спешенные кавалеристы. В дальнейшем занятие города происходило без единого выстрела. Это случилось 5 марта 1945 года. Старший лейтенант Синельченко находился в таком состоянии, что я был вынуждён доложить о его болезни, не дававшей ему возможности говорить. Командир полка приказал мне немедленно занять КНП батареи на маяке в маленьком городке Рюгенвальде-Мюнде, а рядом ОП, чтобы вести огонь по морским целям противника. Приказ отдан с учётом дальнобойности наших орудий - 22 километра. В тот же день Информбюро сообщило о выполнении поставленной задачи нашим фронтом по окружению немецкой группировки в Восточной Пруссии, северной Польше и части Померании. Командир батареи не мог выйти из запоя, и мне приходилось всё делать за него. В полку и в бригаде знали о его состоянии и из жалости к нему делали вид, что ничего плохого не происходит.
Мне было искренне жаль его, потому что он был хорошим парнем и грамотным офицером. Когда мы уже вошли в Рюгенвальд-Мюнде, то поселились в шикарном особняке какого-то высокого морского чина рядом с маяком. Синельченко занял спальню для себя. Я находился на маяке, откуда вели наблюдение разведчики и была установлена связь с ОП и КНП полка. Вдруг меня срочно вызывают на ОП старший на батарее лейтенант Белозёров, когда нет никакой сложности в организации огня, а, следовательно, ему не нужна моя помощь. Когда я пришёл туда, Асликян рассказал, что с комбатом происходит что-то невозможное: голый, пистолет в руках, мечется на верхней площадке лестницы, бормочет что-то несуразное. Белозёров делает вид, что это его не касается. Пытались подняться по лестнице к нему, но он стреляет и орёт, что не сдастся. У него явно белая горячка. Решаюсь приблизиться, но он меня не узнаёт - орёт, что убьёт. Я впервые столкнулся с человеком в белой горячке. Из книг знаю, как ведёт себя человек в таком состоянии, поэтому даже не пытаюсь воздействовать на него словами. Попросил разведчика Иванова, ординарца Синельченко, подняться по наружной пожарной лестнице на чердак, оттуда спуститься на второй этаж и накинуть на него плащ-палатку, пока его будут отвлекать снизу. Иванов, парень ловкий и сообразительный, быстро справился с задачей, пока снизу делали вид, что хотят приблизиться. Стрелять он перестал. Может быть он истратил патроны, но никто не считал сколько раз он стрелял. А вдруг есть ещё патрон... Иванов накинул на него плащ-палатку и, повалив на пол, удерживал его, пока я поднялся и сумел у него вырвать пистолет. Патронов в нём уже не было. Пришлось его связать банными полотенцами и в таком виде уложить в кровать.
Три дня я вёл стрельбу по кораблям, которые двигались на запад. Вероятно, их трасса пролегала раньше в пределах досягаемости дальности стрельбы наших орудий, но после первых же выстрелов по кораблю я обнаружил, что трасса пролегает на большем расстоянии, чем мы предполагали. Первый выстрел произвели на прицеле, соответствующем пятнадцати километрам, и был недолёт; второй на двадцать два и также недолёт. Стрелял впервые по морским целям и не умел определять расстояние на море - нас этому не учили. Сразу доложил о неэффективности стрельбы, но мне приказали открывать огонь по любой морской цели, исключая для них возможность приблизиться к берегу.
Все три дня Синельченко лежал в спальне (мы его развязали, но Иванов находился рядом с ним). На исходе третьего дня он попросил умыться и одеться. Приступ белой горячки закончился, но он был так растерян, что не решался выйти из спальни. Когда мне сообщили, что комбат хочет со мной говорить, я сразу его навестил. Он сидел на кухне, расположенной на первом этаже, и пил крепкий чай. Когда я вошёл, он посмотрел на меня измученным взглядом и спросил: - Ну, что, брат, пора мне ставить точку? Я начал его успокаивать, призывал включить всю силу воли, а мы будем следить за тем, чтобы он не сорвался. Он попросил меня сделать всё, чтобы не дать ему возможности вновь запить. Пришёл приказ о смене дислокации в течение одного дня: от Рюгенвальде-Мюнде до подступов к Данцигу. Там шли ожесточённые бои. Растояниеие в 500 километров мы преодолели за световой день и оказались в десяти километрах от предместья Данцига, Ора. В этом месте концентрировались большие силы. Американские бомбардировщики сбрасывали бомбы на город с утра до вечера, применяя метод карусели: бомбардировщики числом от десяти до пятнадцати летали по кругу над целью и сбрасывали бомбы. Немецкие самолёты почти не появлялись. Синельченко уже несколько дней не прикасался к спиртному, был деятелен, как никогда. Мы все искренне радовались его возвращению к выполнению своих обязанностей. По нескольку раз на день он благодарил меня за проявленную настойчивость, когда я оставался за него, за настоящие дружеские чувства, которые я к нему проявлял. Он мне прямо сказал: "Если бы не твоя забота обо мне, я бы позорно загремел с фронта. Да пусть мне лучше оторвут обе ноги, чем уйти по болезни". Я занял КНП в окопах стрелковой роты. Мы вышли из группы поддержки третьего кавалерийского корпуса и были приданы стрелковой дивизии 49 Армии. Все радо вались тому, что избавились от кавалеристов. Они часто оставляли нас без прикрытия, а под городом Хойниц нас разгромили по вине командующего артиллерийским корпусом. Кавалеристы стали анахронизмом. Фактически они должны были действовать в бою, как пехота, а марши совершать верхом на лошадях. Сочетание оказалось неудачным: плохие пехотинцы и кавалеристы неудачники. Пехота - труженица, она привязана к земле. Пешком далеко не уйти, поэтому она более стойко, чем кавалеристы, удерживала позиции. С пехотой я чувствовал защищённость подразделения. Нам, артиллеристам, вооружённым такими громоздкими орудиями, ничего не оставалось, как стоять до конца на своих ОП. Если КНП располагался в боевых порядках батальона, то ОП батареи - в пяти километрах от передовой, она выполняла двойную задачу: защиту от танков противника и стрельбу по дальним целям - дальнобойность наших орудий была наибольшей. Так как комбат меня разгрузил, у меня появилась возможность навестить ОП, чтобы проверить службу своих подчинённых. Командир отделения радио сообщил мне, что Мищенко опять заварил "кашу", которую без меня не расхлебать. Получил разрешение комбата оставить на время КНП, чтобы навести порядок среди подчинённых на ОП Дело было так. Ввиду того, что город Данциг и порт Гдыня должны быть взяты, срочно переправили на это направление батальон регулировщиц. Они пока не у дел, а все молоденькие и их надо как-то занять, украсить вынужденное ожидание. Командир батальона, женщина-майор, решила организовать танцы и пригласила баянистов, которые все играли на трофейных аккордеонах, а свои инструменты забросили. Несколько человек нашей батареи отправились на танцы к регулировщицам, и среди них Мищенко. Он успел выпить до того и пришёл туда уже тёпленьким. Сразу стал приставать к одной регулировщице, обращаясь к ней так, как он это делал с немками. Она, естественно, стала отстаивать свою девичью честь, сопротивляясь хаму и наглецу. Мищенко, долго не думая, отвесил ей оплеуху, а она закричала: "Девушки, наших бьют!" Что тут началось! Девушки окружили "героя" и, если бы не вмешательство командирши батальона, Мищенко бы растерзали. Его арестовали и отобрали красноармейскую книжку. Регулировщицы согласились отпустить его на поруки только, если его командир придёт за ним.
Я немедленно отправился к командирше батальона и она мне подробно рассказала о его "художествах". Я заверил её, что Мищенко обязательно будет наказан. Привёл хулигана на ОП, приказал командиру отделения радио отвести его в подвал и содержать под арестом до моего специального указания. Подвал - далеко не помещение гауптвахты, удобств там нет никаких: сыро и темно. Мне ещё надо было выполнить указание комбата по проверке дел на ОП. Поговорил с Белозёровым и Асликяном, проверил орудийные окопы, ровики для снарядов и личного состава, правильность построения параллельного веера орудий и вернулся к своим подчинённым. Когда вошёл в помещение, увидел неизвестных мне капитана и старшего лейтенанта. Капитану я доложил, кто я по должности и назвался по фамилии и званию. Они переглянулись. А потом вдвоём стали меня рассматривать. Удовлетворившись осмотром, капитан сообщил, что они являются следователями прокуратуры и прибыли расследовать подробности жалобы сержанта Мищенко на то, что командир взвода, младший лейтенант Казацкер, будучи пьяным, беспощадно избил его и угрожал расстрелять.
Они спросили меня, могу ли назвать свидетелей этого вопиющего случая рукоприкладства по отношению к подчинённому. Все свидетели оказались на месте. Мне приказали выйти из помещения, пока их допросят. Опрос длился полтора часа, а потом меня позвали и приказали изложить свою версию. Я абсолютно откровенно рассказал, почему бил Мищенко и угрожал расстрелом. Они слушали меня, ни разу не остановили, а только сверяли свои записи показаний свидетелей с моими показаниями. Потом спросили, где сейчас находится Мищенко и я, естественно, сказал, что он арестован за дебош в батальоне регулировщиц накануне вечером.
Они приказали его привести и стали задавать ему вопросы в нашем присутствии. Мищенко начал юлить, изворачиваться и полностью запутался. Затем следователи попросили позвать пострадавшую регулировщицу и вскоре она явилась, украшенная синяком под глазом. Она подробно рассказала о разнузданном поведении пьяного сержанта. Следователи закончили свою работу и дали мне подписать протокол допроса. Все остальные раньше подписали свои свидетельские показания. После этого они по-товарищески сообщили мне, что если бы не моя искренность и полное совпадение показаний свидетелей, загремел бы я в штрафную, учитывая приказ "О рукоприкладстве командиров". Потом, в присутствии всех, сказали Мищенко: "Если вы ещё раз нарушите честь и достоинство сержанта Советской Армии, отправим в штрафную, а домой сообщим, какой вы герой в кавычках". Они уехали, а я приказал перевести арестованного в нормальное помещение и держать под арестом трое суток, если обстановка позволит... Я знал, что Мищенко мне враг, но был уверен, что большинство моих подчинённых доверяют мне и уважают, потому что я ни разу не терял контроля над собой и добросовестно выполнял обязанности и приказы. У них была возможность убедиться в моей трезвости, в прямом и в переносном смысле, в моей добросовестности при выполнении приказов командования.
Об этом свидетельствовали и награды, которые приходили в наш полк. Помню, однажды зачитали приказ о награждении и вручили мне орден "Красная Звезда" за сохранение в сложной боевой обстановке орудий и вывоз остатков секретных орудий из зоны боёв под городом Хойниц. В приказе также отмечались геройские действия лейтенанта Соколова, который под огнём танков противника вывёз бронетранспортёр. Вот как всё обернулось: лейтенант Соколов, пробывший в полку несколько дней, бросил взвод, секретные орудия и бежал с поля боя на бронетранспортёре - проявил "геройство"... Командующий артиллерией 3-го кавалерийского корпуса, погубивший людей и орудия нашего полка, не был наказан, а наш командир полка, подполковник Васильев, вынуждённый выполнить бездарный приказ, попал в штрафную.
Бои за предместье Ора были трудными, батарея вела огонь по целям противника в предместье, а также по площадям, указанным штабом бригады. По мере продвижения меняли КНП. Мы уже находились близко от предместья Ора, когда на нашем участке возникла высотка формы усечённого конуса, которая закрывала обзор позиции противника. Она дважды переходила из рук в руки, но, наконец, наша пехота там закрепилась. Для наблюдения за противником это было идеальное место, поэтому я решил использовать её для КНП батареи, и Синельченко одобрил мой выбор. В сопровождении разведчика и радиста поднялся по крутой наклонной высотке, и мы оказались на её вершине. Пулемёт "Максим" валялся рядом с деревянной треногой (её стали применять вместо тяжёлого табельного станка на колёсиках). Они явно были отброшены взрывной волной, если судить по засыпанному землёй окопу. Решил откопать окоп, что значительно легче, чем копать заново. Мы начали рыть и сразу обнаружили обезглавленное тело нашего солдата. Так как в пулемётном расчёте два человека, можно было предположить, что в окопе есть ещё один труп. Мы выбросили почти всю землю и обнаружили второго. На нём не было ни единой царапины, но признаки жизни еле замечались. Снесли его вниз, занесли в домик под высоткой и уложили на столе. Пульс слабо бился. Разжал ему ножом зубы и очистил рот от земли, смочил лицо, потёр щёки, лоб. Вздрогнули закрытые веки. У солдата была тяжёлая контузия, и я старался сделать всё, что было в моих силах, чтобы спасти его жизнь. Его надо было срочно отправить в медсанбат. Мы уговорили двух бойцов погребальной команды. Они не хотели вести живого в медсанбат, мотивируя тем, что их задача собирать мертвецов. Они повезли на своей фуре обезглавленного пулемётчика и его живого напарника. Мы вернулись на высотку, привели в порядок окоп и продолжили копать ход сообщения к ровикам, которые уже копали телефонист и радист. Комбат неотрывно наблюдал за противником, окопавшимся в предместье. Оно, как любое другое, представляло собой сочетание города и природы. По всей вероятности, оно возникло уже в этом веке, о чём свидетельствовали дома новой архитектуры. Я спросил комбата, что его так сильно привлекает. Он отстранился от окуляров стереотрубы и предложил мне самому посмотреть. Объективы направлены на отдельный дом с двором, в котором растения ухожены, будто не война кругом и все порядки низложены. Город, с его строениями, площадями, мостами и скверами, уже потерял свои очертания из- за бомбёжек. В нём правят смерть, голод и страдания. Я давно рассмотрел то, что предложил увидеть комбат, потому что свой сектор постоянно изучаю и проверяю малейшие изменения. Немцы окопались в садах, укрепились на холмиках, высотках. Они осторожно передвигаются, и то только ночью, их снайперы следят за нашими позициями. Мы передвигаемся только по ходам сообщения - судьбу не следует испытывать. Пока по домам не стреляем, а только обнаруживаем огневые точки и составляем схему целей. Как бы не маскировали, земля всё равно выдаёт: по свежей земле определяем, где орудие или пулемёт. Днём все работы прекращались, чтобы ночью их возобновить. Как бы они не скрывали, но звуки нельзя полностью заглушить: доносится звон лопаты, удар кирки или лома, - люди ведь не духи. Немцы готовились нас встретить огнём с фортов. Комбат отправил своего ординарца, лучшего разведчика, сержанта Иванова с заданием на ОП, а заодно принести ему свежее бельё. Иванов - всеобщий любимец, в батарее он с момента сформирования бригады. Мы его считаем счастливчиком: его пуля избегала, не царапнул осколок, не контузила взрывная волна. По прибытии туда, как старшина рассказывал, Иванов передал таблицу огней по площадям, а потом отправился за бельём, которое находилось в хозяйственном "форде". Немцы обстреливали орудиями из фортов Гдыни позиции наших войск. Раздался взрыв снаряда большого калибра, а вслед за этим истошный крик Иванова, который доставал бельё, находясь в кузове машины. Старшина к нему кинулся, но не увидел никаких следов ранения. Однако он продолжал кричать, его ноги были парализованы. Потом мы обнаружили планку поднятой скамейки, пробитой осколком. Иванова сняли с кузова и уложили на полу в комнате. Узнав о случившемся, я на мотоцикле отправился на ОП. Иванов беспрерывно кричал, а мы никак не могли определить куда он ранен, потому что не было крови. Он замолк и умер. Мы стали его осматривать и обнаружили на одном позвонке маленькую ранку, образованную осколочком последнего разорвавшегося снаряда. Именно последнего - орудия Гдыни были подавлены. Осколок, повредивший спинной мозг, сразу парализовал нижние конечности и привёл к смерти. Мы его похоронили возле перекрёстка дорог, соорудили деревянную тумбу и закрепили на ней звезду из латуни от гильзы орудийного патрона. Я написал письмо родным Иванова, в конверт вложил кальку с копией топографической карты, на которой была указана точка захоронения. Это первое нормальное захоронение за все годы войны, которое мне приходилось наблюдать.
В памяти осталось моё участие в "захоронении" погибших участников Спас-Демянской операции, Калининский фронт, весной 1943 года. Батарея не впервые теряла своих товарищей, но гибель Иванова все переживали особенно тяжело, причин тому было несколько: первая - его личные качества, вторая - ветеран батареи, третья - вера в неуязвимость, четвёртая - ощущалось приближение нашей победы. Вернулся на КНП и застал комбата выпившим. Он стал оправдываться тем, что не мог не выпить, узнав о гибели ординарца. На это я ответил, что не допущу нового срыва. Нам нужен трезвый комбат. И как бы в подтверждение этому раздался телефонный зуммер, в трубке послышался голос командира полка, который требовал к себе комбата. Синельченко посмотрел на меня испуганно и спросил, как ему поступить. Я советовал идти, потому что моё появление вместо него вызовет у командира полка подозрение о новом запое, что гораздо хуже, чем нынешнее лёгкое опьянение, которое он, возможно, не заметит. Синельченко недолго находился у командира полка, он получил приказ подготовиться к участию в мощном артиллерийском наступлении. Ночью нам подвезли два комплекта боеприпасов и на ОП их стало уже четыре. В шесть часов утра началось. У нас было более десяти целей, обнаруженных нами, за которыми мы вели наблюдение, данные для стрельбы по ним были готовы. Помимо этого имелись данные для стрельбы по площадям порта Гдыни. Командир батареи отдал приказ об открытии огня по пулемётному окопу, и я видел как цель была поражена первым же залпом. Данные по этим целям готовил я и несколько раз проверял, чтобы избежать ошибок. Я на этом не успокоился и просил комбата также всё проверить. Немцы заметались, тогда мы перешли на стрельбу осколочными снарядами. Некоторые цели оказались ложными. Но батарея поразила все намеченные. Потом мы вели огонь по площадям, и результат нашего огня уже нельзя было наблюдать. С нашего КНП предместье Ора было как на ладони. После артиллерийской подготовки пехота стала продвигаться вперёди и к исходу дня овладела всем предместьем. Было взято в плен большое количество живой силы, а также захватили много орудий, миномётов, пулемётов, фауст-патронов. Пришёл в батарею инструктор, который обучил нас, офицеров, ими пользоваться, а мы уже обучили своих подчинённых. Фауст-патрон имеет кумулятивное действие и способен прожечь направленной струёй взрывной энергии броню танка.
В дальнейшем нам досталось их огромное количество.
Немцы создали народное ополчение, в которое влились дети с возраста четырнадцати лет и старики. Из членов Гитлерюгенда создавались команды "Вервольф" (оборотни), которые часто вооружались фауст-патронами. В условиях боя в городе мальчик четырнадцати лет поражал танк фауст-патроном, выпущенным из открытого окна дома. Данциг - большой город, поэтому надо было быть готовыми к тяжёлым уличным боям. После овладения предместьем города, я разведал новый КНП, с которого можно наблюдать за окраиной Данцига в нашем секторе. К сожалению, второй такой высоты не нашлось, поэтому КНП расположил в мансарде дома на окраине предместья, обращённой к городу. На первый взгляд казалось, что нагромождение развалин - мёртвая зона, в которой нет никого, но беспрерывное внимательное наблюдение доказало, что там замаскированы пулемёты, орудия и закопанные танки. Вполне понятно, что всё пространство перед городом заминировано. Придётся артиллерии хорошо поработать, чтобы уничтожить огневые точки противника. А пока составляли схему обнаруженных целей, которые будем громить с закрытой ОП, остававшейся на старом месте, потому что дальнобойность позволяет достать любую точку города и даже порт Гдыня. Данные для стрельбы готовил сразу по обнаружении цели.
Я получил план города Данцига самого большого масштаба - 1: 1000. На схеме нанесены все улицы, перекрёстки, отдельные крупные дома. Она создавалась с помощью аэрофотосъёмок, когда город ещё был цел. Сейчас всё изменилось в результате беспрерывных бомбардировок с воздуха и обстрела артиллерией по площадям. Цели я старался наносить на план города, но не мог поручиться за точность, потому что план этот до неузнаваемости отличался от лежавших перед нами руин. Именно поэтому я снова и снова проверял правильность нанесения целей, от чего зависела точность стрельбы по ним. Чтобы быть уверенным в правильности расчётов, я заведомо выбирал точку в стороне от цели, сдвигая направление от основного, но оставляя тот же прицел. Если пробный выстрел был точен по выбранной точке, цель можно было считать пристрелянной. Когда начнётся артиллерийская подготовка, останется учесть доворот в основное направление. Я это делал, чтобы не спугнуть до времени противника, заставив его сменить позицию, которую надо будет заново разведать. Все свои действия я производил с согласия комбата. Я даже излишне часто обращался к нему за советом, чтобы поддерживать в нём напряжённость, не оставлять ему времени подумать о выпивке. В этом меня поддерживали мои подчинённые. Если надо было проверить что-то на батарее, я туда отправлялся вместо комбата, а он оставался на КНП, где царила обстановка абсолютной трезвости. Он делал вид перед подчинёнными, что у него всё в порядке, но мне он признался, что с трудом удерживает себя от запоя и очень боится сорваться. Когда закончилась артиллерийская подготовка, а сапёры сделали проходы в минных полях, пехота сумела зацепиться за окраину. Сейчас нельзя вести огонь из орудий по противнику, потому что наша пехота находилась рядом с ним. Поэтому я взял разведчика и радиста и находился рядом с командиром роты, сообщал координаты линии передовой. Орудия малого калибра находились в рядах пехоты и вели огонь прямой наводкой. То же самое могли проделать миномёты. После продвинулись танки, которые вели огонь прямой наводкой по противнику. Батарея перенесла огонь по площадям вглубь города. К концу марта взяли Гдыню, а через два дня - Данциг В нём не осталось ни одного целого дома, так что ориентироваться в нём по плану было сложно, а поэтому батальон регулировщиц расставили на основных перекрёстках. Я видел разрушенные города, но Данциг состоял из одних развалин. Создалось впечатление, что ставилась задача не только уничтожить врага, но и разрушить город. Трудно себе представить, что остался кто-то в живых среди развалин. В плен попали тысячи немецких солдат и офицеров, огромное количество вооружения и боеприпасов. Я получил приказ подобрать помещение для штаба полка, и мне пришлось изрядно побродить по городу.
С каждым часом появлялось всё больше и больше гражданских лиц, которые выбирались из бомбоубежищ, промышленных подвалов, из-под завалов домов и даже мостов. Все грязные, голодные, напуганные. Большинство женщины с детьми и дети без родителей, но были и мужчины старше среднего возраста. Нет табличек с названиями улиц - снесены вместе со стенами. Кого бы мы ни спрашивали, нам отвечали, что они здесь временные люди. Как же сличить план с местностью? Навстречу идёт старик, его внешность является полным диссонансом со всем окружающим. Он одет изысканно: на нём великолепный чёрный костюм-тройка, на голове серая фетровая шляпа, через левую согнутую руку переброшен серый плащ, правая рука в замшевой серой перчатке держит трость с красивой ручкой из слоновой кости. Видны белоснежные манжеты с запонками, манишка и красная бабочка. На ногах чёрные, как новенькие, туфли. Первая мысль, вызванная видом этого денди на фоне разрухи и несчастий, что старик рехнулся и не понимает окружающей его обстановки. Но когда мы приблизились, я увидел черты лица красивого нормального человека с живым и умным взглядом.
Он слегка поклонился нам и обратился ко мне на изысканном русском языке: "Господин офицер в чём-то нуждается?" Я пояснил, что мне надо сориентироваться на местности и внести поправки в план города. Оказалось, что он местный житель и очень хорошо знает центр города. Он житель города с 1920 года. Мой добровольный поводырь показал основные перекрёстки, развалины административных зданий, торговый центр, рестораны. Пока мы передвигались, он рассказывал о себе. Родился и жил в Воронеже, в купеческой семье. Учился в гимназии, но не закончил из-за своего увлечения скачками. Он не пропустил ни одни скачки и довольно успешно выигрывал в тотализаторе. Красив, строен, хороший наездник, завсегдатай в манеже. Он ублажал богачей, умея им услужить. Вскоре он открыл ресторацию и довольно успешно обосновался. Французский он изучил в гимназии, а на манеже быстро обучился английскому. Но грянула первая мировая война. Он был мобилизован и вскоре попал на фронт. Вначале судьба его миловала, но через год он попал в плен. Знание языков помогло, его направили на работу к австрийцу, хозяину ресторана. Жена хозяина, красивая полька, была значительно моложе своего мужа. Фактически она вела дела ресторана, а муж только представительствовал в зале. Ей приходилось нелегко одной справляться, поэтому она привлекла красивого и элегантного пленного русского. Он имел опыт ведения дел ресторана, к тому же способен к языкам. Вскоре он заговорил довольно сносно по-немецки. К концу войны умер хозяин, и вдова вцепилась в бывшего пленного так, что они вскоре стали мужем и женой. Детей с первым мужем бог не дал, не появились они и после второго замужества. Вскоре супруги переехали в Данциг и приобрели ресторан. В 1935 году его жена умерла, а когда немцы захватили Польшу, ресторан у него отобрали, его владельцем стал немец, но оставил администратором бывшего владельца. В его работе ничего не изменилось, но доходы шли немцу. Когда город стали бомбить, немец уехал, а наш знакомец остался в нём. Несколько дней тому назад ресторан был разрушен бомбой, но винный подвал остался цел. Ресторан славился своей французской кухней и французскими винами. Так как он не надеялся снова стать на ноги, как хозяин, он хочет сделать приятное своим русским землякам: в подвале есть великолепный запас французских вин, коньяков и ликёров. Он предложил нам свои услуги, чтобы мы стали обладателями части того богатства. Так как я успел выполнить приказ командира полка по внесению поправок в план города, с учётом его нынешнего состояния, я принял его предложение и вскоре бронетранспортёр был загружен бутылками напитков по выбору бывшего хозяина и администратора ресторана. Когда я вернулся в штаб полка и подчинённые выгрузили бутылки, я получил столько похвал от командира полка и штабных офицеров, каких никогда не слышал в свой адрес ни раньше, ни позже. Штабу полка не пришлось перебираться в Данциг. Больше того, нас срочно перебросили в распоряжение группировки 49-й и 2-й Ударной Армии, в задачу которой входило форсирование Одера в районе города Грайфенхагена - двадцать километров южнее Штеттина, и прорыв обороны противника . И на этот раз наша переброска прошла молниеносно: пятьсот километров за десять часов. Я выбрал КНП в заданном направлении и ОП, к утру мы были готовы к участию в грандиозной артиллерийской подготовке перед форсированием Одера. Сзади орудий громоздились ящики снарядов, которые нам подвезли сразу, как сняли орудия с крюков бронетранспортёров. Я не успел ознакомиться с сектором стрельбы визуально, потому что надо было срочно готовить данные для стрельбы по площадям, наиболее отдалённым, в глубине расположения противника. Мы стояли так тесно, что даже не оставалось промежутков между артиллерийскими батареями не только нашего полка и нашей бригады, но и других соединений. С такой плотностью артиллерийских стволов я столкнулся впервые. Сзади нас занимали огневые позиции гвардейские миномёты ("катюши"), которые традиционно начинали артиллерийскую подготовку своими залпами и сразу же снимались с ОП. После них в дело вступала артиллерия и 120- и 160-миллиметровые миномёты. До начала артиллерийской подготовки вызвали командиров взводов управления батареи на КНП полка, где нас ждали командир полка, начальник штаба и начальник разведки полка, а также начальник разведки штаба бригады. Командир полка коротко рассказал о задаче полка, а потом заговорил начальник разведки бригады. Он сообщил о сложности управления огнём артиллерии в условиях форсирования и большой насыщенности войск. Возникает при этом большая ответственность за точность корректуры, чтобы не ударить по своим. При прорыве обороны и продвижении вперёд необходимо оперативно получать координаты наших войск, чтобы своевременно переносить огонь артиллерии вперёд, иначе, если стрельба будет вестись по старым данным, тогда продвигающаяся вперёд пехота и танки могут попасть под огонь своей артиллерии.
Командование приказывает создать несколько групп корректирования огня артиллерии, которым придётся находиться в рядах наступающих войск, оперативно передавать координаты нашей передовой цепи. Эти группы должны оперативно сообщать о наших орудиях, которые запаздывают с переносом огня, а значит, могут поразить наступающие войска. В конце он добавил, что группа корректировщиков, которая первой переправится на берег противника и сможет успешно корректировать огонь, будет представлена к наградам, а её командир - к званию "Героя Советского Союза", медали "Золотая звезда" и ордену Ленина.
Командир группы подбирает себе разведчика и радиста, учитывая их физические и военные качества. Нас было трое командиров взводов управления батарей полка и все изъявили готовность руководить такой группой. Учитывая высокий процент потерь в период наступления, а особенно при форсировании водной преграды, решили задействовать три группы. По возвращении в батарею я посоветовался с комбатом о составе группы. Если бы был жив разведчик, сержант Иванов, я бы взял его, не задумываясь. Мы остановили свой выбор на разведчике, рядовом Корнееве, несмотря на то, что ему уже тридцать пять лет и у нас он считался стариком. Он молчалив, исполнителен, обладал большой силой и выносливостью. Немного тяжеловат, но рассудителен и ориентировался прекрасно на любой местности. Плавал хорошо. Среди радистов выбор был ограничен, потому что Абрамовичу уже сорок пять лет, физически слаб и не умел плавать. Клава Жабатаева отпадала сразу - не женское это дело. Выбор надо было произвести между командиром отделения радио Бондаренко и радистом Калининым. Они оба хорошие специалисты, но Калинин физически сильнее и плавает отлично.Таким образом, в группу вошли Корнеев и Калинин. Мы сразу приступили к разведке места главного направления, а также условились о всех совместных действиях, потому что вся группа должна быть единой, мобильной и решительной. Дело было в первой половине апреля, время весеннего разлива рек. На главном направлении пролегала старинная насыпная шоссейная дорога. Этот участок дороги начинался на правом берегу восточного рукава Одера (Ост-Одер) и пересекал реку по капитальному мосту, по насыпной дороге, усаженной по бокам вековыми деревьями, далее по точно такому же мосту через Вест-Одер (западный рукав Одера), выходя на левый его берег. Но сложность преодоления заключалась в том, что мосты были взорваны, их пролёты по средине реки уходили в воду под углом, деревья были спилены на высоту метра от земли и сложены друг против друга, преграждая дорогу.
Пойма реки Одера, образованная его рукавами (Ост и Вест-Одера), затоплена в результате разлива, её ширина равнялась трём километрам. На восточном берегу Вест-Одера немцы соорудили ДЗОТ (деревянная земляная огневая точка), откуда простреливались направления вдоль дороги и водной глади справа и слева. На высотах западного берега Вест- Одера были установлены зенитные орудия, которые обстреливали нас бризантными (взрывающимися в воздухе на нужной высоте) снарядами, вкопаны в землю танки; позиции пехоты глубоко эшелонированы, на её вооружении - скорострельные орудия 20-миллиметрового калибра, стреляющие осколочными снарядами, пулемёты, автоматы, фауст-патроны, гранаты. Перед позициями противника - минные поля. Мы перебрались по разрушенному мосту вместе с пехотой и зацепились на насыпной дороге, продвигаясь вперёд по-пластунски под стволами деревьев, потому что дорога подвергалась беспрерывному обстрелу бризантными снарядами. Немецкая авиация бездействовала. Наши ИЛы-штурмовики беспрерывно утюжили противника на западном берегу. Дорога слишком узка, чтобы задействовать одновременно большое количество живой силы, участвующей в этой фронтовой операции. Она напоминала мясорубку, в которой шнековый винт продвигает мясо к ножу, а тот превращает его в мясной фарш. Беспрерывно уносили раненых и убитых, а вместо них появлялись новые силы. Потери были нескончаемы. Группа от второй батареи, которой руководил лейтенант Коростылёв, продвигалась впереди нас на десять метров. О третьей группе, которая докладывала, что она уже находится вблизи Вест-Одера, мы ничего не знали, но вскоре выяснилось, что она осталась под мостом Ост- Одера, на его восточном берегу. После разоблачения группу вернули в батарею с позором и над ними потешались ещё некоторое время спустя. Наиболее интенсивный огонь вёлся по оси дороги, поэтому мы держались ближе к обочине, чтобы использовать возможность укрыться в воде. Почти трое суток мы продвигались к Вест-Одеру по заваленной стволами деревьев дороге. После полудня мы находились в пятидесяти метрах от ДЗОТа. Вдруг группа Коростылёва поднялась и бросилась вперёд, но все были скошены автоматными очередями. Я подполз к лейтенанту, который был ранен в руку, а разведчик и радист получили тяжёлые ранения в ноги. Мой радист сообщил об этом в штаб полка и через час к ним добралась группа солдат, которые унесли раненых, а Коростылёв сам продвигался в тыл. Он успел мне сказать, что хотел первым ворваться в ДЗОТ.
Таким образом, в этом направлении только моя группа оставалась способной выполнить задание. Вскоре огонь ДЗОТа прекратился, но я решил выждать несколько минут, считая эту паузу уловкой противника: как только горячие головы поднимутся для рывка, он вновь откроет огонь. Прошло пять минут - над ДЗОТом поднялись восемь рук немецких солдат. Тогда пехотинцы вскочили и быстро добрались к ДЗОТу. Когда мы оказались рядом, я услышал вопрос нашего лейтенанта, чисто говорившего на немецком языке. Это был переводчик, который многократно обращался к немецким защитникам с предложением прекратить огонь и сдаться. На вопрос, почему они не сдались раньше, последовал ответ одного из защитников: "Мы выполнили приказ держаться до последнего патрона". Они убили и ранили сотни наступающих наших товарищей по оружию, и, когда переводчик доложил капитану, командиру роты, суть ответа, последний приказал расстрелять всех четверых. При осмотре в ДЗОТе не обнаружилось ни одного патрона, гранаты или фауст-патрона. Они имели на своём вооружении два пулемёта, четыре автомата, четыре снайперские винтовки и по трубкам можно было судить о десятках фауст-патронов. Можно понять капитана, который приказал расстрелять сдавшихся в плен немцев: у него осталось шесть подчинённых от всей роты. Именно с остатком этой роты мы первыми форсировали Вест-Одер и зацепились у обрывистого берега. Теперь обстрел бризантными снарядами не был таким опасным, потому что мы сразу рассредоточились и окопались. Вслед за нами стали высаживаться и другие пехотинцы. В этот день нам удалось углубиться, достичь траншеи противника и занять её. По радио мне передали приказ о моём назначении командиром батареи вместо вышедшего из строя по болезни старшего лейтенанта Синельченко. Практически для меня мало что изменилось. Жалко мне своего комбата не столько за то, что его болезнь довела до этого, а за его будущее. Уволенный в запас по болезни, он не вынесёт позора и окончательно сопьётся. Я о нём больше никогда ничего не слышал. Вместо меня временно командовал взводом старший сержант Гришин, его я многому научил, он постоянно находился под моим контролем, потому что был рядом со мною. Всё время я старательно определял продвижение переднего края и докладывал координаты рубежа на данный момент. Также передавал о результатах стрельбы по своим позициям некоторых батарей, которые стреляли по старым данным. Естественно, я не видел и не знал, какие именно эти батареи, но по разрывам снарядов определял калибр орудий, из которых вёлся огонь по своим позициям. С темнотой прекратился артиллерийский огонь, а мы уже оказались в третьем ряду траншей противника. Я получил приказ переправить батарею по понтонному мосту и связаться с командиром стрелкового полка в секторе нашего наступления. Командир стрелкового полка приказал поддержать своим огнём один из наиболее обескровленных батальонов.Я разыскал горстку бойцов этого батальона, во главе которого был старшина. Вместе с ним их всего... восемь человек. Они измучены, грязны, голодны и мечтали немного поспать. В моём подчинении было тридцать пять человек, вооружённых четырьмя орудиями калибра 100-миллиметров и автоматами; в батарее пять бронетранспортёров, два "студебеккера", "Форд", у меня мой мощный мотоцикл БМВ... Мне подчинены ещё два офицера, а приданы мы батальону, состоящему всего из восьми человек.
Я приказал старшине приготовить обильную еду для батальона. В траншее восемь солдат батареи бодрствовали пока пехотинцы отдыхали. К утру явился капитан с пятьюдесятью солдатами, сержантами и офицерами - пополнение батальона. Капитан, командир батальона, прибыл на передовую после лечения в госпитале. С этим капитаном я находился рядом до конца прорыва обороны противника. Продвигаясь вперёд, мы встретились с капитаном Коренным, моим бывшим командиром батареи. Его, раненного в ногу (оторвало пятку правой ноги), несли в санчасть. Он не терял чувства юмора даже в этом состоянии, говорил: "Отвоевался... То в рот, то в пятку... Мне уже не вперёд идти, а на попятки"… Как уже упоминалось, противник создал глубокоэшелонированную оборонительную полосу. В траншеях на берегу немцы не оставили ни раненых, ни убитых. В последующих траншеях оставались убитые. Прорывая последнюю позицию, мы обнаружили оставленных тяжело раненых немецких солдат. Если бой не был ожесточённым, не добивали их, но в напряжённом бою некогда думать о том, что делать с раненым противником. Я всё время находился рядом с командирами батальона или рот. Наступление развивалось стремительно, чтобы не дать немцам оторваться. Перескочив через траншею, я пробежал с десяток шагов по полю, усеянному телами немцев, но как-то почувствовал, что один из них взглянул на меня. Я подскочил к нему и ногой толкнул подозрительное тело. Немец открыл глаза и, увидев направленное на него дуло моего пистолета, завизжал, а я... выстрелил ему в голову. Немцы убегали, мы за ними гнались. На одном из фольварков натолкнулись на троих, которые бросились бежать. Двух догнали и пристрелили. За третьим я погнался, а он прыгнул в силосную яму. Я это заметил и, стоя на её краю, выстрелил в солдата, прикрывшего руками голову. После этого побежал дальше.
В тот день взяли в плен тысячи немецких военнослужащих. Вечером, смертельно усталый, я пытался заснуть. Стоило мне закрыть глаза, как в ушах звучал визг солдата, который прервался выстрелом в голову, а также возникал солдат в силосной яме, прикрывавший голову руками и... мой выстрел в него. За всё время войны я не раз принимал участие в обстреле живой силы врага, но видеть лица жертв не приходилось. На этот раз я впервые столкнулся вплотную с вражескими солдатами и в горячке застрелил их. В первом случае враг лежал, прикинувшись мёртвым, - он мог выстрелить мне в спину. Но он ведь лежал поверженный и не следовало бы его убивать, а надо было пленить. Во втором случае я тоже обязан был взять его в плен. Я сделал вывод, что совершил убийства. Спустя пятьдесят пять лет я не могу себе простить эти два убийства. Я считаю, что нарушил первый завет "Не убий!"… После прорыва обороны противника продвижение значительно ускорилось, а сопротивление противника ослабло. Наш командир полка, подполковник Сизов, в отличие от майора Орлова, был интеллигентным человеком, от него никто не слышал ни одного скверного слова. Он всегда обращался ко всем только на "вы". Но его пребывание в полку трудно было объяснить. На передовой он оказался впервые, а на фронт попал в начале 1945 года и сразу командиром полка. Для него это первое место службы в армии на командной должности. В армию он попал уже, будучи учителем физики в средней школе, имея высшее образование. Он был зачислен преподавателем артиллерии в одно из артиллерийских училищ. Будучи воспитанным и интеллигентным, он выделялся среди остальных сослуживцев своей дисциплинированностью, аккуратностью и добросовестным исполнением обязанностей по службе. Пять лет он преподавал в училище, а потом был направлен в артиллерийскую академию ассистентом к генералу, преподавателю внешней баллистики, известному профессору в этой области. Через пару лет он стал преподавать внешнюю баллистику в академии. Когда началась война, он ходил в чине майора. На фронт его направили в качестве поощрения, чтобы можно было ускорить присвоение ему звания полковника и получение наград. Вся эта история стала мне известна от него, когда он просил у меня прощения. А дело было так. Из-за отсутствия опыта он отдал приказ, который мог бы привести к гибели орудийного расчёта и моей, комбата, а также к потере орудия. Произошло это во время движения колонны, которую внезапно обстрелял противник. Находился он справа от дороги. Подполковник Сизов приказал мне выдвинуться с одним орудием вперёд, указал место огневой позиции: справа от дороги, возле сеновала. Приказ есть приказ.
С одним орудием направился к сеновалу. Не успели мы снять орудие с крюка бронетранспортёра, как по нас открыли огонь из пулемёта, замаскированного на сеновале. Рядом разорвался фауст-патрон. Мне не были известны силы противника, мелькнула мысль - может повториться второй разгром нашего полка. Пока в опасности находился мой орудийный расчёт, орудие может попасть к немцам. В бронетранспортёре всего два ящика снарядов - четыре штуки. Под огнём пулемёта с такого близкого расстояния орудие нельзя привести к бою - расчёт будет уничтожен. Остаётся только подцепить орудие и уйти из зоны обстрела. Я и командир орудия подползли под станины пушки и прицепили его. А сами пробрались, как ужи, в бронетранспортёр и быстро закрыли задние дверцы. Теперь мы под защитой брони, но для фауст-патрона это не преграда. По броне стучали пули и только. Значит, противник израсходовал последний фауст-патрон. Нам удалось вернуться назад и занять огневую позицию. Все орудия полка были готовы к открытию огня. Я подошёл к командиру полка и попросил остаться с ним наедине. Затем я его спросил тихим, но злым голосом: - Вы забыли своё появление в нашем полку после его разгрома под Хойницем? Вы забыли, как мне приходилось возвращать орудия? Вам захотелось отличиться и получить награду? Вы были в одном шаге от штрафного батальона, куда отправили невинного подполковника Васильева из-за глупости командующего артиллерией корпуса. На кого вы бы свалили вину, если бы мне не удалось вернуть сейчас орудие? Он слушал меня, не перебивая, а потом сказал: - Простите меня... Я поступил опрометчиво: послал в бой без разведки. Я ваш должник. После этого он приказал открыть огонь по сеновалу. Больше оттуда не было стрельбы. Надо полагать, что мы настигли арьергард противника. Когда мы прибыли к месту назначения, он нашёл время для разговора со мной. Снова покаялся и тогда рассказал о себе.
Город Нойбранденбург был взят почти без боя. Когда остановились, я приказал старшине приготовить обед. Повар батареи почти ничего не делал, потому что все ели всухомятку трофейную пищу.
Я предположил, что люди соскучились по нормальной и привычной еде. Походная кухня болталась на крюке "Форда", а мы уже забыли, когда повар стоял на раздаче горячего борща. У одного из домов сделали остановку для отдыха. Проверили дом на безопасность, и мой ординарец, разведчик Корнеев, подводит ко мне двух детей: мальчика двенадцати лет и девочку лет десяти. Дети напуганы, явно голодные. Одеты аккуратно, чисто. Их вид говорил о том, что совсем недавно они были под присмотром взрослых и родных. Но... война... и обстоятельства складываются неожиданно, вот и эти дети оказались среди чужих солдат, которые могут сделать с ними, что им захочется. Я с ними заговорил по-немецки и они потянулись ко мне в прямом смысле: расставили руки и подошли вплотную, явно пытаясь обхватить меня, единственную защиту в их положении.
У меня навернулись слёзы на глаза из жалости к этим двум одиноким в океане войны детям. Я сделал движение руками вверх от лба к волосам, будто стараясь их поправить, и при этом смахнул слёзы. Ординарец это заметил и проговорил:
- Товарищ комбат, дозвольте мне позаботиться о них.
Пока я с ними говорил, Корнеев отправился комплектовать для детей запас самого необходимого человеку в пути. Девочка всё время смотрела на меня с таким умилением, словно встретила любимого отца, а мальчик старался выговориться и объяснить, кто они. Они жили в Берлине, в собственной квартире, до начала массированных бомбардировок, с матерью. Мать - врач, поэтому большую часть времени находилась в госпитале. Когда участились налёты американской авиации, она их отправила к своей матери на фольварк вблизи Нойбранденбурга. Бабушка давно вдова, и они даже не знали своего деда. Неделю тому назад бабушка заболела и, подозвав к себе только внука, рассказала ему, что дедушка был евреем, но так как он погиб на фронте ещё в первую мировую войну, когда их матери было только семь лет, поэтому их не преследовали, хотя был донос в гестапо. Бабушка сказала своему внуку, что это очень важная подробность, которую он должен запомнить, потому что настанет такое время, когда именно это будет их спасением. Когда он кончил свой рассказ, я не стал терять времени (в любой момент может поступить приказ о продолжении движения) и написал нечто подобное охранительному документу, указав что они внуки еврея. Подписался, указав свою фамилию, имя и отчество, звание и должность. Дал им около двух тысяч оккупационных марок, ординарец раздобыл для них два ранца, которые заполнил продуктами питания и предметами туалета. Когда повар кончил варить, детей накормили горячим обедом. Мы простились. Движение колонн пленных на восток стало привычным зрелищем. Начиная со 2 мая 1945 года, мы уже не вели огонь из орудий. Пехота обросла местными упряжками с возами или площадками на резиновых колёсах. Я даже видел старинные кареты, фаэтоны. В колоннах наших войск встречались местные лёгковые машины, мотоциклы.
Безостановочное движение.., вперёд и вперёд, даже регулировщиц не расспрашивал, а только глазом на них благодарно косил. Враг поспешно бежал или сдавался. Мы даже перестали кабель разматывать, а пользовались только связью по радио. Немецкие города мелькали в пёстром калейдоскопе. Вот так же быстро мы бежали на восток в чёрном 1941, в трагичном 1942 годах. А теперь часы победы нас подгоняли и мы не чувствовали усталости. Нойбранденбург, Росток - сколько ещё городов мы прогрохотали... Восток остался позади нас, мы уже на Западе. В Западной Европе. Мы не успевали склеивать листы топографических карт, а просто складывали их лист за листом. Скоро будем сеять и восстанавливать дома... Как родные наши ждут, чтобы домой вернулись их родимые кормильцы! Как своих невест прижмут женихи-солдаты! Матери ждут детей, жены - отцов детей, отцы рвутся поскорей добраться до своих дворов. Города проезжали колонной, даже дома уже не проверяем. Война катится по наклонной - время мира наступает. Неужели кончится война и не надо будет уже копать окопы и траншеи? Теперь уже сама судьба за нас и не надо больше убивать? Поток войск остановился, мы чего-то ждём. Вскоре причина затора стала ясной. Вдоль дороги движется колонна немецких военнопленных, полем шагает, - без фанфар, угрюмо, но сохраняет ритм шага. Во главе колонны офицеры, подразделения выделяются строгими коробками, ещё чувствуются остатки былой организованности и муштры. Все одеты чисто и опрятно, хорошо экипированы. Всё понятно: враги делали хорошую мину при плохой игре. Эту колонну не сопровождали наши конвоиры, потому что она была безоружна. Белые флаги объясняли, что они им нужнее оружия. В колонне - тысячи людей, но никто не проронил ни слова. В принципе закон охраняет пленных... Они шли на сборный пункт. Мы наблюдали этот своеобразный парад в полной тишине, наверное каждый думал о Москве, Киеве, Ленинграде, Сталинграде, припоминал, как такие вот немцы буйствовали на наших территориях. На вид вполне приличные, лица нормальных людей. Но наступили другие времена, теперь уже скоро наступит мир. Мы неуклонно продвигались к Эльбе и остановились вблизи Висмара, в маленьком городке. Это было 8 мая, а 9 мая объявили о победе. Трудно было физически ощутить смысл мира. Четыре года напряженной концентрации нервов, мышц и мыслей на борьбу с врагом были подобны судорожному состоянию всего тела, всех клеток мозга и души. Всё вращалось вокруг оси войны с центростремительной силой, втягивая людей в воронку смерти, страданий, боли разлук. Военная машина неудержимо работала шесть лет, и я в ней барахтался четыре года. Мне ещё не исполнилось восемнадцати, когда я оказался втянутым в её водоворот. В таком возрасте разобраться в происходящей мировой трагедии невозможно, даже государственные и политические деятели пребывали в полной растерянности. Однако для пытливого ума четыре года войны дали богатый эмпирический материал, побудили его философски осмысливать это вечное явление на земле, свойственное человечеству,- войну, искать теоретические объяснения поведению человека в экстремальных её условиях.
АНАЛИЗ ВОЙНЫ
Прошло пятьдесят пять лет со дня победы, и просто не верится, что мне удалось прожить такой срок после войны. В молодости не думают о годах и смерти. Это верно для тех, кто не воевал. Фронтовик, многократно сталкивавшийся со смертью и кровь свою проливший, думал о них, находясь в окопе: остаться бы в живых, чтобы убедиться в победе над врагом.
Нас приучали к мысли о неминуемости войны, потому что империалисты и фашисты хотят напасть на нашу Родину. Причина их ненависти объясняется тем, что СССР, являясь единственной страной, в которой власть осуществляется трудовым народом, достигла вершины успехов его общества во всём. Чтобы пролетариат всего мира не мог ориентироваться на маяк счастья трудящихся, его надо потушить. Понятно, что мы не дадим потушить светоч мирового пролетариата и поэтому надо крепить оборону страны. Но для этого надо использовать все людские силы, всё несметное богатство страны, всю экономику, технику и науку. Но и это ещё не всё. Страна имеет на своём вооружении самое верное учение коммунизма Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Для обороны страны, чтобы защитить её от ненавистных империалистических захватчиков, создана самая мощная Красная Армия, способная сокрушить любого врага. Во главе армии стоят великие полководцы, герои гражданской войны. Они разработали стратегию и тактику ведения современной войны, согласно которым она будет вестись на территории врага. Первые минуты войны разрушили всю военную доктрину советских полководцев, и слава тебе Богу, за это. Если бы не так, мы бы проиграли войну. А ещё победа могла осуществиться потому, что советский народ был так натренирован страдать в условиях отсталого труда и быта, что сумел перенести все тяготы войны. Мы жили в полной изоляции от всего мира и, опасаясь репрессий властей, скрывали сведения о родственниках за границей. Мы плохо знали о жизни в собственной стране, привязанные к месту жительства пропиской, паспортной системой, пограничными запретами, закрытостью целых районов, секретностью, подозрительностью и хвалёной бдительностью. Поэтому источник информации о жизни в других местах был тенденциозным, официальным, односторонним: газеты, кинофильмы, кинохроника. Людям нравится сказка, и они её получили с помощью лживой советской пропаганды. Нам показывали, как красиво и счастливо живут члены колхоза "Красный пахарь". Нам показывали, как наши пограничники со своими четвероногими друзьями (сплошь "Джульбарсы") держат границу на замке. Мифом могущества и непобедимости была окружена Красная Армия. Когда дипломаты пытаются создать миф могущества государства, которое они представляют на международной арене, это ещё можно понять. Но уверить собственный народ в его счастливой судьбе быть гражданами СССР, лишив его возможности нормально работать, питаться, одеваться и отдыхать - фантастика, которую больше за действительность он не примет. Это не значит, что микробы советской пропаганды вызывали эпидемии в других странах, хотя были случаи заболевания советоманией. Наши отцы и деды, помнящие жизнь при царском режиме, не переставали подмечать недостатки советского строя, но активность их высказываний уменьшалась, и ранее громкие голоса теперь еле шептали. Исчезновение родных, близких людей и знакомых убедило их в том, что "свобода слова", по конституции, это блеф, один из целого ряда блефов, касающихся прав человека и прописанных в ней. Они, если и продолжали выражать своё недовольство, то очень осторожно. Даже они, обладавщие иммунитетом к пропаганде, с удивлением восприняли факт беспомощности страны к сопротивлению. Для нас, фанатиков коммунистического строя, ошеломляющее поражение на фронтах вызвало шок. Мы не знали, как и чем объяснить неудачи нашей могучей армии, потому что привыкли получать готовые ответы по радио и в газетах от имени партии и правительства, а в особо важных случаях - от вождя и учителя. Необычное обращение к народу Сталина ("Братья и сёстры") многих умилило, но ничего не разъяснило. Его выступление не приостановило отступление наших войск, наоборот, немцы быстро продвигались почти на всех фронтах.
Война коснулась абсолютно всех, прямо или косвенно, поэтому и мышление соответственно перестраивалось, а мысли и чувства были переполнены темой о войне. Война нарушила экономику страны, изменила быт людей, но продолжала требовать от общества ресурсов, необходимых для борьбы с врагом. Воюющей армии в те годы требовалось значительно больше того, чем обходились в первой мировой войне. В первую очередь требовалось большее количество людей для фронта, а, значит, больше оружия, снаряжения и транспорта. Вследствие того, что развязанная война велась на основе новой стратегии и тактики, потребовались более совершенное оружие, снаряжение и транспорт. До войны страна производила самолёты и танки. Естественно, они были выдвинуты к западной границе. Немцам удалось уничтожить большинство самолётов и танков благодаря неожиданному нападению, упреждающему удару и преимуществу в качестве самолётов. Удача в начальном периоде войны, сопутствовавшая войскам Германии, объясняется её лучшей организованностью, дисциплиной, подготовленностью, экипировкой, вооружённостью и мобильностью. Абсолютное большинство личного состава Красной Армии было вооружено устаревшим стрелковым оружием, а его снаряжение убого. Не хватало транспорта для быстрой переброски личного состава. Не было должной заботы о личном составе: ни по организации питания, ни по водоснабжению, ни по личной гигиене. В связи с ослаблением дисциплины в армии участились случаи грубости в поступках, а речь блатных, уснащённая матом, стала превалировать над нормальной. Отступление было обвальным: уходила на восток живая сила, забрав с собой часть вооружения, но побросав большую часть снаряжения, боеприпасов и продовольствия. Именно последнее сразу сказалось на всех, потому что голодные солдаты не только теряют физическую силу, но и волю к борьбе. Надо сказать, что правительство делало всё возможное, чтобы накормить фронтовиков достаточно сытно, урезая нормы питания населения до минимума. Но развитие военных действий шло неудачно для нашей армии и не все эшелоны с продовольствием добирались до фронтовых складов. Иногда фронтовые склады попадали под немецкие бомбы. Доставка продуктов к самой передовой была связана с многочисленными трудностями из-за бездорожья и распутицы. Доставка пищи, готовой к употреблению, фронтовикам на передовую, осуществлялась походными кухнями и термосами, но также с помехами из-за огня противника. На фронте бывали случаи, что целые соединения лишались питьевой воды и нормальной пищи, потому что попадали в окружение или противник отрезал доступ к источнику воды. Но случалось и так, что целые соединения долго голодали, получая скудную норму сухим пайком. На этих участках фронта у солдат развивалась дистрофия, куриная слепота.
Выше говорилось, что страну к войне готовили, и львиная часть экономики работала именно на войну. Авиационная промышленность производила огромное количество бомбардировщиков и меньше истребителей. Такой расклад определялся военной концепцией ведения войны на территории врага. Поэтому отдавали предпочтение науке наступательной стратегии и тактики. Выпущенные промышленностью бомбардировщики были плохо защищены от вражеских истребителей, а истребители собирались из легко воспламеняющихся материалов, поэтому становились лёгкой добычей вражеских истребителей. Точно так же подходили к конструированию танков: они были способны развивать большие скорости по хорошим дорогам, сеть которых хорошо развита в западных странах. Именно на территории вражеских стран планировался нашими стратегами театр военных действий. Но так как наступательная война не получилась, наши танки застревали на плохих дорогах и в условиях бездорожья нашей страны. Лучшим образцом автоматического стрелкового оружия считался станковый пулемёт "Максим". Он обслуживался двумя бойцами, потому что был тяжёл и переносился в походе в разъёмном виде: один носил ствол, а другой - станок с колёсиками. Второй номер во время стрельбы подавал ленту. Но этот пулемёт был хорош во времена первой мировой войны, а для условий современного боя он устарел по всем техническим и тактическим характеристикам. На вооружении имелся также ручной пулемёт Дегтярёва (РПД), снабжённый тяжёлым круглым диском ёмкостью в пятьдесят патронов. Этот пулемёт отставал по техническим и тактическим данным даже от автомата того же конструктора (ППД), снабжённого двумя круглыми дисками по шестьдесят патронов в каждом, и легче в три раза РПД. Была ещё полуавтоматическая самозарядная винтовка Токарева (СВТ), магазин которой вмещал только десять патронов. Скорострельность её незначительно превышала скорострельность винтовки, но она часто отказывала из-за мельчайшей песчинки или капли воды. Она снабжалась ножом, а не гранёным штыком, как винтовка. Винтовка состояла на вооружении пехоты (карабин на базе винтовки отличался более коротким стволом и предназначался для артиллеристов и кавалеристов). Она давно устарела из-за малой скорострельности, большой длины и веса. В магазине вмещалось только пять патронов. Но была безотказной. Гранёным штыком можно только колоть. Из ручных гранат широко использовались РГД, Ф-1 (против живой силы) и противотанковая. Полевая артиллерия не очень отстала, но транспортировка её затруднялась из-за отсутствия подходящего транспорта. Тракторы-тягачи имели малую скорость, а лошади оказались слишком уязвимы. Миномёты также не очень отстали по своим данным, но отсутствие необходимого транспорта снижало их маневренность. Гвардейские миномёты "Катюша" были овеяны славой. Но доставка боеприпасов к ним затруднялась именно из-за недостатка транспорта.
"Война является продолжением политики мирного времени" (Клаузевиц). Это означает, что корни войны возникли в мирное время. Что не удалось решить политикам, поручено исполнить полководцам. Поэтому подготовка к войне велась с момента окончания гражданской войны. Красная Армия была плохо организована, вооружение и снаряжение изношены, и то его не доставало. Командный состав состоял из нижних чинов, малообразованных, имевших опыт боёв в мировой и гражданской войнах. Некоторые даже не служили в царской армии, но, принимая участие в гражданской войне, выдвинулись в командиры.
Появились свои военные теоретики, которые пользова-лись концепцией диктатуры пролетариата во всём мире. Согласно марксизму, необходимо готовиться к наступлению на капиталистические страны. Поэтому отдавалось предпочтение стратегии и тактике наступательного боя. Отсюда установка на развитие военной промышленности по обеспечению армии оружием наступления. Идея высадки воздушных десантов полностью вписывается в науку наступательных войн и принадлежит она советскому теоретику и полководцу Якиру. Проводились крупномасштабные учения и манёвры, а также боевые операции в Китае, на Хасане и Халхин-Голе с японцами, в Польше и Финляндии. Под видом добровольцев наши военные участвовали в гражданской войне в Испании. Как ни старались партия, правительство и военные спецы, но решить такую огромную задачу по созданию армии для освобождения трудящихся мира не удалось. Не удалось потому, что Советский Союз отставал в науке и технике, в образовании и воспитании людей. Воспитание солдата начинается с детских лет, его исполнительность также основывается на вековых традициях народа.
В пожаре войны сгорает самое ценное - человеческая жизнь. На фронт уходит наиболее активная часть населения, надежда страны. Именно она, находясь на передовой, несёт наибольшее количество потерь.Пополнение уже менее активно, уступает физическими качествами и, как правило, старше по возрасту. Оно хуже обучено, а, значит, его подготовка слабее. Пополнение разбавлено девушками, людьми старшего возраста и даже рецидивистами. Произошло это потому, что за короткое время Красная Армия потеряла огромное количество кадровых командиров и красноармейцев: убитыми, ранеными, пленными.
Эти потери отразились не только на войне, но и на будущности страны. Молодые, те кто не вернулся с поля брани, не успели создать семьи, не успели приобрести образование, полезные профессии. Молодые, ставшие инвалидами, оказались ограничеными в возможностях: создать семьи, получить образование и полезную профессию.
Пленённые врагом были в своём большинстве уничтожены, часть их никогда не вернулась на родину, а вернувшиеся носили клеймо "изменников родины" и уже в своей стране становились заключёнными. В результате такого издевательства Советской власти над людьми, которые прошли ад немецкого плена, большинство из них сломалось физически и психологически.
Обстановка на фронте складывалась угрожающая, времени для обучения и подготовки кадров не хватало. Юнцы не только не успевали приобрести нужной военной подготовки фронтовика, но и психологически не были готовы к суровой действительности и ужасам, с которыми приходится сталкиваться на фронте.
Девушкам было не только физически трудно выносить нагрузки бойца на передовой, но ещё отвратительно тяжело осуществлять личную гигиену и санитарию в окружении мужчин. Находясь среди грубых мужчин, они страдали психологически.
Рецидивисты, приходившие с пополнением, дали дополнительный толчок рукоприкладству, пьянству, охоте за трофеями.
Молодые быстро взрослели, это плохо сказывалось на их психике, они рано становились циниками и внешне казались старше своего возраста, поседев до срока.
Войны сопровождают человечество во все исторические времена, для их ведения назначались или избирались из своих рядов лучшие, доблестные полководцы, а в армии набирались храбрые воины. Вначале ценились физические качества (сила, ловкость) не только в рядовых воинах, но и в предводителе. Постепенно хитрость и ум стали теми качествами, которыми должен обладать воинский начальник. По мере развития крупных воинских сил, полководцы стали назначаться государственными инстанциями. В современных армиях командиры назначаются из числа профессиональных военных, имеющих специальное образование, опыт и способности командовать подчинёнными в период их подготовки к войне и во время войны. Военные уставы регламентируют деятельность всех военнослужащих и в них определены их права и обязанности.
Изначально командиру предопределена власть над подчинёнными. В то же время он обязан заботиться о своих подчинённых во всех сферах жизнедеятельности в мирное время и в бою. Когда человек призван командовать и руководить людьми на военной службе, он должен знать и исполнять очерченные уставами (приказами и инструкциями) обязанности и права. Он должен знать и исполнять лучше любого из своих подчинённых службу в рамках своего подразделения, части или соединения.
Но таким может быть профессионал, кадровый командир, который получил образование и имеет опыт командования.
Командиры, подготовленные в ходе войны, не получали достаточных знаний и у них полностью отсутствовал опыт.
Если учесть, что на краткосрочное обучение командиров часто направлялись люди, не обладавшие необходимыми физическими и умственными данными, то к недостатку знаний и опыта командовать добавлялись личные недостатки командира.
Легче всего такому горе-командиру усвоить своё право на власть и приказывать подчинённому.Командир должен быть умным и знать некоторые основные психологические установки в обращении со своими подчинёнными. Если учесть, что у такого скороспелого командира ещё и отсутствует умение разбираться в характерах своих подчинённых, он часто попадает в неловкое положение.
Чтобы как-то удержать авторитет командира, такой не очень умный начальник общается со своими подчинёнными только языком приказов, отдавая их слишком громким голосом. Не умея убедить подчинённого умом и ясностью приказов, он переходит на брань и рукоприкладство. Такие командиры часто допускали ошибки, приводившие к потерям своих подчинённых или бойцов соседних подразделений и частей. Это происходило на всех уровнях командиров и командующих соединениями и фронтами. Ошибки больших командиров приводили к большему числу жертв.
На передовой трудно придерживаться уставных параграфов уставам, необходимо принимать оптимальные решения с учётом действительной обстановки. Дисциплина на передовой была значительно ниже, чем в тылу, потому что личный состав подвергался воздействию на психику страхом, опасностью и смертью. К этому примешивалось отрицательное влияние блатных на молодых бойцов (и не только). Многие командиры приблизили к себе подчинённых из преступного мира, которые поставляли им выпивку, женщин и трофеи.
В Красной Армии абсолютное большинство командиров и красноармейцев - выходцы из одного слоя общества - крестьян. До войны сельское население превышало городское. Психология крестьянина господствовала в армии. Не секрет, что уровень образования на селе ниже городского, а значит, уровень образованности военнослужащих был близок к сельскому.
В армии царила атмосфера пренебрежения к интеллигентности и интеллигентам. Ещё до войны сложилась определённая система насмешек над военнослужащим-интеллигентом и сохранилась она во время войны. Объясняется это тем, что служба военнослужащего связана с большими физическими нагрузками, к которым более привычны выходцы из села. Но не только. В стране приучали к тому, что основными классами являются рабочий и крестьянский, а интеллигенция - лишь прослойка. При таком подходе сталинского учения о классах в обществе уже закладывалось пренебрежение к "гнилой интеллигенции". Под этот разряд подпадали многие городские жители из рабочих, которые не имели возможности в городских условиях приобрести физические навыки и выносливость сельских ребят. Именно на долю солдат, сержантов и младших офицеров приходились наибольшие физические нагрузки, они подвергались наибольшей опасности и на передовой.
Солдатская служба трудна в мирное время: солдат оторван от родных надолго, подвергается нажиму со стороны непосредственных командиров, уставов, изматывается муштрой, походами и учениями. Во время войны, в обстановке опасности и произвола командиров, физические нагрузки ещё более возрастали.
Из всех фронтовиков подвергались наибольшей опасности солдаты, сержанты, младшие офицеры. Им первыми приходилось испытывать наибольшие нагрузки. Во время войны солдатами были люди в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. Естественно, возраст часто определял степень выносливости и приспособленности при выполнении долга. С физическими работами легче справлялись взрослые, приобретшие опыт к труду, молодёжь легче осваивала технику, вооружение, молодым также легче бывало в случаях, когда требовались ловкость и храбрость.
Храбрость часто граничит с бесшабашностью, что больше свойственно молодым. Взрослые, зная, что дома у них семья, действовали более обдуманно, что не всегда подходит в быстротечных боевых действиях. Тем не менее, соседство молодых и взрослых было взаимно полезным на передовой. Взрослые не хотели ударить лицом в грязь перед молодыми и проявляли храбрость, а молодёжь пользовалась советами осмотрительных взрослых, которые спасали от бесполезных жертв.
Надо сказать, что порой опытный солдат пользовался бόльшим авторитетом в своём подразделении, чем его командир. В то же время, когда подавали документы на награды, в списки включалось больше командиров, чем солдат. Дисциплина солдат зависит от командиров. К сожалению, многие командиры не могли служить хорошим примером для своих подчинённых и поэтому, к концу войны, армия была подобна орде.
Нам, фанатикам системы, трудно было воспринимать действительность, казавшуюся дурным сном. Мы оглядывались назад, искали поддержку в казавшемся нам единственно правильном общественном строе. Но в эту веру врывались тяжкие сомнения, мы теряли заряд уверенности в правильности взятого курса нашей партией, по заветам Ильича и под руководством великого вождя Сталина. Происходившее заставило задумываться над причинами такой обвальной беды. Мы были так уверены в силе и мощи страны, в громе залпов нашей артиллерии, в ураганном порыве нашей кавалерии, в броневом кулаке наших танкистов, в ястребиных качествах лётчиков, в способности пехоты пробраться куда угодно. А наши полководцы? Нет храбрее, умнее и хитрее их. Наши теоретики доказывали, как дважды два четыре, что мы всегда сумеем развернуть театр войны на вражеской земле и там же враг будет уничтожен. Отступление стирало веру из нашего сознания, как стирается видение миража. Нельзя, получая тумаки, убеждать себя, что это нежное прикосновение летнего ветерка. Нельзя убедить голодный желудок, что его пустота - благословение божье. Нельзя удержаться на ногах сонному солдату, он падает на обочине дороги, поражённый неизбежным сном. Ноги разбиты, губы пересохли, гимнастёрка, жёсткая от соли и пыли, трёт спину и затылок. Не знали, куда отходим и где враг. Стыдно перед массой светских толп, смотревших на нас с укором. Редкие попытки остановить врага и перейти в наступление завершались неудачами и большими потерями. Немцы рассчитывали на молниеносную войну, которая завершится их победой до начала осенней распутицы. "Бодливой корове Бог рогов не даёт". У немцев не хватило сил уложиться в запланированные сроки. Когда началась распутица и вскоре ударили морозы, сказалась ошибочность идеи молниеносной войны. "Генерал Мороз" остановил продвижение немецких танков и транспорта, а люди почувствовали суровость климата, потому что их обмундирование не было рассчитано на морозы. Они остановились, и мы прекратили отступать.
Больше того: наступление Красной Армии под Москвой стало успешным, немцы были отброшены от Москвы.
Но большинство оставались на оборонительных позициях.
С наступлением тепла немцы предприняли успешное наступление и оказались на Волге и Кавказе. Здесь уже надо было стоять насмерть, не давая продвинуться врагу. После активного противостояния Красная Армия сумела опрокинуть врага и одержать великолепную победу, преломившую ход войны не только в военном отношении, но и в психологии воюющих сторон.
Но снова стало тепло, и немцы перешли в наступление в районе Белгорода и Курска. Однако теперь уже Красная Армия сумела нанести поражение врагу и в тёплое время года. К сожалению, на северных участках фронта оборонительные бои велись до конца 1944 года. Во время позиционной войны оборонительные сооружения играют важную роль. Простейшим видом такого сооружения является земляной окоп. Фронтовики убедились в способности окопа защитить от пуль и осколков. Поэтому большинство на передовой постоянно копали, совершенствуя окоп, траншеи, сооружая ДЗОТы и землянки. Находясь в обороне на участках активной позиционной борьбы, фронтовики испытывали убогость быта: голод, грязь, вшивость, холод, зной и жажду.
Тоска по родным усиливается в условиях обороны. Фронтовикам ненавистна оборона, они уповали на сигнал перехода в наступление.
Я не верю тому рассказчику о войне, который приводит слишком много названий местностей, фамилии командующих и точные даты событий. Я тем более не верю тому, кто упоминает о своём участии во многих наиболее известных операциях.
Не может фронтовик передовой порхать бабочкой по всем фронтам и участвовать во всех операциях. Фронтовик передовой видит только указанный ему сектор и знает, что происходит в его отделении, орудийном расчёте, в танковом экипаже. Он ещё в курсе дел своего взвода, роты, батареи, батальона или дивизиона. О делах полка он уже знает по слухам. Речь я веду о фронтовике, начиная от рядового и до майора, должности которых в пределах: стрелка, номера орудийного расчёта, члена экипажа танка, командира отделения, командира орудия, командира танка, командира роты или командира батареи. Фронтовик на передовой не может знать, что предпринимается в штабах для очередной операции или боя. Он сосредоточен только на своей задаче.
Наступление - всегда риск и большое напряжение физических и психических сил. Наступление, разработанное для решения стратегических или тактических установок, основывается на приказах и полученных данных о противнике, на собственном планировании и видении командира предстоящего боя.
Результаты разведки не всегда точны, а иногда глубоко неверны; план операции не всегда оптимален, в него вкрадываются ошибочные решения. Но даже при самом лучшем разработанном плане к моменту наступления могут произойти изменения в обстановке и тогда возникает целый ряд опасностей, которые способны привести к срыву наступления или к минимальному результату. Поэтому наступающая сторона всегда несёт больше потерь, чем обороняющаяся. Подняться в атаку солдату всегда смертельно опасно - он находится в зоне самого высокого риска.
И хорошо это осознаёт. Поэтому ему приходится напрячь все свои физические и волевые качества, чтобы преодолеть страх, быстро реагировать на постоянно меняющуюся обстановку боя.
После боя солдат ощущает страшную усталость и желание спать. Но как бы тяжело не было наступление, желание уничтожить врага, стоящего на пути к встрече с родными и любимыми, придаёт силы продолжать риск и выкладываться до последнего.
Сплошные неудачи на фронтах продолжались полтора года, с самого начала войны. Весть о начале наступления под Сталинградом, имевшего успешное продолжение и завершение, укрепила надежду и даже вселила уверенность в победе над ненавистным врагом. Мне неизвестны события под Сталинградом, но я не сомневаюсь, что много общего есть в наступательных боях, приведших к освобождению занятых врагом земель, городов и сёл.
Сам наступательный бой требует от солдата много упорства и злости, которые ещё больше усиливаются от вида разрушенных селений и страданий людей, переживших оккупацию.
Немцы при отступлении систематически взрывали и сжигали жилые дома, заводы и фабрики, выводили из строя железные дороги, мосты и даже малые мостики.
Поэтому при продвижении мы испытывали большие трудности. Тылы постоянно отставали, а, значит, мы ощущали недостаток в самом необходимом: продуктов питания и боеприпасов. Трудно было эвакуировать раненых.
Вид пепелищ, оставшихся печных труб, остовов корпусов производственных зданий, сломанных и сгоревших деревьев вызывал боль и уныние.
Но перелом в ходе войны произошёл основательный, и враг уже не мог предпринимать наступательные операции широкого масштаба. И, наоборот, наше наступление продолжалось. Мы оказались на границе с Германией. На чужой земле легче воевать, но потери оставались огромными.
Польша никогда не слыла богатой страной, а поляки зажиточными, как другие народы на западе Европы. Но какими бы бедными они не были, однако жили обеспеченней нашего народа.
Мы находились на границе Восточной Пруссии, когда поступил приказ о наступлении. Наконец-то мы воюем на территории врага, как нас уверяли вожди и основатели военной науки СССР.
Теперь можно сравнить многое: действительность и теорию общественных строев, военных концепций, хозяйство городов и сельских селений, благополучие семей и быт, культуру, воспитание и т. д. Фронтовикам дали волю мстить врагу, это мщение было похоже на то, как когда-то куражились и бесчинствовали победители несколько дней после победы. Приказ о предоставлении прав наступающим на разгул нанес страшный урон представлениям о морали. Армейские кадры и без того были засорены элементами блатного мира, которые дурно влияли на дисциплину и порядок, на военную мораль, на человеческую порядочность, а приказ этот привёл к полному обвалу морали. Хорошо, что он был отменён через полтора месяца. Не только люди преступного мира поступали аморально, но многие, ранее не замеченные в насилиях и стяжательстве, переступили порог морали.
Всех удивило благополучие и порядок, который мы застали на вражеской земле, что вызывало зависть. Каждый имел возможность почерпнуть что-то полезное и важное для своего хозяйства. Происходила переоценка сведений о капиталистическом мире и его хозяйстве. Миллионы людей задумались над верностью учения коммунистов. Наконец, был отодвинут железный занавес, и люди увидели действительность, которую от них прежде скрывали. Зависть заставила рассуждать о многом иначе, в данном случае она оказалось положительным чувством.
Казалось бы, что мораль и война исключают друг друга. Война требует беспощадности к врагу и не считается с собственными жертвами ради удачи в проведении военной операции или боя.
Когда наши войска отступали, - взрывали мосты, заводы и фабрики, разрушали системы снабжения водой и электричеством, уничтожали резервы продовольствия. Знали, что оставшемуся населению будет от этого плохо. Часто приносили излишне много жертв в бою, стремясь выполнить приказ, но не применяя вариант наименьшего числа жертв.
Но фронтовики продолжали испытывать нежность и любовь к родным, дружба между боевыми товарищами была глубока и бескорыстна. Однако, случалось, что не подбирали на поле боя раненых из других частей.
Как относиться к врагу, - на это есть военные приказы, но кроме них существует и человеческая мораль, смысл которой - не проявлять излишней жестокости, щадить, оказывать помощь по мере возможности. Именно эта мораль была растоптана вседозволенностью наступающих. Дикость и зверство распространились так широко, что продолжались и после войны, и даже уже на нашей земле, когда фронтовики стали возвращаться домой. Пьянство, хамство, воровство и бездушие вытеснили у многих людей навсегда или надолго законы морали, заветы Бога и элементарную человечность. Немцы проявляли лояльность, старались не провоцировать наступающих на акты возмездия. Мы буквально окунулись в среду изобилия всякого рода необходимых вещей и предметов быта. Естественно, что у каждого возникало желание что-то отправить домой. Но что можно отправить в пятикилограммовой или десятикилограммовой посылке кроме каких-то предметов быта? Драгоценности не валяются, потому что люди умеют их прятать. У цивильных отнимали, как правило, часы, не очень дорогие женские украшения, полотно, кожу, одежду, обувь, что-то из домашней утвари. Между тем, страна нуждалось в каждом гвозде, шурупе, в различных станках, машинах и приборах, поэтому отправка в тыл трофеев была поставлена на широкую ногу. Демонтировались целые заводы и фабрики, уникальные производства и всё это отправлялось эшелонами в нашу страну.
К великому сожалению, большой пользы страна от этого не получила из-за расхлябанности и недобросовестности тех, кто этим занимался. Оборудование часто доставлялось не в полном комплекте, терялось в пути или попадало не по назначению, случалось , что и разворовывалось. В итоге оно долго стояло под открытым небом, ржавело и выходило из строя.
Наступила необычная, странная пора: едем по дорогам Германии, не встречая сопротивления врага. Мы встречаем идущие на Восток колонны немецких военных без оружия. Делаем короткие остановки, занимаем боевые позиции или находимся в стадии их занятия, но поступает приказ двигаться вперёд. В воздухе витает ощущение конца войны: мытарств, смертей и бед для многих народов планеты. Трудно себе представить, что не будем больше стрелять и убивать, портить и уничтожать добро, созданное человеческим умом и трудом, уродовать уникальную божественную природу. Мы дошли, мы дожили, заслужили глубокий вдох облегчения и заслуженный восторг: война завершена! Ура! Ура! Ура! И сразу возникли лица родных, которых мы больше не увидим, разрушенные дома, знакомые пейзажи родных мест. Хочется подняться высоко и птицей понестись к родному порогу, к милым сердцу местам.
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
По ходу событий последней недели было понятно, что война заканчивается. 8 мая 1945 года вручили нам правительственные награды за форсирование Одера: радисту Калинину- "Красное Знамя", разведчику Корнееву -"Красная Звезда" ,и мне - "Красное Знамя", хотя, согласно представлению к награждению, мне было положено присвоение звания "Героя Советского Союза". Было дано разъяснение, что отказ в присвоении звания Героя связан с тем, что приданные войска, в целом, плохо справились с обеспечением форсирования, что привело к большим потерям пехоты на этом направлении. Поэтому командующий распорядился не присваивать звания героя отличившимся из приданных войск и заменить на "Красное Знамя". Было обидно, но я уже к этому привык. Из четырёх представлений на награждения меня орденами получил награду только один раз, а пятое представление, на высшую награду, заменили орденом "Красное Знамя".
Но вернёмся к судьбоносному дню - 9 мая 1945 года.
Напряжение войны, длившееся годами, искало выхода. Аварийным психологическим клапаном для него оказалось, в который уже раз, пьянство. Безудержное, беспробудное и бесшабашное. Весь полк пьянствует, за исключением единиц. В моей батарее было наибольшее число трезвых: командир огневого взвода Асликян, командир отделения радио Бондаренко, радист Абрамович, радистка Жабатаева, телефонист Бутович, разведчик Корнеев (мой ординарец) и я. Именно поэтому нам пришлось позаботиться о четырёх американцах, освобождённых из лагеря военнопленных. Их освободили наши войска и они шли пешком в сторону своих войск, находившихся за Эльбой. Грязные, голодные и усталые они проходили мимо нашего городка. Но так как военные все были пьяны, они спросили дорогу на Висмар у местной жительницы, а она отвела их к нам.
Я поручил ординарцу приготовить ванную и обед для гостей, а Асликяну найти необходимую мужскую одежду и обувь. Пока они мылись, Корнеев и Жабатаева поставили на стол всевозможные консервированные продукты и спирт. Асликян задерживался и искупавшиеся союзники сидели завёрнутыми в простыни. Вскоре они все были одеты в великолепные костюмы и белоснежные рубашки. С обувью пришлось повозиться, пока подобрали из принесенных двух десятков пар подходящие по размеру. Асликян сообразил принести для каждого по маленькому чемоданчику.
Когда выпили спирт, они переглянулись и хором промычали: "Бензин". У нас хранился спирт в канистре из под бензина и его запах сохранился, хотя канистру промывали. Они поели, немного опьянели от спирта и стали засыпать за столом. В спальне стояла широченная кровать, и они все четверо улеглись поперёк неё. Это было в шесть часов вечера. Ещё с вечера я узнал, что в двадцати километрах от нас есть действующий молочный завод. Рано утром на мотоцикле отправился туда, пользуясь топографической картой, на которой я отметил место нахождения завода. За двадцать минут я уже был на заводе, хозяин встретил очень радушно, будто я для него самый дорогой гость. Мне не было трудно объяснить, что именно привело на завод. Я заказал для батареи бидон молока, пять килограммов масла, двадцать - творога и пару килограммов сметаны. Всё это он записал в блокнот и указал двум рабочим уложить в маленькую грузовую машину. Он по-просил расписку в получении этих продуктов и мы отправились в обратный путь. Всё это заняло чуть больше часа. Когда я вернулся, все ещё спали.
Завтрак уже был готов, а я ещё добавил молочные продукты. Пить спирт они категорически отказались и мои подчинённые смотрели на них, как на ненормальных, хотя один такой же ненормальный им был знаком. О нахождении у себя в подразделении четырёх бывших пленных американцев я доложил в штаб бригады, и оперативный дежурный разрешил мне поступить с ними по своему усмотрению. После завтрака они сообщили, что им надо отправляться в расположение своих войск. У каждого было отпечатанное на машинке разрешение на передвижение в сторону своих войск. Они, естественно, говорили на английском, но за полгода плена немного усвоили немецкий. Один из них говорил довольно хорошо по-немецки. Надо думать, что немецкий язык ему был знаком из дома. По его инициативе они все оставили нам свои американские домашние адреса и попросили у меня мой адрес. Я им объяснил, что у меня нет адреса, потому что наш дом был на территории, оккупированной немцами, и вряд ли я туда вернусь. Это был обман из страха, что могут мне приписать связь с иностранцами.
Я выделил "форд" для их отправки до переправы через Эльбу, их сопровождали Асликян и радист Калинин, который неплохо водил машину. Расстояние - всего двадцать километров, и через полтора часа Асликян доложил, что доставил их на место переправы и передал коменданту. Младший лейтенант мне очень помог в дни трёхдневного беспробудного пьянства полка тем, что не пил и скрашивал моё одиночество в окружении пьяных, потерявших облик людей. А ведь среди них были довольно умные и способные личности. Городок выглядел театром абсурда, на сцене которого протекала жизнь его нормальных обитателей и пришельцев, похожих на сумасшедших (не свалившихся ещё от пьянства) и храпящих в блевотине и в собственной моче.
Война способна испоганить души нормальных людей и превратить их в животных. Я насмотрелся бесчеловечности, подлости, беспощадности, и тем более странно, что всё это совершалось на фоне бескорыстной дружбы, беззаветной преданности идеологии, морали, патриотизма. Эти три дня заставили меня усомниться в прочности доброты человека, в его способности осознать идеальное начало, заложенное Всевышним, если он втоптал в грязь всё самое лучшее. Я увидел отвратительное преображение человека и после этой пьяной омерзительной оргии стал смотреть на человека не как на единый образ, а как на нечто раздвоенное, состоящее одновременно из добра и зла. Вот я говорю с трезвым человеком, и он вызывает симпатию, но тут же в мыслях возникает его пьяный вариант - и всё хорошее исчезает.
Меня вызвал к себе начальник политотдела бригады и сразу перешёл в атаку: - Что это такое? Где это видано, чтобы боевой офицер Советской Армии, командир батареи, оставался кандидатом в члены партии больше года? Почему вы до сих пор не подали заявление о приёме вас в члены партии? Мой ответ, не очень убедительный: - Я не считаю себя достаточно подготовленным для вступления в члены партии. - Это вы-то не подготовлены? Училище закончили отлично, отмечены двумя орденами и даже были представлены к званию Героя Советского Союза. И это при условии, что мы принимаем в партию после трёх месяцев кандидатского срока и даже без всякого кандидатского срока, если заявление о приёме в партию подано перед тем, как идти в бой, и указана просьба о приёме в партию. Немедленно садитесь и пишите заявление о приёме в партию! Или вы не согласны с идеологией партии?... Мне ничего не оставалось, как написать заявление. Он тут же перешёл на товарищеский тон и предложил оставить ему мой мотоцикл БМВ. При этом он добавил, что я ещё себе найду другой. Я отдал мотоцикл, и меня на "виллисе" доставили в батарею. К этому могу добавить, что у него уже имелся целый гараж трофейных машин и среди них был новенький "оппель-капитан", который он отобрал также у меня.
Я получил участок для расположении батареи и указание собрать помещения из готовых элементов; в комплект входили щиты, из которых можно собрать одноэтажное помещение любой протяжённости и ширины. Помимо этого мне было поручено собрать помещение для штаба полка. Мы работали по шестнадцать часов на сборке казармы и штабного помещения. Две другие батареи сооружали казармы для себя и подвозили комплекты деревянных панелей для всего полка. Через пять дней закончили сборку и в день завершения всех работ поступил новый приказ: корпус направляется своим ходом к нашей границе, где будет грузиться в железнодорожные составы для переброски на Дальний Восток. Проехали мы не более ста километров, как последовал новый приказ: 4-й отдельной противотанковой бригаде резерва ВГК расположиться в городе Темпельбурге.
Воспоминания переданы ветераном лично для публикации на сайте "Я ПОМНЮ".